Иммануил Кант Принцип чистого разума
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Хронометр философии
Если бы существовал топ пять самых влиятельных философов, то Иммануил Кант непременно был бы среди них. Известный немецкий мыслитель, основатель немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге, откуда так ни разу и не выехал. Одной из причин такого рода затворничества было слабое здоровье философа. Об этом пишет советский сатирик Зощенко в «Возвращенной молодости». Но несмотря на физическую слабость, Кант поразительным образом прожил мало того что долгую, так еще и удивительно продуктивную жизнь. Канонически принято считать, что строгий режим Канта помог ему в этом. Зощенко пишет: «Вся его жизнь была размерена, высчитана и уподоблена точнейшему хронометру. Ровно в десять часов он ложился в постель, ровно в пять он вставал. И в продолжение 30 лет он ни разу не встал не вовремя. Ровно в семь часов он выходил на прогулку. Жители Кенигсберга проверяли по нем свои часы». Этот же сюжет раскручивает режиссер Филипп Коллин в фильме «Последние дни Иммануила Канта».
Но Кант, очевидно, известен нам не только благодаря своему строгому режиму. Физики, например, знают Канта как ученого, сформулировавшего гипотезу о происхождении Солнечной системы из газово-пылевой туманности. Эта гипотеза называется «гипотеза Канта-Лапласа» (они в одно и то же время придумали одну гипотезу).
Также Кант писал статьи политического толка, вел лекции по антропологии. Но славу ему принесла его критическая философия. Критической она называется из-за названия трех известных работ: «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения». Первая «Критика» – о познании, вторая – об этике, третья – об эстетике. Трудно переоценить важность этих работ для истории философии и мысли. Сразу после Канта появились школы его последователей – неокантианцы. Основатель феноменологии Гуссерль взял труды Канта в основу своей философии. Хайдеггер, одна из ярчайших фигур немецкой философии, находился под сильным влиянием Канта. То же самое можно сказать о Делезе и Лиотаре, которые неоднократно писали комментарии к текстам Канта и полемизировали с ним в своих работах. Неважно, спорили ли они с Кантом или выражали паритет, но Кант стал основой для развития философии.
Умер Кант 12 февраля 1804 года на 81 году жизни. Несмотря на то что сам Кант желал себе скромных похорон, проводить философа пришел весь город. Похоронили его в профессорском склепе, примыкавшем к кафедральному собору Кенигсберга. Сейчас Кенигсберг принадлежит Российской Федерации и именуется Калининградом, так что всякий житель России без труда может увидеть и город Канта, и место его захоронения.
В этой книге мы рассмотрим две фундаментальные работы Канта – «Критику чистого разума» и «Критику способности суждения». В первой критике Кант пытается выяснить основания метафизики. Эта крайне важная работа для философии и для науки. В другой критике Кант рассматривает понятия, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, – прекрасное, вкус, гений. Здесь мы выясним, какие споры о вкусе возможны, как работает механика восприятия прекрасного и возвышенного и почему необходимо быть нравственным, чтобы воспринимать прекрасное.
Нужно, конечно, предупредить, что кантовский стиль письма крайне сложен, часто приходится пробираться через объемные дефиниции и развёрстки. Однако если привыкнуть к стилю, то окажется, что, несмотря на трудное письмо, Кант пишет ясно и точно. И к этой же точности мышления он призывает и своих читателей.
Александра Арамян
Критика чистого разума
Предисловие к первому изданию
На долю человеческого разума в одном из видов его познания выпала странная судьба: его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться, так как они навязаны ему его собственной природой, но в то же время он не может ответить на них, так как они превосходят возможности человеческого разума.
Это может напомнить известную цитату из Аристотеля: «Все люди от природы стремятся к знанию».
В такое затруднение разум попадает не по своей вине. Он начинает с основоположений, применение которых в опыте неизбежно и в то же время в достаточной мере подтверждается опытом. Опираясь на них, он поднимается (как этого требует и его природа) все выше, к условиям более отдаленным. Но так как он замечает, что на этом пути его дело должно всегда оставаться незавершенным, потому что вопросы никогда не прекращаются, то он вынужден прибегнуть к основоположениям, которые выходят за пределы всякого возможного опыта и тем не менее кажутся столь несомненными, что даже обыденный человеческий разум соглашается с ними. Однако вследствие этого разум погружается во мрак и впадает в противоречия, которые, правда, могут привести его к заключению, что где-то в основе лежат скрытые ошибки, но обнаружить их он не в состоянии, так как основоположения, которыми он пользуется, выходят за пределы всякого опыта и в силу этого не признают уже критерия опыта. Арена этих бесконечных споров называется метафизикой.
Под метафизикой изначально подразумевался корпус работ Аристотеля, которые не вошли в «Физику». Приставка «мета» означает «после», то есть после физики. Позднее (преимущественно в Новое время) под метафизикой подразумевали бесплодное знание, оторванное от опыта. Справедливости ради нужно отметить, что тогда, в Новое время, отличали метафизику и философию; вторая занимала крайне важную и почетную позицию.
Было время, когда метафизика называлась царицей всех наук, и если принимать желание за действительность, то она, конечно, заслуживала этого почетного названия ввиду большого значения своего предмета. В наш век, однако, вошло в моду выражать к ней полное презрение, и эта матрона, отвергаемая и покинутая, жалуется подобно Гекубе: modo maxima rerum, tot generis natisque potens – nunc trahor exul, inops (Ovid., Metam.)[1].
Вначале, в эпоху догматиков, господство метафизики было деспотическим. Но так как законодательство носило еще следы древнего варварства, то из-за внутренних войн господство метафизики постепенно выродилось в полную анархию, и скептики – своего рода кочевники, презирающие всякое постоянное возделывание почвы, – время от времени разрушали гражданское единство. К счастью, однако, их было мало, и они поэтому не могли мешать догматикам вновь и вновь приниматься за работу, хотя и без всякого согласованного плана. Правда, в Новое время был момент, когда казалось, что всем этим спорам должен был быть положен конец некоторого рода физиологией человеческого рассудка ([разработанной] знаменитым Локком) и что правомерность указанных притязаний метафизики вполне установлена. Однако оказалось, что хотя происхождение этой претенциозной царицы выводилось из низших сфер простого опыта и тем самым должно было бы с полным правом вызывать сомнение относительно ее притязаний, все же, поскольку эта генеалогия в действительности приписывалась ей ошибочно, она не отказывалась от своих притязаний, благодаря чему все вновь впадало в обветшалый, изъеденный червями догматизм; поэтому метафизика опять стала предметом презрения, от которого хотели избавить науку. В настоящее время, когда (по убеждению многих) безуспешно испробованы все пути, в науке господствует отвращение и полный индифферентизм – мать Хаоса и Ночи, однако в то же время заложено начало или по крайней мере появились проблески близкого преобразования и прояснения наук, после того как эти науки из-за дурно приложенных усилий сделались темными, запутанными и непригодными.
Джон Локк – известный английский эмпирик Нового времени. Он является основателем того, что в современном смысле слова можно было бы назвать «сознанием».
В самом деле, напрасно было бы притворяться безразличным к таким исследованиям, предмет которых не может быть безразличным человеческой природе. Ведь и так называемые индифферентисты, как бы они ни пытались сделать себя неузнаваемыми при помощи превращения ученого языка в общедоступный, как только они начинают мыслить, неизбежно возвращаются к метафизическим положениям, к которым они на словах выражали столь глубокое презрение. Однако указанное безразличие, возникшее в эпоху расцвета всех наук и затрагивающее как раз тех, чьими познаниями, если бы они имелись, менее всего следовало бы пренебрегать, представляет собой явление, заслуживающее внимания и раздумья. Совершенно очевидно, что это безразличие есть результат не легкомыслия, а зрелой способности суждения нашего века, который не намерен больше ограничиваться мнимым знанием и требует от разума, чтобы он вновь взялся за самое трудное из своих занятий – за самопознание и учредил бы суд, который бы подтвердил справедливые требования разума, а с другой стороны, был бы в состоянии устранить все неосновательные притязания – не путем приказания, а опираясь на вечные и неизменные законы самого разума. Такой суд есть не что иное, как критика самого чистого разума.
Я разумею под этим не критику книг и систем, а критику способности разума вообще в отношении всех знаний, к которым он может стремиться независимо от всякого опыта, стало быть, решение вопроса о возможности или невозможности метафизики вообще и определение источников, а также объема и границ метафизики на основании принципов.
Кант пытается найти источник знания вне всякого опыта, то есть необходимые условия возможности получения опыта. Прояснить знания в области этих условий – значит прояснить многие научные положения.
Этим единственным оставшимся путем пошел я теперь и льщу себя надеждой, что на нем я нашел средство устранить все заблуждения, которые до сих пор ссорили разум с самим собой при его независимом от опыта применении. Я не уклонился от поставленных человеческим разумом вопросов, оправдываясь его неспособностью [решить их]; я определил специфику этих вопросов сообразно принципам и, обнаружив пункт разногласия разума с самим собой, дал вполне удовлетворительное решение их. Правда, ответ на эти вопросы получился не такой, какого ожидала, быть может, догматически-мечтательная любознательность; ее могло бы удовлетворить только волшебство, в котором я не сведущ. К тому же и естественное назначение нашего разума исключает такую цель, и долг философии состоял в том, чтобы уничтожить иллюзии, возникшие из-за ложных толкований, хотя бы ценой утраты многих признанных и излюбленных фикций. В этом исследовании я особенно постарался быть обстоятельным и смею утверждать, что нет ни одной метафизической задачи, которая бы не была здесь разрешена или для решения которой не был бы здесь дан по крайней мере ключ. Чистый разум и на самом деле есть такое совершенное единство, что если бы принцип его был недостаточен для решения хотя бы одного из вопросов, поставленных перед ним его собственной природой, то его пришлось бы отбросить целиком, так как он оказался бы непригодным для верного решения и всех остальных вопросов.
Говоря так, я мысленно вижу на лице читателя смешанное с презрением недовольство по поводу таких с виду хвастливых и нескромных притязаний. Между тем они несравненно скромнее, чем притязания какого-нибудь автора самой обыкновенной программы, в которой он уверяет, что доказал простую природу души или необходимость начала мира. В самом деле, такой автор берется расширить человеческое знание за пределы всякого возможного опыта, тогда как я скромно признаюсь, что это совершенно превосходит мои силы. Вместо этого я имею дело только с самим разумом и его чистым мышлением, за обстоятельным знанием которых мне незачем ходить далеко, так как я нахожу разум в самом себе, и даже обыкновенная логика дает мне примеры того, что все простые его действия могут быть вполне и систематически перечислены. Но здесь возникает вопрос, чего я могу достигнуть посредством разума, если я не прибегаю к помощи опыта и к его данным.
Строгая задача Канта – это прочертить границы познания, то есть показать, где познание возможно, а где нет. Эта претензия кажется куда менее самоуверенной, чем претензии тех, кто пытается еще непонятую механику познания применить для освоения всего мира.
Это все, что мы хотели сказать относительно полного достижения каждой цели и относительно обстоятельности в достижении всех целей вместе взятых, которые поставлены перед нами не чьим-то предписанием, а природой самого познания, составляющего предмет нашего критического исследования.
Далее, что касается формы исследования, то достоверность и ясность принадлежат к числу существенных требований, которые справедливо могут быть предъявлены автору, отваживающемуся на такое опасное начинание.
Что касается достоверности, то я сам вынес себе следующий приговор: в такого рода исследованиях никоим образом не может быть позволено что-либо лишь предполагать, в них все, что имеет хотя бы малейшее сходство с гипотезой, есть запрещенный товар, который не может быть пущен в продажу даже по самой дешевой цене, а должен быть изъят тотчас же после его обнаружения. Ведь всякое познание, устанавливаемое a priori, само заявляет, что оно требует признания своей абсолютной необходимости; тем более должно быть таковым определение всех чистых априорных знаний, которое должно служить мерилом и, следовательно, примером всякой аподиктической (философской) достоверности. Выполнил ли я в этом отношении то, за что взялся, об этом я полностью предоставляю судить читателю, так как автору приличествует только показать основания, но не высказывать свое мнение о том, какое действие они оказывают на его судей. Но для того чтобы какое-нибудь случайное обстоятельство не ослабило этого действия, пусть автору будет предоставлено право самому отмечать места, которые могли бы дать повод к некоторому недоверию, хотя они имеют отношение лишь к побочным целям; это необходимо для того, чтобы своевременно остановить то влияние, которое могли бы иметь на суждение читателя относительно главной цели даже малейшие сомнения его в этом пункте.
Достоверность и ясность – это требования, идущие от Декарта. Если требования соблюдены, то знание считается общезначимым.
Я не знаю других исследований, которые для познания способности, называемой нами рассудком, и вместе с тем для установления правил и границ ее применения были бы важнее, чем исследования, проведенные мной во второй главе «Трансцендентальной аналитики» под заглавием «Дедукция чистых рассудочных понятий». Зато они и стоили мне наибольшего труда, но я надеюсь, что этот труд не пропал даром. Это достаточно глубоко придуманное исследование имеет, однако, две стороны. Одна относится к предметам чистого рассудка и должна раскрыть и объяснить объективную значимость его априорных понятий; именно поэтому она и входит в мои планы. Другая сторона имеет в виду исследование самого чистого рассудка в том, что касается его возможности и познавательных способностей, на которых он сам основывается, иными словами, исследование рассудка с точки зрения субъекта, и хотя выяснение этого имеет огромное значение для поставленной мной главной цели, оно, однако, не входит в нее по существу; в самом деле, основной вопрос состоит в том, что и насколько может быть познано рассудком и разумом независимо от всякого опыта, а не в том, как возможна сама способность мышления. Последнее есть как бы поиски причины к данному действию, и в этом смысле оно заключает в себе нечто подобное гипотезе (хотя на самом деле это не так, и я поясню это в другом месте). Вот почему может показаться, что в данном случае я позволяю себе высказать лишь свое предположение, но тогда и читателю должна быть предоставлена свобода иметь свое мнение. Ввиду этого я должен напомнить читателю, что в случае если моя субъективная дедукция не вызовет в нем полной убежденности, на которую я рассчитываю, то все же объективная дедукция, которой я придаю здесь наибольшее значение, сохраняет всю свою силу.
Причиной, по которой для исследования взята только трансцендентальная область, является то, что опыт случаен, а Канту важно показать всеобщие механизмы работы познавательной деятельности.
Наконец, что касается ясности, то читатель имеет право требовать прежде всего дискурсивной (логической) ясности посредством понятий, а затем также интуитивной (эстетической) ясности посредством созерцаний, т. е. примеров или других пояснений in concrete. О ясности посредством понятий я позаботился в достаточной степени; это касалось сути моей цели, но и было случайной причиной того, что я не мог в достаточной степени удовлетворить второму, правда не столь строгому, но все же законному требованию. На протяжении всей своей работы я почти все время колебался, как поступить в этом отношении. Примеры и пояснения казались мне всегда необходимыми, и поэтому в первом наброске они и в самом деле были приведены мной в соответствующих местах. Однако вскоре я убедился в громадности своей задачи и многочисленности предметов, с которыми мне придется иметь дело, и так как я увидел, что этот материал уже в сухом, чисто схоластическом изложении придаст значительный объем моему сочинению, то я счел нецелесообразным еще более расширить его примерами и пояснениями, которые необходимы только для популярности, между тем как мою работу нельзя было приспособить для широкого распространения, а настоящие знатоки науки не особенно нуждаются в такого рода облегчении. Такое облегчение, конечно, приятно, но здесь оно могло бы повлечь за собой нечто противоречащее поставленной мной цели. Правда, аббат Террасон говорит: если измерять объем книги не числом листов, а временем, необходимым для того, чтобы ее понять, то о многих книгах можно было бы сказать, что они были бы значительно короче, если бы они не были так коротки. Но с другой стороны, если добиваются понятности пространного, но объединенного одним принципом целокупности спекулятивных знаний, то с таким же правом можно было бы сказать: некоторые книги были бы гораздо более ясными, если бы их не старались сделать столь ясными. В самом деле, средства, способствующие ясности, помогают пониманию отдельных частей, но нередко отдаляют понимание целого, мешая читателю быстро обозревать целое, и своими слишком яркими красками затемняют и скрадывают расчленение или структуру системы, между тем как именно от структуры системы главным образом и зависят суждения о ее единстве и основательности.
Террасон – французский ученый, профессор древнегреческой философии в Коллеж де Франс, член Французской академии.
Мне представляется, что читателю должно казаться довольно заманчивым соединить свои усилия с усилиями автора, если он намерен целиком и неуклонно довести до конца великое и важное дело по предначертанному плану. Метафизика, выраженная в понятиях, которые мы здесь дадим, – единственная из всех наук, имеющая право рассчитывать за короткое время при незначительных, но объединенных усилиях достигнуть такого успеха, что потомству останется только все согласовать со своими целями на дидактический манер без малейшего расширения содержания. Ведь это есть не что иное, как систематизированный инвентарь всего, чем мы располагаем благодаря чистому разуму. Здесь ничто не может ускользнуть от нас, так как то, что разум всецело создает из самого себя, не может быть скрыто, а обнаруживается самим разумом, как только найден общий принцип того, что им создано. Полное единство такого рода знаний, а именно знаний исключительно из чистых понятий, делает эту безусловную полноту не только возможной, но и необходимой, при этом опыт или хотя бы частное созерцание, которое должно было бы вести к определенному опыту, не в состоянии повлиять на их расширение и умножение. Tecum habita et noris, quam sit tibi curta supellex (Persius)[2].
Я надеюсь построить такую систему чистого (спекулятивного) разума под названием «метафизика природы». Эта система, будучи вдвое меньше по объему, должна тем не менее иметь гораздо более богатое содержание, чем предпринимаемая мной теперь критика, которой приходится в первую очередь показать источники и условия собственной возможности, и поэтому вынуждена расчистить и разровнять совершенно заросшую почву. В критике разума я жду от читателя терпения и беспристрастия судьи, а в изложении метафизики природы – доброжелательности и содействия помощника. В самом деле, как бы полно ни были изложены в критике все принципы системы, все же обстоятельность этой системы требует, чтобы в нее вошли все производные понятия, которые нельзя просто указать a priori, а должно найти постепенно; кроме того, поскольку критика разума исчерпала весь синтез понятий, то в метафизике природы в дополнение к этому требуется сделать то же в отношении анализа. Но эта задача легкая и представляет собой скорее развлечение, чем труд.
Кенигсберг, 23 апреля 1787 г.
Введение
I. О различии между чистым и эмпирическим познанием
Без сомнения, всякое наше познание начинается с опыта; в самом деле, чем же пробуждалась бы к деятельности познавательная способность, если не предметами, которые действуют на наши чувства и отчасти сами производят представления, отчасти побуждают наш рассудок сравнивать их, связывать или разделять и таким образом перерабатывать грубый материал чувственных впечатлений в познание предметов, называемое опытом? Следовательно, никакое познание не предшествует во времени опыту, оно всегда начинается с опыта.
Но хотя всякое наше познание и начинается с опыта, отсюда вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта. Вполне возможно, что даже наше опытное знание складывается из того, что мы воспринимаем посредством впечатлений, и из того, что наша собственная познавательная способность (только побуждаемая чувственными впечатлениями) дает от себя самой, причем это добавление мы отличаем от основного чувственного материала лишь тогда, когда продолжительное упражнение обращает на него наше внимание и делает нас способными к обособлению его.
Поэтому возникает по крайней мере вопрос, который требует более тщательного исследования и не может быть решен сразу: существует ли такое независимое от опыта и даже от всех чувственных впечатлений познание? Такие знания называются априорными; их отличают от эмпирических знаний, которые имеют апостериорный источник, а именно в опыте.
Отправной точкой мысли Канта является опыт. Под опытом здесь подразумевается переработка чувственных данных в познание предметов. Самый простой пример: мы видим (зрение как орган чувств) книгу, далее это чувственное данное перерабатывается таким образом, что я понимаю, что передо мной стоит книга. Этот процесс и называется опытом. Но вопрос не в генеалогии познания, а в критике, то есть разборе и анализе. И вопрос Канта понятен – что делает возможным мой опыт? И возможно ли внеопытное познание?
Однако термин a priori еще недостаточно определен, чтобы надлежащим образом обозначить весь смысл поставленного вопроса. В самом деле, обычно относительно некоторых знаний, выведенных из эмпирических источников, говорят, что мы способны или причастны к ним a priori потому, что мы выводим их не непосредственно из опыта, а из общего правила, которое, однако, само заимствовано нами из опыта. Так, о человеке, который подрыл фундамент своего дома, говорят: он мог a priori знать, что дом обвалится, иными словами, ему незачем было ждать опыта, т. е. когда дом действительно обвалится. Однако знать об этом совершенно a priori он все же не мог. О том, что тела имеют тяжесть и потому падают, когда лишены опоры, он все же должен был раньше узнать из опыта.
Поэтому в дальнейшем исследовании мы будем называть априорными знания, безусловно независимые от всякого опыта, а не независимые от того или иного опыта. Им противоположны эмпирические знания, или знания, возможные только a posteriori, т. е. посредством опыта. В свою очередь, из априорных знаний чистыми называются те знания, к которым совершенно не примешивается ничто эмпирическое. Так, например, положение «всякое изменение имеет свою причину» есть положение априорное, но не чистое, так как понятие изменения может быть получено только из опыта.
Одной из специфик кантовской философии является то, что Кант ищет всегда чистоту. Его не интересует априорное познание, но чистое априорное знание. Под априорными знаниями мы подразумеваем те, что добываются не из опыта, то есть ничто из внешнего мира не продуцирует это знание.
II. Мы обладаем некоторыми априорными знаниями, и даже обыденный рассудок никогда не обходится без них
Речь идет о признаке, по которому мы можем с уверенностью отличить чистое знание от эмпирического. Хотя мы из опыта и узнаем, что объект обладает теми или иными свойствами, но мы не узнаем при этом, что он не может быть иным. Поэтому, во-первых, если имеется положение, которое мыслится вместе с его необходимостью, то это априорное суждение; если к тому же это положение выведено исключительно из таких, которые сами, в свою очередь, необходимы, то оно безусловно априорное положение. Во-вторых, опыт никогда не дает своим суждениям истинной или строгой всеобщности, он сообщает им только условную и сравнительную всеобщность (посредством индукции), так что это должно, собственно, означать следующее: насколько нам до сих пор известно, исключений из того или иного правила не встречается. Следовательно, если какое-нибудь суждение мыслится как строго всеобщее, т. е. так, что не допускается возможность исключения, то оно не выведено из опыта, а есть безусловно априорное суждение. Стало быть, эмпирическая всеобщность есть лишь произвольное повышение значимости суждения с той степени, когда оно имеет силу для большинства случаев, на ту степень, когда оно имеет силу для всех случаев, как, например, в положении все тела имеют тяжесть. Наоборот, там, где строгая всеобщность принадлежит суждению по существу, она указывает на особый познавательный источник суждения, а именно на способность к априорному знанию. Итак, необходимость и строгая всеобщность суть верные признаки априорного знания и неразрывно связаны друг с другом. Однако, пользуясь этими признаками, подчас бывает легче обнаружить случайность суждения, чем эмпирическую ограниченность его, а иногда, наоборот, более ясной бывает неограниченная всеобщность, приписываемая нами суждению, чем необходимость его; поэтому полезно применять отдельно друг от друга эти критерии, из которых каждый безошибочен сам по себе.
Довольно сложно работать с априорностью, когда не понимаешь всю гносеологическую концепцию Канта. Но из этого момента уже видно, как функционально работает принцип априори. 1. Всякое необходимое суждение есть априорное. Например суждение, что всякая вещь находится в пространстве, является априорным, ведь совершенно необходимо, чтобы вещь находилась в пространстве. 2. Априорное суждение всегда имеет строго всеобщий характер. Если мы говорим снова о пространстве, то не существует никакой такой вещи, которая бы находилась не в пространстве.
Нетрудно доказать, что человеческое знание действительно содержит такие необходимые и в строжайшем смысле всеобщие, стало быть, чистые априорные суждения. Если угодно найти пример из области наук, то стоит лишь указать на все положения математики; если угодно найти пример из применения самого обыденного рассудка, то этим может служить утверждение, что всякое изменение должно иметь причину; в последнем суждении само понятие причины с такой очевидностью содержит понятие необходимости связи с действием и строгой всеобщности правила, что оно совершенно сводилось бы на нет, если бы мы вздумали, как это делает Юм, выводить его из частого присоединения того, что происходит, к тому, что ему предшествует, и из возникающей отсюда привычки (следовательно, чисто субъективной необходимости) связывать представления. Даже и не приводя подобных примеров в доказательство действительности чистых априорных основоположений в нашем познании, можно доказать необходимость их для возможности самого опыта, т. е. доказать a priori. В самом деле, откуда же сам опыт мог бы заимствовать свою достоверность, если бы все правила, которым он следует, в свою очередь, также были эмпирическими, стало быть, случайными, вследствие чего их вряд ли можно было бы считать первыми основоположениями. Впрочем, здесь мы можем довольствоваться тем, что указали как на факт на чистое применение нашей познавательной способности вместе с ее признаками. Однако не только в суждениях, но даже и в понятиях обнаруживается априорное происхождение некоторых из них. Отбрасывайте постепенно от вашего эмпирического понятия тела все, что есть в нем эмпирического: цвет, твердость или мягкость, вес, непроницаемость; тогда все же останется пространство, которое тело (теперь уже совершенно исчезнувшее) занимало и которое вы не можете отбросить. Точно так же если вы отбросите от вашего эмпирического понятия какого угодно телесного или нетелесного объекта все свойства, известные вам из опыта, то все же вы не можете отнять у него то свойство, благодаря которому вы мыслите его как субстанцию или как нечто присоединенное к субстанции (хотя это понятие обладает большей определенностью, чем понятие объекта вообще). Поэтому вы должны под давлением необходимости, с которой вам навязывается это понятие, признать, что оно a priori пребывает в нашей познавательной способности.
III. Для философии необходима наука, определяющая возможность, принципы и объем всех априорных знаний
Еще больше, чем все предыдущее, говорит нам то обстоятельство, что некоторые знания покидают даже сферу всякого возможного опыта и с помощью понятий, для которых в опыте нигде не может быть дан соответствующий предмет, расширяют, как нам кажется, объем наших суждений за рамки всякого опыта.
Именно к области этого рода знаний, которые выходят за пределы чувственно воспринимаемого мира, где опыт не может служить ни руководством, ни средством проверки, относятся исследования нашего разума, которые мы считаем по их важности гораздо более предпочтительными и по их конечной цели гораздо более возвышенными, чем все, чему рассудок может научиться в области явлений. Мы при этом скорее готовы пойти на что угодно, даже с риском заблудиться, чем отказаться от таких важных исследований из-за какого-то сомнения или пренебрежения и равнодушия к ним. Эти неизбежные проблемы самого чистого разума суть бог, свобода и бессмертие. А наука, конечная цель которой – с помощью всех своих средств добиться лишь решения этих проблем, называется метафизикой; ее метод вначале догматичен, т. е. она уверенно берется за решение [этой проблемы] без предварительной проверки способности или неспособности разума к такому великому начинанию.
Кант выделяет три вопроса, относительно которых опыт «узнает о своем бесправии»: бог, свобода и бессмертие. Философ замечает, что несмотря на то, что главное орудие познания (опыт) здесь бессилен, человек все равно задается этими тремя вопросами. Что важно, он называет их «проблемами самого чистого разума», тогда как в случае с опытным знанием мы говорим о работе рассудка. Значит, одной из проблем Канта было разграничение компетенции рассудка и разума. Позднее Кант скажет, что функция рассудка – давать понятия, то есть упорядочивать и систематизировать чувственный опыт. Функция разума – регулятивная. Он показывает области возможного применения рассудка.
Как только мы покидаем почву опыта, кажется естественным не строить тотчас же здание с такими знаниями и на доверии к таким основоположениям, происхождение которых неизвестно, а заложить сначала прочный фундамент для него старательным исследованием, а именно предварительной постановкой вопроса о том, каким образом рассудок может прийти ко всем этим априорным знаниям и какой объем, силу и значение они могут иметь. И в самом деле, нет ничего более естественного, чем подразумевать под словом естественно все то, что должно происходить правильно и разумно; если же под этим понимают то, что обыкновенно происходит, то опять-таки нет ничего естественнее и понятнее, чем то, что подобное исследование долго не появлялось.
Аристотель говорил, что философия начинается с удивления. Но чему мы удивляемся? Удивляемся мы самым повседневным и обычным вещам. Философ ставит под вопрос очевидное. Исследований априорных форм познания до него не было, т. к. эти структуры работают правильно и вжиты в нашу познавательную способность. Но аналитика этих априорных структур, то есть прояснение фундамента здания науки, поможет далее следовать правильной методологии как и в науке, так и в философии.
В самом деле, некоторые из этих знаний, например математические, с древних времен обладают достоверностью и этим открывают возможность для развития других [знаний], хотя бы они и имели совершенно иную природу. К тому же, находясь за пределами опыта, можно быть уверенным в том, что не будешь опровергнут опытом. Побуждение к расширению знаний столь велико, что помехи в достижении успехов могут возникнуть только в том случае, когда мы наталкиваемся на явные противоречия. Но этих противоречий можно избежать, если только строить свои вымыслы осторожно, хотя от этого они не перестают быть вымыслами. Математика дает нам блестящий пример того, как далеко мы можем продвинуться в априорном знании независимо от опыта. Правда, она занимается предметами и познаниями лишь настолько, насколько они могут быть показаны в созерцании. Однако это обстоятельство легко упустить из виду, так как указанное созерцание само может быть дано a priori, и потому его трудно отличить от чистых понятий. Страсть к расширению [знания], увлеченная таким доказательством могущества разума, не признает никаких границ. Рассекая в свободном полете воздух и чувствуя его противодействие, легкий голубь мог бы вообразить, что в безвоздушном пространстве ему было бы гораздо удобнее летать. Точно так же Платон покинул чувственно воспринимаемый мир, потому что этот мир ставит узкие рамки рассудку, и отважился пуститься за пределы его на крыльях идей в пустое пространство чистого рассудка. Он не заметил, что своими усилиями он не пролагал дороги, так как не встречал никакого сопротивления, которое служило бы как бы опорой для приложения его сил, дабы сдвинуть рассудок с места. Но такова уж обычно судьба человеческого разума, когда он пускается в спекуляцию: он торопится поскорее завершить свое здание и только потом начинает исследовать, хорошо ли было заложено основание для этого. Тогда он ищет всякого рода оправдания, чтобы успокоить нас относительно его пригодности или даже совсем отмахнуться от такой запоздалой и опасной проверки. Во время же самой постройки здания от забот и подозрений нас освобождает следующее обстоятельство, подкупающее нас мнимой основательностью. Значительная, а может быть наибольшая, часть деятельности нашего разума состоит в расчленении понятий, которые у нас уже имеются о предметах. Благодаря этому мы получаем множество знаний, которые, правда, суть не что иное, как разъяснение или истолкование того, что уже мыслилось (хотя и в смутном еще виде) в наших понятиях, но по крайней мере по форме ценятся наравне с новыми воззрениями, хотя по содержанию только объясняют, а не расширяют уже имеющиеся у нас понятия. Так как этим путем действительно получается априорное знание, развивающееся надежно и плодотворно, то разум незаметно для себя подсовывает под видом такого знания утверждения совершенно иного рода, в которых он a priori присоединяет к данным понятиям совершенно чуждые им [понятия], при этом не знают, как он дошел до них, и даже не ставят такого вопроса. Поэтому я займусь теперь прежде всего исследованием различия между этими двумя видами знания.
Метафора со зданием философии или зданием науки крайне показательна: есть дом с основанием и фасадом. И вместо того, чтобы построить здание с «хорошим» фундаментом, философия стремилась быстрее закончить строительство, а теперь «реставрирует» плохо построенный дом. Кант хочет дойти до основания и построить его правильно.
Что еще важно, так это акцент Канта на опыте. Каждый раз, когда философию обвиняют в излишней оторванности от реальности, то совершенно необходимо показывать «Введение» из «Критики чистого разума» – нет смысла в знании, если оно не сопрягается с опытом. Конечно, не стоит подкладывать утилитарные значения опыту, но тем не менее «полет в пустых небесах» не приветствуется Кантом.
IV. О различии между аналитическими и синтетическими суждениями
Во всех суждениях, в которых мыслится отношение субъекта к предикату (я имею в виду только утвердительные суждения, так как вслед за ними применить сказанное к отрицательным суждениям нетрудно), это отношение может быть двояким. Или предикат В принадлежит субъекту А как нечто содержащееся (в скрытом виде) в этом понятии А, или же В целиком находится вне понятия А, хотя и связано с ним. В первом случае я называю суждение аналитическим, а во втором – синтетическим. Следовательно, аналитические – это те (утвердительные) суждения, в которых связь предиката с субъектом мыслится через тождество, а те суждения, в которых эта связь мыслится без тождества, должны называться синтетическими. Первые можно было бы назвать поясняющими, а вторые – расширяющими суждениями, так как первые через свой предикат ничего не добавляют к понятию субъекта, а только делят его путем расчленения на подчиненные ему понятия, которые уже мыслились в нем (хотя и смутно), между тем как синтетические суждения присоединяют к понятию субъекта предикат, который вовсе не мыслился в нем и не мог бы быть извлечен из него никаким расчленением. Например, если я говорю все тела протяженны, то это суждение аналитическое. В самом деле, мне незачем выходить за пределы понятия, которое я сочетаю со словом тело, чтобы признать, что протяжение связано с ним, мне нужно только расчленить это понятие, т. е. осознать всегда мыслимое в нем многообразное, чтобы найти в нем этот предикат. Следовательно, это аналитическое суждение. Если же я говорю все тела имеют тяжесть, то этот предикат есть нечто иное, чем то, что я мыслю в простом понятии тела вообще. Следовательно, присоединение такого предиката дает синтетическое суждение.
Познавательные суждения можно разделить на синтетические и аналитические. Аналитические тавтологичны. Скажем, если мы даем строгое определение понятию «окно – это отверстие в стене для света и воздуха», то ничего нового мы не извлекаем из этого суждения. Оно носит скорее уточняющий характер. Синтетические суждения дают нам новое знание. «Окно белого цвета». Понятие «белый» не включено с необходимостью в понятие «окно». Но в данном опыте я вижу, что окно белого цвета, что дает мне новое знание об окне.
Все эмпирические суждения как таковые синтетические. В самом деле, было бы нелепо основывать аналитические суждения на опыте, так как, составляя эти суждения, я вовсе не должен выходить за пределы своего понятия и, следовательно, не нуждаюсь в свидетельстве опыта. Суждение, что тела протяженны, устанавливается a priori и не есть эмпирическое суждение. В самом деле, раньше чем обратиться к опыту, я имею все условия для своего суждения уже в этом понятии, из которого мне остается лишь извлечь предикат по закону противоречия, и благодаря этому я в то же время могу сознавать необходимость этого суждения, которая не могла бы быть даже указана опытом. Напротив, хотя в понятие тела вообще я вовсе не включаю предикат тяжести, однако этим понятием обозначается некоторый предмет опыта через какую-то часть опыта, к которой я могу, следовательно, присоединить другие части того же самого опыта сверх тех, которые имеются в первом понятии. Я могу сначала познать аналитически понятие тела через признаки протяженности, непроницаемости, формы и пр., которые мыслятся в этом понятии. Но вслед за этим я расширяю свое знание и, обращаясь к опыту, из которого я вывел это понятие тела, нахожу, что с вышеуказанными признаками всегда связана также тяжесть, и таким образом присоединяю синтетически этот признак к понятию тела как [его] предикат. Следовательно, возможность синтеза предиката тяжести с понятием тела основывается именно на опыте, так как оба этих понятия, хотя одно из них и не содержится в другом, тем не менее принадлежат друг к другу, пусть лишь случайно, как части одного целого, а именно опыта, который сам есть синтетическое связывание созерцаний.
Но априорные синтетические суждения совершенно лишены этого вспомогательного средства. Если я должен выйти за пределы понятия А, чтобы познать как связанное с ним другое понятие – В, то на что я могу опереться и что делает возможным синтез, если в этом случае я лишен возможности искать его в сфере опыта? Возьмем суждение все, что происходит, имеет свою причину. В понятии того, что происходит, я мыслю, правда, существование, которому предшествует время и т. д., и отсюда можно вывести аналитические суждения. Однако понятие причины целиком находится вне этого понятия и указывает на нечто отличное от того, что происходит, и, значит, вовсе не содержится в этом последнем представлении. На каком основании я приписываю тому, что вообще происходит, нечто совершенно отличное от него и познаю понятие причины, хотя и не заключающееся в первом понятии, тем не менее принадлежащее к нему и даже необходимо? Что служит здесь тем неизвестным х, на которое опирается рассудок, когда он полагает, что нашел вне понятия А чуждый ему, но тем не менее связанный с ним предикат В? Этим неизвестным не может быть опыт, потому что в приведенном основоположении второе представление присоединяется к первому не только с большей всеобщностью, чем это может дать опыт, но и выражая необходимость, стало быть, совершенно a priori и из одних только понятий. Конечная цель всего нашего спекулятивного априорного знания зиждется именно на таких синтетических, т. е. расширяющих [знание] основоположениях, тогда как аналитические суждения хотя в высшей степени важны и необходимы, но лишь для того, чтобы приобрести отчетливость понятий, требующуюся для достоверного и широкого синтеза, а не для того, чтобы приобрести нечто действительно новое.
Все знания, полученные из опыта, синтетичны. Это очевидно, ведь когда я вижу какую-нибудь книгу, то мой опыт этой новой книги даст мне какое-то новое знание, скажем, что она черного цвета с большим красным пятном в центре. Было бы нелепо мыслить, что в опыте мы получаем аналитические тавтологические знания, ведь тогда опыт не давал бы нам никаких новых знаний – нам было бы достаточно работать с книгой о мире, где написаны определения всех вещей, но не с самим миром. Но Канту интересен априорный мир. И вопрос в том, как возможны априорные синтетические суждения.
V. Все теоретические науки, основанные на разуме, содержат априорные синтетические суждения как принципы
1. Все математические суждения – синтетические. Это положение до сих пор, по-видимому, ускользало от внимания аналитиков человеческого разума; более того, оно прямо противоположно всем их предположениям, хотя оно бесспорно достоверно и очень важно для дальнейшего исследования. В самом деле, когда было замечено, что умозаключения математиков делаются по закону противоречия (а это требуется природой всякой аподиктической достоверности), то уверили себя, будто основоположения также познаются исходя из закона противоречия; но это убеждение было ошибочным, так как синтетическое положение, правда, можно усмотреть из закона противоречия, однако никак не само по себе, а таким образом, что при этом всегда предполагается другое синтетическое положение, из которого оно может быть выведено.
Прежде всего следует заметить, что настоящие математические положения всегда априорные, а не эмпирические суждения, потому что они обладают необходимостью, которая не может быть заимствована из опыта. Если же с этим не хотят согласиться, то я готов свое утверждение ограничить областью чистой математики, само понятие которой уже указывает на то, что она содержит не эмпирическое, а исключительно только чистое априорное знание.
То, с чем работает Кант, – это не только поле философии, но и поле науки. В этом смысле его проект имеет всеобщую значимость.
Работа с чистой математикой как априорной наукой показывает, что есть определенная структура и механика работы априорного, которая лежит в основе всякого познания. Понять эту механику – значит заложить фундамент науки.
На первый взгляд может показаться, что положение 7 + 5 = 12 чисто аналитическое [суждение], вытекающее по закону противоречия из понятия суммы семи и пяти. Однако, присматриваясь ближе, мы находим, что понятие суммы 7 и 5 содержит в себе только соединение этих двух чисел в одно и от этого вовсе не мыслится, каково то число, которое охватывает оба слагаемых. Понятие двенадцати отнюдь еще не мыслится оттого, что я мыслю соединение семи и пяти, и сколько бы я ни расчленял свое понятие такой возможной суммы, я не найду в нем числа 12. Для этого необходимо выйти за пределы этих понятий, прибегая к помощи созерцания, соответствующего одному из них, например своих пяти пальцев или (как это делает Зегнер в своей арифметике) пяти точек, и присоединять постепенно единицы числа 5, данного в созерцании, к понятию семи. В самом деле, я беру сначала число семь и затем, для получения понятия пяти, прибегая к помощи созерцания пальцев своей руки, присоединяю постепенно к числу 7 с помощью этого образа единицы, ранее взятые для составления числа 5, и таким образом вижу, как возникает число 12. То, что 5 должно было быть присоединено к 7, я, правда, мыслил в понятии суммы = 7 + 5, но не мыслил того, что эта сумма равна двенадцати. Следовательно, приведенное арифметическое суждение всегда синтетическое. Это становится еще очевиднее, если взять несколько большие числа, так как в этом случае ясно, что, сколько бы мы ни манипулировали своими понятиями, мы никогда не могли бы найти сумму посредством одного лишь расчленения понятий, без помощи созерцаний.
Точно так же ни одно основоположение чистой геометрии не есть аналитическое суждение. Положение прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками – синтетическое положение. В самом деле, мое понятие прямой содержит только качество, но ничего не говорит о количестве. Следовательно, понятие кратчайшего [расстояния] целиком присоединяется к понятию прямой линии извне и никаким расчленением не может быть извлечено из него. Поэтому здесь необходимо прибегать к помощи созерцания, посредством которого только и возможен синтез.
Только немногие из основоположений, предполагаемых геометрами, суть действительно аналитические суждения и основываются на законе противоречия. Однако они, будучи тождественными положениями, служат только для методической связи, а не в качестве принципов; таковы, например, суждение а = а, целое равно самому себе, или (a + b) › а, т. е. целое больше своей части. Но даже и эти суждения, хотя они имеют силу на основании одних только понятий, допускаются в математике лишь потому, что могут быть показаны в созерцании. Если мы обыкновенно думаем, будто предикат таких аподиктических суждений уже содержится в нашем понятии и, стало быть, суждение аналитическое, то это объясняется исключительно двусмысленностью выражений. Мы должны, как мы говорим, мысленно присоединить к данному понятию некоторый предикат, и эта необходимость связана уже с самими понятиями. Между тем вопрос состоит не в том, что мы должны мысленно присоединить к данному понятию, а в том, что мы действительно мыслим в нем, хотя и смутно. При такой постановке вопроса оказывается, что предикат связан с указанными понятиями, правда необходимо, однако не как нечто мыслимое в самом понятии, а с помощью созерцания, которое должно быть добавлено к понятию.
2. Естествознание (Physica) заключает в себе априорные синтетические суждения как принципы. Я приведу в виде примеров лишь несколько суждений: при всех изменениях телесного мира количество материи остается неизменным или при всякой передаче движения действие и противодействие всегда должны быть равны друг другу. В обоих этих суждениях очевидны не только необходимость, стало быть, априорное происхождение их, но и их синтетический характер. В самом деле, в понятии материи я не мыслю ее постоянности, а имею в виду только ее присутствие в пространстве через наполнение его. Следовательно, в приведенном суждении я действительно выхожу за пределы понятия материи, чтобы мысленно присоединить к нему a priori нечто такое, чего я в нем не мыслил. Таким образом, это суждение не аналитическое, а синтетическое, и тем не менее оно мыслится a priori; точно так же обстоит дело и с другими положениями чистого естествознания.
3. Метафизика, даже если и рассматривать ее как науку, которую до сих пор только пытались создать, хотя природа человеческого разума такова, что без метафизики и нельзя обойтись, должна заключать в себе априорные синтетические знания; ее задача состоит вовсе не в том, чтобы только расчленять и тем самым аналитически разъяснять понятия о вещах, a priori составляемые нами; в ней мы стремимся a priori расширить наши знания и должны для этого пользоваться такими основоположениями, которые присоединяют к данному понятию нечто не содержавшееся еще в нем; при этом мы с помощью априорных синтетических суждений заходим так далеко, что сам опыт не может следовать за нами, как, например, в положении мир должен иметь начало, и т. п. Таким образом, метафизика, по крайней мере по своей цели, состоит исключительно из априорных синтетических положений.
Кант последовательно проходит по общим местам разных наук, показывая, что априорное синтетическое знание является основой как и для математики, так и для естествознания. И он идет дальше. Для Канта важно, чтобы метафизика заняла свое почетное место в мире наук. Метафизика до Канта занималась аналитикой – расчленяла понятия и разъясняла их, тогда как изначально она (метафизика) появилась из вопроса о начале, который является синтетическим априорным.
VI. Общая задача чистого разума
Мы бы немало выиграли, если бы нам удалось подвести множество исследований под формулу одной-единственной задачи. Точно определив эту задачу, мы облегчили бы труд не только себе, но и каждому, кто пожелал бы удостовериться, достигли ли мы своей цели или нет. Истинная же задача чистого разума заключается в следующем вопросе: как возможны априорные синтетические суждения?
Метафизика оставалась до сих пор в шатком положении недостоверности и противоречивости исключительно по той причине, что эта задача и, быть может, даже различие между аналитическими и синтетическими суждениями прежде никому не приходили в голову. Прочность или шаткость метафизики зависит от решения этой задачи или от удовлетворительного доказательства того, что в действительности вообще невозможно объяснить эту задачу. Давид Юм, из всех философов ближе всего подошедший к этой задаче, но все же мысливший ее с недостаточной определенностью и всеобщностью и обративший внимание только на синтетическое положение о связи действия со своей причиной (principium causalitatis), пришел к убеждению, что такое положение никак не может быть априорным; согласно его умозаключениям, все, что мы называем метафизикой, сводится к простой иллюзии, ошибочно принимающей за усмотрение разума то, что в действительности заимствовано только из опыта и благодаря привычке приобрело видимость необходимости. К этому утверждению, разрушающему всякую чистую философию, он никогда не пришел бы, если бы задача, поставленная нами, стояла перед его глазами во всей ее всеобщности, так как тогда он заметил бы, что, если согласиться с его доводом, невозможна и чистая математика, без сомнения содержащая в себе априорные синтетические положения, а от такого утверждения его здравый рассудок, конечно, удержал бы его.
Не стоит думать, что Кант не ценил Юма. По собственному признанию Канта, Юм «пробудил его от догматического сна». Вопрос, который поставил в свое время Юм и пришел к убивающему метафизику ответу, вызвал в Канте живой интерес и вынудил доказать легитимность существования метафизики как науки.
Решение поставленной выше задачи заключает в себе вместе с тем возможность чистого применения разума при создании и развитии всех наук, содержащих априорное теоретическое знание о предметах, т. е. ответ на вопросы:
Как возможна чистая математика?
Как возможно чистое естествознание?
Так как эти науки действительно существуют, то естественно ставить вопрос, как они возможны: ведь их существование доказывает, что они должны быть возможны. Что же касается метафизики, то всякий вправе усомниться в ее возможности, так как она прежде плохо развивалась, и ни одна из предложенных до сих пор систем, если речь идет об их основной цели, не заслуживает того, чтобы ее признали действительно существующей.
Однако и этот вид знания надо рассматривать в известном смысле как данный; метафизика существует если не как наука, то, во всяком случае, как природная склонность [человека] (metaphysica naturalis). В самом деле, человеческий разум в силу собственной потребности, а вовсе не побуждаемый одной только суетностью всезнайства, неудержимо доходит до таких вопросов, на которые не могут дать ответ никакое опытное применение разума и заимствованные отсюда принципы; поэтому у всех людей, как только разум у них расширяется до спекуляции, действительно всегда была и будет какая-нибудь метафизика. А потому и относительно нее следует поставить вопрос: как возможна метафизика в качестве природной склонности, т. е. как из природы общечеловеческого разума возникают вопросы, которые чистый разум задает себе и на которые, побуждаемый собственной потребностью, он пытается, насколько может, дать ответ?
Человек склонен задавать философские вопросы, и эта склонность породила философию. И если на момент жизни Канта метафизика не смогла зарекомендовать себя в качестве строгой науки (а причиной тому неверный фундамент), то для начала можно разобраться, как возможна метафизика как склонность, хотя даже уже здесь чувствуется пафос Канта, который очевидно не оставит метафизику на уровне одной лишь склонности, но стремится дать ей статус науки.
Но так как во всех прежних попытках ответить на эти естественные вопросы, например на вопрос, имеет ли мир начало или он существует вечно и т. п., всегда имелись неизбежные противоречия, то нельзя только ссылаться на природную склонность к метафизике, т. е. на самую способность чистого разума, из которой, правда, всегда возникает какая-нибудь метафизика (какая бы она ни была), а следует найти возможность удостовериться в том, знаем ли мы или не знаем ее предметы, т. е. решить вопрос о предметах, составляющих проблематику метафизики, или о том, способен или не способен разум судить об этих предметах, стало быть, о возможности или расширить с достоверностью наш чистый разум, или поставить ему определенные и твердые границы. Этот последний вопрос, вытекающий из поставленной выше общей задачи, можно с полным основанием выразить следующим образом: как возможна метафизика как наука?
Вопрос о границе познания – один из важнейших в «Критике чистого разума». Чтобы познание было строгим и чистым, оно должно иметь поле, в котором законы познания работают. Вычертить это поле и ограничить его от области, где познание невозможно, – одна из задач текста. (Маленький спойлер – существование бога, бессмертие души и конечность мира будут теми вопросами, на которые рассудок не способен ответить.)
Таким образом, критика разума необходимо приводит в конце концов к науке; наоборот, догматическое применение разума без критики приводит к ни на чем не основанным утверждениям, которым можно противопоставить столь же ложные утверждения, стало быть, приводит к скептицизму.
Эта наука не может также иметь огромного, устрашающего объема, так как она занимается не объектами разума, многообразие которых бесконечно, а только самим разумом, задачами, возникающими исключительно из его недр и предлагаемыми ему собственной его природой, а не природой вещей, отличных от него; в самом деле, когда разум сперва в полной мере исследует свою способность в отношении предметов, которые могут встречаться ему в опыте, тогда легко определить со всей полнотой и достоверностью объем и границы применения его за пределами всякого опыта.
Итак, мы можем и должны считать безуспешными все сделанные до сих пор попытки догматически построить метафизику. Если некоторые из них заключают в себе нечто аналитическое, а именно одно лишь расчленение понятий, a priori присущих нашему разуму, то это вовсе еще не составляет цели, а представляет собой лишь подготовку к метафизике в собственном смысле слова, а именно для априорного синтетического расширения нашего познания; расчленение не годится для этого, так как оно лишь показывает то, что содержится в этих понятиях, но не то, каким образом мы приходим a priori к таким понятиям, чтобы затем иметь возможность определить также их применимость к предметам всякого знания вообще. К тому же не требуется большой самоотверженности, чтобы отказаться от всех этих притязаний, так как неоспоримые и неизбежные при догматическом методе противоречия разума с самим собой давно уже лишили авторитета всю существовавшую до сих пор метафизику. Значительно большая стойкость будет нужна для того, чтобы трудности в нас самих и противодействие извне не воспрепятствовали нам содействовать при помощи метода, противоположного существовавшим до сих пор, успешному и плодотворному росту необходимой для человеческого разума науки, всякий произрастающий ствол которой нетрудно, конечно, срубить, но корни которой уничтожить невозможно.
Итак, мы можем выделить два метода, которые существовали до Канта, – догматический и скептический. Если грубо, то догматика находится в ситуации знания. У нее есть основоположения, в которых она не сомневается и на которых базируются все другие знания. Скептицизм же не знает ничего, ведь он сомневается в каждом положении. Поэтому у скептиков нет здания науки вовсе. Но и первый, и второй метод губительны для науки. Догматики строят здание на шатком фундаменте, а скептики вообще ничего не строят. Кант предлагает критику как метод. Несомненно следует сомневаться в положениях, но сомнение должно иметь свои границы. Несомненно следует иметь догмы, но догмы должны быть проверены.
VII. Идея и деление особой науки, называемой критикой чистого разума
Из всего сказанного вытекает идея особой науки, которую можно назвать критикой чистого разума. Разум есть способность, дающая нам принципы априорного знания. Поэтому чистым мы называем разум, содержащий принципы безусловно априорного знания. Органоном чистого разума должна быть совокупность тех принципов, на основе которых можно приобрести и действительно осуществить все чистые априорные знания. Полное применение такого органона дало бы систему чистого разума. Но так как эта система крайне желательна и еще неизвестно, возможно ли и здесь вообще какое-нибудь расширение нашего знания и в каких случаях оно возможно, то мы можем назвать науку, лишь рассматривающую чистый разум, его источники и границы, пропедевтикой к системе чистого разума. Такая пропедевтика должна называться не учением, а только критикой чистого разума, и польза ее по отношению к спекуляции в самом деле может быть только негативной: она может служить не для расширения, а только для очищения нашего разума и освобождения его от заблуждений, что уже представляет собой значительную выгоду. Я называю трансцендентальным всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов, поскольку это познание должно быть возможным a priori. Система таких понятий называлась бы трансцендентальной философией. Однако и этого для начала было бы слишком много. Ведь такая наука должна была бы содержать в полном объеме как аналитическое, так и априорное синтетическое знание, и потому, насколько это касается нашей цели, она обладала бы слишком большим объемом, так как мы должны углубляться в своем анализе лишь настолько, насколько это совершенно необходимо, чтобы усмотреть во всей полноте принципы априорного синтеза, единственно интересующие нас. Мы занимаемся здесь именно этим исследованием, которое мы можем назвать собственно не учением, а только трансцендентальной критикой, так как оно имеет целью не расширение самих знаний, а только исправление их и должно служить критерием достоинства или негодности всех априорных знаний. Поэтому такая критика есть по возможности подготовка к органону или, если бы это не удалось, по крайней мере к канону, согласно которому, во всяком случае в будущем, могла бы быть представлена аналитически и синтетически совершенная система философии чистого разума, все равно, будет ли она состоять в расширении или только в ограничении его познания. Что такая система возможна и даже будет иметь вовсе не столь большой объем, так что можно надеяться вполне завершить ее, – на это можно рассчитывать уже ввиду того, что не природа вещей, которая неисчерпаема, а именно рассудок, который судит о природе вещей, да и то лишь рассудок в отношении его априорных знаний, служит здесь предметом, данные (Vorrat) которого не могут остаться скрытыми от нас, так как нам не приходится искать их вовне себя, и, по всей вероятности, они не слишком велики, так что можно вполне воспринять их, рассмотреть их достоинство или негодность и дать правильную их оценку. Еще менее следует ожидать здесь критики книг и систем чистого разума; здесь дается только критика самой способности чистого разума. Только основываясь на этой критике, можно получить надежный критерий для оценки философского содержания старых и новых сочинений по этому предмету; в противном случае некомпетентный историк и судья рассматривает ни на чем не основанные утверждения других исходя из своих собственных, в такой же мере необоснованных утверждений.
Органон в переводе с древнегреческого обозначает «орудие», «инструмент». Так назывался корпус логических работ Аристотеля, который лежал в основе науки. Позднее английский эмпирик Фрэнсис Бэкон напишет «Новый органон». Пафос понятен – это некая «борьба» со старой аристотелевской традицией. «Критика чистого разума» Канта есть такая же попытка обосновать науки и создать такой инструмент, который заложил бы прочный фундамент науки.
Пропедевтика – это вводное, предварительное знание. Было бы неверно считать такого рода знание избыточным, более того, оно совершенно необходимо. Ведь критика чистого разума как пропедевтика занимается очищением от заблуждений. Заблуждения, игнорировавшиеся долгое время в силу неправильного научного и философского метода, привели к тому, что наука оказывается в кризисе. Кант предлагает построить такой фундамент с таким методом, чтобы избежать подобного рода кризисов.
Трансцендентальная философия есть идея науки, для которой критика чистого разума должна набросать архитектонически, т. е. основанный на принципах, полный план с ручательством за полноту и надежность всех частей этого здания. Она представляет собой систему всех принципов чистого разума. Сама эта критика еще не называется трансцендентальной философией исключительно потому, что она должна была бы содержать в себе также обстоятельный анализ всего априорного человеческого познания, чтобы быть полной системой. Наша критика, правда, должна также дать полное перечисление всех основных понятий, составляющих указанное чистое знание, однако она совершенно правильно воздерживается от обстоятельного анализа самих этих понятий, а также от полного перечня производных из них понятий отчасти потому, что такое расчленение не было бы целесообразным, поскольку оно не связано с затруднениями, встречающимися в синтезе, ради которого предпринята вся эта критика, а отчасти потому, что попытка взять на себя ответственность за полноту такого анализа и выводов нарушила бы единство плана, между тем как этого вовсе не требует поставленная цель. Этой полноты анализа и выводов из априорных понятий, которые мы изложим в настоящем сочинении, нетрудно будет достигнуть, если только сначала будут установлены эти понятия как разработанные принципы синтеза и если в отношении этой основной цели ничего не будет упущено.
Таким образом, к критике чистого разума относится все, из чего состоит трансцендентальная философия: она есть полная идея трансцендентальной философии, но еще не сама эта наука, потому что в анализ она углубляется лишь настолько, насколько это необходимо для полной оценки априорного синтетического знания.
Одно из основных понятий Канта – трансцендентальная философия. Под трансцендентальным имеется в виду не столько знание, сколько условие возможности этого знания. То есть Кант не занимается в строгом смысле наукой или философией, но показывает, как они могут (или должны) познавать. Тот метод, о которым мы говорили выше, который прорабатывает Кант, и будет называться трансцендентальным методом.
Устанавливая подразделения этой науки, надо в особенности иметь в виду, чтобы в нее не входили понятия, заключающие в себе что-то эмпирическое, т. е. чтобы априорное знание было совершенно чистым. Поэтому хотя высшие основоположения моральности и основные понятия ее суть априорные знания, тем не менее они не входят в трансцендентальную философию, так как они не полагают, правда, в основу своих предписаний понятия удовольствия и неудовольствия, влечений и склонностей и т. п., которые все имеют эмпирическое происхождение, но все же, исследуя понятие долга, необходимо принимать их в расчет как препятствия, которые должны быть преодолены, или как приманки, которые не должны быть побудительными мотивами. Таким образом, трансцендентальная философия есть наука одного лишь чистого спекулятивного разума, так как все практическое, поскольку оно содержит мотивы, связано с чувствами, которые принадлежат к эмпирическим источникам познания.
Если устанавливать подразделения этой науки с общей точки зрения системы вообще, то излагаемая нами здесь наука должна содержать, во-первых, учение о началах и во-вторых, учение о методе чистого разума. Каждая из этих главных частей должна иметь свои подразделы, основания которых здесь еще не могут быть изложены. Для введения или предисловия кажется необходимым указать лишь на то, что существуют два основных ствола человеческого познания, вырастающие, быть может, из одного общего, но неизвестного нам корня, а именно чувственность и рассудок: посредством чувственности предметы нам даются, рассудком же они мыслятся. Если бы чувственность a priori содержала представления, составляющие условия, при которых нам даются предметы, то она бы входила в трансцендентальную философию. Это трансцендентальное учение о чувственности должно было бы составлять первую часть науки о началах, так как условия, лишь при которых предметы даются человеческому познанию, предшествуют условиям, при которых они мыслятся.
Из «Трансцендентального учения о началах»
Часть первая Трансцендентальная эстетика
§ 1
Каким бы образом и при помощи каких бы средств ни относилось познание к предметам, во всяком случае созерцание есть именно тот способ, каким познание непосредственно относится к ним и к которому как к средству стремится всякое мышление. Созерцание имеет место, только если нам дается предмет, а это, в свою очередь, возможно, по крайней мере для нас, людей, лишь благодаря тому, что предмет некоторым образом воздействует на нашу душу (das Gemüt afficiere). Эта способность (восприимчивость) получать представления тем способом, каким предметы воздействуют на нас, называется чувственностью. Следовательно, посредством чувственности предметы нам даются, и только она доставляет нам созерцания; мыслятся же предметы рассудком, и из рассудка возникают понятия. Всякое мышление, однако, должно в конце концов прямо (directe) или косвенно (indirecte) через те или иные признаки иметь отношение к созерцаниям, стало быть, у нас – к чувственности, потому что ни один предмет не может быть нам дан иным способом.
Действие предмета на способность представления, поскольку мы подвергаемся воздействию его (afficiert werden), есть ощущение. Те созерцания, которые относятся к предмету посредством ощущения, называются эмпирическими. Неопределенный предмет эмпирического созерцания называется явлением.
Мы воспринимаем предметы, и это восприятие лежит в основе познания. Наша способность воспринимать предметы называется чувственностью. Чувственность запускается только при данности предмета. Ситуация, в которой предмет аффецирует (возбуждает) душу, называется созерцанием. Скажем, я созерцаю дом. Это означает, что дом аффецирует душу и запускает работу моей чувственности. Вопрос не в том, что есть такого в предмете, что аффецирует меня. Вопрос в том, как устроена моя душа, что она способна аффецироваться.
Здесь Кант использует слово Gemüt, обозначая душу. В примечании к «Критике» написано так: «В русском языке нет, к сожалению, слова, адекватного немецкому «Gemüt». «Дух» и «ум» имеют иное содержание, чем «animus», «animo», «mind», «esprit», ведь «Gemüt» означает «чувственная настроенность», «волевая настроенность» и «умственность» одновременно. Эти понятия в какой-то мере «собраны» в русском слове «душа», поэтому в настоящем издании (как и во всех предыдущих переводах) «Gemüt» (так же как и «Seele») переводится как «душа».
То в явлении, что соответствует ощущениям, я называю его материей, а то, благодаря чему многообразное в явлении (das Mannigfaltige der Erschéinung) может быть упорядочено определенным образом, я называю формой явления. Так как то, единственно в чем ощущения могут быть упорядочены и приведены в известную форму, само, в свою очередь, не может быть ощущением, то хотя материя всех явлений дана нам только a posteriori, форма их целиком должна для них находиться готовой в нашей душе a priori и потому может рассматриваться отдельно от всякого ощущения.
Иными словами, все, что находится в опыте и не может быть получено вне опыта, есть материя. Цвет, вкус, запах, голос и прочее. Форма – это то, что структурирует чувственные данные. Форма – это и есть то, благодаря чему душа (Gemüt) способна аффецироваться.
Я называю чистыми (в трансцендентальном смысле) все представления, в которых нет ничего, что принадлежит к ощущению. Сообразно этому чистая форма чувственных созерцаний вообще, форма, в которой созерцается при определенных отношениях все многообразное [содержание] явлений, будет находиться в душе a priori. Сама эта чистая форма чувственности также будет называться чистым созерцанием. Так, когда я отделяю от представления о теле все, что рассудок мыслит о нем, как то: субстанцию, силу, делимость и т. п., а также все, что принадлежит в нем к ощущению, как то: непроницаемость, твердость, цвет и т. п., то у меня остается от этого эмпирического созерцания еще нечто, а именно протяжение и образ. Все это принадлежит к чистому созерцанию, которое находится в душе a priori также и без действительного предмета чувств или ощущения, как чистая форма чувственности.
Науку о всех априорных принципах чувственности я называю трансцендентальной эстетикой. Следовательно, должна существовать наука, составляющая первую часть трансцендентального учения о началах, в противоположность науке, содержащей принципы чистого мышления и называемой трансцендентальной логикой.
Итак, в трансцендентальной эстетике мы прежде всего изолируем чувственность, отвлекая все, что мыслит при этом рассудок посредством своих понятий, так чтобы не осталось ничего, кроме эмпирического созерцания. Затем мы отделим еще от этого созерцания все, что принадлежит к ощущению, так чтобы осталось только чистое созерцание и одна лишь форма явлений, единственное, что может быть нам дано чувственностью a priori. При этом исследовании обнаружится, что существуют две чистые формы чувственного созерцания как принципы априорного знания, а именно пространство и время, рассмотрением которых мы теперь и займемся.
Глава первая. О пространстве
§ 2 Метафизическое истолкование этого понятия
Посредством внешнего чувства (свойства нашей души) мы представляем себе предметы как находящиеся вне нас, и притом всегда в пространстве. В нем определены или определимы их внешний вид, величина и отношение друг к другу. Внутреннее чувство, посредством которого душа созерцает самое себя или свое внутреннее состояние, не дает, правда, созерцания самой души как объекта, однако это есть определенная форма, при которой единственно возможно созерцание ее внутреннего состояния, так что все, что принадлежит к внутренним определениям, представляется во временных отношениях. Вне нас мы не можем созерцать время, точно так же как не можем созерцать пространство внутри нас. Что же такое пространство и время? Есть ли они действительные сущности или они суть лишь определения или отношения вещей, однако такие, которые сами по себе были бы присущи вещам, если бы даже вещи и не созерцались? Или же они суть определения или отношения, присущие одной только форме созерцания и, стало быть, субъективной природе нашей души, без которой эти предикаты не могли бы приписываться ни одной вещи? Чтобы решить эти вопросы, истолкуем сначала понятие пространства. Под истолкованием же (expositio) я разумею отчетливое (хотя и не подробное) представление о том, что принадлежит к понятию; я называю истолкование метафизическим, если оно содержит то, благодаря чему понятие показывается как данное a priori.
Как Кант обосновывает априорность пространства и времени? Во-первых, мы можем мыслить пространство и время отдельно от вещей, но не наоборот. То есть можно представить пустое пространство или последовательность времени, но представить предмет, который находится нигде, невозможно. Во-вторых, если предположить, что мы мыслим пространство и время отдельно после вещей (как результат абстрагирования), а не до, то было бы неясно, почему возможно само это абстрагирование и почему результат абстрагирования от опыта мыслится нами с всеобщностью и необходимостью.
1. Пространство не есть эмпирическое понятие, выводимое из внешнего опыта. В самом деле, представление о пространстве должно уже заранее быть дано для того, чтобы те или иные ощущения были относимы к чему-то вне меня (т. е. к чему-то в другом месте пространства, а не в том, где я нахожусь), а также для того, чтобы я мог представлять себе их как находящиеся вне и подле друг друга, стало быть, не только как различные, но и как находящиеся в различных местах. Представление о пространстве не может быть поэтому заимствовано из отношений внешних явлений посредством опыта: сам этот внешний опыт становится возможным прежде всего благодаря представлению о пространстве.
2. Пространство есть необходимое априорное представление, лежащее в основе всех внешних созерцаний. Никогда нельзя себе представить отсутствие пространства, хотя нетрудно представить себе отсутствие предметов в нем. Поэтому пространство следует рассматривать как условие возможности явлений, а не как зависящее от них определение; оно есть априорное представление, необходимым образом лежащее в основе внешних явлений.
3. Пространство есть не дискурсивное, или, как говорят, общее, понятие об отношениях вещей вообще, а чистое созерцание. В самом деле, представить себе можно только одно-единственное пространство, и если говорят о многих пространствах, то под ними разумеют лишь части одного и того же единственного пространства. К тому же эти части не могут предшествовать единому, всеохватывающему пространству словно его составные части (из которых можно было бы его сложить): их можно мыслить только находящимися в нем. Пространство в существе своем едино; многообразное в нем, а стало быть, и общее понятие о пространствах вообще основываются исключительно на ограничениях. Отсюда следует, что в основе всех понятий о пространстве лежит априорное (не эмпирическое) созерцание. Точно так же все геометрические основоположения, например, что в треугольнике сумма двух сторон больше третьей стороны, всегда выводятся из созерцания, и притом a priori, с аподиктической достоверностью, а вовсе не из общих понятий о линии и треугольнике.
4. Пространство представляется как бесконечная данная величина. Всякое понятие, правда, надо мыслить как представление, которое содержится в бесконечном множестве различных возможных представлений (в качестве их общего признака), стало быть, они ему подчинены (unter sich enthalt); однако ни одно понятие как таковое нельзя мыслить так, будто оно содержит в себе (in sich enthielte) бесконечное множество представлений. Тем не менее пространство мыслится именно таким образом (так как все части бесконечного пространства существуют одновременно). Стало быть, первоначальное представление о пространстве есть априорное созерцание, а не понятие.
§ 3 Трансцендентальное истолкование понятия о пространстве
Под трансцендентальным истолкованием я разумею объяснение понятия как принципа, из которого можно усмотреть возможность других априорных синтетических знаний. Для этой цели требуется: 1) чтобы такие знания действительно вытекали из данного понятия; 2) чтобы эти знания были возможны только при допущении некоторого данного способа объяснения этого понятия.
Геометрия есть наука, определяющая свойства пространства синтетически и тем не менее a priori. Каким же должно быть представление о пространстве, чтобы такое знание о нем было возможно? Оно должно быть первоначально созерцанием, так как из одного только понятия нельзя вывести положения, выходящие за его пределы, между тем мы встречаем это в геометрии (Введение, V). Но это созерцание должно находиться в нас a priori, т. е. до всякого восприятия предмета, следовательно, оно должно быть чистым, не эмпирическим созерцанием. В самом деле, все геометрические положения имеют аподиктический характер, т. е. связаны с сознанием их необходимости, например положение, что пространство имеет только три измерения, но такие положения не могут быть эмпирическими, или суждениями, исходящими из опыта, а также не могут быть выведены из подобных суждений (Введение, II).
Геометрия как наука основывается на синтетических суждениях, то есть дает новое знание. Но это знание выводится не из опыта, а априори. Мы пришли к знанию о трехмерном пространстве, абстрагируясь от всего эмпирического. Более того, такое знание, полученное геометрией, имеет всеобщий характер, то есть трехмерность пространства – это та формальная единица, которая делает возможным опыт. Всякая вещь находится в этой системе координат и именно так воспринимается душой.
Каким же образом может быть присуще нашей душе внешнее созерцание, которое предшествует самим объектам и в котором понятие их может быть определено a priori? Очевидно, это возможно лишь в том случае, если оно находится только в субъекте как формальное его свойство подвергаться воздействию объектов и таким образом получать непосредственное представление о них, т. е. созерцание, следовательно, лишь как форма внешнего чувства вообще.
Итак, лишь наше объяснение делает понятной возможность геометрии как априорного синтетического знания. Всякий другой способ объяснения, не дающий этого, хотя бы он внешне и был несколько сходен с нашим, можно точнее всего отличить от нашего по этому признаку.
Выводы из вышеизложенных понятий
a) Пространство вовсе не представляет свойства каких-либо вещей самих по себе, а также не представляет оно их в их отношении друг к другу, иными словами, оно не есть определение, которое принадлежало бы самим предметам и оставалось бы даже в том случае, если отвлечься от всех субъективных условий созерцания. В самом деле, ни абсолютные, ни относительные определения нельзя созерцать раньше существования вещей, которым они присущи, т. е. нельзя созерцать их a priori.
b) Пространство есть не что иное, как только форма всех явлений внешних чувств, т. е. субъективное условие чувственности, при котором единственно и возможны для нас внешние созерцания. Так как восприимчивость субъекта, способность его подвергаться воздействию предметов необходимо предшествуют всякому созерцанию этих объектов, то отсюда понятно, каким образом форма всех явлений может быть дана в душе раньше всех действительных восприятий, следовательно, a priori; понятно и то, каким образом она, как чистое созерцание, в котором должны быть определены все предметы, может до всякого опыта содержать принципы их отношений друг к другу.
Под субъективным условием Кант подразумевает то, что аффецируется именно субъект. Это важно, что эта априорная форма чувственности (пространство) завязана на субъекте и без него ничто. Всегда нужен тот, кто воспринимает вещи в пространстве.
Стало быть, только с точки зрения человека можем мы говорить о пространстве, о протяженности и т. п. Если отвлечься от субъективного условия, единственно при котором мы можем получить внешнее созерцание, а именно поскольку мы способны подвергаться воздействию предметов, то представление о пространстве не означает ровно ничего. Этот предикат можно приписывать вещам лишь в том случае, если они нам являются, т. е. если они предметы чувственности. Постоянная форма этой восприимчивости, называемая нами чувственностью, есть необходимое условие всех отношений, в которых предметы созерцаются как находящиеся вне нас; эта форма, если отвлечься от этих предметов, есть чистое созерцание, называемое пространством. Так как частные условия чувственности мы можем сделать лишь условием возможности явлений вещей, но не условием возможности самих вещей, то имеем полное право сказать, что пространство охватывает все вещи, которые являются нам внешне, но мы не можем утверждать, что оно охватывает все вещи сами по себе независимо от того, созерцаются ли они или нет, а также независимо от того, каким субъектом они созерцаются. В самом деле, мы не можем судить о созерцаниях других мыслящих существ, подчинены ли эти существа тем самым условиям, которые ограничивают наше созерцание и общезначимы для нас. Если мы присоединим ограничение суждения к понятию субъекта, то наше суждение станет безусловно значимым. Суждение: все вещи находятся друг подле друга в пространстве – имеет силу, когда эти вещи берутся ограниченно, как предметы нашего чувственного созерцания. Если я присоединю это условие к понятию и скажу: все вещи как внешние явления находятся друг подле друга в пространстве, то это правило получит общую значимость без всякого ограничения. Итак, наши истолкования показывают нам реальность (т. е. объективную значимость) пространства в отношении всего, что может встретиться нам вне нас как предмет, но в то же время показывают идеальность пространства в отношении вещей, если они рассматриваются разумом сами по себе, т. е. безотносительно к свойствам нашей чувственности. Следовательно, мы сохраняем эмпирическую реальность пространства (в отношении всякого возможного внешнего опыта), хотя признаем трансцендентальную идеальность его, т. е. что пространство есть ничто, как только мы отбрасываем условия возможности всякого опыта и принимаем его за нечто лежащее в основе вещей самих по себе.
Кант различает явления и вещи сами по себе. То, что мы созерцаем, относится к нашей восприимчивости, но не к вещи. Нет никакой гарантии и никакого способа верификации соответствия вещи самой по себе и моего представления об этой вещи.
Но следует также сказать, что, кроме пространства, нет ни одного другого субъективного и относящегося к чему-то внешнему представления, которое могло бы считаться a priori объективным. В самом деле, ни из одного такого представления – в отличие от созерцания в пространстве (§ 3) – нельзя вывести априорные синтетические положения. Поэтому им, строго говоря, нельзя приписывать никакой идеальности, хотя они сходны с представлением о пространстве в том, что принадлежат только к субъективным свойствам данного вида чувственности, например зрения, слуха, осязания, через ощущения цвета, звука и теплоты; однако, будучи только ощущениями, а не созерцанием, они сами по себе не дают знания ни о каком объекте и меньше всего дают априорное знание.
Цель этого замечания состоит лишь в том, чтобы предостеречь от попыток пояснить утверждаемую нами идеальность пространства совсем неподходящими примерами, так как, например, цвета, вкусы и т. п. с полным основанием рассматриваются не как свойства вещей, а только как изменения нашего субъекта, которые даже могут быть различными у разных людей. В этом случае то, что само первоначально есть лишь явление, например роза, считается в эмпирическом смысле вещью в себе, которая, однако, в отношении цвета всякому глазу может являться различно. Наоборот, трансцендентальное понятие явлений в пространстве есть критическое напоминание о том, что вообще ничто созерцаемое в пространстве не есть вещь в себе и что пространство не есть форма вещей, свойственная им самим по себе, а что предметы сами по себе отнюдь не известны нам, и те предметы, которые мы называем внешними, суть только представления нашей чувственности, формой которых служит пространство, а истинный коррелят их, т. е. вещь в себе, этим путем вовсе не познается и не может быть познана, да, впрочем, в опыте вопрос об этом никогда и не возникает.
Важный комментарий Канта в том, что когда мы говорим о вещах в пространстве и о аффецируемости нашей души этими вещами, то нужно всегда удерживать в голове, что речь идет не о вещи в себе, но о явлении этой вещи нам. То есть стул, который я созерцаю и стул сам по себе – это два разных стула в том смысле, что явленность мне стула сопряжена с моим восприятием, тогда как сам стул существует вне его, но подступиться к вещи самой по себе кажется невозможным, ведь всякое познание начинается с опыта, а опыт имеет дело с явлениями, а не с вещами в себе.
Глава вторая. О времени
§ 4 Метафизическое истолкование понятия времени
1. Время не есть эмпирическое понятие, выводимое из какого-нибудь опыта. В самом деле, одновременность или последовательность даже не воспринимались бы, если бы в основе не лежало априорное представление о времени. Только при этом условии можно представить себе, что события происходят в одно и то же время (вместе) или в различное время (последовательно).
2. Время есть необходимое представление, лежащее в основе всех созерцаний. Когда мы имеем дело с явлениями вообще, мы не можем устранить само время, хотя явления прекрасно можно отделить от времени. Следовательно, время дано a priori. Только в нем возможна вся действительность явлений. Все явления могут исчезнуть, само же время (как общее условие их возможности) устранить нельзя.
3. На этой априорной необходимости основывается также возможность аподиктических основоположений об отношениях времени или аксиом о времени вообще. Время имеет только одно измерение: различные времена существуют не вместе, а последовательно (различные пространства, наоборот, существуют не друг после друга, а одновременно). Эти основоположения нельзя получить из опыта, так как опыт не дал бы ни строгой всеобщности, ни аподиктической достоверности. На основании опыта мы могли бы только сказать: так свидетельствует обыкновенное восприятие, но не могли бы утверждать, что так должно быть. Эти основоположения имеют значение правил, по которым вообще возможен опыт; они наставляют нас до опыта, а не посредством опыта.
4. Время есть не дискурсивное, или, как его называют, общее, понятие, а чистая форма чувственного созерцания. Различные времена суть лишь части одного и того же времени. Но представление, которое может быть дано лишь одним предметом, есть созерцание. К тому же положение о том, что различные времена не могут существовать вместе, нельзя вывести из какого-либо общего понятия. Это положение синтетическое и не может возникнуть из одних только понятий. Следовательно, оно непосредственно содержится в созерцании времени и в представлении о нем.
5. Бесконечность времени означает не что иное, как то, что всякая определенная величина времени возможна только путем ограничений одного, лежащего в основе времени. Поэтому первоначальное представление о времени должно быть дано как неограниченное. Но если части предмета и всякую величину его можно представить определенными лишь путем ограничения, то представление в целом не может быть дано через понятия (так как понятия содержат только подчиненные представления): в основе понятий должно лежать непосредственное созерцание.
В чем различие пространства и времени как априорных форм чувственности? Во-первых, пространство – форма внешнего чувства, время – форма внутреннего чувства. Во-вторых, пространство позволяет представлять порядок явлений как одно подле/около/рядом с другим, время – одно после другого. В-третьих, различные времена существуют последовательно, различные пространства существуют одновременно. Тем самым мы утверждаем одно измерение у времени.
§ 5 Трансцендентальное истолкование понятия времени
По этому вопросу я могу сослаться на пункт 3 параграфа о метафизическом истолковании, куда я ради краткости поместил то, что имеет, собственно, трансцендентальный характер. Здесь я прибавлю только, что понятие изменения и вместе с ним понятие движения (как перемены места) возможны только через представление о времени и в представлении о времени: если бы это представление не было априорным (внутренним) созерцанием, то никакое понятие не могло бы уяснить возможность изменения, т. е. соединения противоречаще-противоположных предикатов в одном и том же объекте (например, бытия и небытия одной и той же вещи в одном и том же месте). Только во времени, а именно друг после друга, два противоречаще-противоположных определения могут быть в одной и той же вещи. Таким образом, наше понятие времени объясняет возможность всех тех априорных синтетических знаний, которые излагает общее учение о движении, а оно довольно плодотворно.
§ 6 Выводы из этих понятий
a) Время не есть нечто такое, что существовало бы само по себе или было бы присуще вещам как объективное определение и, стало быть, оставалось бы, если отвлечься от всех субъективных условий созерцания вещей. В самом деле, в первом случае оно было бы чем-то таким, что могло бы быть действительным даже без действительного предмета. Во втором же случае, будучи определением или порядком, присущим самим вещам, оно не могло бы предшествовать предметам как их условие и не могло бы познаваться a priori и быть созерцаемым a priori посредством синтетических положений. Напротив, априорное знание и созерцание вполне возможны, если время есть не что иное, как субъективное условие, при котором единственно имеют место в нас созерцания. В таком случае эту форму внутреннего созерцания можно представить раньше предметов, стало быть, a priori.
b) Время есть не что иное, как форма внутреннего чувства, т. е. созерцания нас самих и нашего внутреннего состояния. В самом деле, время не может быть определением внешних явлений: оно не принадлежит ни к внешнему виду, ни к положению и т. п.; напротив, оно определяет отношение представлений в нашем внутреннем состоянии. Именно потому, что это внутреннее созерцание не имеет никакой внешней формы, мы стараемся устранить и этот недостаток с помощью аналогий и представляем временную последовательность с помощью бесконечно продолжающейся линии, в которой многообразное составляет ряд, имеющий лишь одно измерение, и заключаем от свойств этой линии ко всем свойствам времени, за исключением лишь того, что части линии существуют все одновременно, тогда как части времени существуют друг после друга. Отсюда ясно также, что представление о времени само есть созерцание, так как все его отношения можно выразить посредством внешнего созерцания.
Кант не разделяет пространство и время, но различает их. Они не существуют друг без друга, но по-разному функционируют. Связь между пространством и временем доказывается вот как: когда мы мыслим время, мы его овнешняем (связываем с пространством), когда мы мыслим пространство, мы его овнутряем (связываем со временем).
c) Время есть априорное формальное условие всех явлений вообще. Пространство как чистая форма всякого внешнего созерцания ограничено как априорное условие лишь внешними явлениями. Другое дело время. Так как все представления, все равно, имеют ли они своим предметом внешние вещи или нет, принадлежат сами по себе как определения нашей души к внутреннему состоянию, которое подчинено формальному условию внутреннего созерцания, а именно времени, то время есть априорное условие всех явлений вообще: оно есть непосредственное условие внутренних явлений (нашей души) и тем самым косвенно также условие внешних явлений. Если я могу сказать a priori, что все внешние явления находятся в пространстве и a priori определены согласно отношениям пространства, то, опираясь на принцип внутреннего чувства, я могу сказать в совершенно общей форме, что все явления вообще, т. е. все предметы чувств, существуют во времени и необходимо находятся в отношениях времени.
То есть объем времени больше, чем объем пространства. Наша внутренняя форма созерцания способна вместить в себя все внешние явления плюс все внутренние, тогда как внешняя форма созерцания (пространство) никак не работает с внутренними явлениями, но только с внешними.
Если мы отвлечемся от способа, каким мы внутренне созерцаем самих себя и посредством этого созерцания охватываем способностью представления также все внешние созерцания, стало быть, если мы возьмем предметы так, как они могут существовать сами по себе, то время есть ничто. Оно имеет объективную значимость только в отношении явлений, потому что именно явления суть вещи, которые мы принимаем за предметы наших чувств, но оно уже не объективно, если отвлечься от чувственной природы нашего созерцания, т. е. от свойственного нам способа представления, и говорить о вещах вообще. Итак, время есть лишь субъективное условие нашего (человеческого) созерцания (которое всегда имеет чувственный характер, т. е. поскольку мы подвергаемся воздействию предметов) и само по себе, вне субъекта, есть ничто. Тем не менее в отношении всех явлений, стало быть, и в отношении всех вещей, которые могут встретиться нам в опыте, оно необходимым образом объективно. Мы не можем сказать, что все вещи находятся во времени, потому что в понятии вещи вообще мы отвлекаемся от всех видов созерцания вещи, между тем как созерцание есть то именно условие, при котором время входит в представления о предметах. Но если это условие присоединено к понятию вещи и если мы скажем, что все вещи как явления (как предметы чувственного созерцания) находятся во времени, то это основоположение обладает объективной истинностью и априорной всеобщностью.
Таким образом, наши утверждения показывают эмпирическую реальность времени, т. е. объективную значимость его для всех предметов, которые когда-либо могут быть даны нашим чувствам. А так как наше созерцание всегда чувственное, то в опыте нам никогда не может быть дан предмет, не подчиненный условию времени. Наоборот, мы оспариваем у времени всякое притязание на абсолютную реальность, так как оно при этом было бы абсолютно присуще вещам как условие или свойство их даже независимо от формы нашего чувственного созерцания. Такие свойства, присущие вещам самим по себе, вообще никогда не могут быть даны нам посредством чувств. В этом, следовательно, состоит трансцендентальная идеальность времени, согласно которой оно, если отвлечься от субъективных условий чувственного созерцания, ровно ничего не означает и не может быть причислено к предметам самим по себе (безотносительно к нашему созерцанию) ни как субстанция, ни как свойство. Однако эту идеальность, как и идеальность пространства, нельзя приравнивать к обману чувств, так как при обмане чувств мы предполагаем, что само явление, которому приписываются эти предикаты, обладает объективной реальностью, между тем как здесь эта объективная реальность совершенно отпадает, за исключением того случая, когда она имеет только эмпирический характер, т. е. поскольку сам предмет рассматривается только как явление. Замечания об этом можно найти выше, в первом разделе.
Совершенно невозможно приписать пространство и время самим вещам и совершенно необходимо воспринимать их как формы чувственности. Пространство и время есть то, благодаря чему предметы могут аффецировать нашу душу. То есть это такая заданность души, которая позволяет воспринимать вещи.
§ 7 Пояснение
Против этой теории, признающей эмпирическую реальность времени, но отрицающей его абсолютную и трансцендентальную реальность, проницательные люди высказывают одно возражение столь единодушно, что, я полагаю, оно должно естественным образом возникнуть у каждого читателя, для которого непривычны такие рассуждения. Оно состоит в следующем: изменения действительны (это доказывает смена наших собственных представлений, если бы мы даже и стали отрицать все внешние явления вместе с их изменениями), а так как изменения возможны только во времени, то, следовательно, время есть нечто действительное. Ответить на это возражение нетрудно. Я целиком принимаю этот довод. Время в самом деле есть нечто действительное, а именно оно действительная форма внутреннего созерцания. Следовательно, оно имеет субъективную реальность в отношении внутреннего опыта, иными словами, я действительно имею представление о времени и о своих определениях в нем. Значит, время следует считать действительным не как объект, а как способ представлять меня самого как объект. Но если бы я сам или какое-нибудь другое существо могло созерцать меня без этого условия чувственности, то те же определения, которые теперь представляются нам как изменения, дали бы знание, в котором вообще не было бы представления о времени и, стало быть, не было бы также представления об изменениях. Таким образом, у времени остается эмпирическая реальность как условие всякого нашего опыта, и на основании приведенных выше соображений нельзя за ним признать абсолютную реальность. Оно есть не что иное, как форма нашего внутреннего созерцания. Если устранить частное условие нашей чувственности, то исчезнет также понятие времени; оно присуще не самим предметам, а только субъекту, который их созерцает.
Причина, почему это возражение делается столь единодушно, а именно теми, кто все же не находит убедительных доводов против учения об идеальности пространства, состоит в следующем. Абсолютную реальность пространства они не надеялись доказать аподиктически, так как им поперек дороги стоит идеализм, согласно которому действительность внешних предметов нельзя строго доказать, между тем как действительность предметов наших внутренних чувств (меня самого и моих состояний) непосредственно очевидна благодаря сознанию. Внешние предметы могли оказаться лишь видимостью, тогда как предметы внутреннего чувства, по их мнению, неоспоримо суть нечто действительное. Однако они упустили из виду, что и те и другие предметы, хотя и нельзя оспаривать их действительность как представлений, тем не менее суть лишь явление, а явление всегда имеет две стороны – одну, когда объект рассматривается сам по себе (независимо от способа, каким он созерцается, и именно потому свойства его всегда остаются проблематичными), и другую, когда принимается во внимание форма созерцания предмета, которую, хотя она действительно и необходимо присуща явлению предмета, следует искать не в предмете самом по себе, а в субъекте, которому предмет является.
Возможно, проблема заключается в том, что мы совершаем подмену: мы полагаем, что время и пространство суть свойства предметов, т. к. они всегда сопутствуют нашему познанию. А раз (как было уже сказано во введении) никогда не проводилась аналитика априорных форм, то удивительность кантовского исследования вызывает недоверие. Но если вникнуть в кантовскую логику, то становится совершенно ясно, что невозможно познание без условий возможности познания. Абстрагирование помогает понять, что пространство и время даны нам априорно, значит, соотносятся с субъектом, а не с вещами.
Таким образом, пространство и время суть два источника познания, из которых можно a priori почерпнуть различные синтетические знания; блестящим примером этого служит чистая математика, когда дело касается знания о пространстве и его отношениях. Пространство и время, вместе взятые, суть чистые формы всякого чувственного созерцания, и именно благодаря этому возможны априорные синтетические положения. Однако эти источники априорного познания как раз благодаря этому обстоятельству (благодаря тому, что они лишь условия чувственности) определяют свои границы, а именно касаются предметов, лишь поскольку они рассматриваются как явления, а не показывают, каковы вещи сами по себе. Только явления суть сфера приложения понятий пространства и времени, а за их пределами невозможно объективное применение указанных понятий. Впрочем, достоверность опытного знания вполне обеспечивается этого рода реальностью пространства и времени: мы уверены в опытном знании совершенно одинаково – независимо от того, присущи ли эти формы вещам самим по себе или необходимым образом только нашему созерцанию этих вещей. Наоборот, те, кто признает абсолютную реальность пространства и времени, все равно, считают ли они их субстанциями или только свойствами, неизбежно расходятся с принципами самого опыта. В самом деле, если они придерживаются первого взгляда (к нему обычно склоняются представители математического естествознания), то они должны признать наличие двух вечных и бесконечных, обладающих самостоятельным бытием нелепостей (Undinge), пространства и времени, которые существуют (не будучи, однако, чем-то действительным) только для того, чтобы охватывать собой все действительное. Если же они придерживаются второго взгляда (как некоторые естествоиспытатели-метафизики) и смотрят на пространство и время как на отвлеченные от опыта, хотя и смутно представляемые в этом отвлечении, отношения (сосуществования или последовательности) между явлениями, то они вынуждены отрицать значимость или по крайней мере аподиктическую достоверность априорных математических учений в отношении действительных вещей (например, в пространстве), так как эта достоверность не может быть достигнута a posteriori и так как, согласно этому учению, априорные понятия о пространстве и времени суть продукт воображения, источник которого действительно следует искать в опыте, а из отношений опыта путем отвлечения их воображение создало нечто содержащее, правда, то, что обще этим отношениям, но не могущее существовать без ограничений, налагаемых на них природой. Сторонники первого мнения выигрывают в том отношении, что делают сферу явлений свободной для математических положений, однако именно вследствие этого они запутываются, когда рассудок хочет выйти за эту сферу. Сторонники второго мнения выигрывают в том отношении, что представления о пространстве и времени не препятствуют им, когда они хотят судить о предметах не как о явлениях, а лишь в отношении к рассудку; зато они не могут указать основания возможности априорных математических знаний (так как у них нет истинного и объективно значимого априорного созерцания) и не могут привести законы опыта в необходимое согласие с априорными математическими положениями. Наша теория, указывающая истинные свойства этих двух первоначальных форм чувственности, свободна от затруднений обоего рода.
Трансцендентальная эстетика заключает в себе в конце концов не более чем эти два элемента, а именно пространство и время. Это ясно из того, что все другие относящиеся к чувственности понятия, даже понятие движения, соединяющее в себе и пространство, и время, предполагают нечто эмпирическое. Движение предполагает восприятие чего-то движущегося. Но в пространстве, рассматриваемом самом по себе, нет ничего движущегося; поэтому движущееся должно быть чем-то таким, что обнаруживается в пространстве только опытом, стало быть, представляет собой эмпирическое данное. Точно так же трансцендентальная эстетика не может причислять понятие изменения к своим априорным данным: изменяется не само время, а нечто находящееся во времени. Следовательно, для этого понятия требуется восприятие какого-нибудь бытия и последовательности его определений, стало быть, опыт.
Здесь важным моментом является то, что Кант занимается уточнением понятий. Еще во введении было заявлено, что критика чистого разума должна освобождать от заблуждений и очищать от них фундамент науки. Так, точное знание помогает избежать ошибок. Если знать, что время – это внутренняя форма чувственности, присущая субъекту, то становится ясным, что всякое изменение происходит не со временем, а во времени. Так же и с пространством.
§ 8 Общие примечания к трансцендентальной эстетике
I. Чтобы избежать недоразумений, необходимо прежде всего как можно отчетливее объяснить наш взгляд на основное свойство чувственного познания вообще.
Выше мы хотели сказать, что всякое наше созерцание есть только представление о явлении, что вещи, которые мы созерцаем, сами по себе не таковы, как мы их созерцаем, и что отношения их сами по себе не таковы, как они нам являются, и если бы мы устранили наш субъект или же только субъективные свойства наших чувств вообще, то все свойства объектов и все отношения их в пространстве и времени и даже само пространство и время исчезли бы: как явления они могут существовать только в нас, а не сами по себе. Каковы предметы сами по себе и обособленно от этой восприимчивости нашей чувственности, нам совершенно неизвестно. Мы не знаем ничего, кроме свойственного нам способа воспринимать их, который к тому же необязателен для всякого существа, хотя и должен быть присущ каждому человеку. Мы имеем дело только с этим способом восприятия. Пространство и время суть чистые формы его, а ощущение вообще есть его материя. Пространство и время мы можем познавать только a priori, т. е. до всякого действительного восприятия, и потому они называются чистым созерцанием; ощущения же суть то в нашем познании, благодаря чему оно называется апостериорным познанием, т. е. эмпирическим созерцанием. Пространство и время безусловно необходимо принадлежат нашей чувственности, каковы бы ни были наши ощущения; ощущения же могут быть весьма различными. До какой бы высокой степени отчетливости мы ни довели наши созерцания, все равно этим мы не подошли бы ближе к [познанию] свойств предметов самих по себе. Во всяком случае, мы бы тогда полностью познали только способ нашего созерцания, т. е. нашу чувственность, да и то всегда лишь при условии [существования] пространства и времени, первоначально присущем субъекту; каковы предметы сами по себе – этого мы никогда не узнали бы и при помощи самого ясного знания явлений их, которое единственно дано нам.
Мы аффецируемся не предметом самим по себе, но нашим представлением о предмете. Это представление продуцируется нами, хотя и пробуждается вещью. Так, если не станет нас, то не станет и представлений о явлении, ведь только в нас они и существуют.
Поэтому думать, что вся наша чувственность есть не что иное, как беспорядочное представление о вещах, содержащее лишь то, что присуще им самим по себе, но только в виде нагромождения признаков и подчиненных представлений, которые мы не можем отчетливо различить, – значит искажать понятие о чувственности и явлении так, что все учение о них становится бесполезным и пустым. Различие между неотчетливыми и отчетливыми представлениями имеет только логический характер и не касается содержания. Так, например, нет сомнения, что понятие права, которым пользуется здравый рассудок, вполне совпадает с тем, что может развить из него самая утонченная спекуляция, с той лишь разницей, что в обыденном и практическом применении мы не осознаем таких разнообразных представлений, содержащихся в этой мысли. Но на этом основании нельзя утверждать, будто обыденное понятие имеет чувственный характер и содержит только явление: право вовсе не может являться, его понятие содержится в рассудке и представляет (моральное) свойство поступков, присущее им самим по себе. Наоборот, представление о теле в созерцании не содержит ничего, что могло бы быть присуще предметам самим по себе; оно выражает лишь явление чего-то и способ, каким это нечто воздействует на нас; такая восприимчивость нашей познавательной способности называется чувственностью и отличается, как небо от земли, от знания предметов самих по себе, хотя бы мы и проникли в самую глубь явлений.
Вот почему философия Лейбница и Вольфа указала всем исследованиям о природе и происхождении наших знаний совершенно неправильную точку зрения, признавая различие между чувственностью и интеллектуальным только логическим различием. На самом деле это различие трансцендентально и касается не просто формы отчетливости или неотчетливости, а происхождения и содержания знаний, так что с помощью чувственности мы не то что неясно познаем свойства вещей самих по себе, а вообще не познаем их, и как только мы устраним наши субъективные свойства, окажется, что представляемый объект с качествами, приписываемыми ему чувственным созерцанием, нигде не встречается, да и не может встретиться, так как именно наши субъективные свойства определяют форму его как явления.
Лейбниц – великий немецкий философ рубежа XVII–XVIII веков, более всего известный своими открытиями в области математики (он является основателем математического анализа и комбинаторики), а также своей «враждой» с Ньютоном.
Вольф – немецкий философ того же периода, что и Лейбниц. Российскому читателю он известен тем, что являлся учителем Ломоносова. Именно его книгами в свое время зачитывался Кант.
Обычно мы отличаем в явлениях то, что по существу принадлежит созерцанию их и имеет силу для всякого человеческого чувства вообще, от того, что им принадлежит лишь случайно, так как имеет силу не для отношения к чувственности вообще, а только для особого положения или устройства того или другого чувства. О первом виде познания говорят, что оно представляет предмет сам по себе, а о втором – что оно представляет только явление этого предмета. Однако это лишь эмпирическое различение. Если остановиться на этом (как это обыкновенно делают) и не признать (как это следовало бы сделать) эмпирическое созерцание опять-таки только явлением, так что в нем нет ничего относящегося к вещи самой по себе, то наше трансцендентальное различение утрачивается и мы начинаем воображать, будто познаем вещи сами по себе, хотя в чувственно воспринимаемом мире мы везде, даже при глубочайшем исследовании его предметов, имеем дело только с явлениями. Так, например, радугу мы готовы назвать только явлением, которое возникает при дожде, освещенном солнцем, а этот дождь – вещью самой по себе. И это совершенно правильно, если только мы понимаем понятие вещи самой по себе лишь физически, как то, что в обычном для всех опыте определяется при всех различных положениях по отношению к чувствам, но в созерцании только так, а не иначе. Но если мы возьмем этот эмпирический факт вообще и, не считаясь более с согласием его с любым человеческим чувством, спросим, показывает ли он предмет сам по себе (мы говорим не о каплях дождя, так как они как явления уже суть эмпирические объекты), то этот вопрос об отношении представления к предмету трансцендентален; при этом не только капли оказываются лишь явлениями, но и сама круглая форма их и даже пространство, в котором они падают, суть сами по себе ничто, а лишь модификация или основы нашего чувственного созерцания; трансцендентальный же объект остается нам неизвестным.
То, что нужно держать в голове, – это перевод термина Ding an sich. Канонический перевод предлагает «вещь в себе», однако он немного мистифицирован. Здесь же стоит «вещь сама по себе», что ближе духу Канта и означает автономию (свободу) вещи от субъекта.
Вторая важная задача нашей трансцендентальной эстетики состоит в том, чтобы не только как правдоподобная гипотеза приобрести некоторую благосклонность, но быть настолько достоверной и несомненной, как этого следует требовать от всякой теории, которая должна служить органоном. Чтобы сделать эту достоверность вполне ясной, мы приведем пример, с помощью которого можно сделать ее значимость очевидной и содействовать большей ясности того, что сказано в § 3.
Под гипотезой подразумевается научное предположение, которое необходимо для построения научной теории. Это то, из чего исходит ученый, делая исследование.
Предположим, что пространство и время объективны сами по себе и составляют условия возможности вещей самих по себе. В таком случае прежде всего окажется, что существует множество априорных аподиктических и синтетических положений относительно времени и пространства, в особенности относительно пространства, которое мы поэтому преимущественно и приведем здесь в качестве примера. Так как положения геометрии можно познать синтетически a priori и с аподиктической достоверностью, то я спрашиваю, откуда получаете вы такие положения и на чем основывается наш рассудок, чтобы прийти к таким безусловно необходимым и общезначимым истинам? Здесь нет иного пути, как через понятия или созерцания, причем и те и другие как таковые даны или a priori, или a posteriori. Последние, а именно эмпирические понятия, а также то, на чем они основываются, а именно эмпирическое созерцание, могут дать лишь такое синтетическое положение, которое, в свою очередь, также имеет только эмпирический характер, т. е. представляет собой исходящее из опыта суждение, стало быть, никогда не может содержать необходимость и абсолютную всеобщность, между тем как эти признаки свойственны всем положениям геометрии. Что же касается первого и единственно [возможного] средства, а именно приобретения таких знаний при помощи одних только понятий или созерцаний a priori, то несомненно, что на основе одних только понятий можно получить исключительно аналитическое, но никак не синтетическое знание. Возьмите, например, положение, что две прямые линии не могут замыкать пространство, стало быть, не могут образовать фигуру, и попытайтесь вывести его из понятия о прямых линиях и числе два; или возьмите положение, что из трех прямых линий можно образовать фигуру, и попытайтесь вывести его только из этих понятий. Всякое ваше усилие окажется напрасным, и вам придется прибегнуть к созерцанию, как это всегда и делается в геометрии. Итак, вам дан предмет в созерцании. Какого же рода оно, есть ли это чистое априорное созерцание или эмпирическое? В последнем случае из него никак нельзя было бы получить общезначимое, а тем более аподиктическое положение: ведь опыт никогда не дает таких положений. Следовательно, предмет должен быть дан вам в созерцании a priori, и на нем должно быть основано ваше синтетическое положение. Если бы у вас не было способности a priori созерцать, если бы это субъективное условие не было в то же время по своей форме общим априорным условием, при котором единственно возможны объекты самого этого (внешнего) созерцания, если бы предмет (треугольник) был чем-то самим по себе безотносительно к вашему субъекту, – то как вы могли бы утверждать, что то, что необходимо заложено в ваших субъективных условиях построения треугольника, должно необходимо быть само по себе присуще также треугольнику? Ведь в таком случае вы не могли бы прибавить к вашим понятиям (о трех линиях) ничего нового ([понятие] фигуры), что тем самым необходимо должно было бы быть в предмете, так как этот предмет дан до вашего познания, а не посредством его. Следовательно, если бы пространство (и таким же образом время) не было только формой вашего созерцания, a priori содержащей условия, единственно при которых вещи могут быть для вас внешними предметами, которые без этих субъективных условий сами по себе суть ничто, то вы абсолютно ничего не могли бы утверждать синтетически a priori о внешних объектах. Следовательно, не только возможно или вероятно, но и совершенно несомненно, что пространство и время как необходимые условия всякого (внешнего и внутреннего) опыта суть лишь субъективные условия всякого нашего созерцания, в отношении к которому поэтому все предметы суть только явления, а не данные таким образом вещи сами по себе (fur sich); поэтому о том, что касается формы их, многое можно сказать a priori, но никогда ничего нельзя сказать о вещи самой по себе, которая могла бы лежать в основе этих явлений.
Кантовское словоупотребление отличается от нашего. Так например, субъективный означает не личное или предвзятое, но принадлежащее субъекту. То есть когда мы говорим, что время и пространство субъективны, то это не говорит о том, что они не познаваемы, потому что имеют отношение только ко мне. Они причастны ко мне как к субъекту, который обладает такими же общими познавательными способностями, как и все.
II. Превосходным подтверждением этой теории об идеальности внешнего и внутреннего чувства, стало быть, об идеальности всех объектов чувств, взятых только как явления, может служить следующее замечание. Все, что в нашем познании принадлежит к созерцанию (следовательно, исключая чувства удовольствия и неудовольствия, а также волю, которые вовсе не суть знания), содержит одни лишь отношения, а именно отношения места в созерцании (протяжение), отношения перемены места (движение) и законы, по которым определяется эта перемена (движущие силы). Но то, что находится в данном месте, или то, что действует в самих вещах, кроме перемены места, этим не дано. Между тем вещь сама по себе не познается из одних только отношений. Отсюда следует, что, так как внешнее чувство дает нам лишь представления об отношении, оно может содержать в своих представлениях только отношение предмета к субъекту, а не то внутреннее, что присуще объекту самому по себе. С внутренним созерцанием дело обстоит точно так же. Не говоря уже о том, что представления внешних чувств составляют основной материал, которым мы снабжаем нашу душу, само время, в которое мы полагаем эти представления и которое даже предшествует осознанию их в опыте, находясь в основе их как формальное условие того способа, каким мы полагаем их в душе, содержит уже отношения последовательности, одновременности и того, что существует одновременно с последовательным бытием (того, что постоянно). То, что может существовать как представление раньше всякого акта мышления, есть созерцание, и если оно не содержит ничего, кроме отношений, то оно есть форма созерцания. Так как эта форма представляет нечто лишь постольку, поскольку это нечто полагается в душе, то она есть не что иное, как способ, которым душа воздействует на себя своей собственной деятельностью, а именно полаганием своих представлений, стало быть, через самое себя, т. е. внутреннее чувство по своей форме. Все, что представляется посредством чувства, есть в этом смысле всегда явление, а потому или вообще нельзя допускать наличия внутреннего чувства, или субъект, служащий предметом его, должен быть представляем посредством него только как явление, а не так, как он судил бы сам о себе, если бы его созерцание было лишь самодеятельностью, т. е. если бы оно было интеллектуальным. Затруднение заключается здесь в том, каким образом субъект может внутренне созерцать самого себя. Однако это затруднение испытывает всякая теория. Сознание самого себя (апперцепция) есть простое представление о Я, и если бы через одно это представление самодеятельно было дано все многообразное в субъекте, то внутреннее созерцание было бы интеллектуальным. В человеке это сознание требует внутреннего восприятия многообразного, данного заранее в субъекте, а способ, каким это многообразное дается в душе без спонтанности, должен ввиду этого различия называться чувственностью. Если способность осознания себя должна находить (схватывать [apprehendieren]) то, что содержится в душе, то она должна воздействовать на душу и только этим путем может породить созерцание самого себя, форма которого, заранее заложенная в душе, определяет в представлении о времени способ, каким многообразное находится в душе. Итак, в этом случае душа созерцает себя не так, как она представляла бы себя непосредственно самодеятельно, а сообразно тому, как она подвергается воздействию изнутри, следовательно, не так, как она есть, а так, как она является себе.
Перцепция – это восприятие. Апперцепция – это восприятие себя воспринимающим. Этот концепт пришел к нам по меньшей мере с Декарта. Одно дело – я воспринимаю стакан. Другое дело – я воспринимаю себя воспринимающего стакан.
III. Когда я говорю, что как созерцание внешних объектов, так и самосозерцание души в пространстве и времени представляет нам эти объекты так, как они действуют на наши чувства, т. е. так, как они являются, я этим вовсе не хочу сказать, будто эти предметы суть лишь видимость. В явлении объекты и даже свойства, которые мы им приписываем, всегда рассматриваются как нечто действительно данное, но поскольку эти свойства зависят только от способа созерцания субъекта в отношении к нему данного предмета, то мы отличаем предмет как явление от того же предмета как объекта самого по себе. Так, я вовсе не утверждаю, что тела только кажутся существующими вне меня или что душа только кажется данной в моем самосознании, когда я говорю, что качество пространства и времени, сообразно с которым как условием их существования я их полагаю, зависит от моего способа созерцания, а не от этих объектов самих по себе. Если бы я превратил в простую видимость то, что я должен причислить к явлениям, то это было бы моей виной. Наш принцип идеальности всех чувственных созерцаний не приводит к этому, скорее наоборот, если приписать указанным формам представления объективную реальность, то все неизбежно превратится в простую видимость. В самом деле, если признать пространство и время такими свойствами, которые должны по своей возможности встречаться в вещах самих по себе, и если принять в расчет все связанные с этим бессмысленные утверждения, будто две бесконечные вещи, не будучи ни субстанциями, ни чем-то действительно им присущим, тем не менее должны существовать и даже быть необходимым условием существования всех вещей и остаться даже в том случае, если бы все существующие вещи были уничтожены, – то тогда перестанешь упрекать почтенного Беркли за то, что он низвел тела на степень простой видимости; более того, даже наше собственное существование, поставленное таким образом в зависимость от такой нелепости, как обладающее самостоятельной реальностью время, превратилось бы вместе с ним в простую видимость – бессмыслица, в защите которой до сих пор еще никто не провинился.
Джорж Беркли – известный английский философ первой половины XVIII века, часто обвиняемый в солипсизме из-за высказывания «быть – значит быть воспринятым».
IV. В естественной теологии, где размышляют о предмете, который не может стать предметом созерцания не только для нас, но никак не может стать предметом чувственного созерцания для самого себя, неустанно заботятся о том, чтобы устранить условия времени и пространства из всякого созерцания его (так как всякое познание его должно быть созерцанием, а не мышлением, которое всегда указывает на границы). Но на каком основании можно это делать, если мы заранее признали пространство и время формами вещей самих по себе, и притом такими формами, которые как априорные условия существования вещей сохраняются даже и в том случае, если бы сами вещи были уничтожены? Ведь как условия всякого существования вещей вообще они должны были бы быть также условиями бытия Бога. Если же мы не хотим признать их объективными формами всех вещей, то нам остается лишь считать их субъективными формами нашего внешнего и внутреннего способа созерцания, который называется чувственным потому, что он не первоначален, т. е. он не такой способ, каким дается само существование объекта созерцания (такой способ созерцания, насколько мы можем судить об этом, может быть присущ только первосущности), а зависит от существования субъекта, стало быть, возможен только благодаря тому, что способность представления субъекта подвергается воздействию со стороны объекта.
Есть много взглядов, из которых можно ответить на вопрос, что такое естественная теология. По преимуществу это богословское учение о натуралистической связи между богом, человеком и природой. Но для Канта важен гносеологический аспект, то есть то, как эти богословы познают. А познают они по принципу аналогии – приписывают богу природные черты.
Нет никакой необходимости ограничивать способ созерцания в пространстве и времени чувственностью человека. Возможно, что всякое конечное мыслящее существо необходимо должно походить в этом отношении на человека (хотя мы не можем решить этого вопроса), однако, обладая такой общезначимостью, этот способ созерцания еще не перестает быть чувственностью и именно потому, что он производный (intuitus derivativus), а не первоначальный (intuitus originarius), стало быть, не интеллектуальное созерцание, которое по только что приведенной причине присуще, по-видимому, лишь первосущности, но никоим образом не существу, зависимому и в своем существовании, и в своих созерцаниях (которые определяют его существование в отношении к данным объектам). Впрочем, последнее замечание следует считать лишь пояснением к нашей эстетике, а не доводом в ее пользу.
Общий вывод из трансцендентальной эстетики
Мы имеем здесь один из необходимых моментов для решения общей задачи трансцендентальной философии – как возможны априорные синтетические положения, а именно мы нашли чистые априорные созерцания – пространство и время. В них, если мы хотим в априорном суждении выйти за пределы данного понятия, мы находим то, что может быть a priori обнаружено не в понятии, а в соответствующем ему созерцании и может быть синтетически связано с понятием. Но именно поэтому такие суждения никогда не выходят за пределы предметов чувств и сохраняют свою силу только для объектов возможного опыта.
Критика способности суждения
IV. О способности суждения как априорно законодательной способности
Способность суждения вообще есть способность мыслить особенное как подчиненное общему. Если общее (правило, принцип, закон) дано, то способность суждения, которая подводит под него особенное (и в том случае, если она в качестве трансцендентальной способности суждения априорно указывает условия, при которых только и может быть совершено это подведение), есть определяющая способность суждения; если же дано только особенное, для которого способность суждения должна найти общее, то эта способность есть рефлектирующая способность суждения.
Способность суждения по Канту – это одна из трех высших познавательных способностей души наряду с рассудком и разумом. В общем виде определение способности суждения выглядит как «способность мыслить особенное как подчиненное общему». Но нужно, конечно, прояснить, что это такое за «особенное» и «общее». Особенное – это то, что нам дается. Всякая воспринимаемая нами вещь или явление и есть «особенное». Общее – это понятия. Скажем, у нас голове есть понятие «бутылка» – емкость с узким горлом для хранения жидкости. Таким же образом у нас есть в голове понятие стола, стула, расчески и всего того, с чем мы обычно имеем дело. И когда мы видим какую-то вещь (то самое «особенное»), мы судорожно перебираем в голове варианты понятия. Если вещи совпали с понятием, например, перед нами действительно сосуд с узким горлом и в нем жидкость, то мы говорим: «Это бутылка». Если же такого совпадения не найдено, то, как правило, мы по аналогии предполагаем, что это может быть, или ищем авторитетное мнение (ученые, словари и проч). Итак еще раз – способность суждения есть способность мыслить особенное как подчиненное общему, то есть умение соотносить это особенное с понятиями рассудка.
Определяющая способность суждения лишь подводит особенное под общие трансцендентальные законы, которые дает рассудок, закон предписан ей априорно, и ей не нужно самой измышлять закон, чтобы подчинить особенное в природе общему. Однако существует такое многообразие форм природы, столько модификаций общих трансцендентальных понятий, остающихся не определенными теми законами, которые априорно дает чистый рассудок, ибо они имеют в виду возможность природы (в качестве предмета чувств) вообще, что для всего этого также должны быть законы; в качестве эмпирических они могут в соответствии с пониманием нашего рассудка быть случайными, но поскольку они должны называться законами (как того требует понятие природы), их следует все-таки признавать необходимыми, исходя из некоего, хотя и не известного нам принципа, принципа единства многообразного. Следовательно, рефлектирующая способность суждения, которой надлежит подниматься от особенного в природе к общему, нуждается в принципе – из опыта она его заимствовать не может, так как именно этот принцип должен обосновать единство всех эмпирических принципов, подчиненных также эмпирическим, но более высоким принципам, другими словами, возможность их систематического подчинения друг другу. Подобный трансцендентальный принцип рефлектирующая способность суждения может дать себе как закон только сама; она не может взять его извне (так как в этом случае она была бы определяющей способностью суждения) или предписывать его природе, ибо рефлексия о законах природы сообразуется с природой, а не природа с условиями, согласно которым мы пытаемся получить совершенно случайное в отношении этих условий понятие о ней.
Поскольку общие законы природы имеют основание в нашем рассудке, который предписывает их природе (правда, лишь в соответствии с общим понятием о ней как природе), этот принцип должен быть лишь таким, который устанавливает, что частные эмпирические законы в отношении того, что в них осталось не определенным упомянутыми общими законами, надлежит рассматривать в таком единстве, будто некий рассудок (хотя и не наш) также дал их нашим познавательным способностям, чтобы сделать возможной систему опыта сообразно частным законам природы. Это не значит, что следует действительно исходить из наличия такого рассудка (ибо эта идея служит принципам лишь рефлектирующей способности суждения, для рефлексии, а не для определения), и эта способность дает, таким образом, закон только самой себе, не природе.
Кант делит способность суждения на определяющую и рефлектирующую. Разница в том, что для определяющей способности суждения понятия нам заранее даны. Когда я вижу бутылку, в моей голове уже есть представление бутылки (общее, которое дано) и мне легко соотнести его с самой бутылкой. Выходит, что определяющая способность суждения имеет познавательный характер, ведь понятия коренятся в рассудке и работает именно он.
Но нам интересен, конечно, случай с рефлектирующей способностью. В каком смысле нам не дано общее? Ведь всякий раз, когда перед нами оказывается некий предмет, даже если мы не находим понятия в голове, мы умудряемся его для себя объяснить. Что это за амнезическое состояние, где мы не понимаем «основания действительности» объекта? Это иной по отношению к определяющей способности суждения регистр восприятия. Эстетический регистр, который Кантом назван «рефлектирующей способностью суждения». Мы не то чтобы не знаем понятия, но мы отвлекаемся от него. Как это свойственно кантовской философии, поиск ведется преимущественно в поле чистого суждения вкуса. Ведь давайте признаем, мы никогда не сможем полностью отвлечься от понятия «бутылки», глядя на бутылку. Всегда будет примешивается к суждению вкуса понятие об объекте. А значит, это не чистое эстетическое суждение, но смешанное с познавательным суждением. А в каком поле возможно чистое эстетическое суждение?
Поскольку понятие объекта, в той мере, в какой оно содержит одновременно и основание действительности этого объекта, называется целью, а соответствие вещи той структуре вещей, которая возможна лишь согласно целям, называется целесообразностью ее формы, то принцип способности суждения по отношению к форме вещей природы, подчиненных эмпирическим законам вообще, есть целесообразность природы в ее многообразии. Другими словами, посредством этого понятия природа представляется таким образом, будто некий рассудок содержит основание единства многообразия ее эмпирических законов.
Следовательно, целесообразность природы есть частное априорное понятие, которое имеет свой источник только в рефлектирующей способности суждения. Ибо приписывать продуктам природы нечто, подобное отношению природы в них к целям, нельзя; этим понятием можно пользоваться лишь для того, чтобы рефлектировать о них с точки зрения связи явлений в природе, данной в соответствии с эмпирическими законами. К тому же это понятие полностью отличается от практической целесообразности (будь то человеческого искусства или нравственности), хотя и мыслится по аналогии с ней.
V. Принцип формальной целесообразности природы есть трансцендентальный принцип способности суждения
Трансцендентальный принцип – это принцип, посредством которого представляется априорное общее условие, единственно допускающее, чтобы вещи могли стать объектами нашего познания. Напротив, метафизическим принцип называется, если он представляет априорное условие, допускающее, чтобы объекты, понятие о которых должно быть дано эмпирически, могли быть далее определены априорно. Так, принцип познания тел в качестве субстанции и изменяющихся субстанций трансцендентален, если этим утверждается, что изменение должно быть вызвано какой-либо причиной; он метафизичен, если утверждается, что это изменение должно быть вызвано внешней причиной: в первом случае, для того чтобы априорно познать положение, тело должно мыслиться только посредством онтологических предикатов (чистых понятий рассудка), например, как субстанция; во втором в основу должно быть положено эмпирическое понятие тела (как вещи, движущейся в пространстве), что позволяет совершенно априорно усмотреть, что телу присущ этот предикат (движения посредством внешней причины). Таким образом, как я сразу же покажу, принцип целесообразности природы (в многообразии ее эмпирических законов) есть трансцендентальный принцип. Ибо понятие объектов, мыслимых подчиненными этому принципу, есть лишь чистое понятие о предметах возможного опытного познания вообще и не содержит ничего эмпирического, напротив, принцип практической целесообразности, который должен мыслиться в идее определения свободной воли, есть принцип метафизический, так как понятие способности желания как воли должно быть дано эмпирически (оно не принадлежит к трансцендентальным предикатам). Однако оба принципа все-таки не эмпирические, а априорные принципы, ибо для связи предиката с эмпирическим понятием субъекта их суждений нет необходимости в дальнейшем опыте, и эта связь может быть принята совершенно априорно.
Чтобы понять, что такое целесообразность, нужно разобраться для начала, что такое цель. Кант определяет цель как «понятие объекта в той мере, в какой оно содержит одновременно и основание действительности этого объекта». Определение довольно сложно выглядит, но можно с ходу выделить три основные точки опоры – цель, понятие и основание действительности. Мы еще в первом параграфе (а еще точнее – в первой критике) разобрались, что такое понятие. Под основанием действительности в философии понимают сущность предмета. Цель – это то, для чего предмет был создан. Разумно будет спросить, а чем отличаются цель, сущность и понятие? Ничем. Здесь это разные акценты одного и того же. Приведу пример все с той же бутылкой. Какова цель бутылки? Содержать жидкость. И когда мы даем понятие бутылки, мы говорим «бутылка – это емкость с узким горлом для хранения жидкости», то есть мы определяем ее через сущность «емкость» и цель «для хранения жидкости».
Что понятие целесообразности природы принадлежит к трансцендентальным принципам, можно в достаточной степени усмотреть из тех максим способности суждения, которые априорно полагаются в основу исследования природы и тем не менее направлены только на возможность опыта, тем самым на возможность познания природы, но не просто как природы вообще, а как природы, определенной многообразием частных законов. Они часто, хотя и разрозненно, встречаются в данной науке в качестве сентенций метафизической мудрости в связи с рядом правил, необходимость которых не может быть выведена из понятий. «Природа избирает кратчайший путь (lex parsimoniae); она не делает скачков ни в последовательности своих изменений, ни в рядоположности различных по своей специфике форм (lex continui in natura); ее великое многообразие в эмпирических законах есть, однако, единство, подчиненное немногим принципам (principia praeter necessitatem nоn sunt multiplicanda)» и т. д.
Но если мыслят указать происхождение этих основоположений и пытаются произвести это психологическим путем, то это полностью противоречит их смыслу. Ибо эти основоположения говорят не о том, что происходит, то есть по какому правилу действительно функционируют наши познавательные способности, и не о том, как судят, а о том, как должно судить; и если принципы лишь эмпиричны, такая логическая объективная необходимость получена быть не может. Следовательно, для наших познавательных способностей и их применения целесообразность природы, которая с несомненностью высвечивается в них, есть трансцендентальный принцип суждений и нуждается, таким образом, в трансцендентальной дедукции, посредством которой будет показано, что основание для такого суждения следует искать в априорных источниках познания.
В основаниях возможности опыта мы, правда, всегда сначала находим нечто необходимое, а именно общие законы, без которых природа вообще (как предмет чувств) не может быть мыслима; они основаны на категориях, применяемых к формальным условиям всякого возможного для нас созерцания, поскольку оно также априорно. Под действием этих законов способность суждения есть определяющая; ибо все ее дело в том, чтобы производить подведение под данные законы. Например: рассудок говорит – каждое изменение имеет свою причину (общий закон природы); задача трансцендентальной способности суждения только в том, чтобы указать условие подведения под данное априорное понятие рассудка, а оно состоит в последовательности определений одной и той же вещи. Для природы вообще (как предмета возможного опыта) этот закон познается как совершенно необходимый. Однако предметы эмпирического познания определены кроме этого формального условия времени или, насколько можно априорно судить, могут быть определены еще рядом других способов. Таким образом, различные по своей специфике предметы природы могут, помимо того, что присуще им в качестве принадлежащих природе вообще, еще бесконечно многообразно выступать как причины; и каждый способ такого рода должен (в соответствии с понятием причины вообще) иметь свое правило, которое есть закон, тем самым обладает необходимостью, хотя мы по свойствам и при границах наших познавательных способностей эту необходимость не усматриваем. Следовательно, в аспекте эмпирических природных законов мы должны мыслить в природе возможность бесконечно многообразных эмпирических законов, которые для нашего понимания случайны (не могут быть априорно познаны) и исходя из которых мы судим о единстве природы, а также о возможности единства опыта (как системы по эмпирическим законам) как о чем-то случайном. Однако поскольку подобное единство необходимо должно быть предпослано и принято, ибо в противном случае нельзя было бы полностью связать эмпирические знания в целостность опыта – общие законы природы устанавливают, правда, подобную связь между вещами одного рода в качестве вещей природы вообще, но не в их специфичности как особых существ природы, – то способность суждения должна принять в качестве априорного принципа для своего собственного применения, что случайное для человеческого понимания в частных (эмпирических) законах природы все-таки содержит хотя и непостижимое для нас, но мыслимое закономерное единство в соединении многообразного в ней в сам по себе возможный опыт. Следовательно, поскольку закономерное единство в соединении, которое мы познаем в соответствии с необходимым намерением (потребностью) рассудка, – но познаем как само по себе случайное, – представляется нам целесообразностью объектов (здесь – природы), то способность суждения, которая по отношению к вещам, подчиненным возможным (еще подлежащим открытию) эмпирическим законам есть только рефлектирующая способность, должна мыслить для нашей познавательной способности природу применительно к этим законам по принципу целесообразности, который затем находит свое выражение в вышеприведенных максимах способности суждения. Это трансцендентальное понятие целесообразности природы не есть ни понятие природы, ни понятие свободы, поскольку оно ничего не придает объекту (природе), а лишь представляет собой единственный способ, который мы должны применять в рефлексии о предметах природы, намереваясь обрести полностью связный опыт, следовательно, есть субъективный принцип (максима) способности суждения; поэтому, встречая подобное систематическое единство по чисто эмпирическим законам, мы испытываем радость (собственно, от того, что освобождаемся от некой потребности), как будто это счастливая случайность, благоприятствующая нашему намерению, хотя мы должны с необходимостью признать, что подобное единство существует, несмотря на то, что мы не можем ни усмотреть, ни доказать его.
Целесообразность, говорит Кант, – «соответствие вещи той структуре вещей, которая возможна лишь согласно целям». Вернемся к нашей бутылке. Целесообразным будет то, что мы в ней действительно храним жидкость. Когда мы начнем расчесывать волосы бутылкой – это будет нецелесообразно. Так делать можно, но она функционально не предназначена для расчесывания волос. Проще говоря – удобнее хранить жидкость в бутылке, а не расчесывать ею волосы.
Чтобы убедиться в обоснованности этой дедукции данного понятия и в необходимости принять его как трансцендентальный принцип познания, следует представить себе серьезность задачи: получить из данных восприятии природы, содержащей бесконечное многообразие эмпирических законов, связный опыт; эта задача априорно включена в наш рассудок. Правда, рассудок априорно владеет общими законами природы, без которых она вообще не могла бы быть предметом опыта, однако сверх этого ему нужен еще известный порядок в природе, в ее частных правилах, узнать которые он может лишь эмпирически и которые для него случайны. Эти правила, без которых не было бы продвижения от общей аналогии возможного опыта вообще к частному опыту, рассудок должен мыслить как законы (то есть как необходимые), – ибо в противном случае они не составляли бы порядка природы, – хотя он не познает и никогда не сможет постигнуть их. Поэтому, несмотря на то, что рассудок в отношении этих объектов ничего не может априорно определить, он все-таки должен следовать так называемым эмпирическим законам и положить в основу своей рефлексии априорный принцип, а именно, что по этим законам возможен познаваемый порядок в природе, и этот принцип выражают следующие положения: что в природе существует постижимая для нас иерархия родов и видов; что они приближаются друг к другу по общему принципу, дабы был возможен переход от одного к другому, а тем более к высшему роду; что хотя нашему рассудку сначала представляется неизбежным принять для специфического различия действий природы столько же видов каузальности, они все-таки могут подчиняться небольшому числу принципов, обнаружением которых мы должны заниматься, и т. д. Это соответствие природы нашей познавательной способности априорно предпосылается способностью суждения для ее рефлексии о природе по ее эмпирическим законам, тогда как рассудок объективно признает это соответствие случайным; только способность суждения приписывает это соответствие природе как трансцендентальную целесообразность (по отношению к познавательной способности субъекта); без такой предпосылки мы не имели бы порядка в природе по эмпирическим законам и, следовательно, не имели бы путеводной нити для того, чтобы с помощью этих законов ставить опыт сообразно всему многообразию природы и для его исследования.
Ведь легко можно предположить, что, несмотря на все единообразие вещей природы по общим законам, без которых вообще не было бы формы опытного познания, специфическое различие эмпирических законов природы и их действий все-таки оказалось бы настолько значительным, что наш рассудок не мог бы обнаружить в ней постижимый порядок, не мог бы делить ее продукты на роды и виды, чтобы пользоваться принципами объяснения и понимания одного для объяснения и понимания другого, и создать из столь запутанного для нас (собственно говоря, лишь бесконечно многообразного, несоразмерного нашей способности постижения) материала связный опыт.
Следовательно, способность суждения также имеет априорный принцип для возможности природы, но лишь в субъективном отношении, в себе, посредством чего она предписывает не природе (как автономии), а самой себе (как геавтономии) закон для рефлексии о природе, закон, который можно назвать законом спецификации природы в отношении ее эмпирических законов; способность суждения априорно не познает его в природе, а принимает ради возможности для нашего рассудка постичь порядок в делении, которому она подвергает свои общие законы, когда хочет подчинить им многообразие частных законов. Следовательно, когда говорят: природа специфицирует свои общие законы по принципу целесообразности для нашей познавательной способности, то есть для соответствия их человеческому рассудку в его необходимом деле – находить для особенного, которое дает ему восприятие, общее, а для различного (для каждого вида, правда, общего) – связь в единстве принципа, то этим не приписывают закон природе и не узнают его в ней посредством наблюдения (хотя названный принцип может быть подтвержден); это принцип не определяющей, а только рефлектирующей способности суждения, и требуется лишь, чтобы эмпирические законы природы, каким бы ни было устройство природы по ее общим законам, обязательно исследовались по этому принципу и основанным на нем максимам, ибо успешно применять наш рассудок в опыте и обретать познание мы можем лишь в тех границах, в которых действует этот принцип.
Первое, что следует сделать нам как читателям третьей критики Канта, чтобы понять его текст, – это отличить природу и артефакты. Второе слово он не использует, но подразумевает. Артефакты – это все то, что создано человеком. Кант принадлежит классической эпохе, где невозможна ситуация бесцельного творчества человека. Всякий раз, когда мы что-то делаем, мы делаем для чего-то. Более того, мы знаем (или потенциально можем знать) цель объекта. Совсем по-другому дело обстоит с природой. Мы никогда не знаем цели деревьев, животных. Всегда можно сказать достоверно, что бутылка существует для хранения жидкости, ведь это заложено в ее сущности. Но с какой целью живет чайка или растет дуб? С достоверностью мы знать этого не можем.
IV. О связи чувства удовольствия с понятием целесообразности природы
Мыслимое соответствие природы в многообразии ее частных законов нашей потребности найти для нее общность принципов должно по всему нашему разумению рассматриваться как случайное, но тем не менее необходимое для потребности нашего рассудка, следовательно, как целесообразность, посредством которой природа соответствует нашему направленному только на познание намерению. Общие законы рассудка, которые одновременно суть законы природы, ей столь же необходимы (хотя они и возникли из спонтанности), как законы движения материи; возникновение их не предполагает намерения, связанного с нашей познавательной способностью, так как только с их помощью мы впервые обретаем понятие о том, что есть познание вещей (природы), и они необходимо присущи природе как объекту нашего познания вообще. Между тем то, что порядок природы по ее частным законам при всем их, по крайней мере возможном, многообразии и неоднородности, превосходящим нашу способность постижения, действительно соответствует этой способности, насколько мы можем усмотреть, случайно; выявление этого порядка – дело рассудка, преднамеренно направленное к его необходимой цели, а именно внести в этот порядок единство принципов; эту цель способность суждения должна затем приписать природе, ибо рассудок предписать ей для этого закон не может.
Осуществление каждого намерения связано с чувством удовольствия; если условием намерения служит априорное представление, подобно тому, как здесь принцип для рефлектирующей способности суждения вообще, то чувство удовольствия также определено априорным основанием и значимо для каждого, причем только посредством отношения объекта к познавательной способности; понятие целесообразности здесь ни в коей мере не принимает во внимание способность желания и, следовательно, полностью отличается от всякой практической целесообразности природы.
В самом деле, хотя совпадение восприятия с законами по общим понятиям природы (категориям) отнюдь не вызывает в нас чувство удовольствия и не может его вызвать, поскольку рассудок действует здесь необходимым образом непреднамеренно соответственно своей природе, то, с другой стороны, обнаруженная совместимость двух или нескольких гетерогенных эмпирических законов природы под одним охватывающим их принципом служит основанием вполне заметного удовольствия, часто даже восхищения, причем такого, которое не исчезает и при достаточном знакомстве с предметом. Правда, мы больше не испытываем заметного удовольствия от того, что мы постигаем природу и единство ее деления на роды и виды, что только и делает возможными эмпирические понятия, посредством которых мы познаем природу по ее частным законам, но в свое время это удовольствие несомненно существовало; и лишь потому, что без него не был бы возможен даже самый обычный опыт, оно постепенно смешалось с познанием и как таковое уже не замечалось. Следовательно, необходимо нечто, заставляющее обратить внимание в суждении о природе на ее целесообразность для нашего рассудка, стремление подчинить, где это возможно, неоднородные законы природы ее более высоким, хотя также эмпирическим законам, для того, чтобы, если это удается, ощутить удовольствие от согласованности их для нашей познавательной способности, от согласованности, которую мы считаем случайной. Напротив, нам бы очень не понравилось такое представление о природе, посредством которого было бы заранее известно, что при любом исследовании, выходящем за пределы самого простого опыта, мы натолкнемся на такую разнородность ее законов, которая сделает невозможным для нашего рассудка объединение частных законов в общие эмпирические законы, ибо это противоречит субъективно целесообразной спецификации природы по ее родам и нашей рефлектирующей способности суждения применительно к ней.
В предыдущем параграфе мы определяли целесообразность через цель. Здесь мы выяснили, что цели у природы нет. А целесообразность? Как ни парадоксально, но Кант утверждает, что целесообразность природы есть. И выражается эта целесообразность известным als ob («так как если бы»). Да, у природы цели нет, но мы созерцаем ее так, как если бы эта цель существовала. Пример – в поле стоит дерево. У нас есть некоторые знания о дереве, вроде строения коры, расположенности частей (корни-ствол-ветки-листья). Но это все неважно, это все не нужно. То, для чего есть это дерево, мы не знаем. Но мы можем созерцать дерево как подчиненное целесообразности, то есть так, как если бы существовал некий замысел этого дерева, что его ветки и листья расположились именно так.
Предпосылка способности суждения относительно того, до каких пределов простирается эта идеальная целесообразность природы для нашей познавательной способности, столь неопределенна, что когда нам говорят: более глубокое и обширное знание природы путем наблюдения должно в конце концов натолкнуться на такое многообразие законов, которое ни один человеческий рассудок не сможет свести к одному принципу, – мы готовы примириться с этим; впрочем, мы охотнее прислушиваемся к тем, кто возбуждает в нас надежду на то, что чем больше мы будем знать о внутреннем строении природы и чем больше сумеем провести сравнений ее с внешними, нам еще не известными звеньями, тем проще покажутся нам в ходе расширения нашего опытного знания ее принципы и тем более однородной она предстанет нам при всей кажущейся разнородности ее эмпирических законов. Ибо веление способности суждения – действовать, основываясь на принципе соответствия природы нашей познавательной способности, до тех пор, пока этот принцип сохраняет свою значимость, не задаваясь вопросом о ее границах (поскольку это правило дает нам не определяющая способность); определить границы рационального применения нашей познавательной способности мы можем, но определить границы в эмпирической области невозможно.
VII. Об эстетическом представлении целесообразности природы
То, что в представлении об объекте чисто субъективно, то есть составляет его отношение к субъекту, есть эстетическое свойство представления, но то, что служит или может быть применено в нем для определения предмета (для познания), есть его логическая значимость. В познании предмета чувств оба отношения встречаются. В чувственном представлении о вещах вне меня качество пространства, в котором мы их созерцаем, есть то, что чисто субъективно в моем представлении о них (этим не определяется то, что они суть в качестве объектов самих по себе), поэтому предмет мыслится здесь только как явление; однако пространство, невзирая на его чисто субъективное качество, все-таки есть часть познания вещей как явлений. Ощущение (здесь внешнее) также выражает лишь субъективное в наших представлениях о вещах вне нас, но в сущности материальное (реальное) в них (посредством чего дается нечто существующее), так же как пространство выражает лишь априорную форму возможности их созерцания; однако и это ощущение используется для познания объектов вне нас.
То субъективное в представлении, которое не может стать частью познания, есть связанное с этим представлением удовольствие или неудовольствие; посредством того и другого я ничего не познаю в предмете представления, хотя они и могут быть действием какого-либо познания. Целесообразность вещи, поскольку она представлена в восприятии, также не составляет свойство самого объекта (ибо она не может быть воспринята), хотя и может быть выведена из познания вещей. Следовательно, целесообразность, которая предшествует познанию объекта, более того, непосредственно связывается с представлением об объекте без желания использовать его для познания, есть то субъективное в представлении, которое не может стать частью познания. Следовательно, в таком случае предмет называется целесообразным лишь потому, что представление о нем непосредственно связано с чувством удовольствия; и само это представление есть эстетическое представление о целесообразности. Однако возникает вопрос, существует ли вообще подобное представление о целесообразности.
Если со схватыванием (apprehensio) формы предмета созерцания, без отнесения его к понятию для определенного познания, связано удовольствие, то представление в этом случае соотносится не с объектом, а только с субъектом, и удовольствие может выразить не что иное, как соответствие объекта познавательным способностям, действующим в рефлектирующей способности суждения и постольку, поскольку они в ней присутствуют, то есть только субъективную формальную целесообразность объекта. Ведь схватывание форм в воображении никогда не может происходить без того, чтобы рефлектирующая способность суждения не сравнивала их, даже непреднамеренно, по крайней мере со своей способностью соотносить созерцания с понятиями. Если в этом сравнении воображение (в качестве способности к априорным созерцаниям) непреднамеренно приводится в согласие с рассудком (в качестве способности создавать понятия) и тем самым возбуждается чувство удовольствия, то предмет надлежит рассматривать как целесообразный для рефлектирующей способности суждения. Подобное суждение есть эстетическое суждение о целесообразности объекта, которое не основано на имеющемся понятии предмета и не создает понятие о нем. С представлением о предмете, форма которого (а не материальное в представлении о нем, то есть ощущение) рассматривается в рефлексии о ней (без намерения обрести понятие о предмете) как основание удовольствия от представления о подобном объекте, – с таким представлением это удовольствие мыслится как необходимо связанное, следовательно, не только для субъекта, схватывающего эту форму, но и вообще для каждого, кто выносит о нем суждение. Тогда предмет называется прекрасным, а способность выносить суждение на основании такого удовольствия (следовательно, выносить общезначимое суждение) называется вкусом. Так как основание удовольствия полагается только в форму предмета для рефлексии вообще, тем самым не в ощущение предмета и без соотнесения его с понятием, которое содержало бы какое-либо намерение, то лишь с закономерностью в эмпирическом применении способности суждения вообще (с единством воображения и рассудка) в субъекте согласуется представление об объекте в рефлексии, чьи априорные условия общезначимы; а поскольку эта согласованность предмета со способностью субъекта случайна, она создает представление о целесообразности предмета в отношении познавательных способностей субъекта.
Здесь выступает такое удовольствие, которое, подобно всякому удовольствию или неудовольствию, не вызванному понятием свободы (то есть предшествующим определением высшей способности желания посредством чистого разума), никогда не может быть выведено из понятий как необходимо связанное с представлением о предмете, но всегда должно быть познано только посредством рефлективного восприятия как связанное с ним; следовательно, оно, подобно всем эмпирическим суждениям, не может сообщать объективную необходимость и притязать на априорную общезначимость. Однако суждение вкуса, подобно всем другим эмпирическим суждениям, притязает только на общезначимость, что, несмотря на его внутреннюю случайность, всегда возможно. Странно и необычно здесь только то, что не эмпирическое понятие, а чувство удовольствия (следовательно, вообще не понятие) надлежит посредством суждения вкуса – будто оно является предикатом, связанным с познанием объекта, – ожидать от каждого и связывать с его представлением.
Тот, кто вынес единичное суждение опыта, различив, например, в горном хрустале движущуюся каплю воды, с полным основанием требует, чтобы и другие это признали, ибо он вынес свое суждение по общим условиям определяющей способности суждения в соответствии с законами возможного опыта вообще. Также тот, кто испытывает удовольствие от одной только рефлексии о форме предмета, не принимая во внимание понятие, с полным основанием притязает на согласие каждого, хотя его суждение эмпирично и единично, ибо основание для этого удовольствия содержится в общем, хотя и субъективном условии рефлектирующих суждений, а именно в целесообразном соответствии предмета (будь то продукт природы или искусства) познавательным способностям (воображения и рассудка), требующимся для каждого эмпирического познания.
Следовательно, хотя в суждении вкуса удовольствие зависит от эмпирического представления и априорно не может быть связано с каким-либо понятием (невозможно априорно определить, будет ли предмет соответствовать вкусу или нет, его надлежит испробовать), однако удовольствие есть все-таки определяющее основание этого суждения только вследствие сознания того, что оно покоится на рефлексии и общих, хотя только субъективных, условиях соответствия рефлексии познанию объектов вообще, для которых форма объекта целесообразна.
Кант называет трансцендентальным принципом рефлектирующей способности суждения формальную целесообразность. Что подразумевается под формой? Форма – это то, благодаря чему многообразное в предмете может быть упорядочено определенным образом. Этот «определенный порядок» направлен на цель, то есть многообразное в предмете сложено таким образом, чтобы этот предмет максимально добротно соответствовал своей цели. Так например, узкое горлышко уменьшает поверхность контакта вина с воздухом, что необходимо для сохранения напитка в лучшем качестве. Когда мы говорим о природе, то мы созерцаем многообразное природного объекта так, как если бы форма этого многообразного была подчинена целесообразности, хотя понимаем, что цели у этого объекта нет.
Этим и объясняется, почему суждения вкуса по их возможности – поскольку она предполагает априорный принцип – также служат предметом критики, хотя этот принцип не есть ни познавательный принцип для рассудка, ни практический принцип для воли и, следовательно, не есть априорно определяющий принцип.
Восприимчивость к удовольствию, возникающему из рефлексии о формах вещей (как природы, так и искусства) свидетельствует, однако, не только о целесообразности объектов по отношению к рефлектирующей способности суждения сообразно понятию природы субъекта, но и, наоборот, о целесообразности субъекта по отношению к предметам по их форме и даже бесформенности в силу понятия свободы; и поэтому эстетическое суждение должно быть отнесено в качестве суждения вкуса не только к прекрасному, но и в качестве возникшего из духовного чувства к возвышенному, и, таким образом, критика эстетической способности суждения должна быть разделена на две соответствующие этому главные части.
VIII. О логическом представлении о целесообразности природы
В данном нам в опыте предмете целесообразность может быть представлена либо просто на субъективном основании как соответствие его формы при схватывании (apprehensio) – до всякого понятия – познавательным способностям, чтобы объединить созерцание с понятиями для познания вообще, либо на объективном основании как соответствие формы предмета возможности самой вещи, согласно понятию о ней, предшествующему ей и содержащему основание этой формы. Мы видели, что представление о целесообразности первого рода покоится на непосредственном удовольствии от формы предмета уже в самой рефлексии о ней; представление о целесообразности второго рода, поскольку оно соотносит форму объекта не с познавательной способностью субъекта при ее схватывании, а с определенным познанием предмета, подведенного под данное понятие, совершенно не связано при суждении о вещах с чувством удовольствия от них и относится только к рассудку. Если понятие о предмете дано, то дело способности суждения применить это понятие для познания в изображении (exhibitio), то есть сопоставить понятие с соответствующим ему созерцанием; это может происходить посредством нашего воображения, как в искусстве, когда мы реализуем заранее принятое понятие о предмете, который служит нам целью, или посредством природы в ее технике (как это происходит в органических телах), когда мы для того, чтобы судить о ее продукте, привносим в нее наше понятие цели; в последнем случае мы представляем себе не только целесообразность природы в форме вещи, но и этот ее продукт как цель природы. Хотя наше понятие о субъективной целесообразности природы в ее формах в соответствии с эмпирическим законом вообще не есть понятие об объекте, а лишь принцип способности суждения, посредством которого она обретает понятия в этом чрезмерном многообразии (ориентируется в нем), тем не менее мы этим как бы приписываем природе внимание к нашей познавательной способности по аналогии с целью; таким образом, мы можем рассматривать красоту природы как изображение понятия формальной (чисто субъективной) целесообразности, а цели природы – как изображение понятия реальной (объективной) целесообразности; о первой мы судим на основании вкуса (эстетически, посредством чувства удовольствия), о второй – на основании рассудка и разума (логически, согласно понятиям).
На этом основано деление критики способности суждения на эстетическую и телеологическую; под первой мы понимаем способность судить о формальной целесообразности (ее называют также субъективной) на основании чувства удовольствия или неудовольствия, под второй – способность судить о реальной целесообразности (объективной природы) на основании рассудка и разума.
В критике способности суждения наиболее существенна та часть, в которой содержится эстетическая способность суждения, так как только в ней находится принцип, который способность суждения совершенно априорно полагает в основу своей рефлексии о природе, а именно принцип формальной целесообразности природы по ее частным (эмпирическим) законам для нашей познавательной способности, без которых рассудок не ориентировался бы в ней; напротив, нет никакого априорного основания считать, что должны существовать объективные цели природы, то есть вещи, возможные только как ее цели: возможность этого не следует даже из понятия природы как предмета опыта в общем и особенном. Лишь способность суждения, не обладая для этого априорным принципом, содержит в предлежащих случаях (некоторых продуктов) правило, позволяющее применять для разума понятие целей, после того как указанный трансцендентальный принцип подготовил рассудок к тому, чтобы применять понятие цели (по крайней мере в отношении формы к природе). Однако трансцендентальное основоположение, согласно которому целесообразность природы в субъективном отношении к нашей познавательной способности применительно к форме вещи следует представлять себе как принцип суждения о ней, оставляет совершенно неопределенным, где и в каких случаях я должен выносить суждение о продукте по принципу целесообразности, а не по общим законам природы, и предоставляет эстетической способности суждения установить на основании вкуса соответствие продукта (его формы) нашей познавательной способности (в той мере, в какой она решает не на основании соответствия понятиям, а на основании чувства). Напротив, телеологическая способность суждения определенно указывает условия, при которых о чем-либо (например, об органическом теле) следует судить в соответствии с идеей цели природы, но не может привести ни одного основоположения из понятия природы как предмета опыта для того, чтобы априорно приписать ей отношение к целям, или даже неопределенно принять нечто подобное до действительного опыта, связанного с подобными продуктами; это объясняет, почему необходимо провести множество частных опытов и рассмотреть их в единстве их принципа, чтобы суметь только эмпирически познать объективную целесообразность в каком-либо предмете. Следовательно, эстетическая способность суждения есть особая способность судить о вещах по правилу, но не по понятиям. Телеологическая же способность суждения есть не особая способность, а лишь рефлектирующая способность суждения вообще, поскольку она, как всегда в теоретическом познании, действует по понятиям, но по отношению к некоторым предметам природы – по особым принципам, а именно по принципам только рефлектирующей, а не определяющей объекты способности суждения, следовательно, по своему применению она относится к теоретической части философии, а из-за особых принципов – не определяющих, какими они были бы в доктрине, – должна составлять также особую часть критики; напротив, эстетическая способность суждения ничего не дает для познания своих предметов и, следовательно, должна быть причислена только к критике выносящего суждения субъекта и его познавательных способностей в той мере, в какой они могут иметь априорные принципы, каким бы ни было их применение (теоретическое или практическое); эта критика есть пропедевтика всякой философии.
А для чего Кант вообще задумал проект третьей критики? Вспомним, что Кант выделяет два царства – царство природы и царство свободы. И у нас есть три способности души – познание, желание, чувственность. Очевидно, что познание соотносится с природой, желание соотносится со свободой. А чувственность?
Человек – это единственное существо, которое, будучи укорененным (как и все существа) в царстве природы, может быть причастно к царству свободы. К природе мы относимся познавательно (материал первой критики). Вторая критика описывала долженствование свободных существ (то есть людей между собой). А мы помним, что категорический императив требует относиться к человеку не только как к средству, но и как к цели. Возможно ли относиться так к природе? Возможно ли говорить о природе свободно? И если да, то как это делать? Вот интенции Канта, вот идея проекта третьей критики: человек как мост между царством природы и царством свободы.
Часть первая Критика эстетической способности суждения Из раздела первого. «Аналитика эстетической способности суждения»
Книга первая. Аналитика прекрасного
Первый момент суждения вкуса по качеству
§ 1 Суждение вкуса есть эстетическое суждение
Чтобы определить, прекрасно ли нечто или нет, мы соотносим представление не с объектом для познания посредством рассудка, а с субъектом и испытываемым им чувством удовольствия или неудовольствия посредством воображения (быть может, связанного с рассудком). Следовательно, суждение вкуса не есть познавательное суждение, тем самым оно не логическое, а эстетическое суждение, под которым понимают то суждение, определяющее основание которого может быть только субъективным. Однако всякое отношение представлении, даже отношение ощущений может быть объективным (и тогда оно означает реальное в эмпирическом представлении); таковым не может быть только отношение к чувству удовольствия или неудовольствия, посредством которого в объекте ничего не обозначается, но в котором субъект сам чувствует, как он аффинирован представлением.
Охватить своей познавательной способностью правильно и целесообразно построенное здание (будь то в отчетливом или смутном представлении) нечто совсем другое, чем осознать это представление с ощущением благорасположения. Здесь представление полностью соотносится с субъектом, а именно с его жизненным чувством, которое называется чувством удовольствия или неудовольствия и обосновывает совершенно особую способность различения и суждения, ничего не прибавляющую к познанию и лишь сопоставляющую данное представление в субъекте со способностью представлений в целом; душа ее осознает, чувствуя свое состояние. Данные в суждении представления могут быть эмпирическими (тем самым эстетическими), вынесенное же посредством них суждение есть логическое, если только эти представления соотнесены в суждении с объектом. Напротив, даже если данные представления рациональны, но в суждении соотнесены только с субъектом (с его чувством), то такое суждение – всегда суждение эстетическое.
Здесь Кант предлагает отличать эстетические и познавательные суждения. Можно подумать, что оба вида суждения относятся к объекту, о котором суждение выносится. Например, стол синий (познавательное) и стол прекрасный (эстетическое). Но здесь нас путает язык. Когда мы говорим, что стол прекрасен, мы подразумеваем, что испытываем чувство прекрасного. Нет ничего такого в столе, что заставляет меня считать его прекрасным, но есть что-то такое в моей душе, что она чувствует прекрасное, глядя на стол. Из этого можно сделать вывод, что эстетические суждения выносятся не об объекте, но об отношении субъекта к объекту.
§ 2 Благорасположение, которое определяет суждение вкуса, лишено всякого интереса
Интересом называется благорасположение, которое мы испытываем от представления о существовании какого-либо предмета. Поэтому интерес всегда одновременно имеет отношение к способности желания, либо как ее определяющее основание, либо, во всяком случае, как необходимо связанный с ее определяющим основанием. Однако когда вопрос заключается в том, прекрасно ли нечто, мы не хотим знать, имеет ли – может ли иметь – значение для нас или кого-нибудь другого существование вещи; мы хотим только знать, как мы судим о ней, просто рассматривая ее (созерцая ее или рефлектируя о ней). Если кто-нибудь спросит меня, нахожу ли я дворец, который находится передо мной, прекрасным, то я могу, конечно, сказать, что не люблю вещи, созданные только для того, чтобы на них глазели; могу ответить, как ирокезский сахем, которому в Париже больше всего понравились харчевни; могу сверх того высказать вполне в духе Руссо свое порицание тщеславию аристократов, не жалеющих пота народа для создания вещей, без которых легко можно обойтись; могу, наконец, с легкостью убедить себя в том, что, находясь на необитаемом острове без всякой надежды вернуться когда-либо к людям и обладая способностью только силою желания, как бы волшебством, воздвигнуть такое великолепное здание, я не приложил бы для этого даже такого усилия, будь у меня достаточно удобная хижина. Все это можно допустить и одобрить; только не об этом здесь речь. Ведь знать хотят лишь следующее: сопутствует ли моему представлению о предмете благорасположение, сколь бы я ни был равнодушен к существованию предмета этого представления. Легко заметить – возможность сказать, что предмет прекрасен, и доказать, что у меня есть вкус, связана не с тем, в чем я завишу от этого предмета, а с тем, что я делаю из этого представления в себе самом. Каждый согласится, что суждение о красоте, к которому примешивается малейший интерес, пристрастно и не есть чистое суждение вкуса. Для того чтобы выступать судьей в вопросах вкуса, надо быть совершенно незаинтересованным в существовании вещи, о которой идет речь, и испытывать к этому полное безразличие.
Итак, интерес состоит из благорасположения и представления о предмете; если есть только благорасположение, но нет представления о предмете – это желание. Мы можем желать того, чего не знаем (скажем, я желаю мира во всем мире). Но если бы ко мне пришел менеджер по организации мира во всем мире, объяснил, как именно достигается мир во всем мире, что это такое в деталях и как можно добиться этого – у меня появился бы интерес. То есть интерес конкретнее желания.
Пояснить это положение, которое имеет чрезвычайно важное значение, можно наилучшим образом, противопоставив чистому, незаинтересованному благорасположению в суждении вкуса благорасположение, связанное с интересом, особенно если мы одновременно можем быть уверены, что нет других видов интереса, помимо тех, которые мы здесь назовем.
Кант выделяет 3 вида удовольствия – приятное, хорошее и прекрасное. Интерес – это лакмусовая бумажка, которая показывает, какой вид удовольствия мы испытываем. Чем отличается прекрасное, приятное и хорошее – это тема следующих параграфов.
§ 3 Благорасположение к приятному связано с интересом
Приятно то, что нравится чувствам в ощущении. Здесь сразу же представляется удобный случай подвергнуть критике весьма распространенное смешение двойного значения, которое может иметь слово ощущение, и обратить внимание на это. Всякое благорасположение (как говорят или думают) уже само есть ощущение (удовольствия). Следовательно, все, что нравится именно потому, что оно нравится, приятно (и в зависимости от степени или отношений к другим приятным ощущениям прелестно, мило, восхитительно, отрадно и т. д.). Однако если согласиться с этим, то впечатления чувств, которые определяют склонность, основоположения разума, которые определяют волю, или чисто рефлективные формы созерцания, которые определяют способность суждения, совершенно одинаковы по своему действию на чувство удовольствия. Это удовольствие было бы вызвано тем, что приятно в ощущении своего состояния, а так как в конечном итоге всякое использование наших способностей должно быть направлено на практическое и соединяться в нем как в своей цели, то оценка нашими способностями вещей и их значения должна была бы зависеть лишь от удовольствия, которое эти вещи обещают. Способ, посредством которого это достигается, по существу, значения не имеет, а так как различие может состоять лишь в выборе средств, то люди могли бы обвинять друг друга в глупости и неразумии, но не в низости и злобе; ведь все они, каждый в зависимости от того, как он видит вещи, стремятся к одной цели, которая для всех заключается в удовольствии.
Когда определение чувства удовольствия или неудовольствия называют ощущением, это слово означает нечто совсем иное, нежели в том случае, когда ощущением я называю представление о вещи (посредством чувств как принадлежащую к познавательной способности рецептивность). Ибо в последнем случае представление соотносится с объектом, в первом же – с субъектом и вообще не служит какому бы то ни было познанию, даже тому, посредством которого субъект познает сам себя.
В приведенной же выше дефиниции мы под словом ощущение понимаем объективное представление органов чувств, и чтобы избежать неправильного толкования, будем называть то, что всегда должно оставаться субъективным и не может составить представление о предмете, принятым наименованием – чувство, Зеленый цвет лугов относится к объективному ощущений в качестве восприятия предмета органом чувств, но то, что они приятны, – к субъективному ощущению, посредством которого не создается представление о предмете, то есть относится к чувству, посредством которого предмет рассматривается как объект благорасположения (что не есть познание предмета).
Итак, по очереди. Ощущение, пишет Кант, – это объективное представление органов чувств. Под органами чувств здесь подразумевается известная классическая пятерица – зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Далее у нас есть чувства, как некоторое обработанное ощущение. Рассмотрим на примере, как этот механизм работает. У нас есть шоколад, который мы едим (здесь, очевидно, задействован вкус как орган чувств). Степень сладости шоколада – это объективные данные ощущений. Это удивительно для нас, но не для Канта, т. к. он живет в традиции, полагающей нулевое состояние органов чувств, то есть вещи даются нашим ощущениям одинаковым образом. Но почему мы воспринимаем по-разному? Потому что данность вещей ощущениям – это только первый шаг. Далее эти ощущения обрабатываются каждым субъектом по-своему. Результатом этой обработки являются чувства. То есть чувства – это субъективная обработка объективных данных. Именно чувства выносят суждения о приятном.
То, что мое суждение о предмете, когда я признаю его приятным, выражает заинтересованность в нем, ясно уже из того, что посредством ощущения оно возбуждает желание обладать такого рода предметами, следовательно, благорасположение предполагает не просто суждение о предмете, а отношение его существования к моему состоянию в той мере, в какой оно аффицировано подобным объектом. Поэтому о приятном говорят не только: оно нравится, но оно радует. Я не просто одобряю его, оно порождает склонность, и с тем, что в высшей степени приятно, настолько не связано суждение о свойствах предмета, что люди, стремящееся лишь к наслаждению (ибо таково слово, которым обозначают глубину удовольствия), предпочитают вообще не высказывать суждений.
Приятное заинтересованно, скажет Кант. И эта заинтересованность заключается в том, что мы хотим обладать приятным. В немецком тексте слова «обладать» нет. Там используется существительное Begierde, которое переводится как «страстное желание». В любом случае мы однозначно ангажированы интересом к объекту приятного.
§ 4 Благорасположение к хорошему связано с интересом
Хорошо то, что нравится посредством разума через понятие. Мы называем хорошим для чего-нибудь (полезным) то, что нравится только как средство; хорошим самим по себе – что нравится как таковое. В том и другом случае всегда присутствует понятие цели, тем самым отношение разума к (по крайней мере возможному) волению, следовательно, благорасположение к существованию объекта или действия то есть интерес.
Для того чтобы считать нечто хорошим, я всегда должен знать, каким должен быть предмет, то есть иметь о нем понятие. Для того чтобы находить что-либо прекрасным, в этом нет необходимости. Цветы, свободные зарисовки, без всякой цели сплетающиеся в виде лиственного орнамента линии ничего не означают, не зависят от какого-либо определенного понятия и все-таки нравятся.
Благорасположение к прекрасному должно зависеть от рефлексии о предмете, которая ведет к какому-либо понятию (не известно к какому) и отличается этим и от приятного, полностью основанного на ощущении.
Совершенно очевидно, что хорошее связано с интересом. Ведь как уже было сказано ранее, интерес основывается на представлении о предмете. Когда мы выносим суждение о хорошем, то у нас не просто есть представление (смутное) о предмете, у нас есть понятие (конкретное) о предмете. Ведь Кант ни раз повторял, что категорический императив морали имеет не только этический, но и логический срез. Соответственно знание понятия необходимо для того, чтобы выносить суждение о предмете. А понятие – это уже заинтересованность.
Правда, в ряде случаев кажется, что приятное и хорошее тождественны. Обычно говорят: всякое особенно продолжительное удовольствие само по себе хорошо, а это означает приблизительно следующее: длительно приятное и длительно хорошее – примерно одно и то же. Однако вскоре обнаруживается, что это не более чем ошибочная подмена одного слова другим, ибо понятия, связанные с этими выражениями, никак не могут считаться взаимозаменяемыми. Для того чтобы приятное, которое как таковое представляет предмет только в его отношении к чувству, было в качестве предмета воли названо хорошим, оно должно быть прежде всего подведено посредством понятия цели под принципы разума. Если же я называю хорошим то, что мне приятно, то отношение к благорасположению будет совершенно иным: ведь когда мы называем что-либо хорошим, всегда возникает вопрос, опосредствованно ли оно или непосредственно хорошо (полезно ли или хорошо само по себе); если же мы говорим о приятном, такой вопрос вообще невозможен, поскольку само это слово означает нечто такое, что нравится непосредственно. (Так же обстоит дело с тем, что я называю прекрасным.)
Приятное отличают от хорошего даже в самой простой обыденной речи. Так, блюдо, которое посредством добавления пряностей и других приправ возбуждает аппетит, не задумываясь, признают приятным, указывая вместе с тем на то, что оно нехорошо; ибо хотя непосредственно оно нравится чувствам, но опосредствованно, то есть рассмотренное разумом, который предвидит последствия, оно не нравится. Это различие можно заметить даже в суждении о здоровье. Каждому, кто им обладает, оно непосредственно приятно (по крайней мере негативно как отсутствие телесных страданий). Но для того чтобы назвать его хорошим, его надо с помощью разума направить на цели, то есть рассматривать как такое состояние, которое позволяет нам совершить все наши дела. Что же касается счастья, то ведь каждый полагает, что истинным, даже высшим благом можно назвать наибольшую сумму приятного в жизни (как по количеству, так и по продолжительности). Однако разум восстает и против этого. Наличие приятного – это наслаждение. Но если все дело только в этом, то было бы нелепо проявлять щепетильность по поводу средств, которые нам его доставляют, независимо от того, достигается ли оно пассивно – благодаря щедрости природы – или самодеятельностью и нашими собственными действиями. Но что ценность имеет само по себе существование человека, который живет только для того, чтобы наслаждаться (какие бы усилия он на это ни тратил), даже если этим он наилучшим образом содействует в качестве средства другим, также стремящимся только к наслаждению, именно благодаря тому, что он вследствие симпатии к ним участвует во всех удовольствиях, – с этим разум никогда не согласится. Лишь тем, что он делает безотносительно к наслаждению в полной свободе и независимо от того, что природа могла бы дать ему даже пассивно, он придает абсолютную ценность своему существованию как существованию личности, а счастье со всей полнотой того, что в нем приятно, еще далеко не безусловное благо.
Здесь Кант проводит различие между приятным и хорошим. Легко спутать эти два понятия, ведь оба они связаны с интересом. Разница в том, что приятное не всегда полезно, а хорошее полезно всегда. Ведь когда мы говорили о приятном, то выяснили, что интерес связан с чувствами, тогда как интерес к хорошему связан с рассудком и разумом. Чувства отдают предпочтения приятному, тогда как разум – полезному. Возможно, эту интенцию Кант заимствует у Спинозы.
Однако, невзирая на все различие между приятным и хорошим, они сходны в том, что всегда связаны с интересом к своему предмету, и это относится не только к приятному (§ 3) и опосредствованно хорошему (полезному), которое нравится мне как средство для чего-либо приятного, но и к полностью и во всех отношениях хорошему, а именно к морально доброму, в котором заключен высший интерес. Ибо доброе есть объект воли (то есть определенной разумом способности желания). Но хотеть что-либо и испытывать к его существованию благорасположение, то есть ощущать к нему интерес, тождественно.
§ 5 Сравнение прекрасного с приятным и добрым на основе упомянутого признака
Приятное и доброе имеют отношение к способности желания и тем самым оба связаны с чувством благорасположения – первое с патологически обусловленным (импульсами, stimulos), второе – с чисто практическим, которое определяется не только представлением о предмете, но одновременно и представляемой связью субъекта с существованием этого предмета. Нравится не только предмет, но и его существование. Напротив, суждение вкуса чисто созерцательно, то есть оно индифферентно по отношению к существованию предмета и связывает его свойства лишь с чувством удовольствия и неудовольствия. Но само это созерцание также не направлено на понятие, ибо суждение вкуса не есть познавательное суждение (ни теоретическое, ни практическое) и поэтому оно не основано на понятиях и не имеет их своей целью.
Следовательно, приятное, прекрасное, доброе обозначают три различных отношения представления к чувству удовольствия и неудовольствия, на основании которого мы отличаем друг от друга предметы или способы представлений. Неодинаковы и соответствующие каждому из них выражения, которыми обозначают их способность нравиться. Приятное для человека то, что доставляет удовольствие, прекрасное – то, что просто нравится, доброе – то, что ценят, одобряют, то есть то, в чем видят объективную ценность. Приятное ощущают и неразумные животные, красота значима только для людей, то есть животных существ, обладающих, однако, разумом, но для них не в качестве только разумных существ (например, духов), но и в качестве существ, обладающих животной природой, доброе же значимо для всех разумных существ вообще. Это положение лишь в дальнейшем сможет получить полное оправдание и объяснение. Можно сказать: из всех этих трех видов благорасположения лишь благорасположение к прекрасному есть единственное незаинтересованное и свободное, ибо оно не вызывается интересом – ни интересом чувств, ни интересом разума. Поэтому о благорасположении можно сказать следующее: во всех трех случаях оно относится либо к склонности, либо к доброжелательности, либо к уважению. Доброжелательность есть единственно свободное благорасположение. Предмет склонности и предмет, желание обладать которым приписано нам законом разума, не дают нам свободы сделать что-либо для себя предметом удовольствия. Всякий интерес предполагает потребность или создает ее и в качестве определяющего основания одобрения не допускает свободного суждения о предмете.
Почему вообще Канту так важен этот вопрос об интересе? Для философа важно чистое эстетическое чувство и чистое эстетическое суждение. Поэтому нам нужен специальный класс объектов, относительно которых чистое суждение вкуса будет возможным (мы уже во введении выяснили, что это объекты природы). И само собой нам нужен определенным образом конфигурированный субъект, который способен незаинтересованно выносить суждения о прекрасном (об этом Кант подробнее остановится позднее, хотя уже мы знаем, что речь идет о нравственном субъекте).
Что касается интереса, связанного со склонностью к приятному, то каждый скажет: голод – лучший повар, и людям с хорошим аппетитом кажется вкусным все, что съедобно; следовательно, в данном случае благорасположение не свидетельствует о выборе по вкусу. Установить, кто обладает вкусом и кто им не обладает, можно только тогда, когда удовлетворена потребность. Так же существует обычай (поведение), лишенный добродетели, вежливость, лишенная благожелательности, приличие, лишенное добропорядочности, и т. д. Ибо там, где выступает нравственный закон, объективно нет свободного выбора в отношении того, что надо делать; и проявить вкус в своем поведении (или в суждении о поведении других) – нечто совсем иное, чем выразить свой моральный образ мыслей; ибо моральный образ мыслей содержит веление и создает потребность, тогда как нравственный вкус, напротив, лишь играет с предметами благорасположения, не цепляясь за них.
Пояснение прекрасного, выведенное из первого момента
Вкус есть способность судить о предмете или о способе представления посредством благорасположения или отсутствия его, свободного от всякого интереса. Предмет такого благорасположения называется прекрасным.
Следует сразу обратить внимание, что Кант выделяет четыре момента суждения вкуса: по качеству, по количеству, по модальности и по отношению. Из «Критики чистого разума» понятно, откуда взялась эта четверка – это логические функции суждения. По сути какое бы суждение мы ни выносили (безотносительно к тому, эстетическое оно или познавательное), оно всегда будет либо суждением качества, количества, модальности или отношения. Приведем примеры. Суждения качества очевидно указывают нам на качественную характеристику объекта, например, шоколад молочный. С количеством тоже все ясно – шоколад делится на пять долек. Отношения связаны, как правило, со сравнением – шоколад в детстве был вкуснее, чем сейчас. С модальностями все сложнее. Кант (и вся логическая традиция) выделяет три модальности – возможность, действительность и необходимость. Поэтому мы можем высказать три разных суждения: возможно, шоколад содержит эмульгаторы; действительно шоколад повышает уровень серотонина в организме; с необходимостью шоколад состоит из какао-бобов.
Второй момент суждения вкуса – по его количеству
§ 6 Прекрасное есть то, что без понятий представляется как предмет всеобщего благорасположения
Данное пояснение прекрасного может быть выведено из предыдущего его пояснения как благорасположения, свободного от всякого интереса. Ибо сознавая, что благорасположение к предмету лишено для него всякого интереса, человек сочтет, что в этом предмете должно заключаться основание благорасположения для каждого. Поскольку оно не основано на какой-либо склонности субъекта (или на каком-либо другом продуманном интересе) и тот, кто высказывает суждение о благорасположении к этому’ предмету, чувствует себя совершенно свободным, он не может обнаружить какие-либо частные условия в качестве оснований для благорасположения, присущие только ему как субъекту, и должен поэтому считать, что оно основано на том, что он может предположить и у другого, следовательно, должен верить, что обладает достаточным основанием допускать наличие подобного благорасположения у каждого. Поэтому он говорит о прекрасном так, будто красота есть свойство предмета и суждение о ней есть логическое суждение (познание объекта посредством понятий о нем); между тем это лишь эстетическое суждение и содержит только отношение представления о предмете к субъекту; сходство его с логическим суждением в том, что оно позволяет предположить его значимость для каждого. Однако из понятий эта всеобщность проистекать не может, ибо перехода от понятий к чувству удовольствия или неудовольствия не существует (он возможен только в чистых практических законах, предполагающих интерес, с которым не связано чистое суждение вкуса). Следовательно, суждению вкуса, вынося которое мы сознаем, что оно свободно от всякого интереса, должно быть присуще притязание на значимость для каждого, но не на всеобщность, направленную на объекты, другими словами, с суждением вкуса должно быть связано притязание на субъективную всеобщность.
Проблема, которая возникает, связана со структурой незаинтересованного созерцания. Ведь что по сути означает – созерцать незаинтересовано? Это значит, что все субъективное «забыто». А раз я созерцаю не субъективно, то рождается иллюзия, будто я созерцаю объективно. Несмотря на то что эстетическое восприятие не есть акт познания, мы относимся к нему так, как если бы (als ob) оно было таковым. Соответственно если я действительно созерцаю незаинтересованно, то я убежден, что человек рядом испытывает то же чувство прекрасного, что и я. Так рождается понятие «субъективной всеобщности». Субъективная она потому, что такое созерцание не есть познавательный акт. Всеобщий он потому, что мы пребываем в иллюзии, что все люди разделяют мое чувство прекрасного.
§ 7 Сравнение прекрасного с приятным и добрым на основе упомянутого признака
Применительно к приятному каждый довольствуется тем, что его суждение, которое он, говоря, что некий предмет ему нравится, основывает на своем личном качестве, ограничено его личностью. Поэтому, если он говорит, что канарское вино приятно и его поправляют, напоминая, что следовало бы сказать: оно приятно мне, – он легко соглашается, и это относится не только к тому, что ощущается языком, небом и гортанью, но и ко всему тому, что может быть приятно взору и слуху каждого. Одному фиолетовый цвет представляется нежным и прелестным, другому – мертвенным и тусклым; один любит звучание духовых инструментов, другой – струнных. Спорить об этом, порицая как неверное суждение других, отличающееся от нашего, будто оно логически ему противоположно, было бы просто глупостью; следовательно, применительно к приятному верно положение: у каждого свой вкус (чувственный).
Итак, приятное – это субъективно единичное. Это означает, что объект приятного воспринимается мною определенным образом с помощью моих субъективных свойств. Более того, по Канту приятное не претендует на всеобщность, оно остается на уровне субъекта. Если мне не нравится сыр «гауда», а моему другу нравится, то мы не станем спорить об этом и спокойно разойдемся. Хотя справедливости ради нужно сказать, что «не будем спорить» происходит только в кантовском мире. На деле часто бывает, что человек, любящий «гауду» совершенно никак не понимает, как ее можно не любить.
Совершенно иначе обстоит дело, когда речь идет о прекрасном. Смешно было бы (как раз наоборот), если бы человек, полагающий, что обладает хорошим вкусом, пытался оправдать свое суждение о предмете (о здании, которое мы видим, о платье, которое он носит, о концерте, который мы слушаем, о стихотворении, которое надлежит оценить), говоря: этот предмет прекрасен для меня. Ибо он не должен называть предмет прекрасным, если этот предмет нравится только ему. Многое может быть привлекательным и приятным для него – это никого не касается, но, называя что-либо прекрасным, он предполагает, что другие испытывают к этому такое же благорасположение; он выносит в данном случае не только собственное суждение, но суждение каждого и говорит о красоте так, будто она есть свойство вещей. Утверждая, что вещь прекрасна, он не потому рассчитывает на согласие других с, его суждением о благорасположении, что неоднократно убеждался в их согласии с ним, – он требует этого согласия от них, порицая их, если они судят иначе, и объявляя, что у них нет вкуса, который им надлежало бы иметь. Поэтому в данном случае нельзя говорить, что у каждого свой особый вкус. Это было бы равносильно утверждению, что вкус вообще не существует, то есть что не существует эстетического суждения, которое может с полным правом притязать на согласие каждого.
Суждение о хорошем, напротив, имеет объективно всеобщий статус, ведь оно выносится на основе понятия, а значит, связан с актом познания. Поэтому каждый сам может вынести суждение о хорошем и все с ним безусловно согласятся, ведь по Канту все мы обладаем одними и теми же способностями мышления.
Впрочем, находят, что и в суждении о приятном иногда обнаруживается согласие, на основании которого отрицают наличие вкуса у одних и признают его у других, причем не в значении органического чувства, а как способность судить о приятном вообще. Так, например, о человеке, который способен предоставить приятное развлечение своим гостям (наслаждение посредством всех органов чувств), которое всем нравится, говорят: у него есть вкус. Однако здесь всеобщность берется лишь сравнительно; здесь действуют лишь общие (как все эмпирические), а не универсальные правила, которыми пользуется или на которые притязает суждение вкуса о прекрасном. Суждение в нашем примере связано со сферой общения между людьми, основанного на эмпирических правилах. Суждения о добром также с полным правом притязают на значимость для каждого, однако доброе представляется объектом всеобщего благорасположения только посредством понятия, что отсутствует в приятном и в прекрасном.
Если схематично, то приятное – это субъективно единичное, прекрасное – это субъективно всеобщее, а хорошее – это объективно всеобщее.
Пояснение прекрасного, выведенное из второго момента
Прекрасно то, что нравится всем без понятия.
Третий момент суждения вкуса по отношению к целям, которые принимаются в них во внимание
§ 10 О целесообразности вообще
Для того чтобы объяснить, что такое цель по ее трансцендентальным определениям (не предпосылая этому что-либо эмпирическое, например, чувство удовольствия), следует сказать, что цель – это предмет понятия, поскольку понятие рассматривается как причина предмета (как реальное основание его возможности); каузальность же понятия по отношению к его объекту есть целесообразность (forma finalis). Следовательно, там, где не только познание предмета, но и самый предмет (его форма или существование) как действие мыслится возможным только посредством понятия этого действия, там мыслят цель. Представление о действии есть здесь определяющее основание его причины и предшествует ей. Сознание каузальности представления в отношении состояния субъекта, направленное на то, чтобы сохранить это состояние, может здесь, в общем, означать то, что называют удовольствием; напротив, неудовольствие есть такое представление, в котором содержится основание для определения состояния представлений в сторону их собственной противоположности (чтобы сдержать или устранить их).
Способность желания, поскольку она может быть определена только посредством понятий, то есть в соответствии со стремлением действовать сообразно представлению о цели, будет волей. Целесообразными объект, душевное состояние или поступок называются даже в том случае, если их возможность не обязательно предполагает представление о цели, просто потому, что объяснить и постигнуть их возможность мы можем только в том случае, если полагаем в качестве их основы каузальность согласно целям, то есть волю, которая установила их именно такими по представлению некоего правила. Следовательно, целесообразность может быть и без цели, если причины этой формы мы не полагаем с некую волю, но объяснить не возможность мы можем только в том случае, если выводим ее из воли. Однако то, что мы наблюдаем, нам не всегда необходимо понимать посредством разума (по его возможности). Следовательно, мы можем по крайней мере наблюдать целесообразность по форме, не полагая в ее основу цель (в качестве материи для nexus finalis), и обнаруживать ее в предметах, правда, только посредством рефлексии.
§ 11 Суждение вкуса имеет в качестве своего основания только форму целесообразности предмета (или способа представления о нем)
Всякая цель, если она рассматривается как основа благорасположения, всегда связана с интересом в качестве определяющего основания суждения о предмете удовольствия. Следовательно, в основе суждения вкуса не может лежать субъективная цель, но и представление об объективной цели, то есть о возможности самого предмета в соответствии с принципами целевой связи, тем самым и понятие о добром, не может определить суждение вкуса, ибо оно – суждение эстетическое, а не познавательное и, следовательно, касается не понятия о свойствах предмета и его внутренней или внешней возможности посредством той или иной причины, а только отношения способностей представления друг к другу, поскольку они определяются представлением.
Это отношение в определении предмета прекрасным связано с чувством удовольствия, которое посредством суждения вкуса одновременно объявляется значимым для каждого; следовательно, ни сопутствующая представлению приятность, ни представление о совершенстве предмета и понятие доброго не могут содержать определяющего основания для суждения вкуса. Поэтому только субъективная целесообразность в представлении о предмете без какой-либо (объективной или субъективной) цели, другими словами, только форма целесообразности в представлении, посредством которого нам дается предмет, может – поскольку мы осознаем ее – вызвать благорасположение, рассматриваемое нами без понятия, как всеобще сообщаемое, следовательно, служить определяющим основанием суждения вкуса.
§ 13 Чистое суждение вкуса не зависит от привлекательности и трогательности предмета
Всякий интерес вредит суждению вкуса и лишает его беспристрастности, особенно если этот интерес не предпосылает целесообразность чувству удовольствия, как это делает интерес разума, а основывает ее на нем; последнее всегда происходит в эстетическом суждении, поскольку что-либо радует или печалит. Поэтому суждения, аффицированные таким образом, либо вообще не могут притязать на общезначимое благорасположение, либо могут притязать тем в меньшей степени, чем больше ощущений такого рода находится среди определяющих оснований вкуса. Вкус, которому для благорасположения необходима примесь привлекательного и трогательного, тем более если он превращает их в критерий своего одобрения, всегда еще варварский.
Между тем привлекательность часто не только причисляется к прекрасному (которое ведь, собственно говоря, должно быть связано только с формой) в качестве дополнения ко всеобщему эстетическому благорасположению, но даже само по себе объявляется прекрасным, вследствие чего материал благорасположения выступает как форма: заблуждение, которое, как и ряд других, в некоторой степени обладающих истиной, может быть устранено точным определением этих понятий.
Суждение вкуса, на которое привлекательность и трогательность не оказывают влияния (хотя они и могут быть связаны с благорасположением к прекрасному), которое, следовательно, имеет своим определяющим основанием только целесообразность формы, есть чистое суждение вкуса.
Здесь Кант уточняет момент незаинтересованности. Привлекательность (в немецком Reiz) и трогательность (в немецком Rührung) безусловно связаны с интересом к объекту, поэтому прекрасное отличается от привлекательного и трогательного. Если последние примешиваются к прекрасному, значит эстетическое чувство не чистое.
§ 15 Суждение вкуса ни в коей мере не зависит от понятия совершенства
Объективная целесообразность может быть познана только посредством соотнесения многообразного с определенной целью, следовательно, только посредством понятия. Из этого одного уже следует, что прекрасное, в основе суждения о котором лежит лишь формальная целесообразность, то есть целесообразность без цели, совершенно не зависит от представления о добром, так как доброе предполагает объективную целесообразность, то есть соотнесение предмета с определенной целью.
Объективная целесообразность может быть либо внешней, то есть полезностью предмета, либо внутренней, то есть его совершенством. Что благорасположение к предмету, благодаря которому мы и называем его прекрасным, не может быть основано на представлении о его полезности, достаточно очевидно из двух предыдущих разделов, ибо тогда благорасположение к предмету не было бы непосредственным, что служит существенным условием суждения о красоте. Объективная внутренняя целесообразность, то есть совершенство, уже ближе предикату прекрасного, и поэтому некоторые известные философы отождествляли его с красотой, правда, добавляя: если она мыслится смутно. В критике вкуса чрезвычайно важно решить, может ли в самом деле красота раствориться в понятии совершенства.
Чтобы судить об объективной целесообразности, всегда необходимо понятие цели и (если эта целесообразность должна быть не внешней полезностью, а внутренней) понятие внутренней цели, в котором содержится основание внутренней возможности предмета. Поскольку же цель вообще есть то, понятие чего может быть рассмотрено как основание возможности самого предмета, то для того, чтобы представить себе объективную целесообразность вещи, этому представлению должно предшествовать понятие о том, какой должна быть вещь, и соответствие многообразного в ней этому понятию (которое дает правило для соединения этого многообразия в ней) есть качественное совершенство вещи. От него полностью отличается количественное совершенство как законченность каждой вещи в своем роде; оно есть простое понятие величины (всеполноты), в котором уже заранее мыслится определенным, какой должна быть вещь, и спрашивается только, всем ли необходимым для этого она обладает. Формальное в представлении о вещи, то есть согласованность многообразного в едином (без определения того, чем оно должно быть), само по себе не дает никакого познания объективной целесообразности, ибо, поскольку здесь абстрагируются от этого единого как цели (от того, чем вещь должна быть), в душе созерцающего остается только субъективная целесообразность представлений; она указывает, правда, на известную целесообразность состояния представлений в субъекте и на приятное допущение этого состояния, вызванное тем, что воображение схватывает данную форму, но не свидетельствует о совершенстве какого-либо объекта, который мыслится здесь не посредством понятия цели. Если, например, заметив в лесу лужайку, окруженную деревьями, я при этом не представляю себе какую-либо цель, скажем, что она могла бы быть использована для танцев поселян, то одной этой формой не дано ни малейшее понятие совершенства. Представлять себе формальную объективную целесообразность без цели, то есть только форму совершенства (лишенную всякой материи и понятия того, для чего происходит согласованность, даже если бы это было идеей закономерности вообще), есть подлинное противоречие.
Само собой, совершенство и прекрасное – это два разных понятия. Русский язык нам позволяет это с легкостью понять, ведь совершенство мы связываем с неким внутренним сравнением, с несовершенством. Чистая схоластика – мы не могли бы знать о совершенстве, не будь несовершенства, и наоборот. Нам нужно несколько ручек, чтобы их сравнить, соотнести друг с другом и понять, какая из них совершеннее другой. В случае с прекрасным объект прекрасен безотносительно другого объекта. Почему так? Ведь чтобы говорить о совершенстве ручки, мы должны знать ее цель и в соответствии с ней оценивать сам предмет. А для прекрасного цель не нужна, поэтому суждение будет безотносительным.
Суждение вкуса есть эстетическое суждение, то есть такое, которое покоится на субъективных основаниях и определяющим основанием которого не может быть понятие, тем самым и понятие определенной цели. Следовательно, посредством красоты как формальной субъективной целесообразности отнюдь не мыслится совершенство предмета как предполагаемо формальная, но все-таки объективная целесообразность; и если различие между понятием прекрасного и понятием доброго заключается только в логической форме – первое лишь смутное, второе отчетливое понятие совершенства, в остальном же они по своему содержанию и происхождению тождественны, то это различие незначительно, ибо в этом случае между ними не было бы специфического различия и суждение вкуса было бы таким же познавательным суждением, как суждение, которым что-либо объявляется добрым. Так, если простолюдин утверждает, что обман дурен, он основывает свое суждение на смутных, философ же – на отчетливых принципах разума, но по существу оба они основываются на одних и тех же принципах разума. Между тем я уже указывал, что эстетическое суждение единственное в своем роде и не дает никакого (даже смутного) познания объекта; познание достигается только посредством логического суждения, тогда как эстетическое суждение, напротив, соотносит представление, посредством которого дан объект, только с субъектом и позволяет обнаружить не свойства предмета, а лишь целесообразную форму определения занимающихся этим предметом способностей представления. Суждение именно потому и называется эстетическим, что его определяющим основанием служит не понятие, а чувство (внутреннее чувство) упомянутой гармонии в игре душевных сил, поскольку она может только ощущаться. Напротив, если называть эстетическими смутные понятия и объективное суждение, основанием которому они служат, мы имели бы рассудок, судящий чувственно, или чувство, представляющее свои объекты посредством понятий, – то и другое внутренне противоречиво. Способность давать понятия, как смутные, так и отчетливые, есть рассудок, и хотя для суждения вкуса в качестве эстетического суждения также (как и для всех суждений) необходим рассудок, он необходим здесь не как способность познавать предмет, а как способность его определения и представления (без понятия) о нем в соответствии с отношением этого представления к субъекту и его внутреннему чувству, причем постольку, поскольку это суждение возможно по некоему общему правилу.
§ 16 Суждение вкуса, в котором предмет признается прекрасным при условии определенного понятия, не есть чистое суждение вкуса
Существуют два вида красоты: свободная красота (pulchritude vaga) и лишь сопутствующая красота (pulchritude adhaerens). Первая не предполагает понятия того, каким должен быть предмет; вторая предполагает такое понятие и совершенство предмета в соответствии с этим понятием. К первой относится (пребывающая для самой себя) красота той или иной вещи; вторая в качестве связанной с понятием (обусловленная красота) приписывается объектам, которые подведены под понятие особой цели.
Раз свободная красота – та, которая не предполагает понятия, значит не предполагает и цели. Можно сделать вывод, что свободная красота – это красота природы. Сопутствующая же красота – это красота артефактов. Но нужно еще раз вспомнить, что красота – это не свойство объекта, а мое отношение к объекту. Внутри моего чувства прекрасного существует это деление на свободную и сопутствующую красоту. То есть нет свободно красивого дерева. Но если я нахожу дерево красивым, то это чувство относится к свободной красоте. Если я нахожу прекрасными джинсы, то оно (чувство) относится к сопутствующей красоте.
Цветы – свободная красота природы. Вряд ли кто-нибудь, кроме ботаника, знает, каким должен быть цветок, и даже ботаник, зная, что цветок есть оплодотворяющий орган растения, не уделяет внимание этой цели природы, когда судит о цветах, сообразуясь со вкусом. Следовательно, в основу этого суждения не полагают совершенство какого-либо рода, какую-либо внутреннюю целесообразность, с которой соотносится соединение многообразного. Многие птицы (попугай, колибри, райская птица), множество морских моллюсков суть сами по себе такая красота, которая не встречается в предмете, определенном понятиями в соответствии с его целью; они свободно нравятся как таковые. Так, рисунки a la grecque, лиственный орнамент на рамах картин или на обоях и т. д. сами по себе ничего не означают; они ничего не изображают, не изображают объект, подведенный под определенное понятие; они – свободная красота. К этому же виду можно отнести то, что в музыке называется импровизацией (без определенной темы), да и вообще всю музыку без текста.
Это один из самых спорных абзацев «Критики способности суждения». Орнамент относится к свободной красоте? Ведь орнамент в архаических обществах имел всегда глубокий смысл, являлся символом плодородия, победы и проч. Остается догадываться, что имел в виду Кант по свободной красотой орнамента.
Суждение о свободной красоте (красоте только по форме) есть чистое суждение. Здесь не предполагается понятие какой-либо цели, которой должно служить в данном объекте многообразие, не предполагается, следовательно, и то, что он должен представлять; это только ограничивало бы свободу воображения, которое, наблюдая за образом, как бы играет.
Лишь красота человека (мужчины, женщины, ребенка), красота коня, здания (церкви, дворца, арсенала или беседки) предполагает понятие цели, определяющей, какой должна быть вещь, то есть предполагает понятие ее совершенства, и, следовательно, есть сопутствующая красота. Так же как связь приятного (в ощущении) с красотой, которая, собственно говоря, связана только с формой, препятствовала сохранению чистоты суждения вкуса, и связь хорошего (а именно ради чего многообразие хорошо для самой вещи в соответствии с ее целью) с красотой наносит ущерб чистоте этого суждения.
И вот он – еще один удивительный момент в тексте Канта. Сопутствующая красота коня? То есть все животные (как объекты природы) относятся к свободной красоте (и мы понимаем, почему), а конь – нет? Можно только предположить, что во времена Канта лошади «были созданы» для человека, то есть имели определенную цель.
Многое из того, что непосредственно нравится в созерцании, можно было бы добавить к зданию, если бы только ему не надлежало быть церковью; образ можно было бы украсить разного рода завитушками и легкими, правильными штрихами, подобными татуировке жителей Новой Зеландии, если бы только это не был человек, а человек мог бы иметь значительно более тонкие черты и более приятный, мягкий овал лица, если бы он не должен был представлять мужчину, и к тому же воинственного.
Благорасположение к многообразному в вещи в соответствии с ее внутренней целью, которая определяет ее возможность, есть благорасположение, основанное на понятии; благорасположение же к красоте не предполагает понятия, но непосредственно связано с представлением, посредством которого дается (а не мыслится) предмет. Если суждение вкуса во втором виде благорасположения делается зависимым от цели, поставленной в первом как в суждении разума, и таким образом ограничивается, оно уже не есть свободное и чистое суждение вкуса.
§ 17 Об идеале красоты
Объективного правила вкуса, которое посредством понятий определило бы, что прекрасно, быть не может. Ибо всякое суждение из этого источника есть суждение эстетическое, то есть его определяющим основанием служит чувство субъекта, а не понятие объекта. Искать принцип вкуса, который посредством определенных понятий давал бы общий критерий прекрасного, – бесплодное занятие, ибо то, что ищут, невозможно и само по себе противоречиво. Всеобщая сообщаемость ощущения благорасположения или его отсутствия, причем такая, которая имеет место без понятия, единодушие, насколько это возможно, у всех народов во все времена по поводу этого чувства в представлении об известных предметах, есть эмпирический, хотя и слабый, едва достаточный для предположения, критерий происхождения такого подтверждаемого примерами вкуса из глубоко скрытой, общей для всех людей основы единодушия в суждении о формах, в которых им даны предметы.
Поэтому считают, что некоторые продукты вкуса могут служить образцом; это не значит, что вкус может быть обретен посредством подражания другим. Ибо вкус должен быть своей собственной способностью; тот же, кто подражает образцу, обнаруживает, если ему удается его воспроизвести, умение, однако вкус обнаруживает лишь постольку, поскольку он способен судить об этом образце. Из этого следует, что высший образец, первообраз вкуса, есть лишь идея, которую каждый должен создать в себе самом и, исходя из которой, ему надлежит судить обо всем, что есть объект вкуса, что служит примером суждения вкуса и даже о вкусе каждого. Идея означает, собственно говоря, понятие разума, а идеал – представление о единичном существе как адекватном идее. Поэтому прообраз вкуса, который основан на неопределенной идее разума о неком максимуме, но может быть тем не менее представлен не посредством понятий, а лишь в единичном изображении, лучше называть идеалом красоты; мы им, правда, не обладаем, но стремимся создать его в себе. Однако этот идеал красоты будет лишь идеалом воображения именно потому, что он основан не на понятиях, а на изображении; способность же изображать есть воображение. Как же мы достигаем подобного идеала красоты? Априорно или эмпирически? А также: для какого рода красоты возможен идеал?
Нет и не может быть правильного или совершенного вкуса, который можно было бы всем сообщить. Это очевидно из предыдущих кантовских рассуждений, ведь сообщаемость базируется на понятии. Понятие есть то, что можно передать другому. Вкус же основывается на внутреннем чувстве, а значит он, несмотря на претензию на всеобщность, остается субъективным.
Прежде всего следует заметить, что красота, для которой надлежит искать идеал, должна быть красотой не свободной, а фиксированной понятием объективной целесообразности, следовательно, должна принадлежать объекту не совершенно чистого, а частично интеллектуализированного суждения вкуса. Другими словами, там, где при тех или иных основаниях суждения должен иметь место идеал, в основе должна лежать какая-либо идея разума по определенным понятиям, априорно определяющая цель, на которой основана внутренняя возможность предмета. Мыслить идеал прекрасных цветов, прекрасной меблировки, прекрасного пейзажа невозможно. Невозможно и представить себе идеал красоты, обусловленной определенными целями, например, идеал прекрасного дома, прекрасного дерева, прекрасного сада и т. д., вероятно, потому, что цели здесь не вполне определены и фиксированы своим понятием и поэтому целесообразность почти так же свободна, как в свободной красоте. Лишь то, что имеет цель своего существования в самом себе, лишь человек, который способен сам определять посредством разума свои цели или, если он должен брать их из внешнего восприятия, все-таки может сопоставить их с существенными, всеобщими целями, а затем судить об этом сопоставлении с ними эстетически, – только человек, следовательно, способен быть идеалом красоты, так же как человечество в его лице в качестве интеллигенции единственно среди всех предметов мира способно быть идеалом совершенства.
Мы начинаем говорить об идеале красоты. Идеалом мы назовем то, с чем соотносим все другие красоты. И раз мы говорим о соотношении, то безусловно мы должны говорить и о цели идеала. Ведь совершенство объекта определяется по тому, как он актуализирует свою цель. Идеальная ручка – та, которая лучше всего пишет и которой удобнее всего писать. А идеальное дерево? Цель артефакта мы знаем, ведь мы сами ее задаем, создавая артефакт. С объектами природы так не работает. А значит, идеал красоты нужно искать в сопутствующей красоте, а не в свободной. Но, как пишет Кант, у идеала красоты должна быть цель в самом себе, а не задана извне, ведь если цель задана извне, то объект зависит от этой цели. Соответственно только человек может быть идеалом красоты.
Однако для этого необходимы два момента: во-первых, эстетическая идея нормы, которая есть единичное созерцание (воображения); она служит критерием суждения о человеке как предмете, принадлежащем к особому виду животных; во-вторых, идея разума, которая превращает цели человечества, в той мере, в какой они не могут быть представлены чувственно, в принцип суждения об образе человека; посредством этого суждения в явлении открываются цели человечества как его действие. Идея нормы должна брать элементы для образа животного особого рода из опыта, но величайшая целесообразность в его строении, которая может служить критерием эстетической оценки каждой особи этого рода, прообраз, как бы преднамеренно положенный в основу техники природы, которому адекватен только род в целом, но не отдельная особь, содержится лишь в идее того, кто выносит суждение, и эта идея со всеми ее пропорциями может быть в качестве эстетической идеи совершенно in concrete изображена в виде образца. Для того чтобы в некоторой степени пояснить, как это происходит (ибо кто же может полностью выведать тайну природы?), попытаемся дать психологическое объяснение.
Следует заметить, что воображение, совершенно непонятным нам способом, может иногда не только возвращать знаки для понятий из далекого прошлого, но и воспроизводить вид и образ предмета из несказанного числа предметов различного или одного рода; более того, если душа стремится к сравнению, воображение, по всей вероятности, действительно может, хотя и недостаточно отчетливо для сознания, как бы накладывать один образ на другой и посредством конгруэнтности образов одного рода находить среднее, служащее всем им общей мерой. Кто-то видел тысячу взрослых мужчин. Если он хочет, сравнивая их, вынести суждение о нормальном росте мужчины, то воображение накладывает (как я полагаю) большое число образов (быть может, всю тысячу) друг на друга; и – если мне будет дозволено применить здесь аналогию с оптическим изображением – там, где большинство из них совпадает и где внутри контуров нанесена наиболее яркая краска, обозначится средняя величина, одинаково отдаленная как по высоте, так и по ширине от самых больших и самых маленьких фигур. Это и есть фигура красивого мужчины. (То же можно было бы получить механическим путем, сложив их высоту и ширину (и толщину) и разделив сумму на тысячу. Но воображение делает это посредством динамического эффекта, возникающего из многократного схватывания подобных образов органом внутреннего чувства.) Если для мужчины среднего роста таким же образом ищут голову средней величины, а для нее – нос средней величины и т. д., то этот образ будет лежать в основе идеи нормы красивого мужчины в той стране, где это сравнение производится; поэтому негр в своих эмпирических условиях будет иметь иную идею нормы для красоты образа, чем белый, китаец – иную, чем европеец. Так же обстоит дело с образом красивой лошади или собаки (определенной породы). Эта идея нормы не выведена из пропорций, взятых из опыта в качестве определенных правил; напротив, только исходя из этой идеи, возможны правила суждения. Она – парящий между всеми отдельными, самыми различными созерцаниями индивидов образ для всего рода, тот образ, который природа положила в качестве прообраза в основу своих порождений данного вида, но ни в одной особи не сумела, как кажется, полностью достичь. Идея нормы отнюдь не полный прообраз красоты в данном роде, а только форма, составляющая непременное условие всякой красоты, только правильность в изображении рода. Она служит правилом – именно так воспринимали и знаменитого Дорифора Поликлета (правилом для своей породы может служить и корова Мирона). Именно поэтому в идее нормы и не может содержаться что-либо специфически характерное, ибо в противном случае она не была бы идеей нормы рода. Ее изображение нравится не красотой, а потому, что оно не противоречит ни одному условию, при соблюдении которого вещь такого рода только и может быть прекрасной. Подобное изображение лишь соответствует школьным правилам.
От идеи нормы прекрасного отличен его идеал, который в соответствии с уже приведенными основаниями можно обрести лишь в образе человека. Здесь идеал состоит в выражении нравственного, без чего предмет не мог бы нравиться всем, причем позитивно (а не только негативно по своему изображению в соответствии со школьными правилами). Правда, зримое выражение нравственных идей, которые внутренне властвуют над человеком, может быть взято только из опыта; однако для того, чтобы сделать зримым в телесном выражении (как действия внутреннего мира) их связь со всем тем, что наш разум сочетает с нравственно добрым в идее высшей целесообразности, – доброту души, чистоту, силу или спокойствие и т. д., – необходимо, чтобы тот, кто хочет хотя бы только судить о них, а тем более выразить их, был способен соединить чистые идеи разума с большой силой воображения. Правильность подобного идеала красоты доказывается тем, что он не разрешает примешивать чувственно привлекательное в благорасположение к его объекту и тем не менее допускает проявление большого интереса к нему, а это в свою очередь доказывает, что суждение на основе такого критерия никогда не может быть чисто эстетическим и что суждение, которое исходит из идеала красоты, не есть просто суждение вкуса.
Здесь нужно уточнить, что Кант раскрывает трансцендентальный смысл идеала красоты. То есть идеальный человек – тот, кто выполняет нравственный закон, ведь только категорический императив может быть целью, которую человек ставит сам себе. Но как он нам сам же покажет дальше, существует еще и эмпирический смысл идеала красоты.
Пояснение прекрасного, выведенное из этого, третьего момента
Красота есть форма целесообразности предмета, воспринимаемая в нем без представления о цели.
Четвертый момент суждения вкуса по модальности благорасположения к предмету
§ 18 Что такое модальность суждения вкуса
О каждом представлении я могу сказать: возможно по крайней мере, что оно (в качестве познания) связано с удовольствием. О том, что я называю приятным, я говорю, что оно действительно доставляет мне удовольствие. О прекрасном же думают, что оно имеет необходимое отношение к благорасположению. Эта необходимость особого рода: не теоретическая объективная необходимость, когда априорно можно знать, что каждый почувствует такое благорасположение к предмету, названному мною прекрасным; и не практическая необходимость, когда посредством понятии чистой воли разума, служащей свободно действующим существам правилом, это есть необходимое следствие объективного закона и означает только, что мы должны просто (без какого-либо намерения) действовать определенным образом. Необходимость, которая мыслится в эстетическом суждении, может быть названа только необходимостью образца, то есть необходимостью для всех согласиться с суждением, рассматриваемым как пример всеобщего правила, установить которое невозможно. Поскольку эстетическое суждение не есть объективное и познавательное суждение, эта необходимость не может быть выведена из определенных понятий, и, следовательно, она не аподиктична. Тем более она не может быть выведена из всеобщности опыта (из общего согласия в суждениях о красоте данного предмета). Ибо дело не только в том, что опыт вряд ли дал бы нам достаточное число подтверждений, но и в том, что на основе эмпирических суждений не может быть выведено понятие необходимости этих суждений.
§ 19 Субъективная необходимость, которую мы приписываем суждению вкуса, обусловлена
Суждение вкуса предполагает согласие каждого; тот, кто называет что-либо прекрасным, считает, что каждый должен одобрить предлежащий предмет и также назвать его прекрасным. Следовательно, долженствование в эстетическом суждении, даже при наличии всех данных, которые требуются для суждения, высказывается лишь условно. Согласия каждого добиваются, поскольку имеют для этого общее для всех основание; на это согласие действительно можно было бы рассчитывать, если всегда быть уверенным, что данный случай правильно подведен под названное основание как правило для одобрения.
Когда Кант говорит о модальности, то он делает ставку только на необходимость. Под этим подразумевается, что, вынося суждение вкуса, объект, именуемый прекрасным, с необходимостью является предметом благорасположения. Этот вывод вытекает из второго момента прекрасного по количеству, ведь если есть претензия на всеобщность, то предполагается, что каждый по необходимости должен разделить субъективное чувство прекрасного.
§ 20 Условие необходимости, предполагаемое суждением вкуса, есть идея общего чувства
Если бы суждения вкуса располагали (подобно познавательным суждениям) определенным объективным принципом, тогда тот, кто выносит их по этому принципу, притязал бы на безусловную необходимость своего суждения. Если бы они были вообще лишены принципа, подобно суждениям чувственного вкуса, мысль об их необходимости вообще никому не приходила бы в голову. Следовательно, они должны располагать субъективным принципом, который только посредством чувства, а не посредством понятий, но все же общезначимо, определяет, что нравится и что не нравится. Подобный принцип можно рассматривать лишь как общее чувство, существенно отличающееся от здравого рассудка, который подчас также называют общим чувством (sensus communis), так как рассудок выносит суждения не на основании чувства, а всегда на основании понятий, хотя обычно только в качестве смутно представляемых принципов.
Следовательно, только допуская, что подобное общее чувство существует (под ним мы понимаем не внешнее чувство, а действие, проистекающее из свободной игры наших познавательных способностей), только, повторяю, допуская наличие подобного общего чувства, может быть вынесено суждение вкуса.
Общее чувство – это не действительно существующее, объединяющее всех людей. Но это допущение каждого, кто когда-либо незаинтересованно испытывал чувство прекрасного. Ведь если ты испытал чувство прекрасного, то нет никаких сомнений, что каждый, глядя на лавандовые поля Прованса, будет испытывать ровно это же чувство. Отсюда и появляется уверенность в общем чувстве. И эта уверенность затем работает, и наоборот – зная уже, что общее чувство есть, мы выносим суждение о прекрасном, уверенные в том, что нас поймут.
§ 21 Можно ли с достаточным основанием предполагать наличие общего чувства
Познание и суждения вместе с сопутствующим им убеждением должны обладать всеобщей сообщаемостью, ибо в противном случае они не соответствовали бы объекту и были бы все просто субъективной игрой способностей представления, совершенно так, как того требует скептицизм. Однако для того, чтобы познание могло сообщаться, должно быть всеобще сообщаемо и душевное состояние, то есть настроенность познавательных способностей к познанию вообще, а именно пропорция, требующаяся представлению (посредством которого нам дается предмет), чтобы возникло познание; без этого представления как субъективного условия познания познание как действие не могло бы возникнуть. Это в действительности и происходит каждый раз, когда данный предмет посредством чувств приводит в действие воображение для соединения многообразного, а оно приводит в действие рассудок для установления единства этого многообразия в понятиях. Однако эта настроенность познавательных способностей обладает в зависимости от различия данных объектов различной пропорцией. Тем не менее должна существовать такая пропорция, при которой это внутреннее отношение наиболее соответствует оживлению обеих душевных способностей (одной посредством другой) для познания (данных предметов) вообще, и эта настроенность может быть определена только чувством (не понятиями). Поскольку сама эта настроенность должна быть всеобще сообщаемой, должно быть всеобще сообщаемо и ее чувство (при данном представлении), поскольку же сообщаемость чувства предполагает общее чувство, то наличие его можно с полным основанием допустить; при этом нет необходимости исходить из психологических наблюдений; наличие общего чувства надлежит допустить как необходимое условие всеобщей сообщаемости нашего познания, что предполагается в каждой логике и в каждом принципе познания, если он не связан со скепсисом.
Настроенность (Stimmung) познавательных способностей, о которой говорит Кант, – это определенная конфигурация рассудка и воображения. Они должны каким-то особенным образом действовать, чтобы чувство прекрасного стало возможным. Здесь имеется в виду свободная игра рассудка и воображения, где рассудок освобождается от производства понятий (чем он занимается в обычное время), а воображение освобождается от упорядочивания этих понятий.
§ 22 Необходимость всеобщего согласия, мыслимая в суждении вкуса, есть субъективная необходимость, которая при предположении общего чувства представляется объективной
Во всех суждениях, в которых мы признаем что-либо прекрасным, мы никому не дозволяем придерживаться иного мнения, несмотря на то, что основываем наше суждение не на понятиях, а только на нашем чувстве; следовательно, полагаем его в основу суждения не как частное, а как общее чувство. Это общее чувство не может быть для данной цели основано на опыте, ибо оно хочет давать право на суждения, в которых содержится долженствование; оно не гласит: с нашим суждением будет согласен каждый; оно гласит: каждый должен согласиться с ним. Следовательно, общее чувство, в качестве примера суждения которого я привожу здесь мое суждение вкуса, приписывая ему тем самым значимость образца, есть просто идеальная норма, предполагая которую можно совпадающее с ней содержание и выраженное в нем благорасположение к объекту с полным правом считать правилом для каждого; хотя этот принцип лишь субъективен, он признается субъективно-всеобщим (необходимой для каждого идеей), и в той мере, в какой речь идет о единодушии различных лиц, выносящих суждения, он может, подобно объективному принципу, требовать всеобщего одобрения, если только при этом быть уверенным, что подведение под принцип совершенно правильно.
Эта неопределенная норма общего чувства действительно нами предполагается, что доказывается нашим притязанием на право выносить суждения вкуса. Существует ли в самом деле подобное общее чувство в качестве конститутивного принципа возможности опыта, или еще более высокий принцип разума делает его для нас лишь регулятивным принципом, чтобы создать в нас общее чувство для высших целей; следует ли считать вкус исконной и естественной способностью или лишь идеей некой искусственной способности, которую нам еще предстоит приобрести, так что суждение вкуса и его ожидание всеобщего согласия на самом деле есть лишь требование разума создать такое единодушие чувства, и долженствование, то есть объективная необходимость совпадения чувства каждого с каждым особым чувством другого означает лишь возможность прийти к такому согласию, а суждение вкуса служит лишь примером применения этого принципа. Все это мы здесь еще не хотим и не можем исследовать; теперь нам надлежит лишь разложить способность вкуса на его элементы, чтобы затем соединить их в идее общего чувства.
Пояснение прекрасного, выведенное из четвертого момента
Прекрасно то, что без понятия признается предметом необходимого благорасположения.
Краткий вывод из аналитики прекрасного. Четыре момента прекрасного, которые выделяет Кант, – это демонстрация работы «Критики чистого разума» на примере эстетических суждений. Самое интересное, что у нас есть некий рецепт чистого эстетического восприятия, а именно судить нужно без понятия, с претензией на всеобщность, целесообразно без цели и так, как если бы предмет эстетического созерцания необходимо нравится всем. Остается только правильно пользоваться формулой, которую нам подарил Иммануил Кант.
Нужно сказать, что аналитика прекрасного Канта входит в топ-10 самых растиражированных пассажей классической философии. Немецкий романтизм (Гельдерлин, Шиллер, Новалис) и позднее Гете очень хорошо прониклись этим кантовским духом. И само собой искусствоведение также испытало огромное влияние Канта. Неокантианцы развили эстетические идеи Канта, хотя справедливости ради нужно сказать, что ряд этих идей прямо противоположен учению философа.
Книга вторая Аналитика возвышенного
§ 23 Переход от способности суждения о прекрасном к способности суждения о возвышенном
Общность прекрасного и возвышенного состоит в том, что оба они нравятся сами по себе. А также в том, что оба они предполагают не чувственное и не логически определяющее суждение, а суждение рефлексии; следовательно, благорасположение зависит в обоих случаях не от ощущения, например, приятного и не от определенного понятия, как благорасположение к доброму; однако при этом оно все-таки соотнесено с понятиями, хотя и не определяется с какими; и, таким образом, благорасположение связано только с изображением или способностью изображения, посредством чего эта способность изображения или воображение рассматривается при данном созерцании в соответствии со способностью рассудка или разума давать понятия как нечто им содействующее. Поэтому оба суждения единичны, и тем не менее объявляют себя общезначимыми для каждого субъекта, хотя они и притязают только на чувство удовольствия, а не на познание предмета.
Что заметно сразу, Кант проводит категорию возвышенного по четырем моментам, которые были в первой книге относительно категории прекрасного, т. е. по качеству, по количеству, по модальности и по отношению. И становится понятно, что с точки зрения логических функций прекрасное и возвышенное суждения идентичны. Однако очевидно, что есть основание, по которому Кант выделяет возвышенное, которое чем-то отлично от прекрасного.
Однако бросаются в глаза и серьезные различия между прекрасным и возвышенным. Прекрасное в природе относится к форме предмета, которая состоит в ограничении; напротив, возвышенное может быть обнаружено и в бесформенном предмете, поскольку в нем или в связи с ним представляется безграничность, к которой тем не менее примысливается ее тотальность; таким образом, прекрасное служит, по-видимому, для изображения неопределенного понятия рассудка, возвышенное – для такого же понятия разума. Следовательно, в первом случае благорасположение связано с представлением о качестве, во втором – с представлением о количестве. Второй вид благорасположения сильно отличается от первого и по своему характеру; если первое (прекрасное) ведет непосредственно к усилению жизнедеятельности и поэтому может сочетаться с привлекательностью и с игрой воображения, то второе (чувство возвышенного) есть удовольствие, которое возникает лишь опосредствованно, а именно порождается чувством мгновенного торможения жизненных сил и следующего за этим их приливом, таким образом, вызывая растроганность, оно не игра, а серьезное занятие воображения. Поэтому возвышенное и несовместимо с привлекательностью, и поскольку душа не просто притягивается к предмету, но и отталкивается им, в благорасположении к возвышенному содержится не столько позитивное удовольствие, сколько восхищение или уважение, и поэтому оно заслуживает названия негативного удовольствия.
Однако самое важное внутреннее отличие возвышенного от прекрасного состоит в следующем: если мы здесь прежде всего принимаем во внимание, что совершенно правильно, возвышенное в объектах природы (возвышенное в искусстве всегда ограничивается условием соответствия природе), то красота природы (самостоятельная) заключает в своей форме целесообразность, благодаря чему предмет как бы заранее предназначается для нашей способности суждения и, таким образом, сам по себе служит предметом благорасположения; напротив, то, что без всякого умствования, просто в схватывании, возбуждает в нас чувство возвышенного, хотя и может показаться нашей способности суждения по форме нецелесообразным, несоразмерным нашей способности изображения и как бы насильственно навязанным нашему воображению, тем не менее предстает в суждении возвышенным.
Почему Кант вообще решил ввести эту категорию возвышенного? Эстетическое суждение – это суждение об отношении субъекта к объекту. Если это отношение стягивается к объекту, то мы этот объект называем прекрасным. Если же отношение стягивается к субъекту, то мы это состояние называем возвышенным. Если угодно, то, созерцая прекрасное, мы не завязаны на объекте. Созерцая возвышенное, мы не завязаны на объекте вообще.
Из этого сразу же следует, что, называя какой-либо предмет природы, возвышенным, мы вообще выражаемся неправильно, хотя совершенно правильно называем многие из них прекрасными, ибо как можно выражать одобрение тому, что само по себе воспринимается как нецелесообразное? Мы можем только сказать, что предмет пригоден для изображения возвышенного, которое может быть обнаружено в душе; ибо возвышенное в собственном смысле слова не может содержаться ни в одной чувственной форме и относится лишь к идеям разума; хотя соответствующее им изображение невозможно, они именно вследствие этого несоответствия, которое может быть изображено чувственно, возбуждаются и проникают в душу. Так, огромный, разбушевавшийся океан не может быть назван возвышенным; его вид ужасен. И душа должна быть уже полна рядом идей, чтобы в подобном созерцании проникнуться чувством, которое само возвышенно; она побуждается оставить чувственность и заняться идеями, содержащими более высокую целесообразность.
Самостоятельная красота природы открывает нам технику природы, представляющую природу как систему, подчиненную законам, принцип которых мы не встречаем во всей нашей рассудочной способности, а именно законам целесообразности в отношении применения способности суждения к явлениям таким образом, что судить о них надлежит не только как о принадлежащих природе, с ее лишенным цели механизмом, но и как о допускающих аналогию с искусством. Следовательно, самостоятельная красота природы действительно расширяет если не наше знание объектов природы, то, во всяком случае, наше понятие о природе – от понятия ее как простого механизма до понятия ее как искусства, что позволяет приступить к глубоким исследованиям возможности подобной формы. Однако в том, что мы обычно называем в природе возвышенным, нет ничего, что вело бы к особым объективным принципам и соответствующим им формам природы; именно в своем хаосе или в своем самом диком, лишенном всякой правильности беспорядке и опустошении природа, если она обнаруживает при этом свое величие и могущество, более всего возбуждает в нас идеи возвышенного. Из этого следует, что понятие возвышенного в природе значительно менее важно и богато выводами, чем понятие прекрасного в ней, и что оно вообще свидетельствует совсем не о целесообразности в самой природе, а только о возможном использовании созерцаний природы для того, чтобы ощутить в нас самих совершенно независимую от природы целесообразность. Основание для прекрасного в природе мы должны искать вне нас, основание для возвышенного – только в нас и в образе мыслей, который привносит возвышенность в представление о природе. Это очень важное предварительное замечание, полностью отделяющее идеи возвышенного от идеи целесообразности природы, и превращающее теорию возвышенного в простой придаток к эстетическому суждению о целесообразности природы, ибо в этой теории не представлена особая форма в природе, а лишь развивается целесообразное использование воображением своего представления о природе.
Чем же отличается прекрасное и возвышенное? Во-первых, прекрасное выговаривается о предметах, возвышенное же – о состоянии. Конечно в строгом смысле слова мы не можем сказать «эта чаша прекрасна», как если бы красивое было свойством объекта. Но когда мы говорим о прекрасном, то мы связываем восприятие с формой объекта как качественной ее характеристикой. Когда же речь идет о возвышенном, то форма оказывается вторичной. Кант даже указывает, что объект может быть вообще бесформенным. Идея не в форме, а в количественном показателе: речь идет о величине объекта, а не о форме. Во-вторых, и это было уже сказано, прекрасное связано с качеством, возвышенное – с количеством. В-третьих, прекрасное – это игра рассудка и воображения, тогда как возвышенное – это серьезное дело разума и воображения. То есть говоря о возвышенном, мы впервые начнем говорить о разуме. Еще одно немаловажное отличие – прекрасное предполагает и сохраняет душу в покое, тогда как возвышенное возбуждает душевное движение.
§ 24 О делении исследования чувства возвышенного
Что касается деления моментов эстетического суждения о предметах по отношению к чувству возвышенного, то здесь аналитика может действовать по тому же принципу, который применялся в расчленении суждений вкуса. Ибо как суждение эстетической рефлектирующей способности суждения благорасположение к возвышенному должно быть так же, как благорасположение к прекрасному, по своему количеству общезначимым, по качеству – лишенным интереса, по отношению обладать субъективной целесообразностью, по модальности представлять ее как необходимую. Следовательно, метод не будет здесь отличаться от метода предшествующего раздела. Некоторое различие состоит в том, что там, где эстетическое суждение касалось формы объекта, мы начинали с исследования качества; здесь же, поскольку то, что мы называем возвышенным, может быть бесформенным, мы начинаем с количества как с первого момента эстетического суждения о возвышенном; основание для этого очевидно из предшествующего параграфа.
Однако для анализа возвышенного необходимо деление, в котором не нуждается анализ прекрасного, а именно деление на математически возвышенное и динамически возвышенное.
Ибо поскольку чувство возвышенного предполагает как свою отличительную особенность душевное движение, связанное с суждением о предмете – в отличие от него вкус к прекрасному предполагает и сохраняет душу в состоянии спокойного созерцания – и об этом движении следует судить как об объективно целесообразном (так как возвышенное нравится), то посредством воображения возвышенное соотносится либо со способностью познания, либо со способностью желания; однако в том и другом случае суждение о целесообразности данного представления выносится применительно к этим способностям (без цели или интереса): первая прилагается объекту как математическая, вторая как динамическая настроенность воображения – поэтому объект представляется нам возвышенным этим двояким способом.
Первое, что хотелось бы отметить, что в большинстве изданий на русском языке есть серьезная опечатка. «И об этом движении следует судить как об объективно целесообразном» – в немецком тексте стоит, конечно же, субъективно целесообразном.
По поводу содержательной части. На каком основании Кант делит возвышенное на математическое и динамическое? Как было уже сказано, возвышенное предполагает душевное движение. Что такое душа по Канту? В этом отрывке под душой подразумевается вместилище всех способностей. Высших способностей у человека три – познание, чувственность, желание. Возвышенное относится к чувственности. Значит, когда сотрясается чувственность, в движение приходит и познание, и желание. Когда в движение приходит познание – это математическое возвышенное. Когда в движение приходит желание – это динамическое возвышенное.
А. О математически возвышенном
§ 25 Пояснение названия возвышенного
Возвышенным мы называем то, что абсолютно велико. Однако быть большим и быть величиной – совершенно разные понятия (magnitude и quantitas). Одно дело просто (simpliciter) сказать: нечто велико, и совсем другое сказать, что оно абсолютно велико (absolute, non comparative magnum). Второе есть то, что велико сверх всякого сравнения. Но что означает выражение: нечто велико, мало или средней величины? То, что этим обозначается, не есть чистое рассудочное понятие, тем более не чувственное понятие, а также и не понятие разума, поскольку оно не содержит никакого принципа познания. Следовательно, оно должно быть понятием способности суждения или происходить из него и полагать в основу субъективную целесообразность представления по отношению к способности суждения. Что некая вещь есть величина (quantum), познается из самой вещи без сравнения ее с другими, а именно когда множество однородного вместе составляет единое. Но для того чтобы установить, какова его величина, всегда необходимо в качестве меры нечто другое, которое также есть величина. Однако поскольку в суждении о величине дело не только во множестве (числе), но и в величине единицы (меры), а ее величина в свою очередь нуждается в чем-то другом в качестве меры, с чем ее можно сравнить, то мы видим, что определение величины явлений никогда не может дать абсолютного понятия величины, но всегда дает лишь сравнительное понятие.
Если я просто говорю: нечто велико, то создается впечатление, что я вообще не мыслю никакого сравнения, во всяком случае, не мыслю его с помощью объективной меры, ибо этим высказыванием не определяется, какова величина предмета. Однако, несмотря на то, что масштаб сравнения субъективен, суждение притязает на общее согласие. Такие суждения, как этот человек красив, он большого роста, не ограничиваются выносящим эти суждения субъектом, но, подобно теоретическим суждениям, требуют согласия каждого.
Когда Кант говорит о величине внутри математического возвышенного, то он пытается вывести его из всяких рассудочных и познавательных операций. Если точнее, то он пытается показать, как мы можем говорить о величине таким образом, чтобы не сравнивать. Нечто абсолютно велико, то есть не идет в сравнение ни с чем. Такого объекта не существует, но если относится к определенному объекту (ниже мы скажем, какому) определенным образом (соблюдая четыре момента из первой части), то возможно такое состояние души, что мы назовем его возвышенным. Важно здесь то, что речь идет именно о конкретном объекте. Мы настолько захватываемся объектом, что не сравниваем его ни с чем иным. Да, Останкинская телебашня не абсолютно велика, если смотреть на нее рассудочно. Но если суметь захватиться ею, то мы не станем ее ни с чем сравнивать, и в этот момент возвышенного она будет абсолютно велика.
Однако поскольку суждением, которым нечто просто обозначается как большое, утверждается не только, что предмет имеет величину, но эта величина рассматривается как превосходящая величину многих других предметов того же рода, хотя определение этого превосходства и не дается, то в основу его полагается масштаб, который, как считают, может быть принят в качестве такового каждым; однако этот масштаб пригоден не для логического (математически определенного), а только для эстетического суждения о величине, ибо он лишь субъективно положен в качестве масштаба в основу суждения, рефлектирующего о величине. Этот масштаб может быть, впрочем, и эмпирическим, как, например, средний рост знакомых нам людей, средняя величина животных известного рода, деревьев, домов, гор и т. п.; он может быть и априорно данным масштабом, который из-за недостатков выносящего суждение субъекта ограничен субъективными условиями изображения in concrete, например, в области практического – величина какой-либо добродетели или свободы и справедливости в какой-либо стране, в области теоретической – степень правильности или неправильности произведенного наблюдения или измерения и т. д.
Здесь Кант другими словами выражает мысль об общем чувстве и субъективной всеобщности, которые связаны между собой в возвышенном так же, как и в прекрасном.
При этом знаменательно, что даже тогда, когда мы совершенно не заинтересованы в объекте, то есть когда его существование нам безразлично, сама его величина, даже если объект рассматривается как бесформенный, способна вызвать благорасположение, которое может быть сообщено всем, следовательно, содержит сознание субъективной целесообразности в применении наших познавательных способностей; однако это – благорасположение, вызванное не объектом, как в суждении о прекрасном (потому, что здесь объект может быть бесформенным), где рефлектирующая способность суждения настроена целесообразно по отношению к познанию вообще, а расширением самого воображения.
Если (при названном выше ограничении) мы просто говорим о предмете: он велик, то это не математически определяющее, а чисто рефлектирующее суждение о представлении об этом предмете, субъективно целесообразное для известного применения наших познавательных способностей в оценке величины; в этом случае мы всегда связываем с представлением своего рода уважение, подобно тому, как с тем, что мы просто называем малым, – пренебрежение. Впрочем, суждение о вещах, больших или малых, распространяется на все, даже на все свойства вещей; поэтому мы даже красоту называем большой или малой; причину этого надо искать в следующем: что бы мы ни изображали (тем самым эстетически представляли) в созерцании по предписанию способности суждения, оно всегда есть явление, следовательно, количество.
Если чувство возвышенного не чисто (от понятий), то к нашему отношению к «большому» предмету будет примешиваться уважение.
Если же мы называем что-либо не просто большим, но совершенно, абсолютно, для любого намерения (вне всякого сравнения) большим, то есть возвышенным, то скоро становится ясно, что мы позволяем искать соответствующий ему масштаб не вне его, а только в нем. Перед нами величина, равная лишь самой себе. Из этого следует, что возвышенное надо искать не в вещах природы, а только в наших идеях – в каких, мы покажем в дедукции.
Это объяснение может быть выражено и таким способом: возвышенно то, в сравнении с чем все остальное мало. Из этого очевидно, что в природе не может быть ничего, каким бы большим мы его ни считали, что, рассмотренное в другом отношении, не могло бы быть сведено к бесконечно малому, и наоборот, – ничего столь малого, что в сравнении с еще меньшими масштабами не выросло бы для нашего воображения в мировую величину.
Масштаб вне чувства возвышенного объективен, то есть существует такая измерительная система, которая основывается на понятии и понятна всем. Однако когда речь идет о масштабе внутри объекта, то оказывается невозможным сравнение данного объекта с другими. Если суметь сконцентрироваться на масштабе внутри объекта, то появляется возможность захватиться объектом, а значит, испытать чувство возвышенного.
Телескопы дали нам обильный материал для первого замечания, микроскопы – для второго. Следовательно, что может быть предметом чувств, не следует называть возвышенным. Однако именно потому, что нашему воображению присуще движение в бесконечность, а нашему разуму – притязание на абсолютную тотальность как на реальную идею, само несоответствие этой идее нашей способности оценивать величину вещей чувственного мира пробуждает в нас чувство нашей сверхчувственной способности, вследствие чего оказывается, что велик не предмет чувств, а велико совершенно естественное использование способностью суждения некоторых предметов для того, чтобы вызвать последнее чувство, и каждое другое использование по сравнению с ним мало. Таким образом, возвышенным следует называть не объект, а духовную настроенность, вызванную неким представлением, занимающим рефлектирующую способность суждения.
Следовательно, к предыдущим формулам объяснения возвышенного мы можем добавить следующее: возвышенно то, одна возможность мыслить которое доказывает способность души, превосходящую любой масштаб чувств.
§ 26 Об определении величины природных вещей, требующейся для идеи возвышенного
Определение величины посредством числовых понятий (или их знаков в алгебре) есть математическое определение, определение их величины просто в созерцании (по глазомеру) есть определение эстетическое. Определение понятия того, как велико что-либо, мы можем получить лишь с помощью чисел (во всяком случае, приближенно посредством уходящих в бесконечность числовых рядов), единица которых есть мера, и потому всякое логическое определение есть определение математическое. Однако так как мера должна быть величиной известной, то ее в свою очередь надлежит определить с помощью чисел, единицей которых должна служить другая мера, то есть определить опять-таки математически, и мы, таким образом, никогда не получим первую или основную меру, а тем самым и определенное понятие о данной величине. Следовательно, определение величины основной меры должно состоять только в возможности непосредственно схватить ее с помощью созерцания и посредством воображения использовать для изображения числовых понятий; другими словами, всякое определение величины природных предметов в конечном итоге эстетично (то есть субъективно, а не объективно).
Для математического определения величины не существует наибольшего (ибо сила чисел уходит в бесконечность), но для эстетического определения величины наибольшее существует, и о нем я говорю: если оно рассматривается как абсолютная мера, больше которой субъективно (для субъекта, выносящего суждение) быть не может, оно содержит в себе идею возвышенного и создает ту растроганность, которую неспособно создать математическое определение величин посредством чисел (разве что в той мере, в какой эстетическая основная мера сохраняется живой в воображении); математическое определение всегда изображает лишь относительную величину посредством сравнения ее с другими величинами того же рода, эстетическое же определение – величину абсолютную, в той степени, в которой душа способна схватить ее в созерцании.
Есть разница между математическим определением абсолютной величины и эстетическим. Когда мы сталкиваемся с числами в математическом смысле, мы можем всегда их сравнить с другими числами, а раз предела нет, то для математических глаз всегда существует число больше, чем представлено. В пределах математики мы не выходим из рамок рассудка. А как было уже сказано выше, возвышенное имеет дело с разумом. То есть нам нужна такая бесконечность, которая будет отсылать к идее разума.
Для того чтобы при созерцании принять в воображение какое-либо количество, используя его как меру или единицу в определении величины посредством чисел, необходимы два акта этой способности: схватывание (apprehensio) и соединение (comprehensio aesthetica). Co схватыванием дело обстоит просто, ибо оно может продолжаться до бесконечности, но соединение становится тем труднее, чем дальше продвигается схватывание, и вскоре достигает своего максимума, а именно наибольшей эстетической основной меры в определении величины. Ибо когда схватывание настолько продвинулось, что схваченные воображением вначале частичные представления чувственного созерцания уже начинают затухать по мере того, как воображение продолжает процесс схватывания, оно теряет на одной стороне столько же, сколько выигрывает на другой, и тогда соединение охватило то наибольшее, за пределы которого воображение выйти не может.
Схватывание и соединение – два акта воображения. Схватывание работает с частями объекта чувственного созерцания. Соединение скрепляет эти части в единый образ. Например, мы созерцаем обычную бутылку. Мы видим узкое горло, наклейку, воду в ней, широкое дно. Пробеганием по поверхности бутылки и «разглядыванием» ее частей занимается схватывание. Но если мы закроем глаза и представим себе эту бутылку, то мы без труда сможем ее «собрать», так как все эти части склеены в один образ. Этой склейкой занимается соединение.
Это объясняет то, что Савари пишет в своих заметках о Египте: чтобы ощутить все величие пирамид, к ним не надо подходить слишком близко, но не надо и отходить от них слишком далеко. Ибо если отойти слишком далеко, то части пирамиды (камни, лежащие друг на друге) воспринимаются лишь смутно и представление о них не оказывает воздействия на эстетическое суждение субъекта. Если же подойти слишком близко, то глазу требуется некоторое время, чтобы полностью охватить пирамиду, с ее основания до вершины; при этом всегда в какой-то степени затухают схваченные ранее части, прежде чем воображение успевает воспринять другие, и соединение никогда не бывает полным. Так же можно объяснить замешательство или своего рода растерянность, охватывающие, как утверждают, человека, впервые вступающего в собор Святого Петра в Риме. У него возникает чувство несоразмерности его воображения идеям целого, препятствующее тому, чтобы он мог их изобразить; воображение достигло своего максимума, и при попытке расширить его оно возвращается к себе, ощущая при этом растроганность и благорасположение.
Здесь я еще не буду говорить о причине этого благорасположения, связанного с тем представлением, от которого его меньше всего можно было бы ожидать, а именно с представлением, которое позволяет нам заметить несоразмерность, а следовательно, и субъективную нецелесообразность представления для способности суждения в определении величин; замечу только следующее: если эстетическое суждение должно быть чистым (не смешанным с каким-либо телеологическим суждением в качестве суждения разума) и должно служить примером, полностью соответствующим критике эстетического суждения, то следует обращаться не к возвышенному в произведениях искусства (например, к зданиям, колоннам и т. д.), где форму и величину определяет цель человека, не к природным вещам, понятие которых уже предполагает определенную цель (например, у животных, обладающих в природе определенным назначением), а к дикой природе (и здесь только поскольку она сама по себе не привлекает или волнует действительной опасностью) лишь в той степени, в какой она обладает величиной. Ибо в представлении такого рода в природе не содержится ничего необычайного (а также великолепного или ужасного); воспринимаемая величина может возрастать до любой степени, если только воображение способно соединить ее в единое целое. Предмет необычен, если он своей величиной уничтожает цель, составляющую его понятие. Колоссальным же называют просто изображение такого понятия, которое едва ли не слишком велико для всякого изображения (граничит с относительно необычайным), так как цель – изображение понятия затрудняется тем, что созерцание предмета почти превышает нашу способность восприятия. Между тем для того, чтобы чистое суждение о возвышенном было эстетическим, а не смешанным с каким-либо суждением рассудка или разума, оно не должно иметь в качестве своего определяющего основания цель объекта.
Поскольку всему тому, что должно нравиться рефлектирующей способности суждения без интереса, надлежит содержать в своем представлении субъективную и в качестве таковой общезначимую целесообразность, причем здесь в основе суждения не лежит (как в прекрасном) целесообразность формы предмета, то возникает вопрос: какова же эта целесообразность и посредством чего она предписывается в качестве нормы, чтобы служить основанием общезначимого благорасположения в определении величины, причем в таком определении, которое доходит даже до несоразмерности нашей способности воображения изобразить понятие величины?
В соединении, необходимом для представления о величине, воображение само, не наталкиваясь на какие-либо препятствия, движется в бесконечность; рассудок же ведет его с помощью числовых понятий, для которых воображение должно дать схему; и хотя в этом процессе, связанном с логическим определением величины, есть нечто объективно целесообразное в соответствии с понятием цели (как в каждом измерении), но ничего такого, что могло бы быть целесообразным и привлекательным для эстетического суждения. В этой преднамеренной целесообразности нет также ничего, что заставило бы доводить величину меры и тем самым соединения множества в одно созерцание до границы способности воображения, до того предела, которого оно способно достигать в своих изображениях. Ибо в определении величин рассудком (в арифметике) ничего не меняется от того, доводят ли соединение единств до числа 10 (в десятичной системе) или только до 4 (в четверичной), а дальнейшее образование величин производят посредством сложения или, если количество дано в созерцании, в схватывании прогрессивно (не в соединении) в соответствии с принятым принципом прогрессии. В этом математическом определении величин рассудок одинаково удовлетворен и обслужен независимо от того, избирает ли воображение в качестве единицы величину, которую можно охватить одним взглядом, например, фут или руту, или немецкую милю, или даже диаметр земного шара, схватывание которых возможно, но соединение в созерцании воображения невозможно (невозможно посредством comprehensio aesthetica, хотя и возможно посредством comprehensio logica в числовом понятии). В обоих случаях логическое определение величины беспрепятственно уходит в бесконечность.
Очевидно, что не всякое созерцание вызывает чувство возвышенного. Так например, созерцая все ту же бутылку, мы не испытываем никого чувства возвышенного. Что же нужно для этого нашему воображению? Раз мы имеем дело с идеей разума, то для начала нам нужна бесконечность. Обычная бутылка слишком маленькая, чтобы схватывание ушло в бесконечность. Если бы бутылка была бы размером с Эйфелеву башню, то у нее появился бы шанс вызвать в нас чувство возвышенного. Но несмотря на то, что она должна быть бесконечно большой, соединение должно успеть все-таки склеить ее в единый образ. То есть бутылка не может быть большой настолько, чтобы уходить в небеса и не дать возможности соединению склеить части гигантской бутылки в единый образ. Выходит, есть какой-то определенный размер бутылки (не маленькая, но и не слишком большая) для того, чтобы испытать возвышенное.
Однако душа внемлет голосу собственного разума, который для всех данных величин, даже таких, которые никогда не могут быть полностью схвачены, хотя (в чувственном представлении) о них судят как о полностью данных, требует тотальности, тем самым соединения в одном созерцании, а для всех членов возрастающего в прогрессии числового ряда – изображения, не изымая из этого требования даже бесконечное (пространство и истекшее время), более того, делает неизбежным мыслить это бесконечное (в суждении обыденного разума) как целиком (в своей тотальности) данное.
Бесконечное велико абсолютно (не только сравнительно). В сравнении с ним все остальное (из величин того же рода) мало. Но – и это самое главное – даже только возможность мыслить его как целое свидетельствует о такой способности души, которая превосходит все масштабы чувств. Ибо для этого потребовалось бы соединение, которое предоставляло бы в качестве единицы масштаб, имеющий определенное, выраженное в числах отношение к бесконечному, что невозможно. Для того чтобы суметь хотя бы мыслить без противоречия бесконечное, человеческой душе требуется способность, которая сама должна быть сверхчувственной. Ибо только посредством такой способности и ее идеи ноумена, который сам не допускает созерцания, но положен в основу созерцания мира как явления в качестве субстрата, бесконечное чувственного мира целиком охватывается в чистом интеллектуальном определении величины под понятием, хотя и в математическом определении посредством числовых понятий оно никогда не может мыслиться целиком. Даже способность мыслить бесконечное сверхчувственного созерцания как данное (в его интеллигибельном субстрате) превосходит все масштабы чувственности и велико даже по сравнению со способностью математического определения; конечно, не в теоретическом отношении для познавательной способности, но в качестве расширения души, ощущающей себя способной выйти за пределы чувственности в другом (практическом) отношении.
Следовательно, возвышенна природа в тех ее явлениях, созерцание которых заключает в себе идею ее бесконечности. Это возможно лишь при несоразмерности даже величайшего стремления нашего воображения определить величину предмета. Что касается математического определения величины, то воображение справляется здесь с любым предметом и может предоставить ему достаточную меру, так как числовые понятия рассудка могут с помощью прогрессии привести любую меру в соответствие с каждой данной величиной. Следовательно, только в эстетическом определении величины стремление к соединению превосходит способность воображения, только в нем чувствуется желание понять прогрессивное схватывание как целое созерцания и одновременно воспринять несоразмерность этой неограниченной в своем продвижении способности требованию найти с минимальным усилием рассудка пригодную основную меру и использовать ее для определения величины. Подлинная неизменная основная мера природы – это ее абсолютное целое, которое в ней как в явлении есть соединенная бесконечность. Но так как эта основная мера – само себе противоречащее понятие (из-за невозможности абсолютной тотальности бесконечного прогресса), то величина объекта природы, на которую воображение бесплодно растратило всю свою способность к соединению, должна привести понятие природы к сверхчувственному субстрату (лежащему в ее основе и одновременно в основе нашей способности мыслить); этот субстрат превышает по своей величине всякий чувственный масштаб и поэтому позволяет считать возвышенным не предмет, а нашу душевную способность при определении этого предмета.
Как было уже сказано, чувство возвышенного вызывает душевное волнение, в отличие от прекрасного, где душа находится в состоянии покоя. Так здесь, в математическом возвышенном, напряжение достигается тем, что схватывание сталкивается с бесконечностью, а соединение едва успевает склеить эту бесконечность в единый образ. Без этого напряжения схватывания и соединения чувства возвышенного нет.
Следовательно, так же как эстетическая способность суждения в своем суждении о прекрасном соотносит воображение в его свободной игре с рассудком, чтобы оно могло прийти в соответствие с его понятиями вообще (без их определения), она в суждении о предмете как о возвышенном соотносит ту же способность с разумом, чтобы субъективно соответствовать его идеям (не определяя каким), то есть создать душевную настроенность, сообразную той – и совместимую с той, – к которой привело бы влияние определенных идей (практических) на чувство.
Из этого следует также, что истинную возвышенность надлежит искать только в душе того, кто выносит суждение, а не в объекте природы, суждение о котором вызывает эту настроенность. Да и кто назовет возвышенным бесформенные скопления гор, в диком беспорядке вздыбленные друг над другом, с их глыбами льда, или мрачное бушующее море и т. д.? Но душа чувствует себя возвысившейся в собственном суждении, когда она, предаваясь при их созерцании, совершенно независимо от их формы, власти воображения и приведенного с ним в связь, хотя и без определенной цели, разума, лишь расширяющего воображение, обнаруживает, что вся мощь воображения все-таки несоразмерна идеям разума.
Примерами математически возвышенного в природе при ее созерцании могут служить все те случаи, когда воображению в качестве меры (для сокращения числовых рядов) дается не большее числовое понятие, а большая единица. Дерево, которое мы определяем в сравнении с человеческим ростом, дает масштаб для определения величины горы, а если такая гора высотой, скажем, с милю, она может служить единицей для числа, выражающего величину диаметра земного шара, чтобы сделать его наглядным; диаметр же земного шара может служить такой единицей для известной нам планетной системы; планетная система – для системы Млечного Пути и неизмеримого числа таких систем млечных путей под названием туманных звезд, которые, вероятно, также составляют подобную систему, – все это не позволяет нам предполагать здесь какие-либо границы. Возвышенное в эстетическом суждении о столь неизмеримом целом зависит не столько от величины числа, сколько от того, что мы в своем продвижении обнаруживаем все большие единицы; этому способствует систематическое деление мироздания, которое все время представляет нам грандиозное в природе малым, по существу же, представляет нам наше воображение во всей его безграничности, а с ним и природу, исчезающе малым в сопоставлении с идеями разума, когда оно хочет дать изображение, соответствующее этим идеям.
Одним из важных моментов является то, что при математическом возвышенном чувственность приводит в движение душу посредством работы с познанием. Здесь не имеется в виду, что идет работа с понятиями. Само собой нет. Но когда мы говорим об идеи бесконечности, то здесь подключается теоретический разум. В этом смысле математическое возвышенное будет отличатся от динамического, которое работает с практическим разумом.
Плюс не стоит забывать об общих принципах функционирования прекрасного и возвышенного. Так например, для того, чтобы испытать чувство возвышенного, нужно созерцать незаинтересованно. Соответственно бесконечно добрый человек или бесконечно большая гора вкуснейших сыров не вызовут в нас чистого чувства возвышенного, т. к. первое связано с хорошим, а второе с приятным.
В. О динамически возвышенном в природе
§ 28 О природе как могуществе
Могущество – это способность преодолевать большие препятствия. Оно называется властью, если преодолевает сопротивление того, что и само обладает могуществом. Природа, рассматриваемая в эстетическом суждении как могущество, не имеющее над нами власти, динамически возвышенна.
Для того чтобы мы считали природу динамически возвышенной, ее следует представлять себе как возбуждающую страх (хотя не каждый предмет, возбуждающий страх, признается нашим эстетическим суждением возвышенным). Ибо в эстетическом суждении (без понятия) о превосходстве над препятствиями можно судить только по величине сопротивления. То, чему мы стремимся оказать сопротивление, есть зло, и если мы обнаруживаем, что наша способность для этого недостаточна, оно становится предметом страха. Следовательно, в эстетическом суждении природа может рассматриваться как могущество, тем самым как динамически возвышенная, лишь постольку, поскольку в ней видят предмет страха.
Для того чтобы разобраться с динамическим возвышенным, Кант вводит понятие могущества (в немецком тексте стоит Macht, что чаще переводят как власть в политическом смысле). Могущество связано с другой силой (преодолением препятствий). То есть могущество актуализируется только при сопротивлении, при «конкуренции» с другим могуществом. Очевидно, что это могущество вызывает страх у тех, кто не обладает достаточной силой для адекватного сопротивления.
Однако можно считать предмет страшным, не испытывая страха перед ним, если мы судим о нем только мысля такой случай, когда мы захотели бы оказать ему сопротивление и всякое сопротивление оказалось бы совершенно тщетным. Так, добродетельный человек боится Бога, не испытывая перед ним страха, ибо такого человека не беспокоит мысль, что он когда-либо захочет сопротивляться Богу и его заветам. Однако в каждом подобном случае, который он сам по себе не может считать невозможным, он признает Бога грозным.
Тот, кто испытывает страх, не может судить о возвышенном в природе, так же как не может судить о прекрасном тот, кто пребывает во власти склонностей и желаний. Первый избегает вида предмета, который внушает ему трепет, так как испытывать благорасположение при страхе, если он подлинен, невозможно. Поэтому приятное ощущение при избавлении от трудности есть радость. Избавление же от опасности вселяет радость и намерение никогда больше этой опасности не подвергаться; неприятно даже вспоминать о таком ощущении, а тем более искать повод для его повторения.
Нависшие над головой, как бы угрожающие скалы, громоздящиеся на небе грозовые тучи, надвигающиеся с молнией и громами, вулканы с их разрушительной силой, ураганы, оставляющие за собой опустошения, бескрайний, разбушевавшийся океан, падающий с громадной высоты водопад, образуемый могучей рекой, и т. д. превращают нашу способность к сопротивлению в нечто совершенно незначительное по сравнению с их могуществом. Однако чем страшнее их вид, тем более он притягивает нас, если только мы в безопасности; и мы охотно называем эти предметы возвышенными, потому что они возвышают наши душевные силы над их обычным средним уровнем и позволяют нам обнаруживать в себе совершенно новую способность к сопротивлению, которая порождает в нас мужество померяться силами с кажущимся всевластием природы.
Ибо так же как в неизмеримости природы и недостаточности нашей способности обрести масштаб, пропорциональный определению величины ее области, мы обнаружили, правда, свою ограниченность, но одновременно обнаружили в способности нашего разума другой нечувственный масштаб, который подчиняет себе саму эту бесконечность как единицу и по сравнению с которым все в природе мало, тем самым нашли в своей душе превосходство над природой даже в ее неизмеримости, – так и непреодолимость ее могущества, заставляя нас, правда, ощутить в качестве природных существ нашу физическую беспомощность, одновременно открывает в нас способность судить о себе как о независимых от природы и наше превосходство над ней; на этом основано самосохранение совершенно другого рода, чем то, на которое может посягать природа вне нас и которому может угрожать опасность; при этом человечество в нашем лице остается не униженным, хотя человек и должен был бы покориться этой власти. Таким образом, в нашем эстетическом суждении природа выступает как возвышенная не потому, что она вызывает страх, а потому, что она взывает к нашей силе (которая не есть природа), чтобы мы считали то, о чем мы заботимся (имущество, здоровье и жизнь), незначительным и поэтому видели бы в ее могуществе (которому мы в этом отношении, конечно, подчинены) не такую власть для нас и нашей личности, перед которой нам следовало бы склониться, когда речь идет о наших высших интересах и о необходимости утверждать их или отказаться от них. Следовательно, природа называется здесь возвышенной потому, что она возвышает воображение до изображения тех случаев, когда душа может ощутить возвышенность своего назначения даже по сравнению с природой.
Кант выделяет два царства – царство природы и царство свободы. Человек принадлежит царству природы, но он может быть причастным и к царству свободы, если будет следовать категорическому императиву, то есть вести себя сообразно нравственному субъекту. То, что вызывает в нас страх при созерцании могущества природы, – это наша «природная» часть. Ведь чем, по сути, вызван страх к стихии? Тем, что ее могущество уничтожит меня (Кант пишет, что могущество больше нашего мы воспринимаем как зло). И эта завязанность субъекта на своей конечной жизни говорит о том, что этот субъект находится в царстве природы. Свободный человек знает, что его как нравственного субъекта невозможно уничтожить.
Эта самооценка ничего не теряет от того, что ощутить подобное одухотворяющее благорасположение мы можем, только находясь в безопасности; будто, если угроза опасности несерьезна, с возвышенностью нашей духовной способности (как может показаться) дело обстоит не так уж серьезно. Благорасположение связано здесь лишь с обнаруживающимся в подобном случае назначением нашей духовной способности, зачатки которой имеются в нашей природе, развитие же ее и упражнение предоставляется нам и есть наша обязанность. В этом и заключена истина, как бы человек, доводя до этого свою рефлексию, ни осознавал свою действительную беспомощность в настоящем.
Этот принцип кажется, правда, надуманным и резонерским, тем самым выходящим за пределы эстетического суждения; однако наблюдение над человеком доказывает обратное, а также то, что этот принцип может лежать в основе самых обыденных суждений, хотя это и не всегда осознается. Ибо что же вызывает даже у дикаря наибольшее восхищение? Человек, который не пугается, ничего не страшится, следовательно, не уклоняется от опасности и решительно, с величайшей осмотрительностью берется за дело. Даже при самом высоконравственном состоянии общества сохраняется это преимущественное уважение к воину, с той разницей, что от него требуют также всех добродетелей мирного времени – мягкости, сострадания и даже должной заботы о самом себе, именно потому, что в этом познают непобедимость его духа перед лицом опасности. Поэтому, сколько бы ни спорили, сравнивая государственного деятеля и полководца, о том, кто из них заслуживает большего уважения, эстетическое суждение решает в пользу второго. Даже война, если она ведется в соответствии с установленным порядком и с соблюдением гражданских свобод, таит в себе нечто возвышенное и делает образ мыслей народа, который ведет ее таким образом, тем возвышеннее, чем большим опасностям он подвергался, сумев мужественно устоять; напротив, длительный мир способствует обычно господству торгового духа, а с ним и низкого корыстолюбия, трусости и изнеженности и принижает образ мыслей народа.
Такому толкованию понятия возвышенного в той мере, в какой это связывается с могуществом, как будто противоречит, что в непогоде, урагане, землетрясении и т. п. мы обычно представляем себе Бога во гневе, но вместе с тем и в его возвышенности, хотя представлять себе при этом превосходство нашей души над действиями и, как кажется, даже над намерениями подобного могущества было бы глупостью и одновременно святотатством. По-видимому, здесь душевная настроенность, которая уместна при явлении подобного предмета и обычно бывает связана с его идеей при такого рода свершениях в природе, выражается не в чувстве возвышенности нашей природы, а в покорности, подавленности и чувстве полного бессилия. В религии вообще распростертость, поклонение с опущенной головой, с выражением уничижения и страха в жестах и голосе считается единственно подобающим поведением в присутствии божества; большинство народов приняло это поведение и сохраняет его до сих пор. Однако такая душевная настроенность сама по себе совсем не обязательно связана с идеей возвышенности религии и ее предмета. Человек, который действительно боится, имея на то в себе причину, поскольку сознает, что в силу своих порочных убеждений он погрешил против могущества, воля которого неодолима и вместе с тем справедлива, находится отнюдь не в том душевном состоянии, которое позволяет ему восхищаться величием Бога; для этого необходимо расположение к спокойному созерцанию и совершенно свободное суждение. Только тогда, когда человек сознает в себе искреннюю, богоугодную настроенность, действия такого могущества способны пробудить в нем идею возвышенности этого существа, поскольку он сознает в себе самом соответствующую этой воле возвышенность настроенности, а это поднимает его над страхом перед подобными действиями природы, которые он уже не рассматривает как проявления гнева Божия. Даже смирение как беспощадное суждение о своих недостатках, которые в других случаях при сознании своих добрых намерений легко могут быть оправданы слабостью человеческой природы, есть возвышенная душевная настроенность, свободно предающаяся страданию, испытываемому от сделанных самому себе упреков, чтобы таким образом постепенно искоренить их причину. Только в этом внутреннее отличие религии от суеверия; суеверие порождает в душе не благоговение перед возвышенным, а страх и трепет перед могущественным существом, чьей воле испуганный человек сознает себя подчиненным, не испытывая должного почтения к нему; из этого может возникнуть только стремление снискать благосклонность высшего существа, подольститься к нему, а не религия, связанная с добрым образом жизни.
Следовательно, возвышенность содержится не в какой-либо вещи природы, а только в нашей душе в той мере, в какой мы можем сознавать свое превосходство над природой в нас, а тем самым и природой вне нас (поскольку она на нас влияет). Все, что вызывает в нас такое чувство – к этому относится и могущество природы, возбуждающее наши силы, – называется (хотя и в переносном смысле) возвышенным и, лишь предполагая в нас эту идею ив связи с ней, мы способны достигнуть идеи возвышенности того существа, которое вызывает в нас глубокое благоговение не только своим могуществом, проявляемым им в природе, но в еще большей степени заложенной в нас способностью судить о природе без страха и мыслить наше назначение в том, чтобы возвышаться над ней.
Когда речь шла о математическом возвышенном, то было сказано, что волнение души склоняется к познанию. В динамическом – к желанию. Способность желания направлена на категорический императив морали, то есть когда душа сотрясается от динамически возвышенного, то она взывает к нравственному субъекту. Только он сильнее стихии природы и сила эта в нем самом. Соответственно только нравственный субъект может испытывать чувство возвышенного, потому что человек царства природы испытывает страх при виде могущества стихий, но не возвышенное.
§ 29 О модальности суждения о возвышенном в природе
Существует бесчисленное множество вещей прекрасной природы, в суждении о которых мы приписываем каждому человеку согласие с нами и действительно можем, не опасаясь серьезно ошибиться, этого согласия ждать; что же касается нашего суждения о возвышенном в природе, то здесь не так легко рассчитывать на согласие с нами других. Ибо для того, чтобы вынести суждение об этом превосходстве предметов природы, нужна, как кажется, значительно большая культура не только эстетической способности суждения, но и познавательных способностей, которые лежат в ее основе.
Настроенность души к чувству возвышенности требует ее восприимчивости к идеям; ведь именно в несоответствии природы этим идеям, следовательно, лишь при предпосылке этого несоответствия и напряжения воображения в его усилии рассматривать природу как схему для идей, состоит то, что отпугивает чувственность и вместе с тем притягивает нас; ибо в этом несоответствии заключена власть, осуществляемая разумом над чувственностью, для того чтобы расширить ее в соответствии со своей собственной областью (практической) и позволить ей заглянуть в бесконечное, которое для нее – бездна. В самом деле без развития нравственных идей то, что мы, подготовленные к тому культурой, называем возвышенным, покажется необразованному человеку лишь пугающим. В проявлениях власти природы, в их разрушительности и грандиозном масштабе их могущества, по сравнению с которыми его силы превращаются в ничто, он увидит лишь трудности, опасности и беды, окружающие человека, попавшего под их власть. Так, некий добрый и в остальном вполне разумный савойский крестьянин, не задумываясь, называл (как рассказывает господин де Соссюр) всех любителей покрытых ледниками гор глупцами. Впрочем, кто знает, так ли уж он не прав, если такой любитель гор подвергает себя опасностям, которые его там ждут, только для развлечения, как большинство путешественников, или для того, чтобы потом давать патетические описания своих подвигов? В намерение же господина де Соссюра входило дать людям знания, а возвышающие душу ощущения, которые испытал этот замечательный человек, он сообщил своим читателям как бы дополнительно.
Позднее понятие «настроенность» войдет в философию Ницше и окончательно закрепится в онтологии Хайдеггера. Чтобы лучше понять, что это означает, следует представить процесс настраивания музыкального инструмента. Если гитара хорошо настроена, то она играет гармонично и издает чистые звуки. Так же происходит и с человеком.
Однако то, что суждение о возвышенном в природе требует известной культуры (в большей степени, чем суждение о прекрасном), не означает, что оно создано культурой и введено в общество лишь в качестве конвенциональное(tm); напротив, его основа заключена в природе человека, в том, чего вместе со здравым рассудком можно ждать и что требовать от каждого, а именно – в задатках чувства идей (практических), то есть морального чувства.
На этом основана необходимость согласия других с нашим суждением о возвышенном, которую мы уже включаем в наше суждение. Подобно тому, как человека, остающегося равнодушным в своем суждении о предмете природы, который мы считаем прекрасным, мы обвиняем в недостатке вкуса, о человеке, не взволнованном тем, что нашему суждению представляется возвышенным, мы говорим, что он лишен чувства. Того и другого мы требуем от каждого человека и предполагаем их у него, если он обладает некоторой культурой; разница лишь в том, что первого, поскольку способность суждения соотносит воображение с рассудком, как дающим понятия, мы требуем от каждого без исключения; второго же, поскольку в нем способность суждения соотносит воображение с разумом как способностью создавать идеи, мы требуем лишь при субъективной предпосылке (которую мы, однако, считаем себя вправе предполагать у каждого), а именно при наличии у человека морального чувства, и тем самым сообщаем необходимость и этому эстетическому суждению.
В этой модальности эстетических суждений, а именно в необходимости, на которую они притязают, заключен главный момент критики способности суждения. Ибо именно модальность указывает на наличие в них априорного принципа и изымает их из области эмпирической психологии – где они были бы погребены под чувствами удовольствия и страдания (лишь сопровождаемые ничего не говорящим эпитетом более тонкого чувства), – чтобы ввести их, а посредством них и способность суждения в класс суждений и способностей, в основе которого лежат априорные принципы, и в качестве таковых перевести в трансцендентальную философию.
§ 46 Прекрасное искусство – это искусство гения
Гений – это талант (дар природы), который дает искусству правила. Поскольку талант как прирожденная продуктивная способность художника сам принадлежит природе, то можно выразить эту мысль и таким образом: гений – это врожденная способность души (ingenium), посредством которой природа дает искусству правила.
Как бы ни обстояло дело с этой дефиницией, произвольна ли она или соответствует понятию, которое привыкли связывать со словом гений (что будет рассмотрено в последующем параграфе), но уже заранее можно считать доказанным, что по принятому здесь значению слова прекрасное искусство необходимо следует рассматривать как искусство гения.
Ибо каждое искусство предполагает правила, которые должны быть положены в основание произведения, чтобы его можно было назвать произведением искусства. Однако понятие прекрасного искусства не допускает, чтобы суждение о красоте его произведения выводилось из какого-либо правила, определяющим основанием которого служит понятие, то есть чтобы в основу было положено понятие, которое указывало бы, каким образом это произведение возможно. Следовательно, прекрасное искусство само не может измыслить для себя правило, в соответствии с которым ему надлежит создать свое произведение. Но так как без предшествующего правила произведение искусства никогда не может быть названо таковым, то правило должно быть дано искусству природой субъекта (в частности посредством настроенности его способностей), другими словами, прекрасное искусство возможно только как продукт гения.
Определение искусства Кант дает через гения, т. е. искусство есть то, что, что создается гением. А что, только в искусстве бывает гений? Кант отвечает да, только в искусстве.
Из этого явствует, что гений 1) есть талант создавать то, для чего не может быть дано определенное правило, а не умение создавать то, чему можно научиться, следуя определенному правилу; таким образом, главным его качеством должна быть оригинальность. 2) Поскольку возможна и оригинальная бессмыслица, продукты гения должны быть одновременно образцом, то есть служить примером; тем самым, хотя сами они возникли не в результате подражания, они должны служить для этой цели другим, то есть служить руководством или правилом суждений. 3) Гений сам не может описать или научно обосновать, как он создает свое произведение – он дает правила подобно природе; поэтому создатель произведения, которым он обязан своему гению, сам не ведает, как к нему пришли эти идеи, и не в его власти произвольно или планомерно придумать их и сообщить другим в таких предписаниях, которые позволили бы им создавать подобные произведения. (Поэтому, вероятно, слово гений есть производное от genius, своеобразного, данного человеку при рождении, охраняющего его и руководящего им духа, который и внушает ему эти оригинальные идеи.) 4) Посредством гения природа предписывает правила не науке, а искусству, и это лишь постольку, поскольку оно должно быть прекрасным искусством.
Здесь Кант буквально дает анатомию гения, отвечая на вопрос о его природе. Гений должен быть оригинален в своих творениях, творения гения являются образцом (например, создают новую традицию в живописи или музыке, подобно Моне или Сати), гений не может обосновать процесс творения (ведь творит он не по правилам и не основываясь на понятии), посредством гения природа приписывает правила искусству. Если вдруг кто-то обнаружил, что он соответствует по всем четырем названым параметрам, – мои поздравления.
§ 47 Пояснение и подтверждение данного выше толкования гения
В том, что гений следует полностью противополагать духу подражания, согласны все. Поскольку же учение есть не что иное, как подражание, то величайшую способность, восприимчивость (понятливость) как таковую нельзя считать гением. Однако даже если человек мыслит или творят самостоятельно, а не только воспринимает то, что мыслили другие, более того, открывает что-либо в искусстве и науке, то и это еще недостаточное основание, чтобы называть такой (подчас великий) ум гением (в отличие от того, кого называют глупцом, ибо он способен только учиться и подражать), так как этому тоже можно научиться, следовательно, достигнуть естественным путем исследования и размышления в соответствии с правилами, что по своей специфике не отличается от того, что может быть достигнуто с помощью прилежания и посредством подражания. Так, всему тому, что Ньютон изложил в своем бессмертном труде о началах философии природы, – сколь ни велик должен был быть ум, способный открыть подобное, – все-таки можно научиться, но невозможно научиться вдохновенно создавать поэтические произведения, как бы подробны ни были предписания стихосложения и как бы превосходны ни были образцы. Причина заключается в том, что Ньютон мог сделать совершенно наглядными и предназначенными для того, чтобы следовать им, все свои шаги от первых начал геометрии до своих великих и глубоких открытий – и не только самому себе, но и любому другому; между тем ни Гомер, ни Виланд не может сказать, как возникают и сочетаются в его сознании полные фантазии и вместе с тем глубокие идеи, потому что он сам этого не знает, а следовательно, и не может научить этому другого Таким образом, в науке величайший первооткрыватель отличается от старательного подражателя и ученика лишь степенью; от того же, кого природа наградила даром создавать прекрасные произведения искусства, он отличается по своей специфике. Однако это отнюдь не умаляет заслуги тех великих мужей, которым человеческий род столь многим обязан, хотя они и отличаются от любимцев природы, обладающих талантом в области прекрасного искусства. Именно в том, что талант ученых направлен на достижение все более растущего совершенства в знании и связанной с ним пользы, а также на обучение этим знаниям других, заключается большое преимущество их по сравнению с теми, кто удостоился чести называться гением, ибо для гениев искусство где-нибудь останавливается, наталкиваясь на рубеж, преступить который оно не может – вероятно, он давно уже достигнут и отодвинут быть не может; к тому же такое умение не сообщается, оно дается каждому непосредственно природой, следовательно, с ним умирает, пока природа когда-нибудь вновь не одарит таким же талантом другого, которому нужен лишь пример, чтобы подобным же образом применить свой осознанный им талант.
Почему Кант называет художника гением, а ученого – нет? Для Канта всякий ученый, будь то Эйнштейн или Бор, отличается от нас только количественным показателем. Талантливым ученым повезло оказаться в хорошей академической среде, читать хорошую литературу, и читали они много-много больше, чем мы. Но в теории каждый мог бы стать талантливым ученым, подобно Эйнштейну или Бору, если бы мы в свое время попали в хорошую академическую среду и читали много книг.
Так как дар природы в искусстве (в качестве прекрасного искусства) должен дать правило, то возникает вопрос, каково же это правило? Оно не может быть выражено в формуле и служить предписанием, ибо тогда суждение о прекрасном могло бы определяться в понятиях; правило должно быть выведено из деяния, то есть из произведения, которое будет служить другим для проверки их таланта – образцом не для подделывания, а для подражания. Объяснить, как это возможно, трудно. Идеи художника пробуждают близкие идеи у его ученика, если природа одарила его способностями души в сходной пропорции. Поэтому образцы прекрасного искусства служат единственным средством передать эти идеи потомству – простым описанием этого достичь невозможно (особенно в области искусства слова), – да и здесь классическими могут стать лишь те описания, которые выражены на древних, мертвых, сохранившихся только в науке языках.
Несмотря на то, что механическое искусство и прекрасное искусство – первое как искусство просто прилежания и обучения, второе как искусство гения – сильно отличаются друг от друга, не существует прекрасного искусства, в котором в качестве существенного условия не присутствовало бы нечто механическое, что можно понять и чему надлежит следовать по правилам; таким образом, что-то от школьного обучения составляет существенное условие искусства. Ибо в художественном творчестве необходимо мыслить нечто как цель, в противном случае произведение нельзя будет отнести к искусству, оно было бы просто продуктом случая. Но для того, чтобы подчинить произведение какой-либо цели, нужны определенные правила, от которых не следует отступать. Поскольку оригинальность таланта составляет существенное (но не единственное) свойство гения, легкомысленные люди полагают, что заставят с наибольшей вероятностью видеть в них расцветающих гениев, если откажутся от принудительности всех школьных правил, считая, что лучше гарцевать на норовистой лошади, чем на объезженной. Гений может дать лишь богатый материал для произведений прекрасного искусства, его обработка и форма требуют воспитанного школой таланта, способного использовать этот материал таким образом, чтобы он устоял перед способностью суждения. Если же кто-либо говорит и судит наподобие гения даже в делах, требующих самого тщательного исследования разума, то это уже просто смешно; и право, не знаешь, кто более смешон – фокусник ли, напускающий такой туман, что судить о чем-либо отчетливо уже невозможно, но зато можно беспрепятственно воображать что угодно, или публика, простосердечно полагающая, будто ее неспособность ясно понять и вникнуть в чудо совершаемого объясняется тем, что ее забрасывают огромными массами новых истин, по сравнению с которыми детали (ясное объяснение и проверка основоположений в соответствии со школьными правилами) представляются ей не более чем дилетантством.
Под механическим искусством Кант подразумевает то, что мы бы сейчас назвали ремеслом. Искусство отличается от ремесла тем, что оно свободно от практических результатов. Ремесло не создает ничего оригинального, но занимается только подражанием.
§ 48 Об отношении гения к вкусу
Для суждения о прекрасных предметах как таковых требуется вкус, для самого же прекрасного искусства, то есть для создания подобных предметов, требуется гений.
Если рассматривать гений как талант к прекрасному искусству (в чем и состоит, собственно, значение этого слова) и пытаться расчленить его на способности, сочетание которых необходимо, чтобы составить подобный талант, надо прежде всего точно определить различие между красотой природы, суждение о которой требует только вкуса, и красотой в искусстве, возможность которой (на что в суждении о подобном предмете также следует обратить внимание) требует гения.
Красота в природе – это прекрасная вещь; красота в искусстве – прекрасное представление о вещи.
У каждого из нас есть вкус, ведь все мы способны судить о прекрасном. Но вкус бывает развитым, бывает менее развитым. Чем чаще субъект относится эстетически к природе или искусству, тем развитее становится его вкус. Парадокс вкуса заключается в том, что чем развитее вкус, тем сложнее его удовлетворить. Если вы смотрели десять фильмов, то вероятно, что одиннадцатый вам понравится. Если же вы посмотрели пять тысяч фильмов, то вероятно, что пять тысяч первый вам не понравится.
Для того чтобы судить о красоте в природе как таковой, мне не надо сначала иметь понятие о том, чем должен быть этот предмет; другими словами, мне нет необходимости знать материальную целесообразность (цель); в суждении нравится сама форма как таковая без знания цели. Но если предмет дан как произведение искусства и в качестве такового должен быть признан прекрасным, то, поскольку искусство всегда предполагает в причине (и ее каузальности) цель, сначала в основу должно быть положено понятие о том, какой должна быть эта вещь, и так как соответствие многообразного в вещи внутреннему ее назначению как цели есть совершенство вещи, то в суждении о красоте в искусстве одновременно должно быть принято во внимание и совершенство вещи, тогда как в суждении о красоте природы (как таковой) подобный вопрос даже не возникает. Правда, в суждении об одушевленных предметах природы, например, человека или лошади, обычно, когда судят об их красоте, принимают во внимание и объективную целесообразность; но это уже не чисто эстетическое суждение, не просто суждение вкуса. В этом суждении природа уже рассматривается не такой, какой она являет себя в качестве искусства, а поскольку она действительно есть искусство (хотя и сверхчеловеческое); телеологическое суждение служит эстетическому основой и условием, и эстетическое суждение должно принимать это во внимание. В таком случае, если, например, говорят: «Это красивая женщина», мыслят не что иное, как: природа прекрасно выражает в ее образе цели женского телосложения; ибо для того, чтобы предмет мыслился подобным образом посредством логически обусловленного эстетического суждения, надлежит иметь в виду не только форму, но и понятие.
Превосходство прекрасного искусства заключается именно в том, что оно изображает прекрасными вещи, которые в природе уродливы и отталкивающи. Ужасы, болезни, опустошения, войны и т. п. могут быть прекрасно описаны как вредные явления, даже изображены на картине. Лишь один вид уродства не может быть представлен соответственно его виду в природе, не уничтожая всякое эстетическое благорасположение, то есть красоту в искусстве, – это уродство, вызывающее отвращение. Ибо поскольку в этом странном, основанном только на воображении ощущении предмет представлен так, будто он напрашивается на наслаждение, тогда как мы всеми силами препятствуем этому, то представление об этом предмете как предмете искусства больше не отличается в нашем ощущении от его природы и поэтому не может считаться прекрасным. Так, ваяние, поскольку в его творениях искусство почти уподобляется природе, исключило непосредственное изображение уродливых предметов и поэтому позволяет изображать, например, смерть (в виде прекрасного гения), воинскую доблесть (в виде Марса) посредством аллегории или атрибутов, которые выглядят привлекательно, то есть изображать предмет лишь косвенно посредством толкования разума, а не только для эстетического суждения.
Все сказанное относится к прекрасному представлению о предмете; оно, собственно говоря, есть лишь форма представления понятия, посредством которой понятие становится всеобще сообщаемым. Для того чтобы придать эту форму произведению прекрасного искусства, достаточно вкуса, с которым, развив и направив его на ряде примеров, художник сопоставляет свое творение и после многих мучительных попыток обрести благорасположение находит наконец ту форму, которая ему нужна; следовательно, эта форма – не дело вдохновения или свободного порыва душевных сил, а результат длительного, даже изнурительного стремления к такому совершенствованию, которое позволит придать ей соответствие с мыслью, не нанося при этом ущерба свободе в игре душевных сил.
Вкус есть лишь способность суждения, а не продуктивная способность, и поэтому то, что ему соответствует, не есть произведение прекрасного искусства – оно может быть также продуктом полезного и механического искусства или даже науки, созданным по определенным правилам, которым можно научиться и которым надлежит строго следовать. Привлекательная же форма, которую придают этому продукту, – не более чем средство сообщаемости и как бы манера представления, по отношению к которой еще сохраняется известная свобода, хотя этот продукт и связан с определенной целью. Так, требуют, чтобы столовый прибор или моральный трактат, даже проповедь имели форму прекрасного искусства, но не казались при этом вычурными, однако это еще не основание для того, чтобы называть их творениями прекрасного искусства. К нему относят стихотворение, музыкальное произведение, картинную галерею и т. п., но и в том, что должно быть творением прекрасного искусства, часто обнаруживается гений, лишенный вкуса, или вкус, лишенный гения.
Прекрасная форма (а это то, что является отправной точкой при эстетическом созерцании) может быть придана не только искусству, но и ремеслу и всякому изделию. Как отличить искусство от не-искусства? Кант скажет – на основании вашего вкуса. Вот для чего необходимо развивать вкус, ведь человек с развитым вкусом сможет отличить искусство и насладиться им.
§ 49 О способностях души, образующих гений
О некоторых произведениях, которые должны были бы, хотя бы отчасти, представлять собой прекрасное искусство, говорят, что они лишены духовности, хотя с точки зрения вкуса в них нет ничего вызывающего возражения. Стихотворение может быть очень милым и элегантным, но дух в нем отсутствует. Рассказ – точен и правилен, но лишенным духовности. Торжественная речь – основательной и вместе с тем изящной, но лишенной духовности. Разговор – часто достаточно занимателен, но дух в нем отсутствует; даже о женщине говорят: она красива, разговорчива и благопристойна, но в ней отсутствует дух. Что же здесь понимают под духом?
Дух в эстетическом смысле – это оживляющий принцип в душе. То, посредством чего этот принцип оживляет душу, материал, который он для этого использует, есть то, что целесообразно приводит душевные способности в движение, то есть в такую игру, которая сама себя поддерживает и сама укрепляет необходимые для этого силы.
Если вернуться назад, то можно вспомнить, что под душой Кант подразумевает вместилище всех способностей. У человека их три – познание, желание и чувственность. Значит, дух как-то оживляет эти три способности.
Я утверждаю: этот принцип есть не что иное, как способность изображения эстетических идей; под эстетической идеей я понимаю такое представление воображения, которое заставляет напряженно думать без того, чтобы ему могла быть адекватна какая-либо определенная мысль, то есть понятие; поэтому язык никогда не может полностью выразить и сделать понятным это представление. Легко заметить, что эта идея как бы находится в обратном соответствии (pendant) с идеей разума, представляющей собой понятие, которому никогда не может быть адекватно созерцание (представление воображения).
Воображение (в качестве продуктивной способности познания) очень могущественно в создании как бы другой природы из материала, который ей дает действительная природа. Мы предаемся ему, когда опыт представляется нам слишком будничным, переделываем опыт, правда, по все еще аналогичным законам, однако и по принципам, находящимся выше, в разуме (они столь же естественны для нас, как те, посредством которых рассудок схватывает эмпирическую природу); при этом мы чувствуем себя свободными от закона ассоциации (присущего эмпирическому применению этой способности); ибо, хотя природа дает нам материал согласно данному закону, этот материал может быть переработан нами в нечто совершенно другое, а именно в то, что превосходит природу.
Эстетические идеи – это то, что выражает гений, творя искусство. Они существуют в его душе, тогда как у не-гениев эстетических идей просто нет.
Подобные представления воображения можно называть идеями: отчасти потому, что они по крайней мере стремятся к чему-то находящемуся за пределами опыта и таким образом пытаются приблизиться к изображению понятий разума (интеллектуальные идеи), что придает им видимость объективной реальности; с другой стороны, и это главное, потому, что им в качестве внутренних созерцаний не может быть полностью адекватным никакое понятие. Поэт решается представить в чувственном облике идею разума о невидимых сущностях – царство блаженных, преисподнюю, вечность, сотворение мира и т. п. – или то, примеры чего, правда, даны в опыте, но что выходит за его пределы, например, смерть, зависть и все пороки, а также любовь, славу и т. д. сделать их с помощью воображения, которое стремится следовать примеру разума в достижении величайшего, чувственно воспринимаемыми в полноте, примера которой нет в природе; собственно говоря, только в поэзии эта способность эстетических идей может проявиться в полной мере. Рассмотренная же сама по себе, эта способность есть, по существу, только талант (воображения).
Если под понятие подводится представление воображения, которое необходимо для изображения, но само по себе требует такого глубокого мышления, которое никогда не может быть охвачено определенным понятием, тем самым безгранично расширяет само понятие эстетически, то воображение действует при этом творчески и приводит в движение способность интеллектуальных идей (разум), а именно заставляет мыслить по поводу этого представления (хотя это относится к понятию предмета) больше, чем могло бы быть постигнуто и уяснено в нем.
Те формы, которые не составляют самого изображения данного понятия, а выражают в качестве дополнительных представлений воображения лишь связанные с ним следствия и его родственность другим понятиям, называют атрибутами (эстетическими) предмета, чье понятие как идея разума не может быть изображено адекватно. Так, орел Юпитера с молнией в когтях – атрибут могущественного владыки неба, а павлины – прекрасной владычицы неба. Эти атрибуты не представляют, подобно логическим атрибутам, то, что заключено в наших понятиях о возвышенности и величии творения, они отражают нечто другое, что дает воображению повод распространиться на множество родственных понятий, которые позволяют мыслить большее, чем может быть выражено в понятии, определенном словами; они дают эстетическую идею, которая служит идее разума вместо логического изображения, в сущности же для того, чтобы оживить душу, открывая ей необозримую область родственных представлений. Прекрасное искусство применяет это не только в живописи и ваянии (где обычно употребляется термин «атрибуты»); поэзия и ораторское искусство также заимствуют дух, оживляющий их слова, у эстетических атрибутов предметов, сопутствующих логическим атрибутам и придающих изображению размах, который заставляет мыслить больше, хотя и в неразвитом виде, чем может быть охвачено понятием, то есть определенным словесным выражением. Ограничусь для краткости лишь несколькими примерами.
Атрибут в переводе с латыни означает «придавать», «наделять». Обычно под атрибутом подразумевают постоянный, необходимый признак.
Если великий король в одном из своих стихотворений говорит: «Уйдем из жизни без ропота и ни о чем не жалея, ибо мы оставляем мир, осыпанный благодеяниями. Так солнце, завершив свой дневной путь, освещает мягким светом небо, и последние лучи, которые оно посылает в эфир, – это его последние вздохи на благо мира», то этими сказанными на склоне лет словами он оживляет свою космополитическую в ее настроенности идею атрибутом, который воображение (вызывая безоблачным вечером в душе воспоминание о прелести прекрасного летнего дня) соединяет с этим представлением и который пробуждает множество ощущений и дополнительных представлений, не находящих своего выражения. С другой стороны, даже интеллектуальное понятие может в свою очередь служить атрибутом чувственного представления и оживить его идеей сверхчувственного, но только в том случае, если для этого использовано то эстетическое, которое субъективно связано с сознанием сверхчувственного. Так, например, поэт, описывая прекрасное утро, говорит: «Солнце проглянуло, как покой проглядывает из добродетели». Сознание добродетели, даже в том случае, если только мысленно стать на точку зрения добродетельного человека, наполняет душу множеством возвышенных и успокоительных чувств и открывает безграничную перспективу радостного будущего, которое полностью не могут выразить слова, соответствующие определенному понятию.
Одним словом, эстетическая идея есть присоединенное к данному понятию представление воображения, связанное в свободном его применении с таким многообразием частичных представлений, что выражение, которое обозначало бы определенное понятие для него, найдено быть не может; следовательно, оно позволяет примыслить к понятию много неизреченного; чувство этого неизреченного оживляет познавательную способность и связывает дух с языком как просто буквой.
Важно вспомнить, что воображение имеет продуктивную, производственную функцию, рассудок – упорядочивающую.
Таким образом, способности души, соединение которых (в определенном соотношении) составляет гений, – это воображение и рассудок. Но так как в применении для познания воображение находится под властью рассудка и подчинено ограничению, чтобы соответствовать его понятию, а в эстетическом отношении оно свободно и может сверх согласованности с понятием дать – правда, непреднамеренно – богатый содержанием, хотя и неразвитый материал для рассудка, который тот в своем понятии не принимал во внимание и который он применяет не столько объективно для познания, сколько субъективно для оживления познавательных способностей, следовательно, косвенно все-таки для познания, – то гений заключается, собственно говоря, в счастливом сочетании, которое нельзя обрести в науке или достигнуть прилежанием и которое позволяет найти идеи для данного понятия, а также выразить их таким образом, чтобы вызванная этим душевная настроенность могла быть как сопутствующая понятию сообщена другим. Такой талант и есть, собственно говоря, то, что называют духом; ибо выразить неизреченное в состоянии души при известном представлении и сделать его всеобще сообщаемым – будь то на языке живописи или пластики – требует способности схватывать быстро исчезающую игру воображения и придавать ей единство в понятии (именно поэтому оригинальном и вместе с тем предоставляющем новое правило, не следующее из предшествующих принципов или примеров), которое может быть сообщено без принуждения правилами.
Возвращаясь после этого анализа к данному выше объяснению того, что называют гением, мы обнаруживаем: во-первых, что гений – это талант к искусству, а не к науке, где первое место должны занимать и определять совершаемые действия хорошо известные правила; во-вторых, что в качестве таланта к искусству гений предполагает определенное понятие о произведении как цели, а тем самым – рассудок, но вместе с тем и представление (хотя и неопределенное) о материале, то есть о созерцании, для изображения этого понятия, – следовательно, отношение воображения к рассудку;
в-третьих, что гений проявляется не столько в осуществлении намеченной цели, в изображении определенного понятия, сколько в изложении или выражении эстетических идей, содержащих богатый материал для данной цели, и тем самым представляет воображение в его свободе от всякого подчинения правилам, но тем не менее целесообразным для изображения данного понятия; и, наконец, в-четвертых, что непринужденная, непреднамеренная, субъективная целесообразность в свободном соответствии воображения закономерности рассудка предполагает такое соотношение и настроенность этих способностей, к которым не ведет никакое следование правилам, будь то науки или механического подражания, но может создать лишь природа субъекта.
Для того чтобы понять, что такое эстетическая идея, нужно отличить ее от идеи разума. Идея разума – «необходимое понятие разума, которому не может быть дан в чувствах точно соответствующий ему предмет». Эстетическая же идея основывается на таком созерцании (на такой работе воображения), которому не может быть дано никакое адекватное понятие. Выходит все, что творит гений, нельзя полностью и исчерпывающе выразить. Если угодно, Кант стоял на пороге создания концепта «невыразимого», который был очень важен философии ХХ века.
В соответствии с указанными предпосылками гений есть служащая образцом оригинальность природного дара субъекта в его свободном использовании своих познавательных способностей.
Таким образом, произведение гения (то, что в этом произведении следует приписать гению, а не возможному обучению или школе) – пример не для подражания (ибо тогда было бы. утрачено то, что есть в произведении гений и составляет дух творения), а для следования ему другого гения, в котором благодаря этому пробуждается чувство собственной оригинальности, позволяющей ему осуществлять в искусстве свободу от правил таким образом, что искусство само получает новое правило, благодаря чему талант становится образцом. Но поскольку гений – любимец природы и его следует считать редким явлением, то его пример служит для других способных людей школой, то есть методическим руководством по правилам, в той мере, в какой их удалось извлечь из произведений его духа и их своеобразия; для них прекрасное искусство есть подражание, для которого природа дала правило через посредство гения.
Однако такое подражание становится обезьянничанием, если ученик повторяет все, даже то уродливое, что гений вынужден был допустить, потому что устранить это было невозможно, не ослабляя идею. Подобное дерзание может считаться заслугой только гения; ему разрешена известная смелость выражения и вообще ряд отклонений от общих правил, но этому отнюдь не следует подражать, само по себе оно остается ошибкой, которой надо избегать; она составляет как бы привилегию гения, ибо от робкой осмотрительности пострадала бы неподражаемость его духовного порыва. Другой вид обезьянничанья – манерность; это подражание только своеобразию (оригинальности) как таковому, стремление по возможности отдалиться от подражателей, не обладая при этом талантом, позволяющим служить образцом. Существуют два способа (modus) изложения своих мыслей, один из них называется манерой (modus aestheticus), другой – методом (modus logicus); они отличаются друг от друга тем, что первый руководствуется только чувством единства в изложении, второй же следует в этом определенным принципам. Для прекрасного искусства значим лишь первый способ. Манерным произведение искусства называется лишь в том случае, если художник стремится к тому, чтобы выражение его идеи было особенным, и не сообразует его с соответствием идее. Кичливость (напыщенность) и аффектация, направленные только на то, чтобы отличаться от обычного (но не обладая при этом духом), подобны поведению человека, о котором говорят, что он сам себя слушает, или того, кто стоит и движется, как на сцене, стараясь привлечь к себе внимание, что всегда выдает дилетанта.
Обычный человек отличается от гения тем, что благодаря работе духа способности души у гения уродились в свободном соотношении (это соотношение нельзя воспитать, поэтому гением рождаются). Это свободное соотношение способностей души порождает эстетические идеи. Их пытается выразить гений в искусстве. Трагедия гения в том, что он никогда не может выразить до конца то, что в нем самом заложено.
§ 50 О связи вкуса с гением в произведениях прекрасного искусства
Если спрашивается, что важнее в произведениях прекрасного искусства – проявление гения или вкуса, то это равносильно вопросу, что имеет в них большее значение – воображение или способность суждения. Поскольку искусство при наличии в нем гения заслуживает быть названным вдохновенным и только при наличии вкуса прекрасным искусством, то последнее, во всяком случае в качестве необходимого условия (conditio sine qua поп), – главное, на что следует обращать внимание в суждении об искусстве как прекрасном. Богатство и оригинальность идей необходимы не столько для красоты, сколько для соответствия воображения в его свободе с закономерностью рассудка. Ибо все богатство воображения порождает в своей не подчиняющейся законам свободе только нелепость; напротив, способность суждения – это способность привести воображение в соответствие с рассудком.
Вкус, как и способность суждения вообще, есть дисциплина (воспитание) гения; она сильно подрезает ему крылья и делает его благонравным и изысканным; вместе с тем вкус осуществляет руководство над гением, указывая ему, на что и в какой степени он может распространяться, оставаясь целесообразным; внося ясность и порядок в полноту мыслей, вкус делает идеи устойчивыми, способными вызывать длительное и всеобщее одобрение, побуждать к деятельности других и постоянно развивать культуру. Поэтому, если при столкновении этих двух свойств в художественном произведении следует чем-либо пожертвовать, то это, скорее, должно относиться к гению; способность же суждения, которая в вопросах прекрасного искусства высказывается, исходя из собственных принципов, допустит скорее ограничение свободы и богатства воображения, чем ограничение рассудка.
Следовательно, для прекрасного искусства требуются воображение, рассудок, дух и вкус.
Важным является то, что несмотря на то, что гением рождаются, а не становятся, тем не менее эту гениальность нужно развить. Моцарт бы остался пьяницей, если бы не играл на фортепиано. Мы это называем обычно «загубить талант». Поэтому, конечно, гениальность завязана на природе, но совершенно необходимо воспитывать вкус, мастерство, чтобы эта гениальность начала выражать себя.
Примечания
1
Недавно во всем изобильна, Стольких имев и детей, и зятьев, и невесток, и мужа, Пленницей нищей влачусь… (Овидий. Метаморфозы). – лат. (обратно)2
Пребывай с самим собой наедине, и тогда ты узнаешь, сколь ты беден духом (ср. Сатиры Персия / пер. Н.М. Благовещенского). – лат.
(обратно)

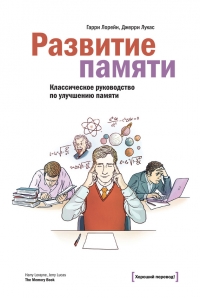







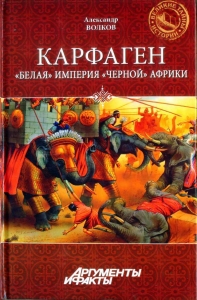

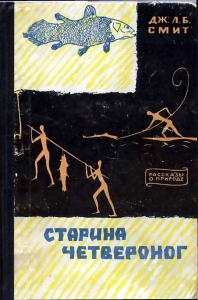
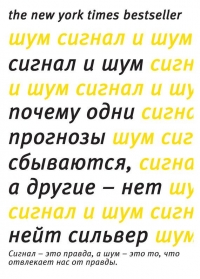
Комментарии к книге «Принцип чистого разума. С комментариями и объяснениями», Иммануил Кант
Всего 0 комментариев