Чарльз Гати Збиг: Стратегия и политика Збигнева Бжезинского
ZBIG: THE STRATEGY AND STATECRAFT OF ZBIGNIEW BRZEZINSKI
Edited by Charles Gati
© Charles Gati, 2013
© Перевод. О. И. Перфильев, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Предисловие Джимми Картера
В своей книге «Храня веру: Мемуары президента» я описывал Збигнева Бжезинского как моего самого любимого собеседника (за исключением некоторых членов моей семьи) во время длительных поездок, потому что «мы могли спорить, но мне никогда не было с ним скучно». Надеюсь, авторы этой книги согласятся со мной в этом, как и в том, что Збиг обладает высочайшим интеллектом, склонностью к проницательному анализу и умением преподносить материал в провокационной манере. В бытность моим советником по национальной безопасности он постоянно излагал мне самые разнообразные свежие и непривычные идеи, иногда даже чересчур непривычные. Но именно это мне и было необходимо, поскольку в обыденных и заурядных советах, предлагаемых Государственным департаментом, недостатка не наблюдалось.
Я знал, что ожидать от Збига. Впервые мы с ним встретились в 1973 году, когда я вступил в Трёхстороннюю комиссию, – тогда он был её исполнительным директором. Это была организация из пятидесяти представителей Северной Америки, Западной Европы и Японии. Меня пригласили в неё как губернатора, признававшего приоритет растущих торговых связей. Мне также хотелось плотнее ознакомиться с международными вопросами, и я внимательно прислушивался к выступлениям на каждом заседании. На следующий год, когда я выдвинул свою кандидатуру на должность президента, Збиг написал мне и предложил свою помощь. Возможно, он и не ожидал от меня многого, поскольку национальные средства массовой информации изображали меня аутсайдером президентской гонки, но я охотно согласился на его предложение. В 1975 году он исполнял роль моего ведущего советника по внешней политике. После победы на выборах 1976 года я спросил, не хочет ли он занять должность главного советника по национальной безопасности. Он предложил мне ряд альтернатив, но я знал, что хочу видеть на этой должности именно его.
Он подобрал под своим началом блестящий кадровый состав, оказывавший неоценимую помощь как ему, так и мне. Но, конечно же, основным источником информации и основным советником оставался он сам. Первым пунктом моего ежедневного президентского совещания неизменно было его выступление. Обычно он выступал и на других совещаниях в течение дня. Когда требовались какие-то специальные сведения по тому или иному делу, он вызывал нужных людей – своих подчинённых или других сотрудников администрации. Это был настоящий руководитель, чрезвычайно умелый и эффективный.
Збиг всегда выполнял мои поручения, а иногда я просил его помочь и в делах, лежащих вне компетенции советника. Предполагалось, что главным лицом, освещающим вопросы моей внешней политики, должен быть мой государственный секретарь Сайрус Вэнс. Но оказалось, что ему не всегда нравится выступать именно в этой роли. Збиг с гораздо большей охотой объяснял нашу политику, и иногда я советовал ему заниматься именно этим. Для одного крайне деликатного вопроса – нормализации отношений с Китаем – я решил привлечь ресурсы Белого дома. После неудачи со стороны Государственного департамента, я послал к Дэну Сяопину самого Збига, чтобы тот напрямую изложил ему мой взгляд на проблему. Его визит закончился успехом.
Он также был ключевой фигурой американской делегации во время израильско-египетских переговоров на саммите в Кэмп-Дэвиде, ставших беспрецедентным событием в истории дипломатии. Я лично руководил процессом и работал непосредственно с президентом Египта Анваром Садатом и премьер-министром Израиля Менахемом Бегином, но члены всех трёх делегаций также играли важные роли в переговорах, длившихся тринадцать дней и закончившихся подписанием Кэмп-Дэвидских соглашений.
В начале моего президентского срока Збиг составил список задач для нашей внешней политики – довольно масштабный и смелый, но как раз такой, какой мне и хотелось. Установление прочного мира на Ближнем Востоке и восстановление дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой были всего лишь двумя из десяти намеченных нами больших целей. Особое внимание мы уделяли защите прав человека по всему миру и договору о сокращении ядерных вооружений с Советским Союзом. Я горжусь тем, чего мы достигли, хотя признаю критику в адрес спорных решений во внутренней политике, сопровождавшихся различными скандалами. Особенный ущерб моей репутации нанесли договоры о Панамском канале, но мы были совершенно правы, настаивая на их заключении, и в конечном счёте они послужили на пользу как Соединённым Штатам, так и странам Латинской Америки.
Какие бы задачи ни вставали на президентской повестке дня, Збигу всегда приходилось сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами во внешней политике. Одна из обязанностей советника по национальной безопасности – всегда быть готовым ко всему. Збиг всегда поддерживал меня во время кризисов. Нам удалось пережить два главных испытания – советское вторжение в Афганистан и Иранскую революцию – при этом избежав вовлечения в войну и добившись того, чтобы Советский Союз не получил выгоду от обоих событий. Некоторые критики, как в то время, так и впоследствии, обвиняли Збига в том, что он возродил холодную войну. Да, он действительно был главным скептиком среди моих советников в отношении Советского Союза, но я не согласен с утверждением, что именно он убедил меня отойти от политики разрядки. Действия Советского Союза в любом случае требовали реакции. Тем не менее мы продолжали соблюдать положения Договора об ограничении стратегических вооружений, несмотря на то, что он в силу политических причин так и не был ратифицирован. Соблюдать их продолжал даже мой преемник на посту президента вплоть до конца своего срока, несмотря на то, что сам же и подвергал этот договор критике. Советское руководство того времени приняло действительно катастрофические решения, потребовавшие от нас занять более жёсткую позицию.
Збиг продолжал помогать мне и после моего президентского срока. В 1982 году, когда я решил основать Центр Картера, он присутствовал на встрече на острове Сапело в Джорджии и давал ценные советы. Он принял участие в нескольких наших проектах, а за неделю до того, как я написал это предисловие, посетил меня в Калифорнии, чтобы напомнить нашим финансовым помощникам некоторые неопубликованные подробности переговоров в Кэмп-Дэвиде. Я искренне благодарен ему за его услуги.
Такая книга должна была выйти уже давно. Это один из наиболее влиятельных мыслителей и политиков на международной сцене конца двадцатого и начала двадцать первого веков.
Предисловие Чарльза Гати
Збигнев Бжезинский давно стал знаменитостью. Его останавливают на улицах и в аэропортах. Люди интересуются, как поживает он сам и как поживает его дочь, ведущая новостей Мика. Когда он говорит о политической обстановке в мире и в Америке, на ум приходит старая телевизионная реклама. «Когда говорит Э. Ф. Хаттон, люди слушают». Брокерская фирма Э. Ф. Хаттона давно прекратила своё существование, но Бжезинский – выглядящий бодрым, остроумным и полным сил в свои восемьдесят с лишним лет – до сих пор выступает по телевидению, издаёт по бестселлеру каждые три-четыре года и путешествует по всему свету, читая лекции и встречаясь с сильными мира сего. Сегодня даже больше, чем прежде, когда Бжезинский говорит, люди слушают.
Он до сих пор обладает неоспоримым авторитетом в международной политике. Когда глава какого-нибудь государства посещает с визитом Вашингтон, Бжезинского часто приглашают на официальный обед или ужин. После таких мероприятий многих особенно интересует, что по тому или иному вопросу высказал Бжезинский. Несколько десятилетий назад его путали с Генри Киссинджером; я сам лично слышал, как у Колумбийского университета в Нью-Йорке водитель такси обратился к нему «доктор Киссинджер». В наши дни такое вряд ли возможно. Совсем недавно управляющий одного ресторана в Вашингтоне обратился к нему с предложением прийти как-нибудь вместе с Микой, и тогда их обслужат бесплатно. Было заметно, что Бжезинский гордится своей дочерью.
Своим статусом «звезды» он прежде всего обязан своим проницательным комментариям во время частых выступлений по телевидению. Ещё более важно то, что он с самого начала был настроен против войны в Ираке, в то время как большинство демократов ещё сомневались, стоит ли им поддерживать администрацию Буша в вопросах внешней политики; тогда такая позиция воспринималась как весьма откровенная, и даже смелая. Бжезинского возмутила ложь, с помощью которой пытались придать разумное обоснование войне, и поскольку он уже не претендовал ни на какую роль в правительстве США, то он не так сдерживался, как в прошлом, демонстрируя свой прямолинейный и даже в чём-то дерзкий нрав. Сколько ещё влиятельных персон из Вашингтона называли Джо Скарборо – более известного как «Утренний Джо» (по названию его телепередачи), популярного телеведущего и напарника Мики Бжезински – «потрясающе поверхностным»? Сколько ещё демократов осмелилось заявить, что Обама в арабо-израильском конфликте «поддался политическому давлению»?
Чрезмерная озабоченность Америки вопросами внутренней безопасности после теракта 11 сентября заставила его посмеяться над ненужными мерами предосторожности в Белом доме – однажды при посещении административного корпуса в Вашингтоне он отметился под именем «Усама бен Ладен», и никто его не остановил. Предполагалось, что этот инцидент должен шокировать, но он послужил метафорой нерешительности сбитой с толку Америки, которая сама не может выяснить, что для неё важно, а что нет. Вот почему «новый» Бжезинский, обеспокоенный будущим, предпочитает называть вещи своими именами – по контрасту с Бжезинским прежнего столетия, который и раньше отличался прямотой, но старался держаться в русле той внешней политики, которую задавала вашингтонская элита. Бжезинского двадцать первого века гораздо меньше заботят мейнстрим или общепринятые представления текущего момента. Он не настроен увязать в хитросплетениях дипломатического языка и говорит всё, как есть (или, по крайней мере, как это кажется ему). Его высказывания столь же просты, сколь сложно решение главного вопроса: Америка переживает системный кризис. Некогда безграничный оптимист, веривший в то, что Америка обязательно преодолеет любой домашний кризис и одержит победу над своими зарубежными противниками, ныне он гораздо больше ценит то, что Америка способна добиться в действительности. Бжезинский не превратился ни в пессимиста, ни в проповедника «упаднических настроений», но начиная с конца холодной войны заметно, что он менее склонен поддерживать американскую военную машину, особенно на Ближнем Востоке. И его взгляды как нельзя лучше согласуются со взглядами его аудитории.
После успешной преподавательской карьеры в Гарварде, Колумбийском университете и Школе передовых международных исследований Пола Нитце Университета Джонса Хопкинса (SAIS) Бжезинский в настоящее время работает в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), известном вашингтонском «мозговом центре». Он зарабатывает себе на жизнь как писатель и лектор. Выступает ли он перед группой специалистов по международной политике, перед бизнесменами или перед студентами университета, он умеет настроиться на нужную волну, вставляя в своё выступление несколько известных деталей – но всякий раз в свежем контексте, с безупречным логическим анализом, проницательными формулировками и чётким изложением. Он всегда тщательно подбирает слова для лекций, длительностью от сорока до сорока пяти минут, и говорит идеальными абзацами. Обычно он начинает с какой-нибудь истории, служащей иллюстрацией своего главного тезиса. Так, например, он рассказывает о том, как во времена Карибского кризиса 1962 года президент Джон Кеннеди попросил Дина Ачесона, бывшего государственного секретаря при Гарри Трумэне, предъявить Шарлю де Голлю материалы, оправдывающие военные действия США. Но французский президент даже не посмотрел на документы, которые хотел показать ему почтенный посланник Кеннеди. Де Голль, недолюбливавший Кеннеди, высказался в том духе, что одних лишь слов американского президента достаточно, чтобы оценить обстановку, и тут же уверил его в поддержке со стороны Франции. Этой историей Бжезинский иллюстрирует, насколько с тех пор Соединённые Штаты утратили доверие мира, – и с некоторой мечтательностью добавляет, что его следовало бы восстановить.
В последнее время лекции, эссе, книги, телевизионные выступления и комментарии в прессе Бжезинского гораздо чаще, чем прежде, посвящены домашним делам Америки, и все они демонстрируют его озабоченность делением на политические лагеря, поляризацией и проистекающим из них политическим параличом. Его беспокоит растущая пропасть между богатыми и бедными, как и тот факт, что на американский образ жизни всё больше влияет жадность. Но, пожалуй, гораздо сильнее его волнуют шаткие перспективы мира и стабильности во всё более нестабильном и неохраняемом мире. Временами он даже высказывает недовольство своей аудиторией. Со своего рода профессорским высокомерием он обвиняет многих присутствующих в том, что они не изучали географию, потому что в большинстве школ она не входит в число обязательных предметов. И всё же аудитория встречает его хорошо. Аплодисменты раздаются не только из вежливости, они бывают совершенно искренними. Когда в 2008 году Бжезинский выступал на крупном политическом митинге в Вашингтоне, вслед за ним на подиум поднялся сенатор Джо Байден, будущий вице-президент. Обычно Байден за словом в карман не лезет, но на этот раз он несколько секунд неуютно молчал, а потом повернулся к организаторам и пожаловался: «Вы же мне не сказали, что я должен выступать сразу после Збига, правда?» Собравшиеся засмеялись и захлопали.
И всё же Бжезинский остаётся противоречивой фигурой. Многие республиканцы не доверяют ему, потому что он демократ и потому что он одним из первых стал критиковать внешнюю политику президента Джорджа Буша-младшего и войну в Ираке. Некоторые демократы не могут простить ему активное участие в холодной войне, «русофобию» и поддержку войны во Вьетнаме, а есть и такие, кто ставит ему в укор открытую поддержку республиканского кандидата на президентских выборах 1988 года. Влиятельные лица из Вашингтона с особо крепкой памятью до сих пор вспоминают, что Бжезинский, будучи советником президента Джимми Картера по национальной безопасности, одержал победу (пусть и справедливо) в бюрократической борьбе за право контролировать международную повестку дня с не столь решительно настроенным государственным секретарём Сайрусом Вэнсом. Неоконсерваторы, как и многие другие, заявляют, что его предложение урегулирования арабо-израильского конфликта не учитывало уязвимые и чувствительные места Израиля, и задаются вопросом, почему он не вынудил палестинцев по меньшей мере признать право Израиля на существование. Приверженцы американской политики, основанной на признании прав человека, считают, что активная поддержка сближения США с Китаем, в целом, и фактическое признание коммунистического правления, в частности, говорят если не о лицемерии, то о каких-то сомнениях в искренности высказываний Бжезинского о защите универсальных прав человека.
Но, несмотря на такое восхищение и громкую полемику, это первая книга о Бжезинском. Генри Киссинджеру посвящены десятки исследований; много публикаций вышло о Дине Ачесоне и Джоне Фостере Даллесе; сравнительно большое число о Джордже Фросте Кеннане (хотя его известность в академических кругах превышает реальное влияние на политику, завершившееся в 1950-х годах); немало изданий посвящено Мадлен Олбрайт, Джеймсу Уильяму Фулбрайту, Генри Джексону «Скупу», Уолтеру Липпману и Кондолизе Райс – но ни одного Бжезинскому. Скудная библиография в конце книги может похвастаться лишь парой исследований на польском языке, что отражает его происхождение и влияние на Польшу во время холодной войны. Среди посвящённых ему неопубликованных академических исследований и диссертаций можно выделить работы Жюстина Ваиса (на французском) и Патрика Вогана (на польском); также запланирован их выход на английском. (К счастью, каждый из них внёс свой вклад в данную книгу. Написанная Ваисом глава 1 представляет собой сравнительный анализ жизненных путей Киссинджера и Бжезинского, двух натурализованных граждан США, достигших политических высот во внешней политике, некогда считавшихся едва ли не зарезервированными исключительно для финансовых и юридических светил англосаксонского происхождения с большими связями. Глава 10, написанная Воганом, предоставляет подробные доказательства любопытного сотрудничества советника по национальной безопасности США польского происхождения и рождённого в Польше папы Иоанна Павла II в стремлении свергнуть польский коммунистический режим.) Таким образом, данная книга призвана ликвидировать пробел в почти несуществующей литературе о Бжезинском и описать все его академические и политические достижения, начиная с тех времён, когда он был советологом в Гарварде и Колумбийском университете. Она охватывает время, проведённое им в Белом доме в администрации Картера, и его сочинения 1980-х годов, и эпоху 1990-х, когда развалился Советский Союз с его сферой влияния и начался переход к чему-то иному; охватывает его критику войны в Ираке и последние книги и статьи, подтвердившие его репутацию выдающегося стратега в области международной политики.
Идею этой книги мне предложили декан Джессика Эйнхорн со своими коллегами из SAIS. После того как Бжезинский закончил читать там регулярные лекции, Эйнхорн спросила, не хочу ли я составить сборник оригинальных статей, посвящённых его карьере. Я согласился, но мы вместе пришли к мнению, что книга не должна представлять собой череду одних лишь восхвалений. Бжезинский, несомненно, заслуживает такой книги, состоящей из одних славословий в его адрес, но её редактировать мне было бы неинтересно. Вряд ли бы у неё нашлось много читателей, да и сам Бжезинский наверняка не прочитал бы её до конца. При поддержке декана я добился права полного редакторского контроля над выбранными авторами. Я также редактировал каждую статью и следил за тем, чтобы не наблюдалось повторений. Я потребовал, чтобы стиль каждой статьи был «уважительным, но не лишённым критики». В двух-трёх случаях мне пришлось попросить авторов умерить критику или неуёмную похвалу, но я не стал отговаривать четырёх из его бывших коллег по Совету национальной безопасности (главы 6–9) и одного коллегу в академической сфере (глава 16) от описаний и историй, выставляющих Бжезинского в выгодном для него свете. В целом я считаю, что книга – написанная ведущими исследователями и экспертами, некоторые из которых знали его лично, а некоторые никогда не встречались с ним, – состоит из серьёзных, документально подтверждённых статей. Моей целью было подготовить первое широкое и взвешенное исследование карьеры Бжезинского в роли политолога, политика, общественного деятеля и комментатора, а также коллеги.
Что касается моих личных отношений с Бжезинским, то я не спрашивал его совета по поводу того, кому поручать конкретную статью о том или ином аспекте его деятельности. Когда уже был готов список содержания, я показал его ему, но он заранее, до публикации, не читал ни одну из глав. Единственное очевидное исключение – глава 17, сжатое изложение двух наших посвящённых ему бесед; он просмотрел ее и отредактировал свои ответы на мои вопросы.
Начиная со своего поступления в Гарвард в начале 1950-х, Бжезинский воспринимался как одарённый и целеустремлённый исследователь. Другим одарённым и целеустремлённым исследователем был Генри Киссинджер, как это подчёркивается в главе 1, посвящённой сходству и различию между ними. Вопреки распространённому мнению той и последующих эпох, всё свидетельствует о том, что они, оставаясь соперниками, не были врагами. Глава 2 посвящена Бжезинскому как советологу – в частности, автору сравнительных исследований о тоталитарных чертах фашистских, нацистских и особенно коммунистических диктатур двадцатого века. В отличие от старых авторитарных режимов, которые полагались только на запреты – предписания их гражданам по поводу того, чего не следует делать, – новые тоталитарные режимы двадцатого века постулировали как запреты, так и обязанности («императивы») – предписания по поводу того, что гражданам следует делать. Другими словами, тоталитарные режимы не просто подавляют и контролируют своих граждан, они ещё и стремятся мобилизовать их на достижение как внутренних, так и международных целей. В своих обширных работах с точными определениями и академическим жаргоном Бжезинский утверждал, что само существование таких режимов связано с захватом политической власти, с её консолидацией у себя дома и последующим распространением вовне. Вот почему после падения фашизма и нацизма такую серьёзную угрозу для американских интересов и ценностей представляли коммунистические тоталитарные режимы.
В ответ на эту угрозу, как довольно подробно показано в главе 3, Бжезинский старался совместить политологические исследования Советского Союза и стран Восточной Европы с политическими рекомендациями; интеллектуалы Лиги Плюща должны были заручиться поддержкой нью-йоркской финансовой и юридической элиты – в этом и состояли карьерные устремления Бжезинского. Он постепенно становился «публичным интеллектуалом». В 1960 году вышла его книга «Советский блок» – первое крупное исследование коммунистических политических систем, в котором он ещё не давал открытых практических рекомендаций. Другие опубликованные им на протяжении 1960–1970-х годов книги и статьи также представляли собой академические исследования, но уже имели целью повлиять на внешнюю политику США. Более того, после того как в 1960 году Бжезинский перебрался из Гарварда в Колумбийский университет, он мог пользоваться, и в полной мере пользовался располагавшимся в Нью-Йорке Советом по международным отношениям и недавно образованной Трёхсторонней комиссией как платформами для проповедования более динамичной – хотя и не обязательно более агрессивной – внешней политики с целью ослабить советское «имперское» влияние посредством внесения разлада между Москвой и странами Восточной Европы.
Какое-то время, пока Збигнев с женой Эмилией (Мушкой) растили троих своих детей – Яна, Марка и Мику в Нью-Джерси, он работал в Нью-Джерси, присматриваясь к Вашингтону. Оттачивая своё мастерство чёткого изложения тезисов, он обращался почти ко всем потенциальным кандидатам в президенты от демократов, предлагая помощь и советы. В частности, он поддерживал связи с Джоном Ф. Кеннеди, Хьюбертом Х. Хамфри, Линдоном Б. Джонсом, Генри Джексоном «Скупом» и Эдмундом Маски; пожалуй, ближе всего он был к Хамфри, победителю праймериз 1968 года. Помимо идеологической близости – по определению той эпохи, как Хамфри, так и Бжезинского можно было назвать либералами во внутренней политике и убеждёнными антикоммунистами во внешней – они разделяли почти фаталистическую веру в обязанность Америки вести за собой весь остальной мир. Оба полагали, что лучший мир будущего возникнет в результате преобразования и конечного падения коммунизма – того, что позже Бжезинский назовёт его «большим провалом». Важно отметить, что ни Хамфри, ни Бжезинский не считали, что борьба с коммунизмом на международной арене должна каким-то образом определять внутреннюю борьбу с коммунистами, реальными или вымышленными, как это было в случае с Ричардом Никсоном и, конечно, с сенатором Джозефом Маккарти.
Когда президент Картер назначил Бжезинского своим советником по национальной безопасности, тот переехал в Вашингтон. Глава 4 представляет собой подробный и одновременно критический обзор того, что было достигнуто и что не было достигнуто за эти четыре года в Белом доме. Авторы главы 5 повествуют о нормализации отношений США с Китаем. Они признают и хвалят результаты переговоров Бжезинского, но критикуют его за склонность закрывать глаза на положение с правами человека в Китае и готовность обменять полный суверенитет Тайваня на псевдосоюз с Китаем против Советского Союза; также они критикуют его отношение к государственному секретарю Вэнсу и его коллегам из Государственного департамента. Главы 6–9, написанные коллегами Бжезинского по СНБ, изображают эти события с совершенно другой точки зрения. Авторы этих четырёх статей выступают невольными (поскольку они не читали предыдущие статьи) защитниками своего уважаемого начальника, политику которого они убеждённо поддерживали. Пусть читатель сам составит своё мнение!
Что касается политики администрации Картера в отношении Китая, то споры по поводу Бжезинского затрагивают два основных вопроса.
Во-первых, был ли он прав, затягивая переговоры с Москвой по разоружению до тех пор, пока не будут нормализованы отношения США с Китаем? Позиция Госдепартамента, которая благодаря утечкам в среднем руководящем составе стала достоянием элитной прессы западных столиц, состояла в том, что любая договорённость лучше, чем ничего, что Москва уже готова пойти на небольшие сделки и что заключить их следует как можно скорее. Президент Картер, выступавший в отличие от Никсона и Киссинджера против пошагового подхода, хотел добиться решительного прорыва и побуждал Вэнса оказывать давление на руководство СССР, пока не будет заключено соглашение о значительном сокращении ядерных арсеналов двух стран. Бжезинский же сначала во многом разделял мнение Вэнса, но потом изменил свою точку зрения, полагая, что Москва согласится на значительное сокращение только после того, как США и Китай договорятся об установлении нормальных отношений. В итоге этих разногласий поездка Вэнса в Москву 1977 года закончилась провалом, отчасти из-за смены администрации в США и из-за того, что советское руководство сомневалось в мотивации незнакомой команды в Вашингтоне. Последующая миссия Вэнса в Пекин также обернулась неудачей, отчасти из-за того, что настроенное против Советского Союза китайское руководство предпочло бы иметь дело с антисоветски настроенным Бжезинским, чем с Вэнсом, который, предположительно, выступал за разрядку.
Во-вторых, сражался ли Бжезинский за принципы или за свой статус? В своих мемуарах и в предисловии к этой книге президент Картер принимает сторону Бжезинского. В письме, опубликованном в журнале «Форин афферс» в 1999 году, он писал, что посоветовал Бжезинскому приступить к переговорам с Китаем без полномасштабных консультаций с представителями Госдепартамента. В своей неожиданно прямой отповеди критикам Бжезинского, части из которых цитируются в главе 5, Картер писал:
«Мне не очень хотелось направлять свои предложения через Госдепартамент, потому что я не был уверен в его полной поддержке, и ещё потому что он на тот момент, как и сейчас, представлял собой невероятно бюрократическую структуру, которая не может, а иногда и не хочет хранить секреты. Мне казалось очевидным, что преждевременное раскрытие наших усиливающихся дипломатических попыток приведёт к бурной реакции со стороны тех, кто считал, что Тайвань должен был оставаться «единственным Китаем». Я решил, что никаких указаний по переговорам послу [в Пекине] Леонарду Вудкоку поступать через Госдепартамент не будет; их следует направлять непосредственно из Белого дома».
Как и многие (если не все) его предшественники, Картер также разочаровался в качестве политических рекомендаций Госдепартамента и в его медлительности. В противоположность ему СНБ под руководством Бжезинского подготавливал рекомендации президенту в срок и подстраивался под способ администрирования, предпочитаемый президентом. Более того, памятуя о том, что республиканцы критикуют демократов за их слабость в вопросах национальной безопасности, Картер, похоже, предпочитал конфронтационный стиль Бжезинского соглашательскому подходу Вэнса, старавшегося примириться с республиканцами. Иначе говоря, между «уличным бойцом», как Бжезинского назвал Лесли Гелб, и учтивым Вэнсом, который гораздо комфортнее чувствовал себя в роли посредника, действительно шла бюрократическая борьба; но наблюдалась ещё и разница в политических приоритетах. Для Вэнса договор о контроле над вооружениями с Советским Союзом – страной, у которой было достаточно ядерных запасов, чтобы уничтожить весь мир, – значил более всего остального, за исключением возможного укрепления трансатлантических отношений. Бжезинский же не был против переговоров с Москвой, но и не стремился договариваться во что бы то ни стало. Его беспокоило то, что позиции Соединённых Штатов ослабли после Вьетнама (и Уотергейта), а советское руководство казалось уверенным в себе и вряд ли пошло бы на уступки. По этой причине он предпочитал подождать, пока соглашение США с Китаем сделает Москву более сговорчивой. Бжезинский верил, что его главная цель будет достигнута в той степени, в какой дружественные отношения США с Китаем окажут дополнительное давление на Советский Союз.
После Белого дома Бжезинский продолжал защищать тот тип политики, которого придерживался в СНБ. В 1980-х годах, как показано в главе 10, он был довольно плотно связан с вопросами, касающимися Польши. Он тесно сотрудничал с папой Иоанном Павлом II, американскими профсоюзами и радио «Свободная Европа» с целью дестабилизировать обстановку в Польше времён военного положения. В каком-то смысле заявления советского руководства о «плане» освобождения Польши от коммунистического правления были верны, поскольку за закрытыми дверями действительно шла работа по координации различных групп и отдельных лиц. Из своего кабинета Бжезинский осуществлял довольно активную деятельность. В главе 11 очевидец описывает свои впечатления от визита Бжезинского в Москву в 1989 году, в канун падения коммунистических режимов Советского блока. Он принимал участие в неофициальном диалоге американских и советских экспертов о будущем Восточной Европы. Хозяева конференции предчувствовали неминуемый распад блока и дали ему – известному «антисоветчику» Бжезинскому – возможность обратиться к сотням высокопоставленных лиц с речью о том, как мирно перейти к неопределённому, но некоммунистическому будущему. Американский стратег польского происхождения воздержался от «чтения лекций» своей аудитории, но, скорее всего, в глубине души поздравил себя за то, что внёс свой вклад в происходящее – в величайший провал советской политики и окончательное освобождение Польши.
В 1990-х годах Бжезинского более всего заботил вопрос расширения НАТО в Центральной и Восточной Европе, но не забывал он и о ситуации на Ближнем Востоке. В главе 12 представлены подробные описание и анализ его недвусмысленной критики политики США в отношении Ирака. Превратился ли он в «голубя», как предполагает подзаголовок статьи? По сути, Бжезинский не удовлетворяет определениям ни «голубя» в конце холодной войны, ни «ястреба» во время холодной войны. «Я всегда отстаивал политику, которая позволила бы нам победить в холодной войне – посредством того, что назвал «мирным вовлечением»», – заметил он во время нашей беседы, изложенной в главе 17. И всё же, что касается относительного положения Америки в двадцать первом веке, ясно, что он умерил свои ожидания, особенно в отношении военных интервенций. Глава 13 показывает, что он последовательно ратовал за более активное дипломатическое участие США в арабо-израильском конфликте; его поддержка двухгосударственного решения уходит корнями в середину 1970-х годов. В качестве основы для серьезных договорённостей между израильтянами и палестинцами он выдвинул план из четырёх частей. В своих недавних высказываниях Бжезинский до сих пор называет Вашингтон – и, в частности, президента – ключевым фактором, который позволит сблизить стороны и избежать широкомасштабного конфликта на Ближнем Востоке; однако похоже, что он уже оставил идею, что Соединённые Штаты смогут заставить их договориться.
Критика президента Обамы в этом отношении (см. главу 17) делает голос Бжезинского одним из немногих умеренных голосов, поддерживающих различные позиции обеих партий среди громких разрушительных дебатов непримиримых противников, определяющих политический ландшафт Америки. Помимо умеренности и сдержанности Бжезинский руководствуется тем стратегическим принципом, что у каждого действия или бездействия имеются свои последствия. Его всегда заботило будущее, и он пытался предвидеть, что будет иметь значение, а что нет. В одной из своих книг он описывал грядущую «технотронную» эру и её последствия для международной политики. В другой он анализировал «большой провал» коммунизма и его последствия. В «Стратегическом взгляде» главной темой стали внутренние проблемы Америки, включая политический кризис и его последствия для внешней политики. Похоже, что будущее для Бжезинского – это история, которую должны писать здравомыслящие и мудрые люди, прислушивающиеся к советам специалистов и не теряющие голову в связи с очередными выборами. Либеральный в других отношениях, Бжезинский в этом, пожалуй, ближе всего к консерватору Эдмунду Бёрку, выдвинувшему теорию представительства, согласно которой политиков следует избирать, чтобы они делали то, что они сами считают наилучшим для своей страны и своих избирателей. Это своего рода зеркальное отражение идей большинства американцев, как консерваторов, так и либералов, которые считают, что политики должны как можно лучше воплощать взгляды своих избирателей.
В четвёртой, самой краткой части книги, в главе 15 Бжезинский изображён как профессор, занимавшийся преподавательской деятельностью на протяжении более полувека. Хотя некоторые из его студентов предпочли бы, чтобы их преподаватель проявлял к ним побольше внимания, те из них, кто получил отметку «А», были на седьмом небе от счастья от того, что заслужили одобрение очень требовательного и внешне холодного профессора. В главе 16 Фрэнсис Фукуяма, его известнейший и уважаемый коллега, описывает обеды-семинары Бжезинского с участием некоторых тщательно отобранных специалистов из мыслительных «мозговых центров» и представителей SAIS. На этих собраниях всегда выступал какой-нибудь оратор-гость, описывавший текущие события и их возможные последствия, а затем следовала дискуссия под руководством Бжезинского. Наконец, глава 17 предлагает сокращённую и отредактированную версию наших двух бесед весной 2012 года. В них Бжезинский откровенно говорил о себе и о людях, сыгравших в его жизни большую роль, о папе Иоанне Павле II и о президенте Картере. С большими, чем прежде, подробностями он также отвечал на обвинения в том, что с некоторой предвзятостью к Израилю его заставляет относиться «польско-католическое» происхождение и, возможно, даже подсознательный антисемитизм. По собственному признанию Бжезинского, из всех посещённых им иностранных государств, почти как дома после Польши он ощущает себя именно в Израиле. Он также объясняет, почему не переделал свои имя и фамилию на английский лад, когда у него была такая возможность. Это необычная беседа для довольно замкнутого человека, который предпочитает обсуждать политику, а не личные вопросы.
Каково же место Збигнева Бжезинского в пантеоне ведущих американских политологов, как теоретиков, так и практиков? Было бы небольшим преувеличением сказать, что по меньшей мере с окончания Второй мировой войны политику США определяли, с одной стороны, практическое преследование своих интересов, а с другой – риторический идеализм. Такие влиятельные мыслители, как Уолтер Липпман, Ганс Моргентау, Джордж Кеннан, Дж. Уильям Фулбрайт, Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский, считали основополагающим принципом соблюдение национальных интересов, и все они в то или иное время предостерегали против чрезмерного использования Америкой своей силы. Ещё в 1943 году Липпман выразил это в своём памятном высказывании: «Государство должно поддерживать в равновесии свои задачи и свою силу; намеченные цели должны соответствовать средствам, а средства – целям; взятые на себя обязательства должны соответствовать ресурсам, а ресурсы – взятым на себя обязательствам». Моргентау, рассуждая в 1951 году примерно в том же духе, призывал американцев «позабыть об идеях крестовых походов и о том, что любая нация, какой бы доблестной и могущественной она ни была, не вправе взять на себя задачу переделать мир по своему подобию», а также помнить о том, что «ни у одного государства не бывает безграничных сил, и, следовательно, его политика должна строиться на уважении сил и интересов других». Труднее охарактеризовать позицию Джорджа Кеннана. Его известная статья за подписью «X» 1947 года прозвучала боевым кличем, оправдывающим использование военной силы где угодно и когда угодно, чтобы противостоять советской экспансии, а в 1948 году он представил агрессивную программу тайной войны против Советского Союза. Тем не менее после того, как Липпман подверг его критике в ряде статей, Кеннан утверждал, что его неправильно поняли – в частности, что его описанная в статье с подписью «X» стратегия сдерживания не подразумевала использование военной силы против коммунизма. Впоследствии он перешёл на умеренные позиции Липпмана.
Похоже, что для самого Бжезинского расхождение между практикой продуманного выбора ограниченных целей и риторикой политического авантюризма и выдачи желаемого за действительное стало очевидным в середине 1950-х. Это было время, когда администрация Эйзенхауэра, особенно госсекретарь Джон Фостер Даллес, произносили одну речь за другой, обещая «освобождение» Восточной Европы от советского владычества. Как республиканцы, так и демократы особенно увлечённо разглагольствовали об «отпоре» советской мощи в годы выборов. Между тем за кулисами вице-президент Никсон в середине 1956 года назвал предполагаемое советское вторжение в Восточную Европу (подобно интервенции в Венгрию позже в том же году) «не таким уж чистым злом», поскольку оно послужило бы хорошим поводом для пропаганды на Западе. Именно тогда Бжезинский, больше заинтересованный в конкретных достижениях, нежели в пропагандистских победах, начал разрабатывать свою концепцию мирного вовлечения. Это было развитие концепции сдерживания («сдерживание-плюс») и реакция на то, как в шутку на Западе воспринимали советскую концепцию мирного сосуществования: «Что моё – моё, что ваше – об этом ещё можно поторговаться». Бжезинский, похоже, заявлял: если Москва собирается состязаться с Западом за пределами Советского блока, то Запад должен состязаться с ней внутри Советского блока.
За исключением нескольких статей во время Вьетнамской войны, в которых Бжезинский поддерживал «глобализм» администрации Джонсона, Бжезинский последовательно придерживался парадигмы «сдерживания-плюс». Придерживаясь общепризнанного толкования сдерживания в том смысле, что цель такого сдерживания заключается в том, чтобы обеспечить равновесие сил с небольшим уклоном в сторону Соединённых Штатов, Бжезинский признавал советские слабости. Он считал, что, будучи военным гигантом, Советский Союз остаётся карликом в экономическом и политическом отношениях. Ни одна самостоятельная нация, вроде балтийских государств или Грузии, как и ни одна страна Восточной Европы, такие как Польша или Венгрия, не присоединились к СССР или Советскому блоку добровольно. Их интеграция прошла не полностью, если не сказать безуспешно. Общие их институты не отличались эффективностью. Постоянный недостаток товаров первой необходимости подтверждал изъяны центральной плановой экономики.
Для того, чтобы воспользоваться этими слабостями, Бжезинский предложил концепцию «мирного вовлечения», также называемую «дифференциацией», принятой администрациями Джонсона и Кеннеди. В Восточной Европе – на «заднем дворе Москвы» – она подразумевала создание сильной оппозиции коммунистическому правлению в сочетании с экономическими обещаниями и обменами в области образования, призванными взрастить интеллектуалов, жаждущих возобновления контактов с Западом; предлагалось даже давать поблажки коммунистическим режимам, демонстрирующим хотя бы признаки либерализации или самое скромное несогласие с политикой Москвы. Таким образом ставились ограниченные цели: либерализация вместо освобождения, разнообразие вместо демократии, частичное несогласие с Советским Союзом вместо полного отхода от него и по возможности поддержка националистических настроений. Бжезинский предложил реалистичную, эволюционную альтернативу пустой политической риторике.
Возможность применить эту альтернативу по отношению к Китаю стала главным тестом «реальной политики» Бжезинского. Принятый на вооружение Белым домом принцип Бжезинского, воплощённый в поговорке «враг моего врага – мой друг», оказался настолько же самоочевидным, сколько и простым. В конце концов Китай сошёл с советской орбиты ещё в начале 1960-х – около 15 лет до этого – и теперь был готов сотрудничать с Соединёнными Штатами против «гегемонии» Москвы. После впитанного с детства антисоветизма и длительного изучения тоталитарных режимов, в частности советской системы, решение пойти на примирение с Китаем далось относительно легко. В конце концов это был выбор стратега, подходившего к каждому вопросу с учётом долгосрочных интересов Америки, как до этого, так и впоследствии.
Часть I. Из Лиги Плюща
Глава 1. Збиг, Генри и новая внешнеполитическая элита США
Жюстен Ваис
Кембридж, 23 января 1964 года
«Дорогой Збиг! В последнем выпуске журнала «Лук» я только что прочитал о том, что вас выбрали одним из Десяти выдающихся [молодых] людей года. Я знал, что вы выдающийся, но никогда не думал о вас, как о молодом. Неудивительно, что Мушка предпочитает вас мне.
Позвольте мне воспользоваться этим поводом, чтобы поздравить вас с Мушкой с рождением ещё одного ребёнка.
С тёплыми пожеланиями,
Искренне ваш, Генри Киссинджер.
P.S. – На мой взгляд, ваша статья в «Нью лидер» великолепна. У меня только одно замечание: вы действительно считаете, что немцы достаточно умны для вашей политики? Она может показаться слишком утончённой. Давайте это как-нибудь обсудим».
Нью-Йорк, 30 января 1964 года
«Дорогой «Выдающийся человек-58». Мушка предпочитает меня, потому что я урожая 1963 года. Говорят, этот год отличался неплохим плодородием.
Я искал вас вчера в Кембридже, но вас там не было. Жаль, я хотел обсудить с вами состояние мира – иными словами, ускоряющийся процесс разрушения американской внешней политики.
С тёплыми пожеланиями, искренне ваш, Збигнев Бжезинский»[1].
Это явно не переписка между двумя недоброжелателями. По всем меркам это свидетельство взаимного уважения, признание интеллектуального труда и выражение личной симпатии. Исследователи ошибаются, говоря о «долговременном периоде прохладных отношений» между Збигневом Бжезинским и Генри Киссинджером. Ещё более они ошибаются, изображая их противниками, испытывающими друг к другу «тлеющую неприязнь», или заклятыми врагами, ведущими битву за славу и влияние в послевоенной Америке. Типичный приверженец такой точки зрения – Уолтер Айзексон, изобразивший Збигнева Бжезинского в роли «давнего противника Киссинджера по Гарварду» в своей эпохальной биографии Генри Киссинджера[2].
Возможно, между уроженцем Германии Киссинджером, поступившим в Гарвард в 1947 году, и поляком Бжезинским, поступившим в 1950 году, помимо товарищеских отношений действительно наблюдались некоторые трения. Оба отличались усердием и честолюбивыми устремлениями. Пусть они и не вращались в одних и тех же кругах (Киссинджер занимался международными исследованиями, а Бжезинский обучался на советолога в Русском центре), оба они стремились к одной и той же цели – быстро занять достойное место в гарвардской иерархии, громко заявить о себе и добиться признания за стенами академии. В 1950-х коллеги описывали Киссинджера как блестящего аспиранта, но неуклюжего и немного высокомерного человека. Однажды в середине 1950-х Бжезинский вместе со Стэнли Хоффманом (другим подающим надежды эмигрантом из Центральной Европы, уроженцем Вены) сидел у двери в кабинет своего научного руководителя Карла Фридриха. Тут появился Киссинджер, уверенно пересёк коридор, постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, открыл её. Прежде чем войти, он обернулся, перехватил разгневанный взгляд Бжезинского и сказал со своим немецким акцентом: «Збиг, вот так нужно обращаться с младшими сотрудниками»[3].
Но подобные трения вряд ли могут стать поводом для настоящей вражды, тем более что есть свидетельства и их дружеского сотрудничества. В 1956 и 1957 годах Бжезинский обращался к Генри, предлагая кандидатуры из поляков для участия в Гарвардском Международном семинаре на тему холодной войны в рамках летней программы для европейцев и азиатов, разработанной Киссинджером и его научным руководителем, профессором Уильямом Янделлом Эллиотом (о соперничестве которого с Карлом Фридрихом на факультете государственного управления было широко известно) и получившей неплохие отзывы[4]. Оба отрицают, что воспринимали друг друга соперниками в Гарварде, и если Бжезинский со своей стороны и воспринимал его как конкурента, то только потому, что, по словам Киссинджера, такой дух «был частью системы, в том смысле, что я был аспирантом на два-три года старше его и занимал положение, которое он сам надеялся занять. Я получал работы, которые он сам хотел получить – и заслуженно – причём вовсе не за его счёт, но это подталкивало его к соревнованию и побуждало как-то проявлять себя и чем-то отличаться»[5].
Вслед за этим Киссинджер предлагает вторую причину возникновения широко известных слухов об их предполагаемом «напряжённом соперничестве»: удивительное сходство их биографий. Киссинджер, родившийся в 1923 году в Фюрте, был на пять лет старше Бжезинского, родившегося в 1928 году в Варшаве. Оба вместе с семьями приплыли из Европы в Нью-Йорк осенью 1938 года – Киссинджер как еврейский беженец, надеявшийся избежать преследований со стороны Третьего рейха, а Бжезинский как сын польского дипломата, которого назначили генеральным консулом в Монреале. Оба обучались в Гарварде и быстро заслужили признание благодаря своему интеллекту и умению разбираться в политике. Несмотря на свои акценты оба поднялись на вершину американского общества, и во многом этому способствовала потребность в хороших специалистах, которую испытывала вступавшая в эпоху глобализма Америка.
Оба рано заняли высокое положение в академической сфере: Киссинджер как штатный профессор Гарварда в 1956 году, а Бжезинский как штатный профессор Колумбийского университета в 1960 году, поскольку на факультете государственного управления в Гарварде было столько талантливых молодых людей, что предоставить им всем постоянную работу было бы невозможно. В то время его воспринимали исключительно как блестящего советолога из Лиги Плюща, «гарвардского профессора с невероятным именем Збигнев Бжезинский, который читает газету «Правда» за утренним кофе и с удовольствием следит за хитросплетениями кремлёвской политики», выражаясь словами статьи, опубликованной в газете «Уолл-стрит джорнал» в 1960 году[6]. Обоих рано приняли в состав Совета по международным отношениям, широко известного как просто «Совет». Киссинджер опубликовал свою первую статью в журнале Совета «Форин афферс» в возрасте 32 лет, Бжезинский – в возрасте 33 лет, и оба стали одними из самых плодовитых авторов журнала за всю его историю[7]. Как видно из примера их переписки в начале этой главы, Молодёжная торговая палата США не преминула обратить своё внимание на подающих надежды политологов, выбрав Киссинджера одним из «Десяти выдающихся молодых людей года» в 1958 году, в возрасте 35 лет, и Бжезинского в 1963 году, также в возрасте 35 лет. После первого опыта работы в Совете национальной безопасности при президенте Кеннеди (примерно в возрасте 38 лет) Киссинджер в 1968 году был назначен советником по национальной безопасности при президенте Никсоне. Бжезинский же, работавший в Совете планирования Государственного департамента при Линдоне Джонсоне (также примерно в возрасте 38 лет), был назначен советником по национальной безопасности при президенте Джимми Картере в 1976 году. Оба регулярно публиковали широко обсуждавшиеся книги, и оба сохранили своё значительное интеллектуальное и политическое влияние вплоть до выхода на покой, что оба долго отказывались принимать. И как же после этого такие «близнецы», титаны американской внешней политики не могут быть соперниками?
Но, пожалуй, вопрос об их отношениях не следует задавать в первую очередь. И, возможно, их параллельные биографии – нечто более важное, чем любопытные истории успеха двух иммигрантов. Ибо Киссинджер и Бжезинский не просто вписываются в известную схему «социального лифта». Они стали исследователями неизведанной территории международной политики, пионерами новой модели, принятой на вооружение американской внешнеполитической элитой. И если Киссинджеру выпала участь стать самым первым, поскольку, как он говорил сам, был старше, то Бжезинский узаконил ныне хорошо известный путь, проходя по которому получивший академическое образование интеллектуал становится вашингтонским стратегом и дипломатом.
Чтобы понять такую трансформацию, полезно обозначить некую точку отсчёта в существовавшем до них мире. В снежный декабрьский день 1960 года только что избранный на пост президента Джон Ф. Кеннеди пригласил на обед в своём доме в Джорджтауне банкира Роберта Ловетта 1895 года рождения, сына председателя Объединённой Тихоокеанской железной дороги. Он следовал по проторенному cursus honorum (карьерному «пути чести») белой англосаксонской протестантской элиты: Хиллскул, Йельский университет, общество «Череп и кости», Гарвард, выгодный брак. Будучи партнёром влиятельного нью-йоркского инвестиционного банка Браун бразерс, «Харриман энд компани», Роберт Ловетт служил воплощением внешнеполитического истеблишмента и его ценностей: умеренность, нежелание «светиться» на публике и рекламировать себя, исполнение общественного долга. Он разбирался в международной политике благодаря занятию бизнесом и поскольку служил командиром первой авиационной эскадрильи ВМФ во время Первой мировой войны, специальным помощником по авиации военного министра США Генри Стимсона во время Второй мировой войны, заместителем государственного секретаря Джорджа К. Маршалла и, наконец, четвёртым министром обороны. Несмотря на то, что он был республиканцем, Кеннеди предложил ему не одну, а целых три министерских должности на выбор: министра обороны, государственного секретаря и министра финансов. Но Ловетт отказался от предложения, сославшись на плохое здоровье, и посоветовал вместо себя назначить в Пентагон Роберта Макнамару, Дина Раска в «Туманное дно» (Государственный департамент) и Дугласа Диллона в Казначейство. Все трое были наняты[8].
Такова была власть и могущество истеблишмента – «мудрецов», определявших политику Америки в середине двадцатого века, включая Генри Стимсона, Дина Ачесона, Аверелла Гарримана, Джона Маклоя и Чипа Болена[9]. Но к концу «тревожных 1960-х» разработка внешнеполитического курса коренным образом изменилась, и эта социальная трансформация выразилась в назначении иммигранта, доктора наук Генри Киссинджера на пост советника по национальной безопасности, за восемь лет до того, как тот же пост в Белом доме занял иммигрант и доктор наук Збигнев Бжезинский. Любопытно, что оба соревновались за влияние с государственными секретарями, олицетворявшими старый истеблишмент (и над которыми они, что характерно, одержали верх): Уильямом Роджерсом в случае с Киссинджером и Сайрусом Вэнсом в случае Бжезинского – с двумя юристами из Нью-Йорка, англосаксонскими протестантами, игравшими по старым правилам.
Старая элита, естественно, получала власть благодаря своим связям и высокопоставленному положению; Киссинджеру и Бжезинскому приходилось всего добиваться самим, и они играли по новым правилам. Оба отличались честолюбием, усердием и беспардонным стремлением заявить о себе; оба полагались на три ключевых фактора, определивших политическое развитие в послевоенные десятилетия: появление Университета холодной войны; размывание границ между академическими исследованиями и практическим определением политического курса, на которое всё большее влияние оказывали политические организации и «мозговые центры»; а также усиливавшаяся политизация в выборе должностных лиц, ответственных за международные отношения. Не они создали все эти факторы, но они первыми воспользовались ими в полном объёме – и тем самым сделали Вашингтон таким, каким мы его знаем сегодня.
Гарвард, в который поступили Киссинджер и Бжезинский – в 1947 и 1950 годах соответственно, – уже не был сонным элитным учебным заведением из Лиги Плюща. Он стал ярким воплощением концепции Университета холодной войны[10]. В результате послевоенного разделения мира на два враждующих лагеря и начала холодной войны Соединённые Штаты вдруг обнаружили, что им крайне необходимы высокообразованные специалисты в самых разных областях, от ядерной физики до экономики и иностранных языков – чтобы разрабатывать ядерные бомбы, развивать экономику стран третьего мира и управлять далёкими территориями. Как следствие, правительство обратило внимание на университеты, щедро выделяя федеральные деньги таким заведениям, как Гарвард, Колумбия и Стэнфорд. В результате обильных финансовых потоков ведущие университеты превратились в мощные исследовательские институты (иногда в ущерб преподавательской деятельности), обеспечив внушительный прорыв Соединённых Штатов во многих сферах. Финансирование также изменило сам характер академической работы: «Свободный университет, по исторической традиции источник свободных идей и научных открытий, пережил революцию», – говорил президент Эйзенхауэр в своём известном прощальном обращении 1961 года, в котором предупреждал об опасности усиления военно-промышленного комплекса. «Перспектива подчинения ученых страны федеральному диктату, выделения средств под проекты и утверждения власти денег существует постоянно, и ее следует рассматривать со всей серьезностью»[11].
Именно против таких «скомпрометировавших себя кампусов» с федеральным денежным довольствием и тесными связями с правительством протестовали бунтовавшие студенты 1960-х[12]. Но для Киссинджера и Бжезинского Университет холодной войны с его прямым сообщением с Вашингтоном и ориентацией на политические исследования стал идеальным местом для раскрытия потенциала. Объём знаний в них определяли потребности ведения войны или сохранения мира в удалённых странах, знания разных языков и проведения междисциплинарных исследований, посвящённых конкретному региону. В 1946 году в Колумбийском университете при финансовой поддержке Фонда Рокфеллера открылся Русский институт, директором которого стал бывший сотрудник Управления стратегических служб Джероид Робинсон. В 1948 году Русский центр открылся в Гарварде при финансовой поддержке корпорации Карнеги и федерального правительства (включая ВВС, Государственный департамент и Центральное разведывательное управление)[13]. Летом 1950 года, когда выпускник Университета Макгилла Бжезинский из-за нехватки денег не мог себе позволить поступить в Гарвард, Мерл Фейнсод предложил ему работу стажёра-ассистента у Алекса Инкелеса, известного социолога из «Русского исследовательского центра», благодаря чему у Бжезинского появилась возможность отправиться в Кембридж, штат Массачусетс[14]. Там Бжезинский провёл целое десятилетие, получив в 1953 году степень доктора наук и став научным сотрудником, а позже и аналитиком центра, всегда участвовавшим в его общих исследовательских проектах[15]. Там он не только защитил опубликованную в 1956 году диссертацию («Постоянная чистка»), но также в соавторстве с Карлом Фридрихом выпустил посвящённое тоталитаризму исследование (1956), сделавшее его заметной фигурой в советологии, и подготовил первое издание своей самой важной работы «Советский блок: единство и конфликт» (1960)[16].
Киссинджер же воспользовался тем, что исследования международных отношений оформились в отдельную дисциплину с упором на реализм и особенным вниманием к формированию образа Америки за рубежом. В 1950–1951 годах Эллиот и Киссинджер основали упомянутый выше Международный семинар, целью которого было противостоять идеологическому влиянию коммунизма тем, чтобы собрать сорок молодых студентов и общественных деятелей из Европы и Азии, которые бы посещали занятия в Гарварде и проводили летние встречи в Вашингтоне[17]. Финансовую поддержку как семинара, благодаря которому Киссинджер завёл множество пригодившихся ему впоследствии полезных связей, так и сопровождавшего его журнала «Конфлуэнс» («Слияние»), в котором публиковались известные интеллектуалы (Рейнгольд Нибур, Раймон Арон, Джеймс Бёрнхем, Ханна Арендт)[18], оказывали частные фонды и ЦРУ – этот факт получил огласку только в 1960-х годах. Так велась типичная борьба за умы и сердца эпохи холодной войны.
Университет холодной войны также стал инкубатором многих исследовательских центров, посвящённых международным отношениям, исследования в которых велись с уклоном в политику. Как Киссинджер, так и Бжезинский были вовлечены в создание Центра международных отношений при Гарвардском университете (CFIA, позже WCFIA) в 1958 году[19]. За рождением центра при содействии Фонда Форда наблюдал Макджордж Банди, декан факультета наук и искусств. Он предложил стать деканом центра Роберту Боуи, директору Совета планирования Государственного департамента в 1953–1957 годах; восходящей звезде Киссинджеру Банди предложил стать заместителем декана. Оба сразу же не поладили между собой, и их противостояние стало легендой[20]. При этом Боуи искренне нравился более молодой Бжезинский, который в 1958–1960 годах работал над своей книгой «Советский блок» при содействии как «Русского исследовательского центра», так и CFIA; при этом он находил время на общение с зарубежными гостями, приезжавшими по приглашению Боуи и Киссинджера каждый учебный год. CFIA был довольно впечатляющим местом: в конце 1950-х и в начале 1960-х здесь можно было встретить таких людей, как Томас Шеллинг, Сэмюэл Хантингтон, Стэнли Хоффман, Джозеф Най, Мортон Халперин, Уолт Ростоу и Кеннет Уолтц. Несмотря на попытки Роберта Боуи и Мерла Фейнсода оставить Бжезинского в Гарварде, декан Банди не смог в 1959 году выделить для него профессорскую вакансию, и в 1960 году Бжезинскому пришлось отправиться в Колумбийский университет по стопам своего коллеги Сэмюэла Хантингтона (который через несколько лет вернулся в Гарвард, тогда как Бжезинский дважды отклонил предложение, как и Киссинджер в 1977 году)[21].
Таким образом, начиная с 1950-х годов Университет холодной войны породил целое поколение молодых профессионалов, настоящих экспертов в области международных отношений, а не «любителей», вроде представителей старой элиты; и эти молодые профессионалы прежде всего ориентировались на политику. Но самые честолюбивые из них, вроде Киссинджера и Бжезинского, не желали довольствоваться ролью исследователей и стремились приблизиться к власти, чтобы самим участвовать в изучаемых ими процессах. Поворотным годом для Бжезинского стал 1960, когда он решил отправиться в Колумбийский университет. Позже он объяснял: «Если бы мне предложили постоянную должность в Гарварде, я бы с радостью согласился и остался бы. Но так я был вынужден задуматься – а кем же я хочу стать на самом деле? Мне не хотелось ходить из года в год в твидовом пиджаке по одним и тем же коридорам с папкой «Лекция 7» под мышкой, повторять «прошлогоднюю шутку», следить за «реакцией аудитории». Мне хотелось влиять на мир, определять американскую политику. А для этого лучше подходил Нью-Йорк»[22]. За четыре года до этого к такому же выводу пришёл Киссинджер: «утончённый мир академии казался не настолько привлекательным, как пропитанные властью кварталы Манхэттена. Осознание того, что жизнь профессора не удовлетворит его амбиции, стало ключевым моментом в карьере Киссинджера», – пишет Уолтер Айзексон[23]. Благодаря рекомендации Артура Шлезингера-младшего Киссинджер в 1955 году занял пост директора по исследованиям в области ядерного оружия в нью-йоркском Совете по международным отношениям. Два года спустя он опубликовал основанную на обсуждениях в Совете книгу «Ядерное оружие и внешняя политика». Книга эта неожиданно стала бестселлером и прославила имя Киссинджера, в немалой степени поспособствовав тому, что в 1958 году его избрали заместителем директора CFIA[24].
И это вторая важная особенность послевоенных десятилетий: создание обширной «серой зоны» между академическими исследованиями и практической политикой в области международных отношений – целый мир «мозговых центров», журналов, средств массовой информации и политических организаций. Киссинджер и Бжезинский не только стали одними из первопроходцев этого мира, но и удачно воспользовались им в своих целях.
В 1960-х и 1970-х годах заявили о себе «мозговые центры» (аналитические центры), по сравнению с университетскими исследовательскими центрами стоящие на шаг ближе к настоящей политике. Старые, вроде Брукингского института, упрочили свою репутацию в области международных отношений; влияние молодых, вроде RAND, росло; появились и совсем новые, вроде Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Но в 1950-х и начале 1960-х годов безраздельно господствовал нью-йоркский Совет по международным отношениям. Созданный после отказа США ратифицировать Версальский договор, он воплощал собой внешнюю политику истеблишмента – его предпочтения (интернационализм, атлантизм и осмотрительное, но не вызывающее сомнений лидерство Америки), его социальные ценности (консенсус, рассудительность, ответственность) и его связи с ориентированным на международную арену нью-йоркским сообществом крупнейших инвестиционных банков и юридических фирм. Совет был членской организацией, но при условии достаточных рекомендаций вполне мог открыть двери перед новыми талантами, как это видно на примере Киссинджера, извлёкшего огромнейшие преимущества от вступления в него. Бжезинский стал его членом в 1961 году. Когда он прибыл в Нью-Йорк, его взял под свою опеку Гамильтон Фиш Армстронг, легендарный редактор журнала «Форин афферс»; Армстронг посоветовал Бжезинскому написать ряд статей, укрепивших его растущую репутацию специалиста по Восточной Европе и Советскому блоку[25].
В 1964 году Совет попросил Бжезинского и Киссинджера провести ряд семинаров по трансатлантическим отношениям и опубликовать свои соображения по их поводу. Год спустя в результате этой инициативы вышли две оказавшие большое влияние книги[26]. В «Омрачённом партнёрстве», посвящённом политическим и стратегическим вопросам внутри НАТО, Киссинджер призывал американцев постараться лучше понять дипломатические позиции европейцев, особенно французов и немцев, сетовал на склонность Америки чрезмерно упрощать особенности европейской политики или вовсе не обращать на них внимания и подвергал резкой критике идею ядерных многосторонних сил, предлагаемую его соперником Робертом Боуи. В «Альтернативе разделению» Бжезинский развивал концепцию мирного вовлечения в дела Восточной Европы, которую изложил четырьмя годами ранее в «Форин афферс»[27]. Поскольку идеи «отката» и «освобождения» стран Восточной Европы от советского влияния по своей сути были лишь химерами, а смирение с создавшимся положением оставалось неприемлемым вариантом, то, как утверждал Бжезинский, США следовало бы сблизиться с восточноевропейскими странами и взять их под свою опеку, поощряя культурный и экономический обмен с целью уменьшения натянутости в отношениях времён холодной войны, а заодно и усилить внутренние противоречия и центробежные стремления внутри Советского блока (хотя последнее предположение и не было изложено явно, оно легко читалось между строк).
Помимо Совета, который служил Киссинджеру и Бжезинскому солидной платформой для привлечения внимания к своим персонам, получения качественной информации и заведения полезных знакомств, они охотно сотрудничали и с другими «мозговыми центрами». Киссинджер работал с корпорацией RAND[28], в которой Бжезинский давал консультации в середине 1960-х годов. Бжезинский принимал участие в нескольких внешнеполитических инициативах Брукингского института под руководством Генри Оуэна – особенно это касается группы по изучению израильско-палестинского конфликта в 1974–1975 годах, ратовавшей за самоопределение палестинцев (при условии признания палестинцами суверенности и целостности Израиля), что привело бы либо к образованию независимого палестинского государства, либо к автономному палестинскому самоуправлению в районе реки Иордан[29]. Огромную роль в усилении роли аналитических центров и расширения этого «промежуточного мира» играли фонды. Фонд Форда не только помог в развитии Университета холодной войны, в том числе международных семинаров Киссинджера и исследовательского Института по вопросам коммунизма Бжезинского при Колумбийском университете, но и финансировал важные семинары по внешней политике в своём центре в Белладжо в Италии, которые посещали оба политолога. Он же предоставил Бжезинскому грант на посещение Японии в 1971 году, что привело к созданию Трёхсторонней комиссии.
Учреждение Трёхсторонней комиссии иллюстрирует ещё один аспект рождавшегося промежуточного мира внешней политики, в котором так уверенно чувствовали себя Киссинджер и Бжезинский, – образование политических групп и целой сети связей в Соединённых Штатах и за их пределами. Как мы видели, Киссинджер создал обширную сеть зарубежных контактов на Гарвардском Международном семинаре, которым руководил с 1951 по 1965 год (и ещё раз в 1967 году). Его карьерный рост также ускорила работа в Фонде братьев Рокфеллеров в качестве директора Проекта специальных исследований фонда; немало пользы принесло и знакомство с губернатором штата Нью-Йорк и кандидатом в президенты Нельсоном Рокфеллером. Бжезинский поддерживал выгодное знакомство с другим Рокфеллером, братом Нельсона Дэвидом, председателем банка «Чейз Манхэттен Банк» и председателем Совета по международным отношениям (с 1970 года). В 1972 году Дэвид Рокфеллер и Бжезинский вместе с Робертом Боуи, Генри Оуэном, Макджорджем Банди и другими договорились об учреждении Трёхсторонней комиссии – частной организации представителей элит Европы, Северной Америки и Японии с целью обсуждения и поиска решений мировых проблем, возникающих в связи с растущей зависимостью государств друг от друга. Любопытно, что поводом для создания этой комиссии отчасти стало нежелание другой организации, созданной в разгар холодной войны Бильдербергской группы, или Бильдербергского клуба, принимать в свои ряды японцев для обсуждения трансатлантических вопросов[30]. Как Киссинджер, так и Бжезинский, конечно же, посещали некоторые заседания Бильдербергского клуба, на которых присутствовали влиятельные европейцы и американцы, и были частью этой трансатлантической сети, созданной в послевоенные десятилетия, которая включала в себя Атлантический совет, Институт Аспена, Зальцбургские семинары и Мюнхенскую конференцию по военным вопросам.
Если в ведущих кругах старого истеблишмента до сих пор ценились скрытность и конфиденциальность, то ситуация быстро менялась. В 1960-х и 1970-х годах ещё одним ключевым фактором той среды, в которой вращались Киссинджер и Бжезинский, стали средства массовой информации. Если вопросы международных отношений раньше освещались, преимущественно, в «высокой прессе» – примером тому служат Уолтер Липпман или Джозеф Элсоп, – то со временем большое влияние обрели радио и телевидение. Средства массовой информации становились всё более активными и даже агрессивными, не стеснявшимися выражать свою точку зрения (переломными моментами здесь можно назвать Вьетнамскую войну и Уотергейт) – например, в эту эпоху возникли редакционные статьи и колонки комментаторов. Киссинджер и Бжезинский высоко ценились, как комментаторы по международным отношениям, не только в «Форин афферс», но и писали статьи для таких изданий, как «Нью Рипаблик», «Ньюсуик» и, конечно же, «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк таймс». Они умели увлечь читателя, чётко изложить суть вопроса и привести запоминающуюся цитату. И, конечно же, им нравилось внимание публики, способствующее их известности.
Оба рано начали выступать по телевидению. Например, в июне 1965 года Бжезинский выступил в прямом эфире на канале Си-би-эс вместе с исследователем из RAND, чтобы помочь бывшему декану Гарварда Макджорджу Банди, на тот момент советнику по национальной безопасности при президенте Линдоне Джонсоне, привести аргументы в пользу войны во Вьетнаме. Всем троим противостоял Ганс Мортентау, известный профессор Чикагского университета и основатель реалистичной школы международных отношений, при содействии двух других настроенных против войны экспертов[31]. Двумя годами ранее между Киссинджером и Бжезинским произошёл забавный обмен мнениями. Киссинджер жаловался: «Я слышал, что вы советуете нью-йоркской образовательной передаче пригласить меня в качестве проповедника «жёсткой» позиции [в американо-советских отношениях]. Я, разумеется, польщён таким вниманием ко мне. Но мне не нравится навешивание ярлыков, и я не знал, что вы, оказывается, гораздо мягче меня. К тому же, как я могу надеяться сохранить свою репутацию здравомыслящего [wize] человека, если вы не позволите мне хотя бы сделать вид, что я занимаю взвешенную среднюю позицию?» Через несколько дней Бжезинский отправил свой ироничный ответ: «В том смысле, в каком Эрих Фромм называет некоторые типы «мягкими», вы, несомненно, служите образцом «твёрдого», то есть трезвого, свойственного государственному деятелю реалистичного подхода. Я только собирался сделать небольшое умеренное вступление, чтобы заложить основы для разгрома «мягкотелых». Так что ваша репутация здравомыслящего (кстати, в Колумбии мы пишем это слово [wise] через букву s, как в словах ‘Soviet’ и ‘Stalin’) человека нисколько бы не пострадала»[32].
Роберт Ловетт или Джон Маклой ни за что бы не согласились выступить по телевидению, но представители новой элиты состязались между собой за право быть увиденными и услышанными в новой среде, в которой освещение международной ситуации средствами массовой информации становилось всё более и более важным. В этой новой социальной системе социальные связи и публичность дополняли и усиливали друг друга. Человек, опубликовавший книгу и какую-нибудь более специализированную статью в «Форин афферс», привлекал к себе внимание как потенциальный автор «Нью-Йорк таймс». Колонка комментатора в «Таймс» или статья в «Ньюсуик» (где Бжезинский публиковался с 1970 года) могла попасться на глаза администрации и послужить поводом для общения. После этого какой-нибудь из «мозговых центров» мог пригласить его в свой штат, а Бильдербергский клуб принять в свои ряды, благодаря чему у автора появлялись новые знакомства и он становился ценным сотрудником, потенциальным университетским профессором или влиятельным общественным экспертом. Благодаря своей работе в Совете по международным отношениям, а также публикации книг и статей, Киссинджер, как уже было сказано, в 1958 году был назначен Макджорджем Банди заместителем директора CFIA, а после ему предложили временную должность консультанта Совета по национальной безопасности (впрочем, с этим вышло не всё благополучно, поскольку в 1961 году Банди постарался отстранить Киссинджера). На основании примерно того же опыта Генри Оуэн, тогдашний директор Совета планирования Государственного департамента, и Уолт Ростоу, сменивший Банди на посту советника по национальной безопасности, предложили Бжезинскому должность в Совете планирования в 1966–1968 годах.
Но чтобы занять ведущие позиции и по-настоящему определять внешнюю политику США, а не просто выполнять второстепенную роль помощников истеблишмента, необходим был успех в другой области – в избирательных кампаниях. Ещё в 1960 году Кеннеди по-прежнему предлагал ключевые позиции в своём кабинете Роберту Ловетту и другим представителям старой элиты, обладающим престижем и связями, причём вне зависимости от партийной принадлежности. Но эта эпоха подходила к концу, и сам Кеннеди начал нанимать новых профессионалов, таких как Уолт Ростоу, – профессоров и экспертов, служивших ему советниками во время предвыборной кампании.
Киссинджер и Бжезинский довольно рано стали советниками по международной политике и, обладая такими незаурядными талантами, предлагали свои услуги разным кандидатам. Киссинджер, как было отмечено, в своё время работал на Нельсона Рокфеллера, безуспешно пытавшегося выдвинуть свою кандидатуру от Республиканской партии в 1960, 1965 и 1968 годах. После проигрыша кампании 1968 года помощники вице-президента и кандидата от демократов Хьюберта Хамфри через его главного советника по международной политике Бжезинского спросили Киссинджера, не соблаговолит ли он поделиться так называемым «досье Никсона» – различными компрометирующими материалами на главного оппонента Рокфеллера. Киссинджер ответил согласием, продемонстрировав тем самым стремление к сотрудничеству – таким образом, он в какой-то степени мог бы поспособствовать победе демократов. Но когда Бжезинский договорился о передаче материалов в Центре Рокфеллера, встречу отменили. Киссинджера официально назначили советником Никсона по внешней политике[33]. Девять лет спустя, на церемонии в честь Хьюберта Хамфри в сенате США, Бжезинский в своей речи намёками упомянул об этом эпизоде. «Участие в вашей кампании 1968 года было для меня величайшей честью, – сказал он, обращаясь к Хамфри, а затем, повернувшись к Киссинджеру, добавил: – И я хочу во всеуслышание поблагодарить доктора Киссинджера за его помощь в этой кампании»[34]. Но это еще не всё. Прежде чем стать официальным советником Никсона, Киссинджер, будучи одно время консультантом и даже эмиссаром администрации Джонсона во Вьетнаме и обладая хорошими связями с делегацией США в Париже, возглавляемой Авереллом Гарриманом, передал людям Никсона инсайдерскую информацию об идущих переговорах с Северным Вьетнамом[35].
Таким образом, Киссинджеру в каком-то смысле удалось принять участие в трёх кампаниях, невзирая на партийную принадлежность. Это принесло свои плоды, когда через несколько недель Никсон предложил ему должность советника по национальной безопасности. Это ключевое назначение в конце 1968 года ознаменовало собой переход власти от старого истеблишмента к новой элите в области международной политики. Многие такого не ожидали, и это известие удивило даже Бжезинского.
«В 68 году я работал на Хьюберта Хамфри. Был его главным советником по внешней политике… Чтобы дать представление о том… насколько скромными были мои притязания, я думал, что, возможно, мне удастся стать помощником государственного секретаря по Европе. Да, это странно, но я не был готов к большему, и подстегнул мои ожидания только Генри. Победив, Никсон назначил Генри. Я и не думал, что он так поступит. Когда я был советником Хамфри, я никогда не думал, что займу должность советника по национальной безопасности. Согласно моим представлениям об Америке того времени это было невозможно»[36].
Во время работы в Совете планирования Бжезинский познакомился с вице-президентом и принял его предложение возглавить отделение его предвыборного штаба по внешней политике. После поражения Хамфри Бжезинский продолжал помогать ему в вопросах внешней политики, и когда Хамфри снова выдвинул свою кандидатуру от Демократической партии на выборах 1972 года, Бжезинский пересылал ему аналитические статьи, тезисы и советы через Дэвида Фромкина и Макса Кэмпелмана, которые заведовали внешней политикой во время этой кампании[37]. Пусть он на этот раз и не находился настолько близко к Хамфри, как в 1968 году, но это компенсировал тот факт, что он содействовал и другим кандидатам. Некоторые статьи и тезисы, которые он отсылал Хамфри, были копией того, что он предоставлял Эдмунду Маски и Теду Кеннеди в более старой версии, и ещё он предоставлял материалы Генри Джексону «Скупу»[38]. Как и Киссинджер за четыре года до этого, Бжезинский распределял свои ставки (хотя и в одной партии), но никто из кандидатов, кроме Хамфри, на самом деле ему не нравился. И особенно он критиковал главного кандидата, Джорджа Макговерна, который, по его мнению, занимал слишком левые позиции по международным вопросам. Некоторые из советников сенаторов, тем не менее, попытались заручиться поддержкой Бжезинского в августе 1972 года, но он по-прежнему проявлял осторожность и даже отослал открытое письмо редактору «Вашингтон пост», в котором писал, что он вовсе не сторонник Макговерна, как предполагали некоторые[39]. Несколько недель спустя Макговерн потерпел сокрушительное поражение в борьбе с Никсоном, как и предсказывал Бжезинский, и тем самым укрепил позиции Киссинджера (вскоре тот получил назначение на пост государственного секретаря).
Бжезинский же вернулся к преподавательской деятельности в Колумбийском университете, писал статьи о международном положении и руководил нарождающейся Трёхсторонней комиссией, воплощением новой политической элиты. Вместе с тем в 1970-х годах Бжезинский значительно расширил свои горизонты: помимо своей специализации по Советскому блоку и Европе он заинтересовался Азией (проведя 1971 год в Японии и написав книгу «Хрупкий цветок»)[40], а также постарался рассмотреть политику и дипломатию с более широкой социологической точки зрения на международные отношения, включая влияние технологии как на передовые страны, так и страны третьего мира (в книге 1970 года «Технотронная эра»)[41]. Участие в Трёхсторонней комиссии помимо чисто академической деятельности позволяло ему ещё сильнее погружаться в «промежуточный» мир.
Именно благодаря Трёхсторонней комиссии он познакомился с губернатором Джорджии Джимми Картером. В 1973 году, составляя список представителей от США, Бжезинский с коллегами решили включить в него какого-нибудь губернатора-демократа с быстро развивавшегося в промышленном направлении Юга; они выбрали Картера, который стал усердно посещать все конференции, поскольку ему недоставало опыта в международной политике. Бжезинский предложил ему (как и другим политикам) свои услуги, и на протяжении 1975 года присылал быстро постигающему премудрость Картеру свои статьи и заметки; в результате проницательность и сила губернатора настолько впечатлили Бжезинского, что он пообещал Картеру свою поддержку[42]. Впрочем, на этот раз тот был единственным, кому Бжезинский намеревался помогать в избирательной кампании. В начале 1976 года Бжезинский заявил о себе как о главном советнике по внешней политике Картера – в этом ему должен был помогать Ричард Гарднер, коллега по Трёхсторонней комиссии и профессор Колумбийского университета – и он провёл достаточно убедительную кампанию, которая способствовала ноябрьской победе Картера в борьбе с Джеральдом Фордом, проложившей ему дорогу в Белый дом.
Итак, получив подготовку в Университете холодной войны 1950-х годов и исследовав зарождающийся «промежуточный» мир международных отношений в 1960-х и 1970-х, удачно для себя приняв участие в нескольких избирательных кампаниях, Киссинджер и Бжезинский, дошедшие до Белого дома, способствовали созданию новой элиты американской внешней политики, отправив старый истеблишмент – уже дискредитировавший себя войной во Вьетнаме – в историю. Во второй главе своей книги 1984 года «Наш собственный худший враг» И. М. Дестлер, Лесли Гелб и Энтони Лейк описывают как раз такую смену караула и приход того, что они проницательно называют «профессиональной элитой»[43]. Это описание и по сию пору остаётся лучшим среди прочих, и, кроме того, оно выполнено отчасти в автобиографическом ключе: Гелб и Лейк сами принадлежали к той самой профессиональной элите. Но при более пристальном рассмотрении Киссинджер и Бжезинский были не совсем типичными представителями этого нового класса. Их, скорее, можно назвать первопроходцами и образцами для подражания, задавшими высокий стандарт будущим поколениям, особенно в области интеллектуальной отдачи. По крайней мере, одна биографическая черта сближает Киссинджера и Бжезинского, отделяя их от остальной «профессиональной элиты»: их отношение к политике.
Оба, как мы видели, добились своего положения благодаря участию в избирательных кампаниях. Но ни тот, ни другой не были настолько уж убеждёнными сторонниками какого-то одного кандидата. Конечно, у Киссинджера были более консервативные взгляды, но он нисколько не смущался, работая на администрацию Кеннеди и Джонсона (пусть даже и опосредованно), и он поддерживал отношения с Нельсоном Рокфеллером, имя которого ассоциировалось с умеренным и даже либеральным крылом Республиканской партии («республиканцы Рокфеллера»). Несмотря на несогласие с неоконсерваторами и на то, что «новые правые» называли его отступником, он был достаточно гибок, чтобы намекать на сотрудничество с Рейганом, и даже произнёс жёсткую антисоветскую речь в фонде «Наследие». Пусть этого и не было достаточно для того, чтобы войти в администрацию Рейгана, но с ним поддерживал связи Джордж Г. У. Буш, лично его недолюбливавший, и это позволило Киссинджеру сохранять некоторый доступ ко всем администрациям республиканцев, особенно при Буше. Бжезинский же, со своей стороны, – традиционный либерал, долгое время поддерживавший Демократическую партию, насколько это соответствовало его взглядам на внутреннюю политику. Но реальное значение имеют его взгляды на международные отношения. Как мы видели, в 1972 году он не согласился поддержать Макговерна. Он поддерживал дружеские отношения с «ястребом» Рейганом и открыто поддержал Джорджа Г. У. Буша в кампании 1988 года, поскольку воспринимал Майкла Дукакиса как слишком левого (к разочарованию своей бывшей студентки по Колумбийскому университету и члена Совета национальной безопасности Мадлен Олбрайт, служившей советником Дукакиса по внешней политике) и как реинкарнацию Макговерна. В общей сложности он тем или иным образом имел отношение к каждому американскому президенту от Кеннеди до Обамы, за исключением Джорджа Г. У. Буша, которому противостоял.
Эти факты не совсем согласуются с отчётливой политизацией «новой элиты». Во многом это вопрос поколений. Если Киссинджер и Бжезинский родились в 1920-х годах, то основная масса профессиональной элиты родилась в 1940-х и после. Молодой Киссинджер принимал участие во Второй мировой войне, а Бжезинский хорошо помнил её подростком, пристально следившим за всеми событиями по радио и записывавшим свои размышления в дневнике. И именно эта война сформировала их политические взгляды. Но для новой профессиональной элиты формирующим событием стала война во Вьетнаме и бурные 1960-е, породившие новую эру идеологии и заставившие политологов разойтись по разным лагерям. Являются ли Соединённые Штаты государством, империалистическим по своей природе, которое слишком охотно применяет военную силу? Или это праведная нация, которую предаёт её собственная либеральная элита? Война во Вьетнаме усилила внутриамериканские политические разногласия, разделив левых (таких как Тони Лейк, Лесли Гелб, Ричард Холбрук и Мортон Халперин) и правых, часто происходивших из тех же демократических рядов (таких как Джин Киркпатрик, Ричард Перл, Пол Вулфовиц и Эллиот Абрамс). Промежуточный мир международных отношений быстро поляризовался, и правые аналитические центры и журналы (фонд «Наследие»; Американский институт предпринимательства; «Комментари» и т. д.) сражались со своими левыми соперниками (Фонд Карнеги; до некоторой степени Брукингский институт; «Форин полиси», представлявший, впрочем, довольно разные взгляды; «Уорл Полиси джорнал» и т. д.), тогда как Совет по международным отношениям старался преодолеть возникшую пропасть, широко открывая свои ряды в 1970-х, но с исчезновением старого истеблишмента его влияние падало.
Киссинджер и Бжезинский олицетворяли собой разрыв с традиционным истеблишментом, но они никогда полностью так и не слились с новой профессиональной элитой и не стали её неотъемлемой составной частью. В каком-то смысле можно утверждать, что они сами по себе составляют отдельную категорию – решающую переходную группу. И, возможно, это объясняет природу их личных отношений – они жили в одном и том же мире. В конце концов, несмотря на все свои разногласия и вполне обоснованное противостояние, между ними не наблюдалось яркой вражды, они не старались по любому поводу нападать друг на друга и не навешивали друг на друга ярлыки.
Более того, между собой их сближал и статус «аутсайдеров». «Несмотря на всю свою славу и всё своё влияние, Киссинджер в американском обществе оставался чужаком, – пишет Джереми Сури. – Его происхождение из немецких евреев сыграло свою роль в его карьере, но оно же мешало ему обрести полную легитимность в глазах общественности»[44]. Бжезинского тоже постоянно подозревали в том, что его взгляды на американо-советские отношения полностью определяются его польским происхождением. Нападки со стороны старого истеблишмента бывали порой очень болезненными. «Не следовало бы нам делать советником по национальной безопасности ненастоящего американца, – снисходительно заметил Роберт Ловетт после назначения Бжезинского в Белый дом. – Не могу представить, как он будет вести переговоры с русскими, с его-то предубеждениями и подозрительностью»[45]. Несколькими годами ранее, придерживаясь обычной для него в такой ситуации стратегии, Бжезинский написал едкое письмо ещё одной ключевой фигуре уходящего истеблишмента, Авереллу Гарриману (другу Ловетта)[46]:
21 июня 1974 года
«Уважаемый мистер Гарриман!
Кое-какие мои знакомые сообщили о вашем высказывании, согласно которому моё польское происхождение мешает мне объективно оценивать американо-советские отношения… Поскольку вы человек прямой, позвольте и мне сказать прямо, что я вовсе не считаю, что происхождение Генри Киссинджера мешает ему эффективно заниматься ближневосточными проблемами, как я не думаю и то, что вы, будучи по происхождению капиталистом-миллионером, не можете руководствоваться разумом в отношениях с советскими коммунистами.
Искренне ваш, Збигнев Бжезинский».
Позже Бжезинский и Гарриман примирились – до такой степени, что Гарриман в 1977 году пригласил только что назначенного советника по национальной безопасности пожить несколько месяцев в его вашингтонской квартире, пока тот занимался переездом своей семьи и вместе с Маршаллом Шульманом, Ричардом Холбруком и другими представителями администрации Картера устраивался на новом месте. Но сомнения по поводу его происхождения оставались, как они остаются и по сей день. 6 декабря 1973 года государственный секретарь Киссинджер принимал в Фогги-Боттом девять представителей академической среды, включая Маршалла Шульмана, Стэнли Хоффмана и Бжезинского. Обрисовав весьма мрачные перспективы изоляции Америки во враждебном мире на 1976–1980-е годы, он пошутил, что в любом случае будет рад, что Бжезинский унаследует его должность, потому что прецедент того, как выходец из другой страны успешно занимал такой высокий и престижный пост, уже есть. Бжезинский просто добавил: «Надеюсь, это станет прочной традицией!»[47]
Факт состоит в том, что Киссинджер и Бжезинский поддерживали неплохие отношения, несмотря на усиливавшиеся разногласия во взглядах и на само собой разумеющееся соперничество, из-за которого у них с 1969 по 1980 год возникали некоторые трения. Стороннему наблюдателю может показаться, что перед ним два заклятых врага. Но перед историком, имеющим доступ к их переписке и анализирующим сближавшие их социальные силы, предстаёт совсем иная картина.
Киссинджер регулярно принимал Бжезинского в Белом доме и в Государственном департаменте, часто наедине. Например, на обеде в июле 1969 года они говорили о насущных вопросах – о запланированном возобновлении отношений с Китаем, об отношениях с Москвой и, разумеется, о том, как быть с Вьетнамом. На следующий день по просьбе Киссинджера Бжезинский отослал свои идеи по поводу «значения мира» Никсону, и тот позже в том же месяце произнёс их в своём тосте в Нью-Дели[48]. В мае 1970 года оба долго обсуждали осложнения во внутренней политике в связи с вторжением в Камбоджу. Киссинджер выражал свои страхи по поводу внутреннего разделения – не столько в связи с возмущением левых, сколько в связи с возможным реакционным уклоном Никсона – и признавался, что подумывает о том, чтобы оставить должность до конца срока Никсона, но не собирается возвращаться в Гарвард. Ему не хотелось встречаться со своими прежними коллегами, которые, по его мнению, поддерживали студенческие волнения. Они также говорили о Ближнем Востоке, о Германии (оба не видели особых шансов на успех «Остполитики»), о ситуации с радио «Свободная Европа/Радио Свобода», активность которого власти Западной Германии собирались свернуть в угоду Москве[49].
Такие встречи проходили несмотря на критику, которой Бжезинский подвергал президентскую администрацию. Например, на следующий день после беседы с Киссинджером о камбоджийском кризисе, отослав конфиденциальные замечания по поводу выхода из кризиса, Бжезинский опубликовал комментаторскую статью в «Вашингтон пост», озаглавленную «Камбоджа подорвала наше столь необходимое доверие», в которой он критиковал отношение к проблеме со стороны интеллектуалов, но в ещё большей степени решение Никсона, как и «некоторых советников мистера Никсона». «В наши дни ситуация несравненно сложнее, и она требует более взвешенной оценки международных реалий», – писал он[50]. Но Киссинджер поблагодарил его за конфиденциальные заметки и в приписке пообещал «держать ситуацию с радио «Свободная Европа» под контролем»[51].
Конечно, в их отношениях могла быть некоторая доля расчётливости. Принимая регулярно Бжезинского, Киссинджер хотел убедиться в том, что его товарищ сохранит умеренность в своей критике, не перекроет себе доступ к администрации и продолжит информировать её о важных обстоятельствах и идеях. Бжезинский же, делясь своими заметками, идеями и советами с администрацией, получал информацию из первых рук. а также следил за тем, как решаются вопросы, представляющие для него особый интерес, такие как судьба и финансирование радио «Свободная Европа» – это был предмет его отдельной заботы в ходе холодной войны[52]. И всё же из их переписки видно, что их связывало не только соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве.
Такие регулярные встречи продолжались до выборного 1976 года и проходили как в Вашингтоне, так и за границей. Например, в апреле 1973 года Киссинджер и Бжезинский вместе обедали в Сан-Суси под Берлином – Киссинджеру очень хотелось разузнать побольше о создаваемой Трёхсторонней комиссии[53]. Но иногда напряжение давало о себе знать. В своей известной «ведомости успеваемости», опубликованной в журнале «Форин полиси», Бжезинский поставил Никсону и Киссинджеру общую «B» (четвёрку) за лето 1971 года. Но в марте 1974 года он оценил их гораздо более критично. Киссинджера обеспокоила не столько общая оценка «C+» (тройка с плюсом), сколько нападки на политику разрядки и его личный стиль дипломатии. В своей острой статье Бжезинский заклеймил три чрезмерных предпочтения администрации (читай Киссинджера): «личное выше политического», «скрытое выше концептуального» и «акробатика выше архитектуры». Он утверждал, что дипломатия администрации не позволяет найти ответы на новые вызовы – не столько международные, сколько уже глобальные – особенно в отношениях Севера-Юга, а политика разрядки, по его мнению, походила на улицу с односторонним движением. Она отстраняла союзников-демократов и давала неоправданные преимущества СССР (Бжезинский писал о «восхищении врагами и скуке по отношению к друзьям» Киссинджера), в то время как Соединённые Штаты слишком мало получали в обмен на переговоры по ограничению стратегических вооружений (ОСВ), по Ближнему Востоку или по торговле[54].
На этот раз Киссинджер ответил раздражённым письмом на три страницы с приписками «Лично» и «Не для печати»[55], которое начиналось так: «Поскольку сегодня вечером я улетаю в Москву, чтобы продолжить осуществление политики разрядки, либо с вашего одобрения, либо с вашего порицания (в зависимости от того Бжезинского, который читает эти строки), мои соображения будут как поспешно выраженными, так и краткими. Мне трудно смириться с тем, что автор «Мирного вовлечения в будущее Европы»[56] ныне утверждает, что до сих пор мы слишком мягко себя вели на переговорах по ограничению стратегических вооружений». Особенно Киссинджера озадачило то, что он воспринял как критику Бжезинским его же собственной стратегии на сближение с коммунистическими странами, о которой он писал в начале 1960-х годов и которая нашла воплощение в политике разрядки Киссинджера. Далее в письме разбиралась каждая конкретная претензия и высказывалось сожаление по поводу того, что в своей статье Бжезинский, похоже, принял на вооружение «тот же стиль нападок на политику разрядки, который до сих пор был достоянием крайне правых». Тем не менее письмо Киссинджер заканчивал на примирительной ноте. «Возможно, когда я вернусь из Москвы и когда у нас обоих будет больше времени на раздумья, мы сможем посидеть и более подробно обсудить наши кажущиеся разногласия. С тёплыми пожеланиями, Генри Киссинджер»[57].
Сходство между «мирным вовлечением» и политикой разрядки было лишь поверхностным, поскольку первая концепция подразумевала ослабление влияния Москвы на страны Восточной Европы, тогда как целью второй была стабилизация американо-советских отношений. И Бжезинский был прав, говоря об отсутствии взаимности и растущей уверенности Советского Союза: это стало постоянной темой критики до 1977 года (даже при «необходимости преодолеть некоторые разногласия», как позже выразился Киссинджер)[58]. В последующие семь месяцев не было никаких документированных встреч или писем – необычно долгий период. Но в декабре Киссинджера в Государственном департаменте посетила делегация европейцев, американцев и азиатов из возглавляемой Бжезинским Трёхсторонней комиссии, после чего регулярный обмен возобновился. В послесловии к своему тёплому благодарственному письму Бжезинский даже попросил об одолжении: «Возможно, вас позабавит, что такая просьба исходит от меня, но двое моих сыновей очень хотят получить ваш автограф… Их зовут Ян и Марк. В Гарварде я никогда не думал, что когда-нибудь попрошу вас об этом!»[59]
Несмотря на более тесное сближение в 1975 году («Уголь важен даже для тех из нас, кто живёт в Ньюкасле… Я всегда приветствую ваши наблюдения», – уверял Киссинджер[60]), отношения вновь охладели осенью и почти прекратились в 1976 году. Причину назвать легко: началась избирательная кампания, и Киссинджер был ключевой фигурой в поддержке Джеральда Форда. «В какой-то момент будет важно прямо заявить об ответственности Киссинджера за внешнюю политику, – советовал Бжезинский Джимми Картеру в конфиденциальной аналитической записке в конце октября 1975 года. – Сваливать её недостатки на Никсона или Форда не стоит, тем более что Киссинджер, по всей видимости, станет одним из основных агитаторов республиканцев. Точно так же следует прямо нападать и на внешнюю политику Киссинджера, подчёркивая его личную роль в её формировании, и морально-политические соображения должны быть основным фокусом такой речи»[61]. Неудивительно, что в таких условиях на протяжении 1976 года негодование Киссинджера постоянно росло, пока он конфиденциально не высказал единственное действительно достойное упоминания резкое замечание в адрес Бжезинского. Обсуждая политику кампании во время конференции с советником по национальной безопасности Брентом Скоукрофтом и двумя другими лицами, он воскликнул: «Бжезинский – настоящая шлюха. Побывал и с этой стороны и с той. То он пишет книгу о «мирном вовлечении», то критикует нас за то, что мы осуществляем на практике большинство из того, что было написано в его книге, и обвиняет нас в слабости»[62]. Но давление на Форда и Киссинджера продолжало расти. В течение 1976 года Картер выступил с двумя главными речами по поводу внешней политики. Первую он произнёс в марте, в чикагском отделении Совета по международным отношениям, и в ней он подвергал критике скрытность дипломатии Киссинджера. Джеймс Рестон, легендарный автор статей в «Нью-Йорк таймс» и доверенное лицо Киссинджера, защищал государственного секретаря и писал: «Произносил речь Картер, но главным её автором был Збигнев Бжезинский»[63] – вполне вероятно, что эти строки были написаны по предложению самого Киссинджера, как предполагал редактор «Таймс» (или как докладывал Бжезинский Картеру)[64]. Но главные нападки были высказаны в июньской речи в Нью-Йорке. «В администрации Никсона – Форда была разработана политика «одинокого рейнджера» – скрытая политика одиночек в отношении международных вопросов». Выражение «одинокий рейнджер» придумал, по всей видимости, не Бжезинский, а Джордж Болл, но оно укоренилось и разошлось в прессе, несмотря на возражения Бжезинского[65]. Любопытно, что после избрания Картера в ноябре, на волне антикиссинджеровских настроений высказывались голоса против назначения Бжезинского советником по национальной безопасности: многие опасались, что он станет таким же могущественным бюрократом, как и его предшественник на этом посту. И хотя в первый год в администрации Картера преобладали взаимодействие и равновесие сил, в дальнейшем примерно так и вышло. В годы правления Картера регулярные контакты между Бжезинским и Киссинджером продолжились. В конце концов Бжезинский и администрация Картера завершили многие из неуспешных дипломатических шагов, предпринятых ещё во время Киссинджера – договоры по Панамскому каналу, нормализация дипломатических отношений с Китаем, Кэмп-Дэвидские соглашения и даже договор ОСВ-II. Иногда, конечно, разногласия давали о себе знать. В 1979 году Дэвид Рокфеллер, Джон Макклой и Киссинджер лоббировали решение принять в Соединённых Штатах сбежавшего после Исламской революции иранского шаха – довольно щекотливое, поскольку новый режим в Тегеране считал это огромной провокацией. Но это был один из вопросов, по которому Бжезинский во многом соглашался с Киссинджером. Другими пунктами раздора были отношения с НАТО и договор ОСВ-II.
В целом же характер отношений сохранялся таким, каким он был на протяжении предыдущих восьми лет: поменявшись местами, оба продолжили сотрудничество. Иногда Киссинджер даже давал Бжезинскому ценные советы, как, например, после отставки Сайруса Вэнса в апреле 1980 года: «Теперь вы находитесь в том же положении, что и я, когда Джим Шлезингер был вынужден покинуть пост министра обороны, – предупреждал Киссинджер Бжезинского. – Пресса и все остальные считали виновным в этом исключительно меня и обрушились на меня со всей яростью. У вас же, Збиг, никогда не было такой поддержки прессы, как у меня, и поэтому вы ещё более уязвимы перед атаками, которые нацелятся на вас». «И он был как никогда прав», – отмечал Бжезинский в своих мемуарах[66].
В свете всего вышесказанного неудивительно, что оба на протяжении трёх следующих десятилетий продолжали поддерживать хорошие отношения, споря в телевизионных дебатах и посещая дни рождения друг друга. Возможно, их сходство даже мешало им стать по-настоящему близкими друзьями. Но, скорее всего, в глубине души знали, что несмотря на все свои разногласия, они разделяют общие черты и общие достижения. Оба они были иммигрантами, разработавшими новую модель, которая нашла многочисленных последователей, оба оставили значительный след в американской внешней политике, их влияние ощущается и по сию пору.
Оба до сих пор пользуются большим авторитетом как политические обозреватели – комментаторы на радио и телевидении, авторы аналитических статей или почётные гости в кулуарах власти. При этом Бжезинский регулярно читает российские веб-сайты и публикации, продолжая анализировать российскую политику и российское общество, как это подобает настоящему советологу, выпускнику университета Лиги Плюща, ведь именно эта среда помогла ему достичь вершин американской внешней политики.
Глава 2. Падение тоталитаризма и возвышение Збигнева Бжезинского
Дэвид К. Энгерман
Не так уж много наберётся исследователей, которых с полным правом можно назвать ответственными за распространение какой-то определённой академической терминологии или за снижение её популярности. Збигнев Бжезинский уникален тем, что он внёс решающий вклад как в формулировку концепции, так и в её развенчание. Конечно же, имеется в виду термин «тоталитаризм», доминировавший в американских (и в меньшей степени в западноевропейских) исследованиях Советского Союза в первые десятилетия холодной войны. Эта глава прослеживает роль Бжезинского в советологической полемике по поводу тоталитаризма с самого начала 1950-х годов до конца 1960-х – с момента введения этого термина в лексикон научной литературы до его спорного исключения примерно двумя десятилетиями позже. В ней показано, как Бжезинский старался учесть влияние происходивших в СССР изменений, а также концепции «индустриального общества» Вебера, в американских исследованиях противника по холодной войне. Кроме того, глава демонстрирует необычайную способность Бжезинского принимать на вооружение новые академические взгляды, не отказываясь от своих главных убеждений по поводу природы Советского Союза и его развития.
К 1950 году, когда на сцену взошёл Бжезинский, советология пребывала, можно сказать, в зачаточном состоянии. Только что были основаны ведущие исследовательские центры в Колумбийском и Гарвардском университетах, а основные проекты, характеризовавшие первый этап этой дисциплины, находились в стадии набросков. Русский институт Колумбийского университета учредил магистерскую программу «Русских исследований», привлёкшую широкую группу будущих политологов и правительственных экспертов. Этот же институт служил платформой для совместных проектов, таких как Объединённый комитет по славянским исследованиям, и издавал «Текущий дайджест советской прессы» (Current Digest of Soviet Press) – но ещё только нащупывал почву для серьёзной исследовательской программы. Гарвардский Русский исследовательский центр (деятельность которого началась не слишком удачно) занимался экономическими и политическими исследованиями, но главный его «Проект опроса беженцев» (Refugee Interview Project) ещё только собирал данные. Достойные программы изучения России/СССР предлагали и другие университеты – в частности, благодаря тому, что Фонд Рокфеллера, например, включил тему СССР в свой список грантов «Дальний Запад глядит на Дальний Восток». При этом ни одна из программ по охвату, ресурсам или влиянию не могла сравниться с программами университетов Лиги Плюща.
Тем временем к северу от границы, в монреальском Университете Макгилла Бжезинский защищал свою магистерскую диссертацию, посвящённую русскому национализму в СССР. Это была серьёзная, опередившая своё время работа, привлёкшая к себе заслуженное внимание академических кругов только десятилетия спустя. Исследования национализма в СССР в начале холодной войны затрагивали разве что национализм этнических групп, который мог бы ослабить влияние советской власти на многонациональную страну, но не национализм в самой России. В своей работе Бжезинский старался отойти от того, что иронически называл «покраской», то есть от такого стиля исследований, согласно которому всё рано или поздно становилось «либо ярко-красным, либо белоснежным» – иными словами, когда автор либо начинал симпатизировать СССР, либо сурово его обличать. Вместе с тем Бжезинский признавал, что «в настоящее время нелегко сохранять беспристрастность в отношении любой темы, связанной с Советским Союзом. Очень легко пасть жертвой своих предубеждений и предрасположенностей». Бжезинский надеялся избежать этой ловушки, сосредоточившись на политических функциях советского национализма, отмечая, в частности, интеграционную функцию, которой в Советском Союзе наделялся советский патриотизм. Придерживаясь психологического подхода к массовому обществу, набиравшего популярность в американской социологии, Бжезинский также рассматривал способы, которыми советский патриотизм предлагал населению психологическую выгоду, в то же время включая или перенаправляя русский национализм в непартийные институты, такие как православная церковь. Работа заканчивалась выводом, своего рода кивком в сторону западной политики, характерным для исследований раннего периода холодной войны – предположением о том, что русский советский национализм посредством отстранения других народностей может стать основой для «многонациональной антисоветской версии Коминтерна» и в конечном итоге «способствовать великому делу освобождения»[67].
В этой диссертации прослеживаются две особенности, характерные и для более поздних работ Бжезинского: во-первых, это попытка воспользоваться господствующими социально-научными концепциями и в то же время сохранить более широкий взгляд на политическую ситуацию в СССР времён холодной войны; во-вторых, это акцент на сложных отношениях между идеологией и институтами. Обе эти тенденции заметны в кратком вступлении, посвящённом эмигрантскому анализу партийной работы в Красной армии. Как и многие исследователи того времени – особенно находившиеся под влиянием гарвардского социолога Толкотта Парсонса, – Бжезинский подчёркивал тот факт, что тенденции к профессионализму могут привести к конфликту с советской властью. Таким образом офицерское понятие о чести представляло собой угрозу для советской системы – этот тезис вскоре повторится и в анализе данных Проекта опроса беженцев[68].
1956 год стал переломным, как для Советского Союза, так и для советологов, вроде Бжезинского. В начале февраля Никита Хрущёв упрочил свою власть, выступив с так называемым секретным докладом, посвящённым «преступлениям сталинской эпохи», о чём вскоре стало известно всему миру. В том же году, под влиянием ветра перемен из Москвы, произошли попытки ослабить партийное влияние в Польше (первоначальная «Польская весна») и в Венгрии. И если волнения в Польше скоро сошли на нет, то новое партийное руководство Венгрии потребовало вывода советских войск, что в конечном итоге привело к советскому вторжению в начале ноября. События февраля 1956 и ноября 1956 года определили новые принципы советской политики, включая доминирующую роль Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), как в самом СССР, так и за его пределами. (Помимо громких событий в том же 1956 году, всего лишь через два дня после доклада Хрущёва, была основана первая организация, позволившая исследователям посещать СССР: Межуниверситетский комитет по грантам на поездки – предшественник IREX [Совета по международным исследованиям и обменам][69]).
В том же 1956 году положение Бжезинского в советологии радикально изменилось после выхода двух книг, когда ему было всего лишь 28 лет. Первой стала дебютная монография Бжезинского «Постоянная чистка», другой – «Тоталитарная диктатура и автократия», написанная в соавторстве с научным руководителем Бжезинского, гарвардским исследователем Карлом Фридрихом, и основанная на предыдущих посвящённых тоталитаризму работах Фридриха.
Сам термин «тоталитаризм» относится к 1920-м годам, когда Бенито Муссолини использовал его для описания целей итальянской фашисткой партии. В 1930-х он изредка появлялся в академических исследованиях и других неакадемических публикациях, сравнивающих между собой Советский Союз Сталина, Италию Муссолини и Германию Гитлера. Но широкое распространение этот термин получил в начале 1950-х годов, в свете растущей «советской угрозы» – после советских испытаний ядерной бомбы, создания Китайской Народной Республики (оба события произошли осенью 1949 года) и после нападения Северной Кореи на своего южного соседа. Эти события создали благоприятную почву для восторженного принятия новаторской работы Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма». Благодаря книге Арендт разработанная Франкфуртской школой критики концепция тоталитаризма как разновидности современного общества стала достоянием американской политологии с её основным вниманием к СССР. Арендт объясняла распространение тоталитаризма упадком социальных институтов девятнадцатого века, таких как национальные государства, политические партии и наследственные классы. В результате возникло современное массовое общество, плохо приспособленное для самоуправления, но обладающее новейшими технологиями обеспечения власти. При тоталитаризме индивиды полностью атомизируются, то есть лишаются связей друг с другом; государство не просто доминирует, но становится единственной силой, определяющей структуру общества. Исторический анализ Арендт не совсем соответствовал советским реалиям, но это не уменьшало интереса к книге и не лишало её актуальности[70].
Карл Фридрих, политолог немецкого происхождения, преподаватель Гарварда и приятель Арендт, предложил своё определение тоталитаризма, переформулировав некоторые её идеи так, чтобы они лучше соответствовали ситуации в СССР. В 1930-х годах Фридрих планировал заниматься сравнительным анализом нацистской и советской политических систем, но ему помешала Вторая мировая война[71]. В 1953 году он вернулся к этой теме, организовав для этого впечатляющую группу исследователей и интеллектуалов, которая по иронии судьбы собралась в тот самый день, когда американские газеты объявили о смерти Сталина[72]. Вступительный доклад, подготовленный Фридрихом для конференции и послуживший основой для последующих обсуждений, перечислял пять основных отличительных черт тоталитарных обществ: наличие официальной идеологии, наличие «единственной массовой партии верных последователей», монополия как на средства насилия, так и на средства массовой коммуникации, и «система террористического полицейского контроля». Вслед за Арендт и Франкфуртской школой Фридрих определял тоталитаризм как синдром современного общества. Но во многих отношениях он отходит от концепции Арендт: Фридрих делал упор на системе контроля, оставляя в стороне – по крайней мере, в своём докладе – вопрос атомизации и признавая возможность (хотя и маловероятную) «эволюции», тогда как Арендт в тоталитарном обществе не видела почти никаких возможностей для перемен[73].
Три года спустя, в 1956 году, после смерти Сталина и прихода к власти Хрущёва, Фридрих в своей совместной с Бжезинским работе придерживался тех же представлений о тоталитаризме; также казалось, что он нисколько не учёл критику, которой встретили его выступление на конференции 1953 года. «Тоталитарная диктатура и автократия» мало чем отличалась в своих положениях от первоначальной статьи: тоталитаризм толковался как явно современный феномен, принявший в межвоенную эпоху фундаментально схожие формы в Германии, Италии и СССР; пять признаков тоталитаризма остались неизменными, хотя к ним присоединился шестой: тотальный контроль над экономикой. В процессе работы Фридрих и Бжезинский отказались от концепции других политологов, согласно которой определяющую роль в тоталитарном обществе играет идеология, назвав ей не чем иным, как «банальным переложением некоторых традиционных идей, бессистемно распределённых таким образом, благодаря которому они лучшим образом воздействуют на слабые умы». Конституция и правительственные структуры – центральная тема прерванного довоенного проекта Фридриха – обладают «крайне незначительным влиянием». Об обществе, как таковом, нет и речи; единственным «оазисом в море тоталитарной атомизации»[74] остаётся семья. В той степени, в какой «Тоталитарная диктатура и автократия» отражает идеи Фридриха, она предполагает сближение с позицией Арендт по поводу атомизации, но сохраняет старые формулировки, несмотря на очевидные изменения в советской политике после смерти Сталина.
Одно из нововведений книги, отсутствующее в оригинальной статье Фридриха, возможно, следует приписать Бжезинскому. Книга предлагает схему эволюции тоталитаризма со временем. Отходя от положений статьи Фридриха, эта работа включает понятие эволюции, которое предложил коллега Фридриха Мерл Фейнсод (другой наставник Бжезинского) в своём эпохальном исследовании «Как управляется Россия» (1953). Согласно Фейнсоду, большевистская революция не сразу установила тоталитаризм, хотя и подтолкнула Россию в этом направлении. Как писал Фейнсод, «из тоталитарного эмбриона со временем вырос полноценный тоталитаризм». Таким образом, тоталитарное будущее было предопределено заранее, поскольку было «заключено в идеологических, организационных и тактических предпосылках» большевизма[75]. Во многом в духе анализа Фейнсода «Тоталитарная диктатура и автократия» утверждает, что хотя после 1917 года тоталитаризм был неизбежен, «тоталитарный прорыв» произошёл только в конце 1920-х годов. А уже будучи установленной, тоталитарная диктатура может развиваться только в направлении «более тотальной»[76].
Первая написанная лично Бжезинским книга «Постоянная чистка» разделяла с «Тоталитарной диктатурой и автократией» не только дату публикации – 1956 год. Диссертацию, на которой была основана «Постоянная чистка», Бжезинский закончил в 1953 году, через месяц после смерти Сталина и посвящённой тоталитаризму конференции Фридриха. Несмотря на бурные события последующих трёх лет – включая борьбу за власть приспешника Сталина Лаврентия Берии и его казнь – опубликованная версия мало чем отличалась от диссертации. В книгу была добавлена глава о событиях после 1953 года, но изменений в общей концепции почти не наблюдалось, и даже сохранялся язык диссертации. В обоих вариантах, как и в написанной в соавторстве книге «Тоталитарная диктатура и автократия», тоталитаризм определялся на примере Советского Союза. «Постоянная чистка», как следовало из её названия, описывала чистки как суть советского тоталитаризма. Если некоторые исследователи считали чистки вспышками хаоса и иррациональности, то Бжезинский воспринимал их как «технику», используемую для «достижения определённых политических и социально-экономических целей». Точно так же и «разоблачения» не были следствием «извращения человеческой природы», а «рассчитанной попыткой реализовать честолюбивые устремления социального продвижения вверх». Поскольку чистки исполняли определённую функцию – служили политическим и экономическим потребностям, облегчая ротацию элит и предоставляя индивидуальные возможности восхождения по социальной лестнице, – то они и не могли прекратиться навсегда.
Если во многих широко известных описаниях советскую тиранию символизировали показательные процессы конца 1930-х (наиболее известное их описание даётся в книге Артура Кёстлера «Слепящая тьма», впервые опубликованной в 1940 году), то Бжезинский считал эти процессы всего лишь «украшением на торте», поскольку реальные чистки 1930-х годов к моменту показательных процессов против большевиков старой гвардии уже закончились. Более того, Бжезинский считал, что эти чистки способствовали преобразованию экономики (и поражению сколько-нибудь серьёзной оппозиции сталинской экономической политики), а также преобразованию партии по «сталинистской модели»[77]. Как и в своей магистерской работе, Бжезинский интересовался функцией таких экстремальных событий, как чистки. Он использовал чистки как метафору советского общества, но не для того, чтобы доказать их иррациональность, а чтобы измерить их утилитарность.
Признавая спад широкой волны чисток и публичных процессов с 1930-х годов, Бжезинский заявлял, что показательные чистки сменило то, что он назвал «тихой чисткой». Но он советовал не путать объём с сутью. Только из-за смягчения чисток «ожидать… фундаментального смягчения политической системы СССР [означало бы] демонстрировать полнейшее непонимание сути тоталитаризма и опасным образом недооценивать убедительную логику тоталитарного правления»[78].
Как и книга, написанная Бжезинским в соавторстве с Фридрихом, «Постоянная чистка» подверглась критике со стороны академических обозревателей. Один из них отмечал, что эмпирический – без попыток теоретизирования – материал представляет собой дальнейшее опровержение представления о том, что тоталитарные государства статичны по форме и функции. Другой сомневался в том, что Бжезинский выбрал подходящий объект для анализа – саму систему, а не её индивидуального лидера Сталина[79]. Тем не менее совершенно ясно, что, несмотря на важные совпадения, взгляд Бжезинского на тоталитаризм в 1956 году уже отличался от взглядов его наставника и соавтора. Бжезинского интересовали неизбежные проявления тоталитаризма, а также структура и функции таких основополагающих институтов, как чистка. Последующие события в СССР и в странах Восточной Европы, а также дальнейшие исследования в области советологии развели Бжезинского и Фридриха в разных направлениях.
Пожалуй, для такого представителя гарвардского Русского исследовательского центра, как Бжезинский, было неизбежно сближение с социологическим, или «веберианским», направлением советологии, доминирующим в центре в тот период. Это же социологическое направление было основополагающим для Проекта опроса беженцев. Как позже выразился Реймонд Бауэр, директор практических исследований проекта: «Советский Союз представляет собой современное индустриальное общество (или, по крайней мере, находится на ведущей к нему стадии развития), а у всех индустриальных обществ много схожего»[80]. Такие принятые в проекте взгляды на советское общество противоречили получавшей всё большее признание концепции тоталитаризма, особенно в понимании Арендт, поскольку Арендт даже не допускала понятия «общества» в тоталитарной политике. Но Бауэр и другие лидеры проекта опроса, такие как антрополог Клайд Клакхон и социолог Алекс Инкелес, в книге «Как работает советская система» настаивали на том, что Советский Союз, с точки зрения социальной организации, «напоминает… крупномасштабное индустриальное общество Запада». Отмечая «изрядную долю разочарования», они, тем не менее, признавали наличие «очень малого недовольства и ещё менее выраженной активной оппозиции». Отсутствие оппозиции объяснялось не только эффективной работой тайной полиции. «Как работает советская система» настаивала на том, что для советских граждан центральную роль играют «способы приспособления». Клакхон, Инкелес и Бауэр утверждали, что в СССР принципы расслоения общества примерно те же, что и в Америке – по социальному и экономическому статусу[81]. Когда Бауэр и Инкелес опубликовали свои окончательные выводы по данным проекта опроса, они назвали своё исследование вкладом в изучение «общей социальной психологии индустриального общества»; тот же факт, что они рассматривали недемократическое общество и противника Америки по холодной войне, был второстепенным[82].
Если руководители проекта не высказывали никаких предположений по поводу будущего Советского Союза – помимо утверждений, что СССР вовсе не находится на грани развала, – другие исследователи в начале 1950-х годов утверждали, что потребность индустриального общества (даже СССР) в «технической рациональности» может поставить под угрозу власть коммунистической партии. Британский писатель Исаак Дойчер ожидал, что репрессивные проявления системы будут уменьшаться по мере увеличения промышленного производства и повышения уровня образования[83]. Более важен вклад Баррингтона Мура-младшего, гарвардского социолога и первого (хотя и не слишком заинтересованного) участника в проекте опроса, который, тем не менее, пытался воспользоваться данными этого проекта для размышлений о возможном будущем СССР. В своей книге 1954 года «Террор и прогресс» Мур утверждал, что советским руководителям при строительстве современной индустриальной системы придётся столкнуться с проблемами сохранения власти. Он перечислил три тенденции, которые, возможно, определят будущее Советского Союза: стремление к власти, потребность в технической рациональности и то, что Мур называл «традиционализмом». Как и другие эксперты по России того времени, Мур рассматривал советский террор как важный барометр будущего. Постсталинский режим «по-прежнему нуждается в терроре, как в основополагающем аспекте своей власти», но террор порождает неопределённость, а неопределённость ведёт к неэффективности. Более рациональная система, согласно Муру, сохранила бы власть, но не посредством террора, а посредством «следования кодексу законов». Мур описал все три возможных сценария для будущего Советского Союза – основанные на власти, технической рациональности или традиционализме, – но больше внимания уделял второму, а именно тому, что советская система «адаптируется под технические требования» современного индустриального общества, «даже с некоторым ущербом для политического контроля».
Мур задавался вопросом, как выглядело бы советское общество, более отзывчивое к требованиям индустриального развития. Согласно его мнению, оно бы сменило политические цели на «технические и рациональные критерии», которые позволили бы сохранить быстрый экономический рост и при этом помогли бы экономике избавиться от роли «служанки» политической системы. Общество по-прежнему было бы централизованным, но уже не полагавшимся на организованный террор. Оно могло бы даже эволюционировать в «технократию – правление технических специалистов», включая набирающую силу «технократическую аристократию» внутри политической элиты. Повышение роли «технических и рациональных критериев в поведении и организации по определению… подразумевало бы уменьшение подчёркивания власти диктатора». Мур делал вывод, что рациональность могла бы «действовать как эрозия советского тоталитарного здания»[84]. В более поздней статье Мур уже отказывался от неопределённости «Террора и прогресса» и утверждал, что СССР совершенно точно встал на путь технической рациональности[85].
Учитывая важность этой работы для политологии, следует отметить, что техническую рациональность Мур рассматривал как внутреннюю потребность, а не как противопоставление сохраняющейся власти коммунистической партии. Приоритеты партийной элиты могут смениться, но сама партия ни за что не откажется от власти. Мур предполагал, что потребности современного индустриального общества, существующего в сложном международном окружении, будут не только способствовать переменам, но даже вынуждать пойти на них. Такие индустриальные потребности приведут к ослаблению «тоталитаризма» и превращению его в менее строгий деспотизм, или, возможно, в более стабильную и рациональную форму однопартийной системы. Мур продолжил рассматривать отношение между тоталитаризмом и индустриальным развитием в своих последующих работах, в том числе в прославленном исследовании «Социальные истоки диктатуры и демократии» (1966) – изначально он называл это исследованием того, «как… промышленное развитие определяет структуру власти и возможности свободы в современном обществе»[86]. Вслед за Муром американские исследователи часто возвращались к этой теме, особенно на примере СССР. Таким образом, дискуссии о слиянии «американского» и «советского», популярные в 1960-х, проистекали от утверждения Мура и других социологов о том, что в конечном счете тоталитаризм станет несовместимым с индустриальным обществом.
Бжезинский начал учитывать положения «вебстерианской» социологии вскоре после выхода книги Мура. И в самом деле, ещё во второй половине 1956 года, даже до выхода «Тоталитарной диктатуры и автократии», Бжезинский опубликовал свои развёрнутые размышления по поводу «Тоталитаризма и рациональности». Выделив аргументы Дойчера для отдельной критики и похвалив Мура в примечании, Бжезинский оспорил концепцию «эрозии» (присутствовавшую как у Дойчера, так и у Мура), согласно которой техническая рациональность подтачивает здание тоталитаризма. Бжезинский утверждал, что такое предсказание не принимает во внимание «проблему власти»: в конце концов, «рациональное завтра, если оно наступит, не станет переходом к демократической форме правления, а останется всего стадией в дальнейшей эволюции тоталитаризма»[87]. По мнению Бжезинского, пусть индустриальная организация и способна внести какие-то перемены в советское общество, но не она определяет советскую политику.
В начале 1960-х Бжезинский расширил эти идеи в двух важных работах. Первая вышла в 1961 году, в выпуске «Славик ревью», главного журнала Американской ассоциации распространения славянских исследований. Редакторы «Славик ревью» создали раздел «Обсуждения», в котором предполагали печатать исследовательские статьи и отзывы на них. Открыла раздел статья Бжезинского под заголовком «Природа советской системы», которая во многих отношениях была развитием «Тоталитаризма и рациональности», и некоторые параграфы перешли в неё почти в неизменном виде. Но «Природа советской системы» продемонстрировала также продолжающиеся попытки Бжезинского совместить описывающие советскую систему социально-научные концепции со своими собственными представлениями. Основываясь на своей эволюционной схеме 1956 года, он описывал четыре стадии советского правления. Первая фаза, ленинизм, подготовила почву для второй – сталинского «тоталитарного прорыва», который Бжезинский определял как «всесторонние попытки разрушить основные институты старого порядка и создать, по меньшей мере, каркас нового». Поздний сталинизм, начиная с конца Второй мировой войны до смерти диктатора, был «повторением… и расширением» политики довоенных лет: реконструкцией советского общества, проявившейся в принижении роли партии и повышения роли тайной полиции. Четвёртая стадия – постсталинизм, – по мнению Бжезинского, представлял собой «дозревание» тоталитаризма в виде ликвидации альтернативных «локусов власти» предыдущих стадий, «проложившей дорогу для относительной мягкости», определявшей ситуацию в СССР после 1953 года[88].
Признавая смягчение сталинских методов в 1950-х годах, Бжезинский не питал никаких иллюзий по поводу того, что советское руководство уступит свою власть. Как он писал в «Постоянной чистке», угрозы будущих чисток достаточно, чтобы поддерживать бдительность всех социальных деятелей. И действительно, снижение ставок на идеологическую мобилизацию подразумевало, что активисты и интеллектуалы, спорившие со Сталиным до Второй мировой войны, уступили место умеренным технократам; если в предвоенное десятилетие Сталин сражался с «блестящим и красноречивым Бухариным», то послевоенным аналогом этого противника стал «неуклюжий, угрюмый, совершенно не похожий на энергичного человека Каганович». По мнению Бжезинского, снижение качества лидеров означало упадок системы[89].
Изучая неравномерную «оттепель» после смерти Сталина, Бжезинский выделил значительные преимущества, обеспечивающие эффективность советской системы; опять же, его интересовали социальные и политические функции различных форм правления. Отмечая снижение террора, как «доминирующего признака системы», Бжезинский утверждал, что «волюнтаристский тоталитаризм может быть эффективнее [предыдущего] террористического». При этом трансформация «терроризма» в «волюнтаризм» была всего лишь внутренним изменением, а не отходом от тоталитаризма. Он критиковал исследователей, которые анализировали оттепель в терминах «либерализации» или «демократизации» – то есть в категориях, которые, как уточнял Бжезинский, определяли трансформацию «западных обществ в совершенно других условиях». Согласно его мнению, у руля советского общества по-прежнему находилась партия, и какие бы в обществе ни происходили социально-экономические перемены, «политика оставалась на первом месте». В той степени, в какой социально-экономические перемены порождают разные конкурирующие взгляды внутри советской системы, результатом их должна стать «эрозия», а не трансформация. (Бжезинский, написавший эту статью сразу же после завершения своей знаменательной книги «Советский блок» – которой посвящена глава 3 этого сборника, – высказывал примерно такое же мнение и в отношении растущего идеологического разнообразия Восточной Европы.) «Релятивизация идеологии» внутри страны и за её пределами, как предсказывал Бжезинский, будет иметь «опасные последствия» для советской власти[90].
Два ведущих советолога, Альфред Мейер и Роберт Ч. Такер, ответили на статью Бжезинского, призвав к дальнейшим, более тщательным сравнениям и теоретическим построениям. Статья Мейера «СССР, Инкорпорейтед» перечисляла возможные аналогии между Советским Союзом и американскими институтами. На восьми страницах Мейер сравнивал советское руководство с «властвующей элитой» Чарльза Райта Миллса, с советом директоров западной корпорации и – в совершенно другом ключе – с европейскими правителями эпохи абсолютизма; он также проводил аналогии между советским обществом и «промышленным посёлком» или «производственной бюрократией». По мнению Мейера, все эти многочисленные аналогии указывали на то, что Бжезинский, по меньшей мере, преувеличивал роль политики в советском будущем и «уделял недостаточное внимание важности… индустриального развития, как движущей силе советской системы». Короче говоря, Мейер выдвигал тот же аргумент, который критиковал Бжезинский в своей статье[91]. Такер же критиковал концепцию тоталитаризма в целом, в том виде, в каком она использовалась в социологии того времени, и в статье Бжезинского в частности[92]. Но и здесь Бжезинский стоял на своём, отстаивая необходимость понятия тоталитаризма как категории политического анализа.
Но через несколько лет Бжезинский учёл по меньшей мере критику Такера, если не Мейера. В книге «Политическая власть, США/СССР», написанной в соавторстве со своим первым коллегой Сэмюэлем Хантингтоном, Бжезинский полностью отказывался от терминов «тоталитаризм» и «тоталитарный». Авторы сравнивали двух антагонистов холодной войны, затрагивая тему слияния советской и американской моделей – идею, подразумеваемую в концепции «технической рациональности». Если логика современного индустриального общества приводит к возникновению определённых социальных структур (бюрократическая организация), приоритетов (экономическая эффективность) и умонастроений (ориентация на производство), то в будущем все современные индустриальные общества будут всё более и более походить друг на друга. Работу над «Политической властью» Хантингтон и Бжезинский начинали как раз в таком ключе, но в итоге выдвинули совершенно иной тезис: слияние возможно только в результате «коренного изменения курса». И в самом деле, авторы пришли к мнению, что если рассматривать «недраматический сценарий», то в будущем возможна «эволюция двух систем», но не их слияние. Пожалуй, ещё более поразителен тот факт, что в книге для описания СССР ни разу не использовано слово «тоталитаризм»[93]. Не то чтобы Бжезинский вдруг усомнился в намерении советского руководства оставаться у власти, но он решил, что термин «тоталитаризм» мешает анализу советской системы.
Сомнения по поводу термина «тоталитаризм» были заметны и в другом. В начале 1960-х годов Бжезинский отклонил предложение Карла Фридриха поработать над новым изданием «Тоталитарной диктатуры и автократии». Фридриху пришлось трудиться одному. Несмотря на показательные перемены, произошедшие в Советском Союзе при правлении Хрущёва, Фридрих видел мало причин менять свою теорию. По мнению Фридриха, попытки Хрущёва «десталинизировать общество» подтверждали тезис о тоталитаризме, поскольку были всего лишь способом сохранить или упрочить власть. Говоря вкратце, Фридрих внёс очень мало поправок в свою теорию тоталитаризма как аналитической категории[94]. В прессе он объяснил, что Бжезинский не может работать вместе с ним из-за других «неотложных обязательств», хотя и намекнул, что между ними наблюдается растущее расхождение во взглядах[95]. Бжезинский гораздо позже вспоминал, что мог бы придерживаться прежних позиций «с очень большой натяжкой», поскольку за десятилетие, прошедшее с момента первой публикации, советская система претерпела эволюцию.
Отказавшись от понятия тоталитаризма, Бжезинский сосредоточился на «вопросе власти», учитывая растущий корпус работ, посвящённых изменениям в советских социально-экономических структурах. Кульминацией его исследований стала статья, определившая направление советологических дебатов в конце 1960-х, после отставки Хрущёва и прихода к власти Леонида Брежнева. Статья, озаглавленная «Советская политическая система: Трансформация или разложение?», вышла в журнале «Проблемс оф коммьюнизм» в начале 1966 года[96]. Этот журнал, финансируемый Государственным департаментом, публиковал как статьи академических исследователей, так и комментарии на политические темы. Статья Бжезинского вызвала почти два десятка комментариев, которые неизменно печатались на страницах «Проблемс оф коммьюнизм» с 1966 до 1968 года.
В этой статье Бжезинский постарался проанализировать как приход к власти Брежнева, так и растущий интерес исследователей к индустриальным обществам. Бжезинский соглашался с мнением, согласно которому Советский Союз представлял собой «всё более современное и индустриальное общество». Но индустриализация, по его мнению (что отражает его взгляды 1961 года), не приводит к либерализации, демократизации или к каким бы то ни было другим политическим трансформациям; результатом её может стать только разложение. Как утверждает Бжезинский, поддержка «доктринальной диктатуры» в индустриальном обществе «уже способствовала повторному появлению разрыва, существовавшего в дореволюционной России между политической системой и обществом». (Здесь Бжезинский явно имел в виду работу своего коллеги по Колумбийскому университету Леопольда Хеймсона, который незадолго до этого опубликовал в журнале «Славик ревью» ряд статей «Проблемы политической и социальной стабильности в городской России на заре революции и войны»). По мнению Бжезинского, наилучший способ, каким советское руководство могло бы преодолеть этот разрыв, – это смена пожилых функционеров и «предоставление более широких возможностей социальным талантам», то есть учёным, экономистам и управленцам на вершине власти. Но, не ожидая такого радикального перераспределения власти и привилегий, Бжезинский прогнозировал «начало стерильной бюрократической фазы», то есть стагнации (застоя). Как и в своих ранних работах, Бжезинский связывал ухудшающееся качество советского руководства с ухудшением перспектив для возглавляемого ими государства. В одном достойном внимания примечании Бжезинский противопоставлял Льва Троцкого Георгию Маленкову и задавался вопросом, как выглядела бы трилогия о карьере Маленкова, если написать её по модели трилогии Исаака Дойчера о Троцком: «Вооружённый пророк», «Разоружённый пророк» и «Изгнанный пророк». Лучшее, на что мог бы надеяться Маленков, это «Повышение аппаратчика», «Триумф аппаратчика» и «Аппаратчик на пенсии»[97].
В целом Бжезинский отказался от модели тоталитаризма, не отказываясь от концепции партийного контроля. Он решил «проблему власти» аналитически, но сомневался, что советское руководство сможет решить её практически. Таким образом Бжезинский отреагировал на растущую потребность пересмотра понятия тоталитаризма и вернулся к основной теме социологии: власти.
Разнообразие ответов на статью Бжезинского о «трансформации или разложении» даёт представление о том, как американские советологи понимали советскую политику в конце 1960-х годов. Среди респондентов были ведущие академические исследователи и правительственные эксперты, в том числе Фредерик Баргхорн, Роберт Конквест, Мерл Фейнсод и Карл Фридрих. В своей ответной статье Бжезинский построил наглядную диаграмму ожиданий эволюционных и революционных перемен. Две трети респондентов находились на «эволюционном» конце шкалы. Четыре респондента даже называли наиболее вероятным исходом «реновационную трансформацию, и ещё четыре называли её возможной. Другими словами, довольно большое количество советологов считали вполне возможным, что советский режим потеряет власть без необходимости «выхватывать её из его рук», согласно памятному высказыванию Мерла Фейнсода[98].
В конце 1960-х Бжезинский отошёл от таких распространённых взглядов и настаивал на том, что любые социально-экономические перемены будут способствовать только разложению, то есть ухудшению эффективности и распаду советской политической системы, а не трансформации. В наши дни вывод, к какому Бжезинский пришёл о будущем в своей статье, опубликованной в «Проблемс оф коммьюнизм», кажется довольно подходящим описанием путинской России. Распад советской власти, по мнению Бжезинского, мог легко привести к «достаточно уверенной идеологически-националистической реакции, основанной на коалиции тайной полиции, военных и идеологически настроенного комплекса тяжёлой промышленности»[99].
Глава 3. В ожидании Большого провала
Марк Крамер
Советский вариант коммунизма был доминирующим мотивом в публикациях Збигнева Бжезинского с середины 1960-х годов и до конца 1980-х, то есть в тот период, когда он четыре года занимал должность советника по национальной безопасности при президенте Джимми Картере (1977–1981). В своих многочисленных книгах и статьях этого периода Бжезинский отошёл от модели тоталитаризма, которую ранее разрабатывал с Карлом Фридрихом, и сосредоточился на эмпирическом анализе системных недостатков коммунистического правления в СССР и странах Восточной Европы. И хотя некоторые из работ Бжезинского включали в себя предсказания различных событий (событий, на которые повлияли отчасти сознательные действия отдельных лиц и групп, а отчасти случайные обстоятельства), основное внимание здесь уделяется его оценке лежащих в основе этих событий процессов и тенденций советской системы, которые потенциально могли привести к значительным политическим изменениями или, напротив, к её упадку.
Какую бы утилитарную роль идейная модель тоталитаризма ни играла в анализе диктатуры Иосифа Сталина, эта модель показала свою несостоятельность в изучении постсталинской эпохи. Поначалу Бжезинский пытался сохранить основную структуру концепции с небольшими изменениями, но в 1960-х годах и в начале 1970-х годов заменил старую парадигму новой, более жизнеспособной схемой, отражающей основополагающие черты советской системы, эволюционировавшей на протяжении своей истории. Новая концепция Бжезинского сохраняла некоторые элементы тоталитарной модели и использовала их для объяснения превращения СССР в бюрократическое государство с «окаменевшей» политикой. Глядя в будущее, Бжезинский утверждал, что ключевым вопросом является вопрос, удастся ли Советскому Союзу осуществить «трансформацию» и обновление, или же он будет переживать процесс постепенного упадка и «разложения».
В своей эпохальной статье, опубликованной в начале 1966 года в журнале «Проблемс оф коммьюнизм»[100], Бжезинский первым заявил, что перед Советским Союзом в будущем лежат два альтернативных пути – «трансформация или разложение». Статья породила длинную серию статей в том же журнале, служивших ответом на его размышления и оценивавших перспективы далеко идущих перемен в советской политической системе. Бжезинский играл активную роль в обмене идей и на основе своей первоначальной статьи (в слегка изменённой форме), тринадцати ответов и своих «итоговых размышлений» составил книгу «Дилеммы изменений в советской политике»[101].
Сравнивая политическую ситуацию при Сталине и после его смерти, Бжезинский отмечал удушающую роль советской бюрократии. Большевики пришли к власти с идеологией, подразумевающей отмирание государства, но в действительности советский режим с самых ранних своих дней принялся строить изощрённую бюрократическую систему. После смерти Сталина в руководстве СССР не осталось настолько всемогущего и харизматического лидера, который мог бы навязывать свою волю. Бжезинский утверждал, что сместившее Никиту Хрущёва в октябре 1964 года «новое поколение чиновников» – почти все из которых возвысились в иерархии в 1930-х и 1940-х годах благодаря сталинским чисткам, – рассматривали «бюрократическую стабильность» как «единственное солидное основание эффективного управления». По его мнению, уникальность Советского Союза заключалась в том, что им управляло «бюрократическое руководство с самого верха до самого низа», что выражалось в «чрезмерно централизованной и жёстко иерархичной бюрократической организации», которая «всё более застывала, подвергалась политической коррупции за годы безраздельной власти и выглядела гораздо более замкнутой, чем это обычно бывает, из-за того что её руководство придерживалось доктринёрской традиции, постепенно всё более превращающейся в ритуал». Бжезинский утверждал, что такое отсутствие гибкости представляет «в перспективе большую угрозу жизнеспособности любой политической системы», поскольку «упадок тут неминуем, а стабильность политической системы может быть поставлена под угрозу». В частности, «попытки сохранить доктринёрское диктаторское руководство над становящимся всё более современным и индустриальным обществом» приведут к «разложению» всей системы – по мнению Бжезинского, этой участи можно было избежать, только если бы бюрократическая коммунистическая диктатура [постепенно трансформировалась бы] в более плюралистичную и институализированную политическую систему, способную «решать основные внутренние проблемы» и удовлетворять требования «ключевых групп», «растущее самоутверждение» которых иначе грозило расшатать режим[102].
В этих рассуждениях Бжезинского стоит выделить пять основных пунктов.
Во-первых, он рассматривал «разложение» советской системы как исключительно политический феномен. По его мнению, процесс разложения должен возникнуть не вследствие экономической неэффективности или предполагаемого замедления экономического роста (о котором он даже не упоминал в своей первоначальной статье), но от удушающего влияния бюрократии, не допускавшей сколько-нибудь значимых политических высказываний со стороны рядовых граждан. В последующие годы взгляды Бжезинского на относительный вес политических и экономических факторов в упадке СССР изменились, но когда он только разрабатывал свою концепцию «трансформации или разложения» Советского Союза, он сосредотачивался исключительно на политическом аспекте проблемы, особенно на «растущей неспособности системы» решать множество серьёзных политических и социальных вопросов; на недостатке умных и способных специалистов, желающих занимать руководящие места в Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), и на растущем разрыве между застывшей, жёсткой политической советской системой и всё более подвижным и динамичным советским обществом.
Во-вторых, среди «ключевых групп» Советского Союза, «растущее самоутверждение» которых, по мнению Бжезинского, представляло собой долгосрочную угрозу режиму, были «нерусские национальности». В то время западные аналитики очень редко писали о политическом влиянии различных национальных групп в Советском Союзе, но в своей первоначальной статье Бжезинский (пусть и кратко) поднял этот вопрос, а в последующей работе рассмотрел его подробнее, критикуя «стремление многих западных советологов принизить значение вопроса, который, по моему мнению, может стать взрывным для советской политики». Он писал:
«Мы до сих пор живём в эпоху национализма, и согласно моему очень обобщённому мнению, Советскому Союзу будет всё труднее следить за тем, чтобы его многочисленные национальные группы не проходили через стадию самоутверждающего национализма… [Эти национальности] могут потребовать политической автономии, конституциональных реформ, большей доли в национальном экономическом пироге и больших инвестиций, формально не выходя из Советского Союза. История учит, будь то в Алжире, Индонезии или Африке, что такие требования чаще всего только усиливаются, нежели ослабляются. Если их не удовлетворять или подавлять, то они становятся только острее и радикальнее. Если их удовлетворять, то они растут по мере роста аппетита. Честно говоря, я не представляю, как центральные власти Советского Союза смогут избежать длительного периода действительно сложных отношений с нерусскими национальностями»[103].
И хотя эта проблема остро проявилась только лет двадцать спустя, после того как политическая либерализация при Михаиле Горбачёве выплеснула национальное напряжение наружу, Бжезинский был прав, указывая на потенциальную опасность этой проблемы. В дальнейших своих работах он возвращался к национальному вопросу неоднократно.
В-третьих, Бжезинский на тот момент несколько неверно оценил динамику советского руководства после отставки Хрущёва. Утверждая, что «падение Хрущёва создаёт… важный прецедент на будущее», Бжезинский упустил тот факт, что советская система по-прежнему позволяла лидеру КПСС сосредоточить в своих руках индивидуальную власть и добиться несколько большего статуса, чем просто «первого среди равных». И хотя в первые несколько лет после отставки Хрущёва существовала форма «коллективного руководства», Леонид Брежнев, будучи генеральным секретарём КПСС, всегда считался самым главным руководителем, который со временем устранил всех своих основных соперников, добившись главенствующего положения и скончавшись на своей должности восемнадцать лет спустя. Как отмечал Майрон Раш в то время и позже, в высшей степени централизованный характер советской политики и отсутствие институализированных процедур преемственности позволили Брежневу и его последователям предупредить возможное повторение заговора, в результате которого был смещён Хрущёв[104]. Поскольку Бжезинский (делая общие выводы из отставки Хрущёва) ошибочно рассматривал столкновения в московском руководстве в самом начале постхрущёвской эры как «затянувшуюся бюрократическую борьбу» и «деперсонализированный политический конфликт», он пренебрег теми аспектами системы, которые по-прежнему позволяли сконцентрировать власть в руках одного лидера. Бжезинский утверждал, что с появлением «всё более осознающей прочность своего положения «контр-элиты»» лидеру будет труднее консолидировать свою власть, но события брежневской эпохи опровергли его утверждение. Положение этой «контр-элиты» не было таким уж «прочным», как предполагал Бжезинский, а консолидация власти после Хрущёва не только осложнилась, но и значительно упростилась. После того, что случилось с Хрущёвым, Брежнев и его последователи понимали, что должны постоянно быть начеку и предотвращать любые подобные попытки сместить их самих.
В-четвёртых, анализ Бжезинского отражал различные академические течения и был основан на разных теоретических конструкциях. Тезис о растущем разрыве между советским обществом и советским режимом отражал концепцию политического порядка, разработанную в середине 1960-х годов Сэмюэлом Хантингтоном, который впоследствии объединил многие свои идеи в книге 1968 года «Политический порядок в изменяющихся обществах». (Бжезинский и Хантингтон были друзьями и вместе написали книгу о сравнении американской и советской политических систем.) Хантингтон утверждал, что модернизирующиеся общества, то есть общества с более высокими показателями грамотности, образования, урбанизации, индустриализации, экономического роста, распространения средств массовой информации и других индикаторов, более подвержены политической нестабильности и насилию, если только в них не учреждены сильные политические институты по поддержанию порядка. Рассуждение Бжезинского о Советском Союзе в точности отражало эту динамику – образование того, что он рассматривал как опасный разрыв между советским режимом и советским обществом. Тезис Бжезинского также был созвучен работам других исследователей, которые изучали дерадикализацию революционных режимов. Поскольку Китай в то время охватил хаос жестокой культурной революции, контраст между революционным порывом Мао Цзэдуна и относительным консерватизмом советского руководства поражал. Некоторые исследователи, такие как Ричард Лёвенталь, утверждали, что пока режим советского стиля не пожелает навязать повторную «революцию сверху» (как это Мао сделал в Китае), проистекающее из экономического развития новое социальное расслоение будет побуждать ключевых индивидов и ключевые группы закреплять свои достижения и тем самым отходить от заявленных утопических целей[105]. Анализ Бжезинского походил на анализ Лёвенталя, хотя Бжезинский пошёл дальше и указал на то, что укрепление этих новых центров социальной власти (особенно в органах высшего руководства КПСС и центрального аппарата) представляет собой один из основных барьеров на пути политической модернизации и экономической гибкости в СССР.
В-пятых, многое из того, о чём Бжезинский писал по поводу СССР в конце 1960-х годов и после – включая политический и идеологический застой советской системы, отказ от массового террора, растущую неспособность советского руководства соревноваться с советским обществом и меняющуюся природу динамики советского руководства, – устраняло ключевые элементы тоталитарной модели, фактически делая эту модель устаревшей и пригодной разве что для описания «идеальной» диктатуры в духе Сталина. Роберт Такер в статье 1965 года писал, что изменения в советской политике после смерти Сталина означали, что систему «следует называть, хотя бы временно, посттоталитарной»[106]. Бжезинский к тому времени явно соглашался с таким утверждением. Как он сам объяснял позже, он пришёл ко взгляду на тоталитаризм, как на «отдельную стадию в отношениях системы и общества, при которой общество находится в почти полном подчинении власти. Эта стадия может продолжаться долго или недолго, в зависимости от обстоятельств»[107]. Что касается СССР, то тоталитарный период, согласно Бжезинскому, длился там с 1929 по 1953 год. После смерти Сталина «ограниченный отказ от политического контроля над обществом и обнажение социального давления снизу», по его мнению, означали вступление Советского Союза в посттоталитарную стадию[108]. Таким образом, ещё задолго до так называемой ревизионистской критики тоталитарной модели в конце 1970-х и начале 1980-х годов, сами проповедники этой модели признавали, что концепция тоталитаризма, даже в качестве идеального образца, не подходит для анализа постсталинского Советского Союза.
Бжезинский вернулся ко многим этим вопросам в обширной главе своей книги 1970 года «Между двух эпох». Книга, основанная на опубликованной двумя месяцами ранее статье в «Инкаунтер» («Схватка»), исследовала природу «технотронной» эпохи (эпохи, в которой общество «в культурном, психологическом, социальном и экономическом смысле определяется влиянием технологии и электроники, в частности сферой компьютеров и коммуникаций»), роль Соединённых Штатов в мире, изменяющуюся природу политических убеждений и идеологий, а также основные вызовы, встающие перед Соединёнными Штатами[109]. Самой главной среди заморских проблем была холодная война и соперничество с Советским блоком, и Бжезинский посвятил семнадцать страниц оценке СССР и других коммунистических стран после вторжения в Чехословакию в августе 1968 года.
Его диагноз фундаментальных проблем, с которыми сталкивался советский режим, строился преимущественно на основе его более ранней критики, но, кроме анализа тенденций советской власти, он проводил сравнение с западными странами (определённо не в пользу СССР) и предлагал несколько сценариев будущего Советского Союза[110]. Бжезинский признавал «уникальное достижение» КПСС в том, что она «превратила самую революционную доктрину нашей эпохи в скучное ортодоксальное социально-политическое учение». Он утверждал, что советская политическая система, будучи «в высшей степени централизованной и остановившейся в своём развитии», уже в самом СССР воспринимается как «всё более несоответствующая потребностям советского общества, как замороженная в идеологической позе, служащей ответом на вопросы совершенно другой эпохи». Политика, по его мнению, «стала главным препятствием на пути дальнейшей эволюции страны», «вызывая разлад между политической системой и обществом». Бжезинский предсказывал, что советскому режиму будет «всё труднее идеологически оправдывать» продолжающееся подчинение [советского общества] политической системе, воплощающей собой всё более нежизнеспособные доктрины девятнадцатого века.
Бжезинский подчёркивал различия Советского Союза и Соединённых Штатов, особенно в сфере экономики. Согласно его утверждению, «абсолютная пропасть между двумя странами будет расширяться и дальше». Советских экономических достижений, по его мнению, «будет недостаточно, чтобы удовлетворить растущие социальные амбиции» – амбиции, которые «определённо будут расти по мере того, как сравнение с Западом будет очевидно демонстрировать необычайную устарелость основных секторов советского общества». По его мнению, «советское отставание особенно заметно в сельском хозяйстве» и в сферах технотронной эры. Советский Союз, как он утверждал, «не смог произвести технологически развитую продукцию, способную проникнуть на выгодные мировые рынки и составить конкуренцию с Западом», или удовлетворить «нечто большее, чем элементарные потребности внутреннего потребления». Он подчёркивал недостатки советских научных исследований за пределами военной сферы: «Советский Союз однозначно отстаёт в компьютерах, транзисторах, лазерах, пульсарах и пластиках, а также в важных областях методов управления, трудовых отношений, психологии, социологии, экономической теории и системном анализе». Отсюда Бжезинский делал вывод, что «идеологически-политическая централизация» советской системы, удушающая инновации и способствовавшая изрядному интеллектуальному конформизму, давала в лучшем случае «непредсказуемые», а в худшем «катастрофичные» научные плоды.
Обозначив закоренелые проблемы Советского Союза, Бжезинский перечислил пять «альтернативных путей» или «вариантов развития» СССР:
1. Олигархическое окаменение. Высшие органы КПСС сохранят свой доминирующий «контроль над обществом без попыток внедрить крупные инновации». Такая «консервативная политика [будет скорее всего] маскироваться революционными лозунгами», но в основе своей представлять сохранение статус-кво.
2. Плюралистская эволюция. КПСС станет «менее монолитной организацией» и будет «более благосклонно относиться к открытому идеологическому диалогу и даже брожениям в своих рядах». Партия «перестанет рассматривать свои идеологические заявления, как непогрешимые» и вместо этого станет «источником инноваций и перемен».
3. Технологическая адаптация. КПСС станет «партией технократов», уделяющей основное внимание «научной экспертизе, эффективности и дисциплине». Партия будет использовать «кибернетику и компьютеры для социального контроля» и будет полагаться на «научные достижения в целях обеспечения государственной безопасности и промышленного роста».
4. Воинствующий фундаментализм. КПСС вернётся к марксистско-ленинской ортодоксии и предпримет нечто вроде культурной революции в Китае. Даже если СССР не вернётся к практике сталинского массового террора, и даже если он не погрузится в хаос, как Китай, жёсткая переориентация советской системы «по всей видимости… потребует применения силы для преодоления активного сопротивления и простой социальной инерции».
5. Политический распад. КПСС продолжит терять влияние на общество в условиях «внутреннего паралича правящей элиты, повышения самосознания различных ключевых групп внутри неё, раскола в вооружённых силах, волнений среди молодёжи и интеллектуалов и открытого недовольства со стороны нерусских национальностей». Утратив веру в «окаменелую идеологию» марксизма-ленинизма, советское руководство не сможет разработать «последовательный набор ценностей для согласованных действий» по преодолению системного кризиса[111].
Бжезинский утверждал, что «советское руководство станет стремиться к равновесию между первым и третьим вариантами» – то есть Политбюро КПСС постарается сохранить статус-кво в общем, но попробует поставить на ключевые позиции в партийном аппарате технических экспертов, создавая таким образом «новый тип «технотронного коммунизма»». Бжезинский не рисковал предсказывать долгосрочные перспективы Советского Союза, предпочитая сосредотачиваться на «ближайшем будущем», «1970-х годах» и «примерно следующем десятилетии». Он писал, что «в недолгой перспективе развитие в сторону плюралистской, идеологически более толерантной системы [в СССР] кажется маловероятным», отчасти потому, что советская «политическая система в ближайшем будущем вряд ли породит человека с достаточными волей и властью для демократизации советского общества», и отчасти потому, что советскому «обществу недостаёт сплочённости и нажима со стороны отдельных групп, необходимых для демократизации снизу». Согласно мнению Бжезинского, «советская проблема нерусских национальностей» поставит дополнительные препятствия на пути демократизации, поскольку «великорусское большинство будет неизбежно опасаться, что демократизация усилит желание нерусских народностей добиваться большей автономии, а затем и независимости».
Предсказывая, что «вектор советского социального развития и интересы нынешней правящей элиты» делают «маловероятным появление демократизирующей коалиции», Бжезинский уточнял, что он говорит только о 1970-х годах. Он предполагал, что какая-то минимальная демократизация будет возможна в 1980-х, после того как со сцены сойдут лидеры поколения Брежнева. «Вполне возможно, что возникающая политическая элита будет менее придерживаться той идеи, что социальное развитие требует сильной концентрации политической власти». Тем не менее он не ожидал, что либерализация зайдёт слишком далеко, поскольку «эволюции в плюралистскую систему, скорее всего, будет противостоять укоренившаяся политическая олигархия». Он делал вывод, что пока не появится советский лидер, искренне желающий провести «крупное преобразование системы в целом» – что, по его мнению, было маловероятно, – «наиболее вероятным вектором развития в 1980-е представляется незначительный сдвиг к комбинации второго (плюралистская эволюция) и третьего (технологическая адаптация) вариантов: ограниченный экономико-политический плюрализм и упор на технологическую компетенцию в контексте по-прежнему авторитарного управления». Хватит ли этого ограниченного сдвига для выхода из застывшей в «олигархическом окаменении» системы – насчёт этого он высказывал сомнения.
Что касается возврата к «воинствующему фундаментализму под руководством одного диктатора», то такой вариант Бжезинский считал «немногим более вероятным, чем плюралистская эволюция», но он не рассматривал его как наиболее вероятный, поскольку диктатору, попытавшемуся упрочить воинствующий идеологический режим, «придётся преодолеть огромную инерцию и сопротивление партийных олигархов, не желающих возврата к единоличному правлению». И хотя Бжезинский считал, что «не стоит сбрасывать со счетов фундаменталистскую альтернативу, особенно если она станет единственной альтернативой политическому распаду вследствие окаменения системы» или в случае китайско-советской войны (такой сценарий рассматривался в свете вооружённых столкновений 1969 года на китайско-советской границе), он не ожидал, что военный фундаментальный режим сможет установиться без таких экстремальных обстоятельств. Главный вывод состоял в том, что «в преобладающих в начале 1970-х годов условиях» наиболее вероятным вариантом будет «олигархическое окаменение» в сочетании с некоторой степенью «технологизации» советской политической системы, которая не изменит общие контуры политики СССР.
Обрисованный Бжезинским вектор развития подтвердился в 1970-х и в начале 1980-х годов, когда советская политическая система, казалось, застыла в окаменелой геронтократической форме, особенно в последние годы Леонида Брежнева и в краткий период при Константине Черненко. Бжезинский точно описал внушительные препятствия на пути серьёзных изменений. При этом он не ожидал появления Горбачёва и последующих коренных перемен, но в книге «Между двумя эпохами» не исключал такого поворота. Считая настоящую демократизацию и «внутреннюю стадию открытой интеллектуальной креативности и экспериментов» в лучшем случае маловероятной, он, тем не менее, никогда не сбрасывал со счетов такую возможность. Более того, он правильно указал последствия возможной «трансформации [советской] системы».
Менее точным Бжезинский был в своих предсказаниях по поводу того, каким именно образом будут осуществлены значимые политические перемены в СССР. Он утверждал, что перемены могут быть вызваны общественными волнениями, включая студенческие протесты вроде тех, что бушевали во многих странах мира в конце 1960-х и начале 1970-х годов. Бжезинский заявлял, что «в 1970-е годы Советский Союз могут сотрясать конвульсии, схожие с конвульсиями, сотрясавшими Испанию, Югославию, Мексику и Польшу в конце 1960-х». Он полагал, что только «случаи более заметного социально-политического напряжения», особенно «студенческие волнения», могут подтолкнуть руководство страны пойти по-настоящему другим курсом. Но ничего подобного не произошло. Никаких значимых студенческих протестов в Советском Союзе до эпохи Горбачёва не было, и в целом советское общество оставалось на удивление бездействующим на протяжении всех 1970-х годов и начала 1980-х. Даже в разгар движения «Солидарности» в Польше в 1980–1981 годах до Советского Союза доходили лишь его слабые отголоски. Стивен Коткин справедливо заметил, что в марте 1985 года, когда к власти пришёл Горбачёв, «Советский Союз вовсе не переживал никаких беспорядков. Националистический сепаратизм существовал, но даже отдалённо не угрожал советскому порядку. КГБ успешно подавлял малейшие диссидентские выступления. Многочисленная интеллигенция продолжала жаловаться на жизнь, но пользовалась государственными субсидиями, обеспечивающими общую лояльность»[112]. Вышло так, что предположение Бжезинского, согласно которому серьёзные перемены в Советском Союзе произойдут только в ответ на растущее общественное давление, указывало в совершенно противоположную сторону. В действительности именно далеко зашедшая в годы Горбачёва либерализация проложила дорогу протестам и массовым волнениям, а не наоборот.
Стоит отдельно упомянуть один небольшой вывод книги «Между двух эпох». Предположение Бжезинского о том, что озабоченность русских по поводу сохранения контроля над другими национальностями Советского Союза помешает демократизации, кажется поразительным предсказанием взглядов, выраженных в конце 1970-х и 1980-х годах Джерри Хафом, который неоднократно заявлял, что «многонациональный характер Советского Союза» будет препятствовать «эволюции к конституционной демократии» в СССР. В опубликованном в 1979 году учебнике Хаф утверждал, что советское руководство неизбежно опасается, что широкая либерализация пробудит сепаратистские настроения в нерусских республиках, а эти настроения, в свою очередь, вызовут националистическую реакцию среди русских. Одна лишь угроза такого сценария, по мнению Хафа, удерживала советских руководителей от мыслей о настоящей демократизации. «Даже если русский предпочитает демократизацию для себя, он должен понимать – пусть даже и подсознательно – что развитие в таком направлении вполне может привести к ухудшению места России в мире… Можно представить естественную реакцию русского на мысль о потере довольно больших частей страны»[113]. Такие рассуждения во многом совпадали с рассуждениями Бжезинского, высказанными десятилетием ранее. Возникновение массовых сепаратистских движений в некоторых советских республиках в конце 1980-х, после широкомасштабной политической либерализации при Горбачёве, подтвердило многие предположения Бжезинского, с одним важным исключением – он переоценил потенциальную обратную реакцию «великорусского большинства».
Тот факт, что в Литве, Латвии, Эстонии, Молдавии и Грузии возникли массовые сепаратистские движения, не обязательно означает, что Советский Союз не мог пережить настоящую демократизацию. Своевременные уступки, переговоры и компенсации со стороны Горбачёва могли бы изменить динамику в его пользу. Советское государство в результате оказалось бы несколько урезанным и потерявшим несколько небольших республик, но в целом бы сохранилось. Но вместо этого Горбачёв отказался предоставлять независимость каким бы то ни было республикам. Его нежелание смириться с потерей даже небольших территорий ограничивало его пространство для манёвров и, возможно, было проявлением тех чувств, о которых писал Бжезинский.
Во второй половине 1980-х годов, после четырёх лет на посту советника по национальной безопасности в администрации Картера и работы над блестящими мемуарами о том периоде, Бжезинский вернулся к издавна интересующему его анализу режимов советского типа. Его оценки советской политической системы 1980-х годов не только отражали важные события, происходившие в ту эпоху, но и служили развитием его идей конца 1960-х и начала 1970-х. Приход к власти Горбачёва и последующие за этим радикальные перемены послужили поводом к очередным размышлениям о внутренних изъянах ленинской системы.
Публикация книги «Большой провал» в 1989 году обозначила собой возвращение к темам, затронутым в другой эпохальной книге «Советский блок», опубликованной в 1960 году[114]. В своей ранней работе, остающейся классикой уже более полувека, Бжезинский прослеживал сдвиг от относительно монолитного Советского блока к более разнообразному и постоянно дробящемуся миру социалистических стран[115]. Он не только исследовал разрыв СССР с Югославией при Сталине (в переработанном издании 1967 года) и раскол СССР с Китаем и Албанией при Хрущёве, но и обозначил процесс «де-сателлизации» стран Восточной Европы, которые от почти полного подчинения в сталинскую эпоху начинали занимать более независимое положение и иногда даже предпочитать позицию, не соответствующую мнению СССР.
В то время, когда Бжезинский работал над «Большим провалом», вся конструкция Советского Союза и Советского блока переживала радикальные перемены. Явления, которые во время работы над «Советским блоком» казались невероятными, стали обыденными. Связи с Советским Союзом ещё не были полностью утрачены, как и не было полностью испытано терпение СССР в этом вопросе, но широкая политическая либерализация и даже демократизация в странах Восточной Европы и СССР позволили Бжезинскому рассуждать о неминуемом крахе марксизма-ленинизма. Книга, законченная в августе 1988 года, предсказывала, что «к следующему столетию неизбежный исторический упадок коммунизма сделает его практику и догму в целом несоответствующими условиям человеческого существования» и что «коммунизм будут, в основном, вспоминать как самое экстраординарное политическое и интеллектуальное отклонение»[116]. Одна из главных тем книги, развиваемая преимущественно в нескольких начальных главах и нескольких конечных главах (иногда даже с чрезмерными повторами, от которых следовало бы избавиться редактору), состоит в том, что «ключевая историческая трагедия коммунизма заключается в провале советской системы». Анализ Бжезинского по этому поводу отражает его более ранние исследования темы, начиная с 1960-х годов, и дополняется несколькими довольно проницательными суждениями о событиях, связанных с реформами Горбачёва и последующими за ними переменами. Бжезинский рассматривал причину упадка советского коммунизма в контексте его истории, показывая, как необычайная концентрация власти в руках беспощадных большевиков, особенно Сталина, породила политическую систему, издавна препятствовавшую любым искренним попыткам долговременной либерализации, не говоря уже о коренной реформации. «Таким образом, окончательный кризис современного коммунизма тем более впечатляет благодаря внезапности своего проявления», – писал он.
Оценивая перспективы Горбачёва, Бжезинский отталкивался от экономических и социальных аспектов кризиса, но более всего он обращал внимание на многонациональную природу Советского Союза – на факт, который подчёркивал начиная с 1960-х годов. Описывая «национальную проблему» как «ахиллесову пяту [горбачёвской] перестройки», Бжезинский утверждал, что длительное доминирование «великорусского большинства» неизбежно приведет к «растущим требованиям» равного отношения со стороны национальных республик, но «централизованный российский контроль настолько плотно врос в существующую структуру, что необходимые коррективы привели бы к широкомасштабным потрясениям». В этом, по мнению Бжезинского, и заключался «порочный круг», когда «отсутствие реформ порождает национальные волнения, но реформы могут ещё больше разжечь аппетит среди нерусских народностей с требованиями предоставить им больше власти». В частности, он ожидал, что «сепаратистские настроения» явно проявятся «среди балтийских народностей и советских мусульман, причём среди последних они будут подогреваться повышением активности ислама и неудачами советских войск в Афганистане». Откровенно сепаратистские движения действительно рано проявились в Прибалтике (они уже были заметны на тот момент, когда Бжезинский писал книгу), но его предсказание о том, что в первых рядах требующих независимости будут и советские мусульмане, оказалось неверным. Никаких ярких сепаратистских движений в центральноазиатских советских республиках никогда не наблюдалось, и они предпочитали оставаться в составе СССР до самого конца.
Бжезинский предположил, что нерешаемость национального вопроса скорее всего обрекает на провал программу широких преобразований Горбачёва:
«Великорусские страхи перед ростом национальных конфликтов не только препятствуют необходимым реформам, но и увеличивают вероятность того, что в реальности советский коммунизм не претерпит никакой конструктивной эволюции, а будет просто разлагаться. Действительно обновляющего эффекта – построения творческого, инновационного и активного советского общества – можно добиться только благодаря ослаблению доктрины, распределению партийной власти и постепенному отходу национальных республик от централизованного контроля со стороны Москвы. Крайне невероятно, что партийное руководство и правящая элита, как бы они ни стремились к экономическому возрождению, готовы пойти на такой большой политический риск».
Поскольку общественные политические ожидания в Советском Союзе в эпоху Горбачёва постоянно повышались, Бжезинский предположил, что попытки остановить ход реформ создадут «неизбежно взрывную» и «потенциально революционную» ситуацию. Как следствие такого разворота он ожидал «последовательный распад порядка, который в конечном итоге приведет к перевороту в центре, предпринятому военными при поддержке КГБ», – сценарий, который во многом осуществился при августовском путче 1991 года.
Бжезинский также обращал внимание на некоторые аспекты меняющегося статуса коммунизма в Восточной Европе и Китае. В своей речи, посвящённой памяти Хью Сетона-Уотсона в Центре политических исследований в январе 1988 года[117], он охарактеризовал марксизм-ленинизм как «чуждую доктрину, навязанную региону имперской властью, правление которой было несовместимо с доминирующими в регионе народностями»[118]. Бжезинский утверждал, что перемены в Советском блоке привели к «органическому отторжению социальной системой чужеродного саженца… Социальный организм отталкивает чужеродный элемент, привитый внешней силой». Этот процесс, по мнению Бжезинского, обладал деструктивным потенциалом, поскольку регион проходил через стадии «одновременно политической либерализации и экономической регрессии, классической формулы для революции…» В своём выступлении Бжезинский заявлял, что пять из шести восточноевропейских стран Варшавского договора (за исключением Восточной Германии) «созрели для революционного взрыва»[119]. Он выражал озабоченность по поводу возможности вмешательства советских войск, если в одной или нескольких восточноевропейских странах произойдет «массовый социальный взрыв», и поэтому подчёркивал важность «постепенных перемен» в Восточной Европе, которые помогли бы избежать жестоких потрясений:
«Я ни на минуту не верю, что массовые революционные выступления в регионе служат нашим интересам. Если они произойдут в ближайшем будущем, то, вопреки сказанному [Александром] Дубчеком, у Советского Союза не будет другого выбора, кроме как вмешаться. Почти столь же очевидно, что Запад будет бессильно стоять в стороне и что жертвами станут реформы в регионе и перестройка в Советском Союзе. Таким образом, я не считаю, что мы должны так уж стремиться к такому взрыву, поощряя его или просто наблюдая за событиями. Мне кажется, что желательнее всего постепенные перемены, которые следует поощрять. Им нужно способствовать, и это возможно»[120].
В своём выступлении (хотя и не в последующем «Большом провале») Бжезинский призывал Запад к осторожности и к тому, чтобы не создавать впечатления, будто он всеми силами пытается перетянуть восточноевропейские страны в свой лагерь. «Нашей стратегической и исторической целью должно стать не стремление поглотить то, что некогда называлось Восточной Европой тем, что поныне называется Западной Европой». Вместо этого он призывал к «последовательному созданию по-настоящему независимой, культурно самобытной, возможно фактически нейтральной Центральной Европы». Он подчёркивал, что не предлагает добиваться устранения Варшавского договора или вывода советских войск. «Когда я говорю фактически нейтральная, я имею в виду нейтральную по сути, но не нейтральную по форме. Она может возникнуть в контексте существующих альянсов, определяющих геополитическую реальность современной Европы»[121].
В январской речи 1988 года Бжезинский предложил США политический курс на сближение с Советским блоком, что совпадало с мнением некоторых других наблюдателей той эпохи. На неофициальной встрече с советским руководством в конце 1988 года Генри Киссинджер тактично намекнул на возможность соглашения между сверхдержавами о нейтрализации Восточной Европы, дав понять, что в этом может быть заинтересована администрация будущего президента Джорджа Буша[122]. (Горбачёв, впрочем, отклонил такое предложение.) Тем не менее события в регионе развивались так быстро, что Бжезинский уже не упоминал о схожей стратегии в книге «Большой провал», что оказалось разумным. Благодаря отсутствию политических рекомендаций книга не устарела сразу же после своей публикации. Но несмотря на то, что Бжезинский недооценил скорость падения коммунизма в Восточной Европе, его диагноз по поводу развивающегося кризиса в регионе и его связи с фундаментальным кризисом в СССР в целом оказался верен.
Точно так же в целом верно Бжезинский предсказал последствия экономических реформ в Китае, которые, в отличие от реформ в Советском Союзе, были «скорее всего, обречены на успех»[123]. В четырёх кратких главах, представляющих собой самую инновационную часть книги, он дал убедительный анализ перемен в Китае при Дэн Сяопине. Бжезинский утверждал, что желание Дэна расформировать коллективные хозяйства и позволить крестьянам выращивать свою собственную продукцию «имеет глубокие идеологические последствия» в такой стране, как Китай, который к началу реформ оставался преимущественно аграрным. Бжезинский в своих предположениях приходил даже к мысли о том, что сельскохозяйственная реформа так важна, потому что «означает, что подавляющее большинство китайского народа [т. е. крестьяне] перестает жить в рамках коммунистической системы». Такое предположение может показаться спорным, но Бжезинский был прав, указывая на то, что экономические реформы Дэн Сяопина «пошли дальше, чем реформы в Советском Союзе», не только в области сельского хозяйства, но и в «городской и сельской промышленности, в сферах внешней торговли, международных инвестиций, потребительских товаров и частного предпринимательства… Наконец, в отличие от Советского Союза, Китай значительно сократил расходы на армию и оборону».
«Большой провал» вышел в свет до массовых протестов в Китае весной 1989 года и до жестокого их подавления в Пекине в начале июня 1989 года. Эти события противоречили предположению Бжезинского о том, что «централизованный политический контроль» будет постепенно ослабевать «по мере расширения экономической власти Китая». На деле, произошедшее в Китае с 1980 года по сию пору опровергло все ожидания, и быстрый экономический рост на протяжении более чем трёх десятилетий продолжался под контролем основанной Мао Цзэдуном коммунистической партии. Теория модернизации социальных институтов заставляла предположить, что в конце 1980-х годов увеличивающийся средний класс Китая потребует демократизации, но после убийств на площади Тяньаньмэнь этого не происходило. И хотя Бжезинский (как почти все остальные) недооценил способность коммунистического режима сохранять жёсткий политический контроль над Китаем, в других аспектах предположения Бжезинского во многом оправдались.
Главное предсказание «Большого провала» – что коммунизм вступил в свою «окончательную агонию» и к концу двадцатого века исчезнет – оказалось во многом, хотя и не во всех аспектах, верным. Советский режим и все коммунистические режимы европейских стран, включая Албанию и Югославию, рухнули, как и в Монголии. Но в других регионах они устояли. В Северной Корее, на Кубе, в Китае и Вьетнаме до сих у власти находятся коммунистические партии. Можно поспорить, до какой степени Китай и Вьетнам остаются коммунистическими, приняв важные капиталистические реформы и институты (некоторые из которых постепенно внедряются и на Кубе), но нет сомнений в том, что в политическом смысле это однопартийные диктатуры коммунистов. Поэтому даже несмотря на то, что коммунизм в большинстве регионов был дискредитирован и никогда не будет возрождён, он сохраняется в пяти странах, на долю которых приходится примерно четверть всего населения мира – то есть в них проживает гораздо больше людей, чем в многочисленных странах, коммунистические режимы в которых пали в 1989–1991 годах.
Когда Бжезинский только приступил к изучению Советского Союза в начале 1950-х годов, казалось, что советский режим вечен. Благодаря своей победе над Германией во Второй мировой войне СССР пользовался в мире большим авторитетом. Под советским покровительством влияние коммунистических партий распространилось по Европе и Азии, и почти одна треть всего населения мира жила под властью режимов советского типа, лояльных Москве. Многие недавно обретшие независимость страны воспринимали Советский Союз как естественного союзника в своём противостоянии Западу, и лидеров этих стран часто привлекала советская государственная модель развития. В целом СССР по своей мощи воспринимался как равный конкурент Соединённых Штатов.
Но после смерти Сталина в Коммунистическом блоке наметились разногласия, а в конце 1950-х годов между Советским Союзом и Китаем произошёл разрыв. Множились и внутренние проблемы советского режима. Наблюдая в 1960-х годах эти сдвиги, Бжезинский сосредотачивался на удушающем воздействии советской бюрократии, которая, как казалось, лишала советскую марксистско-ленинскую доктрину жизнеспособности. Тема, которую Бжезинский затронул в своей статье, опубликованной в 1966 году в журнале «Проблемы коммунизма» и в сборнике «Дилеммы изменений в советской политике», – о том, что Советский Союз должен пройти либо через стадию перемен, либо через стадию упадка – оставалась в центре его внимания на протяжении двух с половиной десятилетий.
Публикации, в которых Бжезинский анализировал советскую политическую систему, с середины 1960-х годов и до конца 1980-х годов (особенно в то время, когда он занимал должность советника по национальной безопасности) отличались проницательностью, критичностью мышления и глубоким пониманием советской и русской истории и культуры, а также природы коммунистических режимов в разных странах. Несмотря на то что Бжезинский лишь изредка прибегал к явным социологическим методам, ему удалось основательно проанализировать советскую систему, и основные его идеи и аргументы сохранили свою силу, хотя ему и приходилось вовремя адаптировать их к меняющимся обстоятельствам. Он рано указал на системные слабости Советского Союза и режимов советского типа, и в конце 1980-х годов это помогло ему понять глубину кризиса, с которым столкнулась коммунистическая идеология советского образца. Его книги и статьи после работы советником по национальной безопасности предназначались для широкой аудитории, но большинство этих публикаций, особенно «Большой провал», также содержали идеи, полезные для экспертов. Анализ Бжезинского убедительно доказывал, каким образом шансы Советского Союза настолько драматически изменились с 1950-х годов, когда СССР многими рассматривался как основная восходящая сила в мире, до начала 1990-х, когда все усилия Горбачева по предотвращению упадка Советского Союза оказались напрасными и даже ускорили окончательный кризис и распад советской системы.
Хотя некоторые прогнозы Бжезинского по поводу СССР в конечном итоге не оправдались, его анализ советской истории и политики оказался (и остается) убедительным во многих ключевых аспектах. В наше время Бжезинский известен, в основном, благодаря своей государственной службе и публичным комментариям международной политики США; его оценки советской политической системы в конце 1960-х и начале 1970-х во многом забыты. И это очень жаль, поскольку любой, кто найдет время перечитать (или прочитать в первый раз) рассуждения Бжезинского по поводу советской системы, поймёт, что это очень ценный, пробуждающий мысль и вдохновляющий источник.
Часть II. В Совет национальной безопасности
Глава 4. Подготовка сцены для текущей эры
Дэвид Дж. Роткопф
Губернатор Джорджии Джимми Картер повстречался со своим будущим советником по национальной безопасности в то время, когда тот, в дополнение к своей преподавательской деятельности в Колумбийском университете, занимал должность исполнительного директора североамериканского филиала Трёхсторонней комиссии. Эта комиссия свела между собой ведущих представителей правительственных и академических кругов из Европы, Соединённых Штатов и Японии, целью которых было оценить проблемы, с которыми сталкиваются лидеры развитого мира, и потенциальные угрозы со стороны развивающегося мира. Бжезинский стал членом этого клуба влиятельных лиц после публикации своей книги «Между двух эпох», привлекшей внимание Дэвида Рокфеллера, председателя банка «Чейз Манхэттен Банк». В этой книге он описал различные трудности, встающие перед развитыми, коммунистическими и развивающимися странами.
Трёхсторонняя комиссия стала одним из тех клубов истеблишмента, которые породили теории заговора о людях в серых костюмах, управляющих судьбами мира. Среди других подобных организаций и мероприятий можно назвать Совет по международным отношениям, Бильдербергский клуб, Пагуошское движение учёных, Богемский клуб и ежегодный Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Как скажет любой, кто присутствовал на одном из этих собраний, они предлагают прекрасную возможность завести знакомства и обменяться интересными идеями – но редко представляют собой что-то большее. И в самом деле, здравый смысл подсказывает, что удачный заговор должен охватывать гораздо меньшую группу людей, чьи имена и лица должны оставаться в тайне, а не засвечиваться во всех средствах массовой информации. При этом в начале 1970-х годов Трёхсторонняя комиссия переживала свой расцвет, и из её рядов вышли многие члены администрации Картера. Среди них – вице-президент Уолтер Мондейл, государственный секретарь Сайрус Вэнс и министр обороны Гарольд Браун, а вместе с Бжезинским и Картером это означает, что с комиссией был связан каждый член внутреннего аппарата администрации, ответственного за внешнюю политику. Среди других важных членов администрации можно назвать заместителя государственного секретаря Уоррена Кристофера (позже государственного секретаря при Билле Клинтоне), главного помощника Картера в переговорах по ограничению вооружений Пола Уорнке, главу Совета планирования Государственного департамента Тони Лейка, помощника государственного секретаря по вопросам Восточной Азии Ричарда Холбрука и директора военно-политического бюро Государственного департамента Лесли Гелба (будущего главу Совета по международным отношениям) – все они также были членами Трёхсторонней комиссии или писали доклады для выступлений в ней. Вот так и зарождаются теории заговоров; тот факт, что разные члены этой группы в разные периоды были готовы едва ли не вцепиться друг другу в горло, для убеждённых сторонников таких теорий вряд ли имеет значение.
В 1973 году Бжезинский порекомендовал Картера в качестве потенциального члена группы, видя в нём многообещающего, высокопрофессионального политика, заинтересованного в расширении своих горизонтов и углублении знаний в области международной политики. Картер, которому Бжезинский помог вступить в комиссию, впечатлил его, как восходящая звезда. Но Бжезинский также понимал, что заслуг и достоинств самих по себе недостаточно, чтобы предполагаемые патроны или будущие президенты тебя заметили и сделали своим советником. Нужно работать в системе – вступать в различные группы, публиковаться, посещать конференции, заводить связи, отсылать ободряющие письма находящимся на подъёме политикам, предлагать свою помощь.
В 1974 году, когда Бжезинский узнал, что Картер собирается участвовать в президентской кампании, он написал ему письмо с предложением своих услуг. Картер принял предложение, и на протяжении 1975 года они регулярно переписывались. Бжезинский пересылал Картеру записки, статьи, идеи и предложения, которые Картер находил весьма полезными. Через какое-то время Бжезинский рассказал своей жене о том, что впечатлён выступлением Картера на конференции Трёхсторонней комиссии в Японии, где тот призывал к взвешенному подходу при достижении мира на Ближнем Востоке. Мушка Бжезинская посоветовала ему взять на себя более активную роль в кампании Картера. «Докажи свои убеждения делами. Если он тебе так нравится, и ты веришь в него, не жди дальнейшего развития, иди и поддерживай его», – сказала она[124]. Бжезинский сделал пожертвование в фонд кампании и начал «более систематически» составлять документы для Картера, даже несмотря на то, что на тот момент губернатор Джорджии едва был заметен на политическом радаре, и по рейтингам общественного мнения он набирал всего лишь два процента. Бжезинский хорошо знал всех участников президентской гонки и вполне мог бы работать с любым из них, но он сделал ставку на самую «тёмную лошадку». Вскоре он стал главным экспертом Картера по международной политике, его постоянным «профессором» в вопросах, которые для кандидата в президенты имели гораздо большее значение, чем для губернатора «Персикового штата», занимавшегося преимущественно местными делами.
Кампания Картера стала переломным моментом в американской внутренней и внешней политике, как обещали он сам, Бжезинский и другие члены его администрации. Нация ещё не опомнилась от Уотергейта и от войны во Вьетнаме. И если немногие рядовые люди могли столь же чётко сформулировать свои мысли по поводу упадка страны, как это могли политологи, то все нутром чуяли, что происходит что-то не то, что это не та Америка, в которую они привыкли верить, и что главная часть вины лежит на Вашингтоне, на истеблишменте и на самом Овальном кабинете. Для многих главным дискредитировавшим себя виновником был Никсон. Помиловавший Никсона Джеральд Форд понимал, что ему придётся отстраниться от человека, назначившего его своим вице-президентом. В противоположность ему Джимми Картер был совсем другим – говорил мягко и спокойно о том, что Америка заслужила правительство столь же хорошее, как и её народ. Это был неизвестный кандидат, отличавшийся от большинства профессиональных политиков, по всей видимости, действительно глубоко верующий христианин с Юга, преподававший в воскресной школе. В общем, почтенный и добропорядочный, иногда даже чересчур. В каком-то отношении он принадлежал популистской традиции американской политики, но в нём было нечто новое, и он сам заявлял о том, что принесёт с собой нечто новое.
Одной из тем кампании Картера стало провозглашение своего отличия от Форда и Никсона, а этих во многом разных людей связывал Генри Киссинджер. В ходе кампании он открыто осуждал дипломатию «одинокого рейнджера» предыдущей администрации. Как он недвусмысленно заявлял: «Что касается внешней политики, президентом этой страны был мистер Киссинджер»[125]. После выборов было сделано всё возможное, чтобы процесс принятия внешнеполитических решений значительно отличался от того, каким он был раньше.
Во время переходного периода Бжезинский выполнял роль главного консультанта по национальной безопасности, и они с Картером обсуждали различные комбинации людей и ключевых структур. Как писал Бжезинский:
«Я с самого начала заявил, что ему нужно размышлять о назначениях в контексте трёх альтернативных типов осуществления руководства по внешней политике: во-первых, это прямое руководство со стороны сильного президента (вроде Никсона), которому помогает сильный советник Белого дома (Киссинджер) при слабом государственном секретаре; во-вторых, это модель с доминирующим государственным секретарём, каким был Даллес при Эйзенхауэре или Киссинджер при Форде, с относительно пассивным президентом и не вмешивающимся советником; и, в третьих, разновидность более «сбалансированной» команды, объединяющей сильного президента (вроде Кеннеди) с относительно независимым и сильным государственным секретарём (Раском) с таким же уверенным в себе и энергичным советником Белого дома (Банди). Я тогда предположил, что Картеру следует стремиться к третьей модели. В глубине души я чувствовал, что хотя он и будет естественным образом склоняться к первой модели, но в свете наследия Киссинджера ему будет неудобно в этом признаться… Кроме того, на той стадии я искренне полагал, что командный подход сработает»[126].
Во время того же разговора Бжезинский обсудил с Картером сильные и слабые стороны различных кандидатов на должность государственного секретаря, включая Джорджа Болла, которого Бжезинский воспринимал как безупречного в связи с его жёсткой позицией по Израилю; Сайруса Вэнса, который, как выразился Бжезинский, «прекрасно вписался бы в мою третью модель сбалансированного руководства в области международных отношений»; и Пола Уорнке, который, по его мнению, проявлял некоторую мягкость по отношению к Советскому Союзу. Они также обсудили различных кандидатов на пост советника по национальной безопасности, и Бжезинский назвал разные имена, включая Гарольда Брауна, бывшего министра ВВС и президента Калифорнийского технологического института.
Позже, после назначения Сайруса Вэнса госсекретарём, Картер и Бжезинский обсуждали, какую роль может занять сам Бжезинский – предположительно заместителя госсекретаря Вэнса или помощника самого президента по национальной безопасности, склоняясь к последней. Через неделю после этого Картер позвонил Бжезинскому, когда тот находился на званом обеде в Нью-Йорке. Как вспоминает Бжезинский, Картер говорил лёгким и непринуждённым тоном, подчёркивая свои дружеские отношения:
– Збиг, хочу, чтобы ты оказал мне услугу – хотелось бы назначить тебя моим советником по национальной безопасности.
– Это не услуга, это честь. И я надеюсь, что вы не пожалеете о своём решении. В этом я уверен, – ответил Бжезинский.
– Вообще-то я принял это решение ещё несколько месяцев назад, просто мне нужно было подготовится ко всем этим назначениям. Но я знал с самого начала, – заметил Картер[127].
Поскольку Картер, как считалось, склонялся к более сбалансированному и командному подходу (в отличие от политики Киссинджера), Бжезинский разработал план вместе со своим предполагаемым заместителем, Дэвидом Аароном, бывшим членом Совета национальной безопасности и советником нового вице-президента Уолтера Мондейла в бытность того сенатором. Согласно предложенному ими плану, Картер должен был учредить семь разных комитетов, большинство из которых возглавлялось бы кабинетными министрами, такими как Вэнс (государственный секретарь); Браун (министр обороны), Майкл Блументаль (будущий министр финансов) или адмирал Стэнсфилд Тёрнер (будущий директор ЦРУ). Непосредственно Бжезинскому подчинялись бы только три комитета: относящиеся к контролю над вооружениями, расследованию особо важных дел и управлению в кризисных ситуациях – то есть к тому, что требовало личного вовлечения или внимания президента.
На совещании по планированию на острове Сент-Саймон у побережья Джорджии Картер отверг это предложение. «Слишком много комитетов, – сказал недавно избранный президент. – Мне хотелось бы видеть более простую и чёткую структуру». Поэтому тогда же, в коттедже на острове, Бжезинский и Картер разработали другую схему, на этот раз всего из двух комитетов. Комитет по анализу политики (Policy Review Committee, PRC) занимался бы вопросами международной политики, обороны и международной экономики. Его бы возглавлял тот из министров, кабинет которого на текущий момент был ближе всего к рассматриваемым вопросам (на практике, помимо нескольких отдельных случаев, им был государственный секретарь, то есть министр иностранных дел США). Дважды в год, при обсуждении бюджета разведки, его бы возглавлял директор ЦРУ. Другой комитет, Специальный координационный комитет (Special Coordination Committee, SCC), занимался бы секретными разведывательными операциями, контролем над вооружениями и управлением в кризисных ситуациях. Эту группу возглавлял бы Бжезинский. По возможности на совещаниях присутствовали бы сами министры, а не их заместители или представители министерств, как это бывало в комитетах Киссинджера. Для улучшения функционирования этой структуры Картер на первом же совещании заявил, что повышает советника по национальной безопасности до статуса кабинетного министра. Его заявление прозвучало как недвусмысленное послание по поводу дальнейшей политики.
Столь же чётко прозвучало и другое послание Картера во время очередного совещания на Сент-Саймоне, когда он удивил других членов кабинета сообщением о новой структуре. Поскольку это было уже свершившимся фактом, то им оставалось только принять его или сделать вид, что принимают. Бжезинский перевёл это послание на язык двух президентских директив, переданных Картеру через несколько дней после его инаугурации. В составлении одной из них принимал участие Аарон, как и особый помощник Бжезинского, Карл Инденфурт («Рик»). Оба они, как и многие члены команды Картера, впоследствии, более десятилетия спустя, заняли ведущие посты в администрации другого президента-демократа, Билла Клинтона.
Первая из этих директив завершала предсказуемый, хотя и немного абсурдный процесс переименования меморандумов президента. То, что раньше называлось «меморандумом по исследованиям в области национальной безопасности» (NSSM), стало «Обзорным меморандумом президента» (PRM), а «меморандум о решениях по национальной безопасности» (NSDM) стал «президентской директивой» (PD). Вторая директива описывала новую структуру комитетов и процессов на период президентства Картера. Эти документы были подписаны перед самой инаугурацией Картера и распространены среди членов кабинета сразу же, как президент дал клятву. Неудивительно, что некоторые ощущали определенный дискомфорт в связи с такой системой. Это был настоящий бюрократический удар высшего порядка. Согласно такой системе ответственность за самые важные и щекотливые вопросы возлагалась на Бжезинского, а поскольку определение того, что такое управление в кризисные ситуации, оставалось размытым, то получалось, что всё важное возлагал на себя Белый дом.
Вэнс был недоволен и заявил, что с ним не проконсультировались, несмотря на то, что план составляли на островном курорте. В конце концов, после обсуждений с Бжезинским, Вэнс согласился с новой системой. Спустя три с лишним десятилетия сторонники Вэнса до сих пор сокрушаются по поводу «хода Бжезинского» и утверждают, что этим шагом он сделал именно то, что президент сказал ему не делать, и что таким образом он стал «вторым Киссинджером». И действительно, это разделение вылилось в одно из самых жестоких соперничеств в истории исполнительной власти и в конечном итоге привело к отставке Вэнса в связи с разногласиями по поводу подходящей реакции на кризис с заложниками в Иране, который омрачил последние годы администрации Картера и долго ещё отзывался эхом.
При этом это не было простое соперничество между Государственным департаментом и Белым домом с его Советом национальной безопасности, а целая война с переменным успехом за право высказывать от имени президента окончательное мнение по поводу ключевых вопросов внешней политики. Вэнс, представитель старой элиты, не гнался за популярностью в средствах массовой информации, как это должен делать любой политик современной эпохи (в конце 1970-х годов дипломатия уже осуществлялась во многом посредством телевидения), и в результате, по уверениям Бжезинского, Картер сам попросил его занять роль медийной персоны. Как сказал Бжезинский, Вэнс «не слишком хорошо продавал политику, и поэтому на телевидении оказался я, несмотря на изначальное намерение держать меня в тени. Затем, когда госсекретарь пожаловался на это и обвинил меня в том, что я пропагандирую себя на телевидении, президент отчетливо выразился: «Я сам ему это посоветовал». И это было правдой. Я никогда не появлялся на экране без недвусмысленной просьбы со стороны президента»[128].
Протеже Вэнса утверждают, что Бжезинский умалчивает о своём собственном желании стать главным политическим советником президента, но в действительности, какими бы честолюбивыми устремлениями и какой бы бюрократической прямотой он ни отличался, он бы никогда не создал своей структуры без прямой поддержки президента. Фактически президент не только поддерживал такую структуру, но и приложил руку к её созданию. Джимми Картер пришёл к власти под непрекращающиеся обвинения критиков в том, что он, губернатор Джорджии, плохо подходит для решения насущных внешнеполитических вопросов (с такой же критикой пришлось столкнуться Биллу Клинтону и Джорджу У. Бушу), но его действия с самого начала показали, что международным делам он придавал важнейшее значение и что он сам собирается активно участвовать в решении этих вопросов. Свидетельством тому служит хотя бы тот факт, что 80 процентов его книги «Храня веру: мемуары президента» посвящены международным делам – во многом они были его увлечением, его достижениями и причинами его неудач (хотя в этом повинны также стремительная инфляция и плохая экономическая ситуация).
Несмотря на то что, занимаясь государственными делами, Картер старался лично руководить собранной им командой, члены этой команды никогда не занимали откровенно второстепенных ролей, в отличие от членов команды Никсона, кроме Киссинджера. Несмотря на то что распри между Вэнсом и Бжезинским по поводу политических вопросов и первенства воспринимались как знак слабости администрации Картера, это также и свидетельство того, что они оба играли важные роли и что Картер ценил обоих за их различия и за индивидуальный вклад.
Но кроме традиционных ролей традиционных игроков в Совете национальной безопасности, во внутреннем круге Картера наметились и новые игроки. Один из них явно был вице-президент Мондейл. По словам Мондейла, Картер с самого начала намекнул на нечто большее, чем обычное «сотрудничество» с вице-президентом, о котором другие президенты часто забывали. «Меня всегда открыто приглашали на все встречи, субботние совещания и тому подобные мероприятия. Если приезжал Дэн Сяопин, то я должен был встречать его вместе с Картером и так далее. Между нами также бывали частные беседы. Я понимал, что могу получить доступ к нему всякий раз, как мне это понадобится»[129].
Команда Картера встречалась гораздо чаще неформально, чем официально. На пятничном завтраке присутствовали Картер, Мондейл, Вэнс, Браун и Бжезинский, позже также глава администрации Гамильтон Джордан и иногда другие. Как и в предыдущих администрациях, на такие неформальные встречи приходилась основная часть всей работы, и на них же принимались важные решения. Вэнс, Браун и Бжезинский также устраивали свои собственные еженедельные обеды, а Картер и Мондейл обычно раз в неделю обедали наедине, как и Картер со своей женой, первой леди Розалинн Картер. По четвергам они обсуждали различные вопросы администрации Белого дома, составляли расписание и решали другие важные вопросы. По словам Бжезинского: «Более мелкие группы обычно позволяют провести больше обсуждений и предоставляют президенту возможность ближе ознакомиться со всеми вопросами. Невозможно проводить политику посредством неформальных процедур, но можно определиться с направлением, а затем следить за выполнением решений и координацией с помощью формальных процессов»[130].
Как и в большинстве администраций Бжезинский и Картер начинали свои операции с ряда «обзорных меморандумов», определяющих насущные проблемы или проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Среди них были меморандумы по политике США в отношении Панамского канала и передачи его управления Панаме; меморандум по Переговорам по ограничению стратегических вооружений (ОСВ); меморандум по Ближнему Востоку; меморандум по Южной Африке и Родезии; меморандум по Кипру; меморандум по взаимному сокращению вооружённых сил и вооружений; меморандум по экономическому саммиту и трёхсторонней политике (США – Европа – Япония); меморандум по стратегии Север-Юг; меморандум по европейской политике; меморандум по стратегии применения вооружённых сил; меморандум по структуре и задачам органов разведки; меморандум по Корее; меморандум по переговорам о базе на Филиппинах и меморандум по нераспространению ядерного оружия.
В ходе такого устанавливающего политические рамки процесса Бжезинский со своей командой также составили список из десяти целей, среди которых было укрепление трёхсторонних отношений; расширение политических и экономических связей с государствами с растущим влиянием; развитие отношений между Севером и Югом посредством стимулирования большей экономической стабильности в развивающемся мире; переход от переговоров об ограничении стратегических вооружений к переговорам о сокращении стратегических вооружений; нормализация американо-китайских отношений; достижение всеобъемлющих договорённостей по Ближнему Востоку; обеспечение мирных преобразований в ЮАР и отпор растущему присутствию СССР и Кубы в Южной Африке; сокращение уровня глобальных вооружений; защита прав человека и поддержание обороны. При том, что Картер продержался только один срок, многие из этих целей были достигнуты в поразительной степени, хотя впоследствии деятельности его администрации давали довольно скромные оценки, а кризисы, с которыми столкнулись Картер и его команда, затмили их значительные достижения.
В команду Бжезинского в Совете национальной безопасности входило несколько членов администрации Форда, таких как Боб Хорматс, заведовавший международной экономикой (а ныне служащий в администрации Обамы заместителем государственного секретаря по экономическим отношениям), и Роберт Моландер, заведовавший вопросами ОСВ. Военным советником Бжезинского стал полковник Уильям Одом (повышенный до генерала на службе в СНБ), работавший с Бжезинским в Колумбийском университете. Другой его коллега по университету, Сэмюэл Хантингтон, был ответственным за оценку отношений между Соединёнными Штатами и Советским Союзом. Также в группу входили специалисты по регионам, такие как Роберт Пастор, вошедший в СНБ сразу же после защиты докторской диссертации по странам Латинской Америки; Роберт Хантер, заведовавший Западной Европой; Уильям Куандт, заведовавший Ближним Востоком, и, среди прочих, тридцатиоднолетняя Джессика Тачмен, ранее помощник конгрессмена Морриса Юдалла, заведовавшая различными глобальными вопросами, в том числе правами человека. Среди особых помощников Бжезинского был Боб Гейтс, который впоследствии стал заместителем советника по национальной безопасности, главой ЦРУ и относительно недавно министром обороны при Джордже У. Буше и Бараке Обаме. Связь с Конгрессом обеспечивала бывший помощник сенатора Эдмунда Маски, Мадлен Олбрайт. Бжезинский установил ещё один прецедент, взяв в команду представителя прессы, Джеррольда Шектера, бывшего сотрудника журнала «Таймс». Это назначение обеспокоило тех, кто считал, что Бжезинский стремится к своей популярности, но оно оказалось очень полезным для освещения политических вопросов. Такую практику позже переняли в администрации Клинтона и в администрации Буша-младшего; при последнем заведующий прессой при СНБ был повышен до должности заместителя советника по национальной безопасности. В целом Бжезинский попытался сократить размеры штата СНБ, каким он был при Киссинджере, и в начале сплотил под своим командованием двадцать пять профессионалов.
До неожиданного предложения стать членом СНБ Мадлен Олбрайт работала при сенаторе Эдмунде Маски от штата Мэн. Свои первые впечатления от работы в СНБ она описывала следующим образом:
«До того, как однажды в пятницу перейти в Белый дом/СНБ, я работала на Маски. Маски входил в Консультативный комитет по морю, а, как известно, у штата Мэн длинная береговая линия. Поэтому по поручению Маски я написала письмо президенту Картеру, в котором признавала важную роль морского права, но просила его понять, что у нас в штате очень много рыбаков и что не следует лишать их источника заработка. Поставив подпись автопером, мы отослали письмо в Белый дом. Несколько дней спустя я перешла на работу в СНБ. После переезда я нашла то самое письмо, которое отсылала за неделю до этого. Так что я поступила как настоящий бюрократ – написала ответ фактически самой себе от имени президента, выражая сожаление по поводу рыбаков, но утверждая, что национальные интересы гораздо важнее. Мы подписали его «Джимми Картер» и отправили обратно. Таким образом подтвердилось вашингтонское изречение о том, что твоя позиция зависит от твоего положения»[131].
Одним из первых триумфов Картера стал Договор о Панамском канале, особенно если учесть, насколько непопулярной была идея о передаче канала. Картер с командой задолго до инаугурации знали, что им придётся иметь дело с очень трудным вопросом. Они поняли, что переговоры с панамцами обязательны, что США рано или поздно будут вынуждены уступить контроль над каналом и что признать суверенитет Панамы необходимо. И ещё они знали, что за год до этого тридцать восемь сенаторов – более необходимого количества для отмены переговоров – поддержали резолюцию о том, чтобы не принимать новый договор. Согласно опросам, эти сенаторы пользовались большой поддержкой среди американского народа.
Переговоры касались нескольких ключевых пунктов, описываемых в двух договорах. Один предполагал совместное управление каналом до конца двадцатого века, после чего Панама должна была взять на себя полную ответственность за канал. Второй гарантировал нейтралитет канала и право Соединённых Штатов защищать свои интересы в его районе. Переговоры шли нелегко, и буквально споткнулись о требования Панамы выплатить им огромную сумму компенсации. В конечном итоге потребовалось вмешательство Картера, отославшего письмо президенту панамы Омару Торрихосу, и в начале августа они были завершены. Хотя на завершение переговоров потребовалось больше времени, чем предполагалось, за восемь месяцев команда Картера сделала то, что предыдущим переговорщикам не удалось сделать за четырнадцать лет.
В феврале 1978 года (в год выборов в Конгресс) общественное мнение в отношении договоров наконец-то стало положительным – 45 процентов высказались за и 42 процентов высказались против. Но к тому времени – возможно, именно благодаря такому повороту общественного мнения – на сцену вышла новая оппозиция в лице сенаторов Роберта Доула, Ричарда Хелмса и других, предъявивших различные претензии, от обвинения семьи Торрихоса в торговле наркотиками до обвинений высокопоставленных государственных служащих США во взяточничестве. И хотя в конечном итоге все обвинения оказались ложными, эта кампания показала, и по сию пору показывает, насколько грязной может быть американская политика, скандалы в которой начались ещё со времён Александра Гамильтона, Томаса Джефферсона и других членов вашингтонской администрации. Каждое поколение утверждает, что в его время ситуация хуже всего, и мечтает о «честности и цивилизованности» прошлых лет. Но никаких «честности и цивилизованности» в прошлом никогда не было. Как сказал мне один из бывших высокопоставленных служащих администрации Картера: «Ставки для тех, кто играет честно, слишком высоки, особенно если у них за плечами нет никаких других заслуг»[132].
Другой вопрос, который постаралась разрешить администрация Картера в ранний период его срока, также доказывает сложность работы в современном политическом окружении, хотя для самой команды Картера он закончился не так удачно, как в случае с договорами по Панамскому каналу. Речь идёт о контроле над вооружениями.
Джимми Картер, бывший инженер-атомщик, был заинтересован в сокращении ядерных вооружений и вскоре после того, как стал президентом, поручил Пентагону исследовать, насколько возможно воплотить в жизнь концепцию «минимального устрашения» и ограничить количество средств доставки ядерного оружия до 200–250 единиц. Перед вступлением в должность нового президента он и его команда по национальной безопасности получили отчёты о планах войны США с применением стратегического ядерного вооружения, а вскоре после инаугурации Совет национальной безопасности издал ряд обзорных меморандумов об обороне США. Меморандум PRM-10, озаглавленный «Обзор комплексной оценки и стратегии применения вооружённых сил», а также последующее рассчитанное на пять месяцев межведомственное исследование под руководством Сэмюэля Хантингтона из СНБ, подразумевали пересмотр концепции Никсона – Форда.
Бжезинский надеялся на то, что такой пересмотр «подтолкнёт министерство обороны к расширению взглядов на нашу стратегическую доктрину, а также привлечёт внимание самого президента к этому трудному и сложному вопросу»[133]. Но недовольный медленной реакцией со стороны Пентагона Бжезинский сам попытался подтолкнуть администрацию к составлению новой ядерной доктрины и начал с «усиления» той группы СНБ, что заведовала военными вопросами. Как вспоминал его главный военный советник Уильям Одом: «Следующие два года мы постепенно работали над реализацией указанных в анализе PRM-10 направлений, стараясь обратить на них внимание президента, министра обороны, государственного секретаря, и дать им понять, что нам нужно развивать некоторые из этих политик в фундаментально ином направлении». Бжезинский так прокомментировал развитие этой и других инициатив: «Министерство обороны не занималось внешней политикой, как не занимался ею и Госдепартамент. Направление и темп обоим задавал Белый дом».
Несмотря на скептицизм Вэнса, в июле 1980 года Картер подписал президентскую директиву «Политика применения ядерного оружия», в которой менялась концепция применения ядерного оружия и увеличивалось количество целей его применения по сравнению с политикой администрации Никсона (с 25 000 до 40 000 потенциальных целей).
Одновременно с этим администрация в лице Специального координационного комитета СНБ работала над параллельной инициативой – американо-советскими переговорами по ограничению стратегических вооружений (ОСВ). Картер посетил первое заседание по этим переговорам 3 февраля 1977 года. Перед началом дискуссии он сделал ряд общих ободряющих высказываний по поводу подобранной им команды и созданной им системы, и, прежде чем удалиться, выразил надежду на то, что переговоры по ОСВ с Советским Союзом приведут к действительно большому сокращению вооружений. Ведущую роль на заседаниях по ОСВ должен был играть Бжезинский; как в своей книге «Хранители ключей» вспоминает Джон Прадос: «Бжезинский намеренно старался вызывать ораторов в таком порядке, чтобы сбалансировать их выступления и чтобы они высказывали разные точки зрения. Последнее слово Збиг предоставил Сайрусу Вэнсу, а затем подвел итоги и отослал протокол заседания комитета президенту. Сразу же после этого Картер завтракал вместе Вэнсом, Мондейлом и Збигом. И только потом на такие политические завтраки были допущены Гарольд Браун, Гамильтон Джордан, Джоди Пауэлл и специальный советник Хедли Донован»[134].
Бжезинский пристально наблюдал за процессом и даже поручил Уильяму Хайленду из СНБ проследить за доставкой инструкций по договору, чтобы они не попали в руки Государственного департамента до отправки делегации. Советник по национальной безопасности также следил за тем, чтобы принимаемые на заседаниях ключевые решения не слишком затрагивали позиции военных и не касались тех запасов вооружений, которые, по их мнению, были необходимы для поддержания обороны. В частности, он распорядился о том, чтобы на встречах с президентом, Мондейлом и Вэнсом вместе с ним присутствовал Браун. Вышло так, что Мондейл, имевший репутацию относительного «голубя», оказался «приятным сюрпризом» для его более строгих коллег, поскольку «регулярно демонстрировал глубокие познания военных вопросов и искреннюю заинтересованность в сохранении оборонного потенциала Америки»[135].
Окончательный список предложений, указанных в президентской директиве PD-7, предусматривал более масштабные сокращения вооружений, отражая взгляды самого Картера на этот вопрос. Более умеренная позиция считалась бы отступлением. Поскольку Советский Союз не был готов к такому предложению, его престарелые и в каком-то смысле параноидальные руководители не могли быстро отреагировать на него, как и не могли полностью доверять мотивам американцев. Переговоры Вэнса с Брежневым проходили очень плохо. Вэнс ощущал себя неуверенно, в отличие от своего предшественника Киссинджера, который умел импровизировать, принимать решения на ходу и рассматривать различные альтернативы по переводу дискуссии в конструктивное русло. Позже в прессе Бжезинский настаивал на том, что Соединённые Штаты сделали честное и конструктивное предложение, подразумевая, что в срыве переговоров виноваты как раз русские. До некоторой степени это верно, но верно и то, что успех переговоров зависит от умения предугадать ожидания противоположной стороны, а американская команда проявила слишком мало предусмотрительности и не учитывала возможную реакцию советской стороны. Один из бывших членов СНБ высказал предположение, что для Бжезинского неудача не совсем была случайностью, поскольку «он должен был знать, и, похоже, действительно знал», что Москва поддерживает «более умеренное сокращение» и поэтому плохо отреагирует на новое предложение команды Картера. Но другие отрицают, что это был рассчитанный шаг с целью «показать истинное лицо Советов»[136].
Тем не менее переговоры возобновились и продолжались ещё девять месяцев. Ключевыми вопросами стали параметры телеметрического шифрования, бомбардировщики «Бэкфайр» (Ту-22М) и ограничение количества боеголовок для ракет дальнего действия. Вопросы дальней связи и различные позиции по поводу шифрования значительно замедлили процесс переговоров, но в конце концов Вэнс вернулся к основной теме, и на саммите в Вене в июне 1979 года Картер и Брежнев подписали договор ОСВ-2.
После этого в игру вступила политика Вашингтона и Белого дома, и договор стал разменной монетой в спорах между левыми и правыми сенаторами. Опять же, для ратификации договора потребовалось согласие двух третьих всех членов сената. Проблему усугубило сообщение о предполагаемом присутствии на Кубе советского воинского контингента численностью от двух до трёх тысяч человек. Хокс рассматривал это как очередное доказательство недоброжелательных намерений Советского Союза. Бжезинский был разочарован тем, как Вэнс провёл переговоры, и в одной из своих еженедельных записок президенту писал: «Возможно, вам не захочется это выслушивать, но мне кажется, что по поводу американо-советских отношений как здесь, так и за рубежом растёт убеждение, что Советы становятся более настойчивыми, а США более покорными. Наглядный пример тому переговоры, какие Госдепартамент ведёт по поводу советского контингента. Я советую в будущем предоставлять больше контроля Белому дому»[137]. Картер ответил на полях (как поступал с большинством записок): «Хорошо!»
К сожалению, одним из следствий такого соперничества и политического разделения в Вашингтоне стал тот факт, что договор ОСВ-2 так и не был ратифицирован.
Одной из сфер, в которых с ранних пор проявился конфликт между Бжезинским и Вэнсом, стало давнее желание президента ускорить нормализацию отношений с Китаем. Конечно, семена разногласий были заложены ещё до формирования администрации, когда Картер и Бжезинский разработали структуру национальной безопасности, предусматривающую главенство СНБ и второстепенную роль Государственного департамента в ключевых вопросах. Вэнс выступил против этого, но согласился, либо потому что его переубедили Бжезинский и Картер, либо потому что у него не было выбора. Тем не менее Ричард Холбрук, Тони Лейк и Питер Тарнофф, глава администрации Вэнса, попытались предупредить Вэнса о том, что Бжезинский пытается сделать СНБ главным органом, определяющим внешнюю политику в ущерб Государственному департаменту. Когда говоришь с ними о том периоде, они, как и многие сторонники Вэнса, утверждают, что Вэнс был человеком достоинства и чести, и просто не хотел играть в игру по правилам Бжезинского. Сторонники же Бжезинского до сих пор говорят, что расхождения между Вэнсом и Бжезинским были преувеличены, что система работала довольно хорошо и что роль Вэнса была принижена из-за бюрократической инерции и недостатка креативности в Госдепартаменте (заявления, которые повторяются от одной администрации к другой)[138].
Причины напряжённых отношений между этими двумя людьми – и иногда между представителями их аппаратов – возможно, коренятся в традиционном соперничестве между Госдепартаментом и СНБ, в различиях их характеров (аристократичный Вэнс и жёсткий, «конфронтационный» Бжезинский) или в разнице представлений о том, как иметь дело с Советским Союзом, как это часто предполагается. Как пишет Гарольд Браун:
«Бжезинский, по моему мнению, обладал более апокалиптическим взглядом на мир и совершенно иначе был настроен в отношении Советского Союза. И ещё он более конфронтационный человек. Не обязательно резкий, но более склонный к решительным действиям согласно своим личным предпочтениям. Это не значит, что он пользовался своей близостью к президенту непозволительным образом. Я считаю, что по крайней мере в формальном смысле он всегда верно передавал взгляды других людей и высказывал свои собственные, но не старался подтолкнуть к какому-то компромиссу.
Тем не менее, я думаю, что он обладал более конфронтационным характером. И фундаментальная разница с Вэнсом заключалась в том, что он полагал, что уступки русским только поощряют их оказывать ещё большее давление, и он хотел использовать для их сдерживания любой инструмент или отношения с любыми другими странами. Отношения с другими странами он как раз рассматривал в таком ключе.
По поводу Китая были большие разногласия. Вэнс, очевидно, желал немного умерить отношения США с Китаем, чтобы улучшить отношения с русскими. Бжезинский же считал, что мы должны использовать Китай как оружие против Советского Союза. И в силу необходимости, мне кажется, у нас это до некоторой степени получилось, и я сыграл в этом роль. Я занимал некую среднюю позицию. Я считал, что мы не должны отказываться от улучшения отношений с Китаем, только чтобы облегчить переговоры с Советским Союзом. В любом случае, между этими группами наблюдалось фундаментальное столкновение разных взглядов на политику и на стиль осуществления политики. И оно действительно нанесло большой урон администрации»[139].
Что касается Китая, в годы Картера на повестке дня стоял прежде всего вопрос полного восстановления отношений с Китайской Народной Республикой, возникший вскоре после вступления в должность президента Картера. Вэнс и Бжезинский высказывали разные взгляды на влияние Китая на геополитическую конкуренцию США с СССР. Бжезинский надеялся «разыграть китайскую карту», чтобы немного обуздать Советский Союз. Госсекретарь же, напротив, считал, что улучшение отношений между США и КНР вредит политике разрядки и представляет «значительный риск нашим отношениям с Москвой и нашим отношениям с Токио и другими азиатскими союзниками»[140].
Учитывая центральное значение политики в отношении Китая и роль Бжезинского в оформлении этой политики, этому вопросу посвящена отдельная глава книги (Глава 5). Достаточно отметить, что процесс нормализации отношений с Китаем – под руководством Картера и при практическом осуществлении Бжезинского – закончился успехом, как и в случае с Панамским каналом и переговорами по ОСВ-2.
Но крупнейший и самый известный успех эпохи Картера – тот, в связи с которым его чаще всего и вспоминают, – это тринадцатидневный марафон переговоров в загородной резиденции Кэмп-Дэвид в Мэриленде. Эти переговоры, воплощающие стремление Картера во что бы то ни стало добиться разрешения арабо-израильского конфликта, в данном случае стали примером совместной слаженной работы Государственного департамента и команды СНБ. Но они также показали, до какой необычайной степени дипломатию Картера осуществлял сам Картер. «Ручное управление» здесь сыграло как нельзя лучше. Он воспринял эти переговоры как свою личную задачу, прекрасно подготовился к ним при помощи своей команды и энергично взялся за преодоление эпохального противостояния между Израилем и Египтом.
Его отношения с Анваром Садатом, президентом Египта, хорошо отражены в его мемуарах, в которых он пишет: «4 апреля 1977 года, на ближневосточной сцене для меня воссиял свет. Я впервые встретился с президентом Египта Анваром Садатом, человеком, которому предстояло изменить историю и которым я впоследствии восхищался более, чем каким-либо другим лидером». Симпатия была взаимной, и она позволила Картеру сохранить присутствие Садата в нескольких напряжённых моментах в ходе переговоров – такие моменты чаще всего возникали из-за жёсткой позиции израильского премьер-министра, бывшего члена подпольной боевой организации, Менахема Бегина. Отношения между Картером и Бегином нельзя описать как близкие. Тем не менее эти переговоры можно назвать примером личной дипломатии, в том числе прямые частные беседы между лидерами, благодаря которым и удалось достичь прорыва.
О процессе заключения Кэмп-Дэвидских соглашений написано очень много, и к этому здесь было бы трудно добавить что-то новое. Однако в свете рассуждений о характере действий СНБ стоит отметить необычный уровень межведомственного сотрудничества в подготовке Кэмп-Дэвидских переговоров о мирном урегулировании. Например, в мае с целью координации стратегии администрации президента была образована тайная группа планирования в составе вице-президента Мондейла, Вэнса, Бжезинского, заместителя советника по национальной безопасности Дэвида Аарона, специалиста по Ближнему Востоку Уильяма Куандта и некоторых других представителей Государственного департамента. Один автор предположил, что «сотрудничество Госдепартамента и СНБ позволило Картеру и Вэнсу, как главным переговорщикам в Кэмп-Дэвиде, быть на шаг впереди израильтян и египтян по техническим и организационным вопросам, и таким образом проявлять инициативу»[141]. Бжезинский и Куандт присутствовали в Кэмп-Дэвиде, но советник по национальной безопасности однозначно заявлял, что в таких трудных переговорах ключевая роль принадлежит Вэнсу.
Тем временем произошло падение режима шаха в Иране, которое не только нарушило шаткое перемирие между ведомствами, но, что более важно, внесло осложнения в работу администрации Картера до конца его срока, и последствия свержения шаха серьёзным образом омрачили все её внешнеполитические достижения. Перед Советом национальной безопасности встал очень сложный вопрос: каким образом – дипломатическим или военным – реагировать на новый режим Хомейни? Поначалу Картер не мог решить, прислушаться ли к совету Бжезинского, который настаивал на том, чтобы оказать поддержку шаху в подавлении революции (или, если шах не сможет это сделать, оказать поддержку диктатуре военных), или к совету более осторожного Вэнса, который советовал администрации установить связи с оппозицией, чтобы сгладить неизбежный переход к новому правительству. Неудивительно, что в своём дневнике Картер в тот период писал: «Збиг слишком резок и настойчив. Сай слишком снисходительно относится к своим подчинённым. А средства массовой информации постоянно обостряют разногласия и соперничество между двумя группами. Я почти никого не знаю из глав отделений и других служащих Госдепартамента, но тесно работаю с членами СНБ. Когда мы постоянно консультировались друг с другом, как, например, по Ближнему Востоку в Кэмп-Дэвиде, и в других случаях, у нас никогда не было проблем между двумя группами».
Тем не менее ситуация стремительно менялась. Воскресным утром 4 ноября 1979 года в оперативный центр Белого дома поступил экстренный телефонный вызов из посольства США в Тегеране. Здание посольства было захвачено. Дипломатический работник Элизабет Энн Свифт начала непрерывный комментарий происходящего внутри посольства с помощью открытой линии, подключенной к громкоговорителю на столе. С помощью другого громкоговорителя из расположенного в нескольких милях от посольства Американского культурного центра Кэтрин Куб с персоналом начала другую трансляцию, продолжавшуюся рекордные полтора дня, пока её тоже не обнаружили (позже, когда Кэтрин уже находилась в тюрьме, революционные повстанцы предъявили ей счёт на телефонные переговоры). К концу дня в заложниках удерживали шестьдесят шесть граждан США.
Все это время Соединённые Штаты вели в высшей степени секретные переговоры с Тегераном по поводу предоставления безопасного коридора для группы государственных служащих США, застрявших на севере Ирана. Вашингтон также был встревожен в связи с угрозами со стороны сторонников Хомейни в США и возможными исками против шаха, а также пытался обеспечить безопасность граждан США, которым угрожали наводнившие Иран «революционные комитеты». Бжезинский решил, что приглашение шаху следует отменить и что шах должен отложить свой визит в Соединённые Штаты. Более того, Картер не желал, чтобы шах «играл в теннис» в США, пока американцы подвергаются риску попасть в заложники. Как сказал президенту Дэвид Аарон, если шах приедет в США, «повстанцы могут отомстить оставшимся в Иране американцам, возможно, взяв одного или нескольких в заложники и отказавшись отпускать их до экстрадиции шаха».
Так началась мрачная история с заложниками, продлившаяся 444 дня.
5 ноября Бжезинский провёл первое заседание Специального координационного комитета, посвящённое освобождению заложников. Такие совещания в дальнейшем проходили каждое утро, иногда все семь дней в неделю, без установленной заранее повестки дня для обеспечения оперативной скрытности. На следующий день ситуация ещё более осложнилась. Поддержку захватившим посольство студентам оказало всё религиозное революционное руководство. В восемь часов утра Картер встретился в Овальном кабинете с главными своими советниками – Бжезинским, Вэнсом, заместителем генерального секретаря Ньюсомом, министром обороны Гарольдом Брауном, главой администрации Гамильтоном Джорданом и пресс-секретарём Джоди Пауэллом; протокол совещания вёл Гэри Сик из СНБ. Картер попросил Госдепартамент сделать всё возможное, чтобы эвакуировать остававшихся в Ираке граждан США. Бжезинский предложил высказать завуалированную угрозу общественной безопасности или угрозу подвергнуть бомбардировке Кум или иранские нефтяные месторождения в случае убийства заложников. Картер не был так уверен в эффективности таких угроз: «Они полностью взяли нас на крючок». Однако при этом он попросил своих помощников рассмотреть возможность высылки из страны студентов (против этого возражал Уолтер Мондейл – зачем великой нации отвечать «выдворением кучки каких-то несчастных студентов?»), замораживания иранских активов и прекращения поставок запасных частей для военного оборудования: «Вывести наших людей из Ирана и разорвать отношения. К чёрту их!»[142]
В половине пятого после полудня Картер вызвал весь состав СНБ в Зал Кабинета и начал с вопроса о возможных вариантах ответа в случае, если Иран начнёт убивать заложников. Посылать ли в Иран военных, или это приведёт к ещё большему обострению обстановки? После выступления Картера Бжезинский сообщил о том, что компания Эн-би-эс узнала об эмиссарах США, посланных на Ближний Восток, и что она собирается опубликовать факты вечером (когда новости об этом дошли до Хомейни, он дал приказ никому не встречаться с этими эмиссарами). 10 ноября Картер написал в своём дневнике: «Я спросил Сая, что он думает о наших ответных действиях в отношении Ирана. Его советы совпали с моими мыслями о военных. Мы хотим провести быструю, непредвиденную, хирургическую операцию без потери жизни американцев, без участия любой другой страны, с минимальными потерями для иранцев, чтобы они убедились в своей зависимости от импорта; при этом мы должны быть уверены в нашем успехе. Никто не должен знать о моём решении, за исключением Фрица [Мондейла], Збига, Гарольда, Дэвида [Джонса, председателя объединённого штаба] и Сая».
17 ноября дала плоды секретная инициатива США в отношении Организации освобождения Палестины. Были освобождены тринадцать заложников, женщин и чернокожих, которые 20 ноября выступили с показаниями в Германии. Представители администрации узнали, что большинство документов в посольстве были похищены (в связи с чем Картер поручил Энтони Лейку полностью пересмотреть всю документацию) и что ситуация в посольстве серьёзная: подозреваемым в шпионаже угрожают пытками и показательными казнями. В тот же день Хомейни также высказал угрозу, заявив, что «если Картер не вышлет шаха, вполне возможно, что заложников подвергнут пыткам, а если их будут пытать, то Картер знает, что случится». Соединённые Штаты ответили, что на Иран «будет возложена вся ответственность за все последствия, [и что Соединённым Штатам] доступны другие средства».
28 ноября прошло совещание, которое впоследствии назовут самым сомнительным за весь кризис. До тех пор Вэнсу удавалось сохранять ситуацию в дипломатическом русле, без участия военных. В тот же день Картер попросил Специальный координационный комитет под председательством Бжезинского высказать соображения по поводу возможного минирования иранских портов с целью военного давления на Иран. Вэнс выступил против, утверждая, что это только ухудшит положение заложников. Бжезинский, напротив, предположил, что это подтолкнёт европейцев к более энергичным действиям. Выиграл спор Вэнс. В результате дипломатические действия продолжались ещё два месяца. Вместе с тем у военного варианта решения кризиса становилось всё больше сторонников. Тем временем шах выехал из Соединённых Штатов в Панаму, инициатива с Организацией освобождения Палестины закончилась, а дискуссии в СНБ зашли в тупик: все доводы Вэнса против использования силы теряли значение.
27 декабря произошло вторжение Советского Союза в Афганистан, и кризис приобрёл новое измерение. Ситуация значительно усложнилась. Американские заложники продолжали оставаться в охваченном беспорядками Иране, на нефтяных рынках воцарилась нестабильность, СССР вёл откровенно дерзкую игру в крайне неспокойном регионе. Несмотря на то что Советы утверждали, что их «пригласило» местное правительство Афганистана, было понятно, что это всего лишь стратегическая уловка. Картер писал в своём дневнике: «Советы начали перебрасывать свои силы с целью свержения существующего правительства. 215 перелётов за последние сутки или около того. Они перебросили пару полков и всего теперь у них в Афганистане, возможно, 8000 или 10 000 человек, советников и военных. Мы считаем это в высшей степени серьёзным осложнением».
В разговоре по горячей линии с Брежневым Картер сказал, что вторжение «может привести к фундаментальному и долговременному повороту в наших отношениях… Если вы не прекратите свои текущие действия, то это неизбежно поставит под удар американо-советские отношения во всём мире». И его слова оказались пророческими. Во многом из-за оказываемой США поддержки антисоветских сил в Афганистане – стратегии, разработанной и рекомендованной Бжезинским, – эта страна превратилась для Советов в настоящее болото, и неспособность справиться с разрозненными, но жестокими и целеустремлёнными боевиками-моджахедами стала настоящей головной болью для советского руководства и поводом для реального недовольства в обществе. И в самом деле, предпринятая в середине 1980-х годов Горбачёвым политика гласности, помимо всего прочего, была ответом на растущие внутри страны требования узнать правду о поражении в Афганистане.
После советского вторжения СНБ рассматривал различные варианты, и президент в конечном итоге предпринял ряд политически непопулярных шагов. В их числе было эмбарго на поставки зерна, что не понравилось фермерам в ключевом штате Айова, где проходили многие партийные предвыборные совещания в ходе подготовки к президентской кампании 1980 года. Среди прочих Картеру бросил вызов сенатор Эдвард Кеннеди. Также непопулярным среди некоторых групп стало решение бойкотировать Олимпийские игры в Москве. Кроме того, в конце 1979 года Картер принял решение не покидать Белый дом ради кампании, чтобы сосредоточиться на кризисе с заложниками (и не показаться бесчувственным, преследующим только свою выгоду политиком). В настоящее время многие считают это решение причиной его окончательного поражения в 1980 году. Такая «стратегия Розового сада», то есть решение оставаться дома, возможно, и была тактической ошибкой, но она, вне всякого сомнения, служит примером политической смелости.
Следующее ключевое заседание по кризису с заложниками началось в 10:45 22 марта 1980 года в Кэмп-Дэвиде. Картер встретился с Мондейлом, Вэнсом, Бжезинским, министром обороны Брауном, директором ЦРУ Тёрнером, председателем объединённого штаба Джонсом, Дэвидом Аароном и Джоди Пауэллом. Джонс начал с краткого доклада о возможном успехе спасательной миссии. Осуществить непосредственное вторжение в здание посольства было бы легко; трудно проникнуть туда, не привлекая внимание иранцев (из-за чего те могут перевести заложников в другое место), и покинуть Иран. Бжезинский высказал большие сомнения в том, что об операции, требующей сложного технического обеспечения, никто не узнает. На заседании было решено начать подготовку к операции.
9 апреля Бжезинский отослал Картеру меморандум (изначально составленный Гэри Сиком), в котором рассматривались возможности осуществления военной операции по спасению. Согласно этому меморандуму, оставались два варианта: продолжать оказывать давление на Иран вплоть до минирования гаваней или силой спасти заложников, продемонстрировав тем самым слабость Хомейни. Меморандум заканчивался следующим предложением: «Согласно моему мнению, тщательно спланированная и смело осуществлённая операция по спасению представляется единственным реальным вариантом освобождения всех заложников в ближайшем будущем. Благодаря нашей давней политике сдерживания мы пользуемся заслуженным пониманием в мире, но кредит доверия заканчивается. Пора действовать немедленно»[143].
11 апреля Картер созвал совещание СНБ с теми же участниками, что и в Кэмп-Дэвиде, за исключением Вэнса, что обращало на себя внимание. Тот накануне отправился в отпуск, и ему сообщили о результатах совещания только после возвращения. С тем, что вести переговоры бесполезно, согласились все, кроме заместителя Вэнса Уоррена Кристофера. К тому времени Картер уже принял окончательное решение провести операцию по спасению, так как минирование иранских портов представляло бы определённую угрозу неконтролируемой эскалации конфликта. Когда Вэнс вернулся и высказался против – заявив, что «нашим единственным реалистичным курсом остаётся продолжать давление до тех пор, пока Хомейни не осознает, что революция достигла своих целей и что заложники больше не имеют никакой ценности», – жребий уже был брошен.
Ранним вечером 24 апреля с борта авианосца «Нимиц» в Аравийском море поднялись восемь вертолётов. Когда они пересекали пустыню, сигнальные огни одного из вертолётов погасли, что свидетельствовало о технических неполадках. Вертолёт пришлось оставить на земле, а группу «Дельта» на его борту пересадить на другие вертолёты. Через два часа, попав в песчаную бурю, экипаж другого вертолёта принял решение вернуться на авианосец, хотя до заправочной площадки у Тегерана оставались шестьдесят минут. В то же время ещё у одного вертолёта вышла из строя гидравлика, и его пришлось оставить на заправочной площадке. Операцию срочно отменили, поскольку для неё требовались минимум шесть вертолётов. Но тут произошло ещё одно непредвиденное событие. Во время заправки один из вертолётов столкнулся с заправочным самолётом, и обе машины охватило пламенем. Картер называл этот день худшим в его жизни.
После провала операции общественность узнала об отставке государственного секретаря Сайруса Вэнса. В действительности Вэнс подал в отставку после совещания с президентом, Бжезинским и Брауном, на котором обсуждался вопрос о том, как сообщить об операции Конгрессу и другим органам власти, а также как в целом действовать после операции. Президент сообщил, что с ними хочет встретиться группа, выступающая против политики в Иране, и что хотел бы, чтобы эту группу принял Вэнс. Вэнс сказал, что он не может. Картер отметил, что впервые за весь его срок кто-то отказывается выполнять его прямой приказ. Но при этом Картер симпатизировал Вэнсу и понимал, насколько того расстраивает операция по спасению.
Позже тем же днём Вэнс подал в отставку и любезно согласился молчать об этом до окончания операции. При этом президент не отговаривал его от отставки. Разрыв между ними к тому времени увеличился, давали о себе знать постоянные пререкания, утечки информации и взаимные обвинения. В начале мая Вэнса сменил на посту сенатор Эдмунд Маски. Тут же был поднят вопрос о том, чтобы изменить приоритеты этой должности – Маски стал главным представителем администрации по политическим вопросам, но стал меньше руководить своим департаментом и делами, входящими в сферу его компетенции. С этого момента Картер и Бжезинский стали играть ещё более доминирующую роль в формировании внешней политики администрации, хотя бы потому, что ушёл возражавший им по многим вопросам Вэнс.
После долгих переговоров Иран наконец-то формально согласился с требованиями Соединённых Штатов. Переговоры закончились 19 января 1980 года, накануне инаугурации следующего президента США, Рональда Рейгана. Уоррен Кристофер распорядился перевести 7,97 миллиарда долларов (общий доход от замороженных активов) в банк Англии, затем в Алжирский центральный банк и, наконец, в Тегеран – возможно, это был крупнейший частный перевод средств в истории.
Что касается достижений в области международной политики, то мало кто из президентов может похвастаться тем, что удалось Картеру всего лишь за четыре года – тут и подписание договора о передаче Панамского канала, и подписание договора ОСВ-2, сыгравшего важную роль, даже несмотря на то, что он не был ратифицирован; восстановление дипломатических отношений с Китаем и эпохальные Кэмп-Дэвидские соглашения; формирование новой военной доктрины и стратегии применения ядерного оружия, увеличивших мощь Америки и гибкость в ответ на действия нашего потенциального противника. Это был период, богатый на разные достижения, несмотря на то, что мало кто оценил их по достоинству и в своё время, и в последующие годы. Все предыдущие успехи затмил собой кризис с заложниками в Иране, который, несмотря на всю свою серьёзность, вряд ли может сравниться с войной во Вьетнаме или скандалом «Иран-контрас».
По прошествии трёх последующих десятилетий можно утверждать, что администрация Картера и Бжезинского с успехом решала не только сиюминутные вопросы. Им впервые пришлось столкнуться с проблемами, которые во многом определяли политику США в последующие годы. В частности, до сих пор остро стоит вопрос отношений Израиля с его соседями, и в связи с этим, оглядываясь назад, Кэмп-Дэвидские соглашения можно назвать наиважнейшим прорывом на этом сложном дипломатическом фронте. Картер и Бжезинский не только предвидели распад Советского Союза, но и помогли ускорить его благодаря своей жёсткой позиции по Афганистану. Благодаря нормализации отношений с Китаем, они задали американской политике новые приоритеты, что совпало по времени с появлением на международной арене новых сильных игроков – важнейшим глобальным процессом, продолжающимся до сих пор. Им первым пришлось иметь дело с новым Ираном; они стали свидетелями подъёма исламского фундаментализма и последующих за этим осложнений. Поставленная ими цель по сокращению ядерных вооружений остаётся целью текущей администрации. Такие явления, как связь энергетической политики с внешней политикой и влияние экономического спада на наше международное положение, – во многом созвучны проблемам и второго десятилетия двадцать первого столетия.
То, что в их повестке дня стояли такие вопросы, во многом, конечно, не их вина и не их заслуга. Мир постоянно меняется, и команда Белого дома должна реагировать на перемены. Но во главе некоторых команд встают люди с уникальным даром предвидения, и очень редко этим людям удаётся отразить свои взгляды и ожидания в последовательной и эффективной политике. Збигнев Бжезинский в этом отношении – образец таких людей. И его роль как одного из наиболее уважаемых и проницательных политических комментаторов Америки со времён его пребывания в Белом доме только подчёркивает этот факт.
Глава 5. Друг Пекина, враг Москвы
Уоррен И. Коэн и Нэнси Бернкопф Такер
Знакомство Збигнева Бжезинского с Китаем произошло после того, как он стал признанным специалистом по внешней политике и советологом. Поначалу он рассматривал Китай как часть враждебного Соединённым Штатам Советского блока. Никаких сведений о том, что Бжезинский изучал историю, экономику, культуру и социологию Китая, нет, и, похоже, его заботило только то, как эта страна распространяет влияние Москвы. Тем не менее, Китаю предстояло оказать глубочайшее влияние на его образ мышления, карьеру и репутацию.
Бжезинского, пожалуй, можно назвать главной движущей силой в предпринятой администрацией Картера «нормализации» отношений с Китаем. Он рассматривал квази-альянс против Советского Союза как способ обеспечить победу в холодной войне и, соответственно, ухватился за идею упрочить дипломатические отношения с Пекином, то есть взял на себя ту задачу, которую начал выполнять, но оставил незавершённой Ричард Никсон в 1971–1972 годах. Он преодолел сопротивление в администрации и возражения Конгресса и Тайваня. Критические отзывы о том, что он действует слишком быстро, без консультаций и игнорируя проблемы, не преуменьшают его знаменательного достижения.
В последующие годы этот успех поддерживал его интерес к Китаю и постоянно подчёркивал важность отношений с ним. Даже несмотря на осуждения жестокого подавления демонстраций на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, осложнивших китайско-американские отношения, Бжезинский продолжал отдавать высокий приоритет китайско-американским связям[144]. В конце концов, утверждал он, это самые значимые двухсторонние отношения для Соединённых Штатов. Озабоченность по поводу соблюдения прав человека, угрозы демократическому Тайваню и тревоги в связи с растущей мощью Китая – всё это второстепенно; Бжезинский даже настаивал на создании G-2 – китайско-американской «Большой двойки» – с целью защиты американских интересов[145].
Заинтересовавшись Китаем, как антагонистическим государством в Советском блоке, Бжезинский задумался над значением китайско-советского разрыва. Он понимал, что статус Китая отличается от статуса восточноевропейских социалистических стран и что Москва имеет гораздо меньше контроля над Мао Цзэдуном, чем над всеми восточноевропейскими лидерами. К 1960 году он предсказал идеологические разногласия между Советским Союзом и Китаем, признавая тем самым разрушение единства блока. Но в 1961 году он стал утверждать, что журналисты преувеличивают этот разрыв и что блок не распадается и вряд ли распадётся в будущем; те же, кто думает иначе, не понимают природу международного коммунизма. Более того, он советовал американцам не надеяться на распад блока. «Несогласный, но одинокий Китай» внутри Советской орбиты предпочтительнее независимого Китая, желающего возглавить более воинственное направление коммунистического движения[146].
К концу 1961 года, когда уже было невозможно недооценивать раскол, Бжезинский стал анализировать его значение и задумываться над возможным ответом Америки. Он не соглашался с идеей, что Соединённым Штатам следует делать что угодно, лишь бы усилить советского лидера Никиту Хрущёва в его противостоянии с Мао, и настаивал на том, что Советский Союз остаётся главной угрозой. Более того, уступки Хрущёву могут привести к радикализации Мао, который воспримет их как признак слабости и нерешительности западных лидеров. Хрущёв же из-за таких уступок мог стать более конфликтным и непредсказуемым в борьбе с Мао.
С другой стороны, Бжезинский был против любых попыток заигрывать с Пекином. Такая игра встревожила бы страны Юго-Восточной Азии, заставляя их оставлять надежды на поддержку США и толкая под растущее влияние Китая. В согласии с общим мнением американских аналитиков после Кубинского кризиса, Бжезинский воспринимал Китай как более опасную угрозу миру в дальней перспективе по сравнению с Советским Союзом. По его мнению, необходимо было продолжать политику изоляции Китайской Народной Республики (КНР).
Бжезинский поддержал предпринятое администрацией Джонсона широкомасштабное вторжение во Вьетнам, доказывая, что в противном случае победа досталась бы Китаю. Он беспокоился о том, что иной курс мог бы упрочить воинственность Китая, подстегнув его подстрекательское и деструктивное поведение, а также усилить его решимость провести революционные преобразования. В 1966 году президент предложил Бжезинскому войти в Совет планирования Государственного департамента, и в качестве члена этого Совета он сосредоточился на Москве, но также давал советы по поводу имевших отношение к Китаю проблем. В 1967 году, например, он предупреждал о том, что Китай желает продолжения войны во Вьетнаме, поскольку она дестабилизирует ситуацию в Юго-Восточной Азии, усугубляет противостояние США и СССР и истощает американские и советские ресурсы.
До 1968 года Бжезинский был против шагов навстречу Пекину. Он не воспринимал всерьёз предположения о том, что после смерти Мао Китай изменится и перейдёт к более «эволюционной» политике, подобной хрущёвскому «ревизионизму». Но его мнение шло вразрез с мнением американской элиты, выраженным на слушаниях Комитета по международным делам в Сенате в 1966 году, на которых его коллега по Колумбийскому университету и ведущий специалист по современному Китаю А. Доук Барнетт выступил за прекращение всех попыток изолировать КНР. Барнетт призывал к курсу, который можно было бы назвать «сдерживанием без изоляции». И действительно, в 1968 году администрация Джонсона попыталась без лишнего шума ослабить напряжённость с Китаем, но эта инициатива ничем не закончилась, поскольку положение Джонсона пошатнулось в связи с критикой его политики по отношению к Вьетнаму, а Китай охватила культурная революция. Тем не менее Бжезинский поменял взгляды и присоединился к лагерю тех, кто рассматривал необходимость изменить политику по отношению к Китаю. Он называл текущие попытки изолировать КНР «аномалией», вредившей положению Соединённых Штатов в Азии и, что хуже всего, их отношениям с Советским Союзом.
Как демократ, Бжезинский, разумеется, не поддерживал позицию администрации Ричарда Никсона, пришедшего к власти в 1969 году. Влиятельный пост советника по национальной безопасности занял Генри Киссинджер, и это назначение вскоре обнажило соперничество, которое, по мнению некоторых их коллег, началось ещё за много лет до этого в Гарварде[147].
Бжезинский не был против подхода Никсона/Киссинджера к Китаю, и ему даже нравилось влияние, которое этот подход оказал на Советский Союз. Но при этом ему было что критиковать. В 1971 году он предположил, что противодействуя вступлению Китая в ООН и заранее настроившись на него, администрация Никсона упустила возможность сохранить место для тайбэйского режима Чан Кайши. Он сетовал на то, что Никсон нарушил дух принципа взаимных консультаций с Японией, скрыв от Токио своё стремление нормализовать отношения с Китаем, и предвидел осложнения в японо-американских отношениях, которые могли привести к превращению двух союзников в двух противников. В статье 1972 года он высказывал беспокойство о том, что Никсон и Киссинджер воображают, что треугольник Вашингтон – Пекин – Москва может функционировать подобно треугольнику США – Европа – Япония и что они слишком много вкладывают в отношения с Китаем и Советским Союзом в ущерб отношениям с Японией и американскими союзниками в Европе. Он опасался, что их попытки создать равновесие сил в Азии нереалистичны. И всё же, за их политику в отношении Китая он поставил им неплохую оценку «B»: «хорошо» за торговлю и поездки, средне за собственно вопрос с ООН.
Бжезинский был убеждён, что гораздо более важным для Вашингтона остаётся треугольник США – Европа – Япония. В 1971 году при финансировании Фонда Форда он провёл полгода в Японии, оценивая её развитие, политику и меры по обеспечению безопасности в свете интересов Соединённых Штатов. В своём итоговом исследовании, озаглавленном «Хрупкий цветок», он призывал к более реалистичному взгляду на Японию и к более тесному союзу с ней, особенно из-за её интереса к Китаю и её желания осваивать китайский рынок[148]. В 1973 году при содействии Дэвида Рокфеллера была создана Трёхсторонняя комиссия, в основу которой были заложены как раз многие выводы исследования Бжезинского.
Вскоре после этого Бжезинский призвал к расширению отношений с Китаем. Он хотел, чтобы Соединённые Штаты предоставили Китаю помощь, благодаря которой тот мог бы противостоять Советскому Союзу – например, усовершенствованные системы связи. Усиление Китая, утверждал он, способствовало бы установлению более стабильных отношений между Соединёнными Штатами и Советским Союзом. Даже ставя администрации Никсона оценку «А» за улучшение политики по Китаю, Бжезинский считал, что Никсон работает в этом направлении не в полную силу, поскольку слишком заботится о поддержании политики разрядки. А потом настала очередь самого Бжезинского.
После победы на выборах 1976 года Никсон назначил его своим советником по национальной безопасности. Во время кампании Бжезинский инструктировал его по вопросам международной политики и завоевал доверие. На пост генерального секретаря Картер назначил Сайруса Вэнса. Когда Уильяма Банди, в то время редактора издаваемого Советом по международным отношениям журнала «Форин афферс», спросили, отодвинет ли Бжезинский на второй план Вэнса в сфере внешней политики, Уильям ответил, что Сайрус никогда этого не позволит[149]. Но он недооценил Бжезинского.
Любой честолюбивый советник по национальной безопасности, заседающий в Белом доме и имеющий лёгкий доступ к президенту, обладает огромными преимуществами, пожелай он состязаться с государственным секретарём. Бжезинский, несомненно, был честолюбивым и считал, что Вэнс занимает неправильную позицию, высказывая излишний оптимизм по поводу политики разрядки в отношении Советского Союза и упуская возможность усилить давление на Москву[150]. Вэнс отдавал приоритет отношениям с Советским Союзом, а не с Китаем. Бжезинский придерживался противоположных взглядов: сотрудничество с китайцами позволит легче достичь благоприятных для Соединённых Штатов соглашений с СССР.
Поначалу Бжезинский сомневался, полагая, что возможно обеспечить стратегическое сотрудничество с Китаем без дипломатических формальностей. Но когда он понял, что это невозможно, то стал стремиться к заключению таких формальностей. Пока он ещё не убедил президента в том, что политика по отношению к Китаю должна исходить от Совета национальной безопасности (СНБ), ему оставалось только наблюдать за поездкой Вэнса в Китай в августе 1977 года. В инструкции Вэнса входило настаивать на официальных отношениях с Тайбэем в той или иной форме – например, в виде учреждения консульства. У него были полномочия и на большее – к этому его подталкивал его заместитель Ричард Холбрук, – но Вэнс сдержался; возможно, он не желал поставить под угрозу ратификацию договора по Панамскому каналу в сенате США. Китайцы пришли к мнению, что он отходит от позиций Никсона и Киссинджера. Миссия Вэнса провалилась.
Стремясь к личному триумфу и смене стратегии в отношении Советского Союза, Бжезинский убедил Картера, что за Китай взяться должен он. В арсенале у него был очень важный сотрудник – Майкл Оксенберг, протеже Барнетта и один из ведущих специалистов по Китаю того времени. Оксенберг считался не только блестящим аналитиком, но и умел отстаивать интересы своего ведомства, отточив своё мастерство в академических баталиях. Холбрук, занимавший примерно ту же позицию в Госдепартаменте, обладая не меньшими умениями и целеустремлённостью, всё же не знал Китай так хорошо, как Оксенберг, и, в отличие от того, не имел связей с китайскими чиновниками. Оксенберг постоянно опережал его в маневрировании, часто лишая его важной информации. С помощью Оксенберга Бжезинский установил свои контакты с Китаем – в частности, добился того, что его пригласили в Пекин. Это приглашение, в свою очередь, придало ему политических очков. «Я надавил на [американскую] бюрократию в сторону… более благоприятного отношения к поставкам потенциально военных технологий в Китай», – писал он позже. «Пользуясь своим авторитетом, я распорядился, чтобы китайцам предоставили конспект НАТО по глобальным стратегическим проблемам, и таким образом установили с ними негласную связь по вопросам безопасности»[151]. «Китайцы, которым хорошо была известна его позиция по Советскому Союзу, настроились на его поддержку»[152].
Как только китайцы выразили свою готовность принять его, Бжезинский получил и разрешение на поездку от Картера. Он сообщил Леонарду Вудкоку, возглавляющему отдел по связям в Пекине, что не намерен вести переговоры и собирается только обсудить глобальную политику администрации, её стратегию в отношении Советского Союза и другие подобные вопросы. Он признал, что двусторонние отношения и их нормализация входят в компетенцию Вэнса и Вудкока, но были подозрения, что Бжезинский собирается подражать Киссинджеру. Советники предупреждали только что избранного президента Картера, что Бжезинский будет слишком самоуверенным, прямолинейным и любящим поспорить советником по национальной безопасности и что политика по отношению к Китаю станет для него поводом продемонстрировать свою компетентность, активность и энтузиазм. Стэнли Хоффманн из Гарварда – критик внешней политики как Киссинджера, так и Бжезинского, его бывших коллег, – жаловался также на чрезмерную активность Картера и Бжезинского, на их склонность «говорить сейчас, а думать позже»[153]. Вэнса также тревожила растущая самостоятельность Бжезинского, и он был против его поездки в Китай.
Бжезинский усердно вёл подковёрную борьбу и в конечном итоге заручился поддержкой вице-президента Уолтера Мондейла и министра обороны Гарольда Брауна. Он был убеждён в том, что входит в число немногих высокопоставленных официальных лиц, которым китайцы доверяют и чьи стратегические перспективы разделяют. Его подчинённые уверяли, что он как раз тот, кто должен отправиться с миссией в Пекин, и усердно работали, скрывая от широкой публики недовольство Вэнса. Но Элизабет Дру из журнала «Нью-Йоркер» и Дон Обердорфер из «Вашингтон пост» узнали о разногласиях между Бжезинским и Вэнсом и написали о том, что Бжезинский стремится по меньшей мере сыграть роль Киссинджера[154]. Другие сообщали, что Бжезинский хочет воспользоваться отношениями с КНР, чтобы досадить руководству СССР. Позже Бжезинский писал о том, что ему приходилось делать «благочестивые высказывания» о том, что нормализация не имеет ничего общего с советско-американским соперничеством, но для него самого это оставалось главным пунктом[155]. В конце концов Бжезинский выиграл в борьбе за влияние и получил разрешение Картера на поездку в Пекин. Почти как и Картер в 1971 году, Бжезинский успешно взял контроль над политикой по отношению к Китаю в свои руки, благодаря тому, что Оксенберг лишал Холбрука и Вэнса доступа к важной информации. Уильям Глейстин, старший заместитель госсекретаря по делам Восточной Азии, в интервью 1997 года заявил, что восторг Бжезинского по поводу унижения Вэнса и Холбрука был «национальным позором»[156].
С одобрения Картера в инструкции Бжезинскому входило уверить китайское руководство в решительности США дать ответ на наращивание военной мощи СССР и на расширение его влияния при помощи посредников, особенно Кубы. В мае 1978 года он встретился с ключевыми фигурами в иерархии страны: министром иностранных дел Хуан Хуа; преемником Мао на посту председателя Коммунистической партии Хуа Гофэном; вице-премьером и самым влиятельным человеком в правительстве КНР Дэн Сяопином. Китайцы с удовольствием отметили, что Бжезинский прибыл к ним как раз в день инаугурации в Тайбэе президента Китайской Республики Цзяна Цзинго – предположительно с целью продемонстрировать его равнодушие к Тайваню.
К встрече Бжезинского китайцы подготовились хорошо. Хуан Хуа немедленно заявил, что читал его книги. В течение двух с половиной часов Хуан читал целую лекцию об ошибках Соединённых Штатов, настаивая на том, что своими действиями в Камбодже американцы лишили себя права требовать от китайцев соблюдения прав человека, что было ключевым пунктом Картера. После вдохновенной поддержки Северной Кореи Хуан потребовал, чтобы Соединённые Штаты вывели свои войска из Южной Кореи. Но центральным пунктом его выступления был призыв к американцам принять «стратегическую точку зрения» на тайваньский вопрос – призыв, который, по справедливому ожиданию Хуана, должен был найти отклик в его собеседнике. Бжезинский постарался уверить Хуана в том, что Картер принял твёрдое решение продолжать нормализацию отношений, а затем признал, что «существует только один Китай», но вместе с тем имеются и некоторые «осложнения» в виде внутренних политических препятствий на пути отказа от поддержки Тайваня. Соединённые Штаты продолжат выводить свои войска с острова, но он предупредил о будущих «исторически переходных отношениях» с народом Тайваня. В своём ответе Хуану он отклонил обвинения в том, что Вашингтон добивается гегемонии или умиротворяет Советский Союз. Он также чётко дал понять, что Соединённые Штаты намерены остаться в Южной Корее. Присутствовавший на беседе сотрудник дипломатической службы, обычно критично относившийся к Бжезинскому, отдал ему должное и признал, что тот гораздо увереннее опровергал претензии китайцев по сравнению с Киссинджером[157].
Что касается прав человека в Камбодже, где Пол Пот с красными кхмерами опустошали города, сгоняя их жителей в деревни, то Бжезинский был вынужден иметь дело с серьёзной проблемой. С одной стороны, Соединённые Штаты были озабочены массовыми жестокими убийствами, проводимыми красными кхмерами. С другой стороны, они надеялись на то, что Камбоджа окажет эффективное сопротивление вьетнамской агрессии, проводимой при поддержке Советского Союза. Согласно журналисту и писательнице Элизабет Беккер, Бжезинский хвастался, будто осмелился попросить у китайцев поддержать Пол Пота, что сам Бжезинский категорически отрицал[158]. Отвечая Бжезинскому, Хуан признал, что Китаю нравится, что американцы используют вопрос прав человека в своих действиях против Москвы, но настаивал, что этот вопрос не должен относиться к народам, отстаивающим свои независимость и единство. Для таких народов самое главное – это право бороться против империализма, колониализма и гегемонизма. Для этих народов, друзей Китая, нормализация американо-китайских отношений будет означать улучшение образа американцев и вдобавок покажет, что Соединённые Штаты не слабы[159].
На встрече с Хуа Гофэном Бжезинский в очередной раз заявил, что Картер твёрдо решил нормализовать отношения с Китаем. Соединённые Штаты, по его словам, готовятся начать серьёзные переговоры уже в следующем месяце. Он настаивал на том, что такой шаг, в отличие от политики Никсона и Киссинджера, не вызван ухудшением положения Америки и необходимостью сотрудничать с Китаем в противостоянии с Советским Союзом. Администрация Картера не стремится к нормализации просто как к «тактическому антисоветскому средству». Её намерения отражают долгосрочную стратегическую перспективу, вне зависимости от того, дружественно ли сейчас СССР настроен к Америке или нет. Хуа предпочёл воздержаться от комментариев, очевидно, не будучи полностью убеждённым в искренности уверений Бжезинского по поводу намерений Картера[160].
А затем прошла потрясающая встреча с Дэном, которому, несомненно, доложили обо всём, о чём Бжезинский говорил с Хуаном и Хуа. Бжезинский придерживался своей основной линии: Соединённые Штаты готовы сделать шаг навстречу нормализации отношений с КНР и действуют, исходя из долгосрочных стратегических, а не сиюминутных тактических соображений. Дэн тут же дал откровенный и прямой ответ: если Соединённые Штаты готовы сделать шаг, то они должны отказаться от поддержки Тайваня. В таком случае и Китай будет готов сделать шаг. У Бжезинского не оставалось выбора, кроме как взять время на раздумья. Он уверил собеседника в том, что Америка соглашается с основными требованиями Китая по вопросу Тайваня, но по внутриполитическим причинам Вашингтону придется выразить только свою надежду на мирное объединение Тайваня с материковой частью страны. Дэн не был против того, чтобы кто-либо высказывал «надежду» на мирное разрешение вопроса. Но Китай никогда не согласится на обещание мирного разрешения, как на условие нормализации. Бжезинский подчеркнул необходимость «исторического переходного периода» в отношениях США с Тайванем, вероятно, прикрывая тем самым продолжение поставок вооружений в Тайбэй. Однако он не сказал ничего такого, что помешало бы Дэну подумать, что в конечном итоге такое признание привело бы к объединению. Дэн отмахнулся от предположения Бжезинского в том, что неуверенный в своей безопасности Тайвань может переметнуться на сторону СССР.
Делая вид, что он не уверен в готовности американцев на решительные действия, Дэн повторил, что будет готов, «когда президент Картер примет твёрдое решение». Бжезинский в очередной раз уверил его в готовности Картера и отверг любые предположения о том, что администрация опасается Советов. Он подчеркнул тот факт, что за плечами у США больше опыта в противостоянии СССР, чем у Китая, и что он сам менее популярен в Москве, чем Дэн[161].
Помимо бесед с лидерами Китая Бжезинский и Оксенберг предоставили китайцам то, что «Нью-Йорк таймс» назвала беспрецедентным и подробным отчётом о переговорах с Советским Союзом по ОСВ, и поделились секретным меморандумом Белого дома по этой теме. Оба пообещали Пекину «прочные отношения в области безопасности». Они хотели больше узнать о китайских вооружённых силах и предложили министерству обороны США подумать о размещении в Китае большего количества наблюдателей; КНР, по их мнению, могла бы стать базой электронного наблюдения за Советским Союзом. Неудивительно, что китайские средства массовой информации хвалили стратегическое мышление Бжезинского и всячески принижали Вэнса. Один высокопоставленный китайский чиновник рассказал журналу «Ньюсуик»: «Мы знаем, как Бжезинский относится к Советскому Союзу, Китаю и Японии. С Вэнсом этого никогда не знаешь»[162]. Джеймс Лилли, сотрудник ЦРУ в Пекине, а позже посол в Китае, говорил, что «проницательные и искушённые» китайцы намеренно сместили акцент в переговорах с педантичного Вэнса на Бжезинского. Они «хотели иметь дело с антисоветски настроенным американцем польского происхождения»[163].
И действительно, согласно Ричарду Соломону, работавшему в СНБ при Киссинджере, китайцы верили, что смогут легко манипулировать Бжезинским. Делая вид, что они не доверяют заявлениям Картера о решимости заключить дипломатические отношения, они заставляли Бжезинского снова и снова повторяться на каждой встрече. Как заметил в своей книге «О лице» Джеймс Манн, Бжезинский повторил тайные обещания о Тайване, данные ещё Никсоном. Пекин побуждал американцев отказаться от поддержки Китайской Республики, которая после гражданской войны 1940-х годов оказалась сосредоточенной на острове за Тайваньским проливом в девяноста милях от побережья материкового Китая. Вашингтон оказывал Тайваню военную и экономическую помощь в рамках холодной войны и борьбы с коммунизмом, называя его «свободным Китаем». Обещания Никсона, повторённые Бжезинским, подразумевали, что Тайвань остаётся частью Китая и что США не будут поддерживать независимость Тайваня; Вашингтон будет препятствовать Японии занять его место на острове и примет любую мирную резолюцию между Тайбэем и Пекином. И Бжезинский пошёл дальше, сказав своим собеседникам, что Соединённые Штаты выведут с острова всех своих официальных представителей. Холбрук, соглашаясь с необходимостью нормализации отношений с Пекином и разрыва отношений с Тайванем, тем не менее считал, что Бжезинский перегибает палку, и говорил что, «Збигу совершенно наплевать на Тайвань»[164].
Дэн, благодушно приняв неоднократные уверения Бжезинского в том, что Картер действительно готов действовать – и восхитившись его русофобией, свидетельством чему были его антисоветские эскапады во время посещения Китайской стены, – поручил Хуан Хуа провести секретные переговоры с Вудкоком[165]. Переговоры начались в июле, и вместе с Вудкоком присутствовал Дж. Стэплтон Рой (позже посол в Китае). Бжезинский также регулярно общался с Чай Цзэминем, главой китайской дипломатической миссии в Вашингтоне, встречаясь с ним по крайней мере раз в месяц. В конце октября он сказал Чаю, что если соглашение о нормализации не будет принято быстро, то его придётся отложить до осени 1979 года, когда будет проходить сессия Конгресса и все будут сосредоточены на советско-американских отношениях. Чай доложил о беседе в Пекин, побуждая своё руководство к более активным действиям. Прочитав доклад Чая, Дэн сказал Политбюро, что Соединённые Штаты хотят ускорить переговоры: «Нужно хвататься за возможность».
Всё это время Бжезинский успешно боролся за контроль над процессом – под конец при полной поддержке Картера. Бжезинский держал Белый дом в курсе дела и информировал его о переговорах, пока Вэнс ездил в Иерусалим, полагая, что до соглашения ещё две недели[166]. Вэнс и Холбрук, поддерживая план по нормализации отношений, не соглашались с Бжезинским по некоторым пунктам, включая консультацию с Конгрессом и политику в отношении Советского Союза. Главный советник Вэнса по СССР, коллега Бжезинского по Колумбийскому университету Маршалл Шульман, постоянно предупреждал своего начальника, что уступки Китаю ухудшат советско-американские отношения[167]. Бжезинский же был в любой момент готов использовать отношения с Китаем против Советов, чтобы досадить Москве.
Но основное разногласие между СНБ и Госдепартаментом в последние недели переговоров между Соединёнными Штатами и КНР касалось Тайваня. Все участники дискуссий понимали, что в силу целого ряда причин, в том числе и внутриполитических, нельзя просто так оставлять остров, что нужно поддерживать с ним неформальные связи и, что самое главное, поставки вооружений на Тайвань должны продолжаться. Бжезинский намекал на это Дэну, и Оксенберг сказал знакомым, что эта тема будет главным проблемным вопросом после заключения дипломатических отношений с Пекином[168]. Холбрук предложил заранее отправить на Тайвань истребители FX «в качестве большого прощального поцелуя» и утверждал, что сейчас это создаст меньше проблем, чем после нормализации, но Бжезинский и Оксенберг – возмущённые этим предложением – не хотели рисковать. Меньшей головной болью был вопрос о том, когда сообщить Цзян Цзинго о том, что Соединённые Штаты теперь поддерживают не Тайбэй, а Пекин. Было очевидно, что Цзян и его правительство упорно не замечают никаких знаков происходящего и отказываются верить в то, что американцы от них отдаляются. Холбрук с коллегами хотели уведомить Цзяна за сутки до официального решения, но Бжезинский с Оксенбергом отказались от этого. Холбрук утверждал, что они «намеренно дурачили» Цзяна и тем самым дали поддерживавшим Тайвань конгрессменам повод заявить, что администрация Картера вонзила нож в спину Цзяна[169].
В январе 1979 года Дэн приехал в Соединённые Штаты, чтобы встретиться с Картером, обсудить совместную стратегию и посмотреть страну. Для Бжезинского это было время торжества. Картер, Вэнс и даже средства массовой информации приписывали все заслуги по нормализации ему. Он попросил разрешения стоять среди встречающих Дэна в Белом доме, и Картер согласился без возражений со стороны Вэнса. Следующим необычайным событием стал ужин в честь Дэна в доме Бжезинского в Вирджинии – Дэн принял приглашение, которое Бжезинский отправил в мае. Вне всякого сомнения, это был настоящий взлёт карьеры Бжезинского.
Восторженно обсуждаемый визит Дэна не прошёл без осложнений. На торжественном приёме, устроенном в его честь в вашингтонской Национальной галерее, он шокировал собравшихся, отказавшись от вежливой похвалы в адрес новых китайско-американских отношений и разразившись гневной антисоветской речью. В Белом доме он сообщил своему новому другу Джимми Картеру о своих намерениях наказать Вьетнам за его вторжение в Камбоджу. Дэн воспринял установление полных дипломатических отношений с Соединёнными Штатами как сигнал Москве о том, что теперь за его спиной есть поддержка американцев, и считал, что это удержит СССР от вторжения, пока Китай будет атаковать советского союзника. Бжезинский советовал Картеру не выражать «излишней тревоги Соединённых Штатов по поводу возможных действий Китая»[170]. Но Картера это обеспокоило, и он предупредил Дэна о том, что нападение на Вьетнам может дестабилизировать обстановку, призывая его к сдержанности. Бжезинский разработал формулу, которая, как выяснилось позже, оказалась действенной: Соединённые Штаты критикуют военные действия Китая и одновременно порицают оккупацию Камбоджи со стороны Вьетнама – и требуют, чтобы обе стороны отвели свои войска. Он знал, что вьетнамцы откажутся выполнять такое требование и таким образом дадут Китаю своего рода дипломатическое прикрытие, что позволит США «слегка склониться» в пользу китайцев. Руководителей СССР же он распорядился предупредить о том, что любой военный ответ с их стороны подтолкнёт Америку ещё ближе к Китаю. Бжезинский назвал этот подход «формально критикующим, но по существу помогающим» – сигналом китайцам, что они имеют дело с надёжным другом.
Вскоре этой дружбе было суждено пройти испытание, когда в апреле 1979 года Конгресс принял Акт об отношениях с Тайванем (Taiwan Relations Act, TRA)[171]. Разрывая официальные отношения с Тайванем, администрация Картера заявляла, что будет продолжать поддерживать неофициальные экономические и культурные связи. В этих сферах Тайвань продолжат воспринимать как суверенное государство, даже если и не будут его признавать таковым. Администрация также давала ясно понять, что продолжит поставки вооружений. Хотя Дэн и был недоволен по этому поводу, он в конце концов решил, что этот вопрос не должен мешать нормализации. Из бесед с Бжезинским и другими вовлечёнными в процесс американцами он сделал вывод, что продажи оружия в будущем сократятся до незначительного количества и что Соединённые Штаты окончательно покинут остров. У Конгресса были другие представления.
Процесс сотрудничества с Тайбэем после отмены официальных отношений был делом непривычным и проходил с осложнениями. Администрация Картера представила в Конгресс проект закона, ожидая, что он полностью поддержит его, но сам Картер, Бжезинский и другие лица, принявшие участие в подготовке закона, были шокированы тем, как Конгресс его изменил. Перед заключением соглашения с Пекином Вэнс ратовал за то, чтобы обязательно консультироваться с Конгрессом, но Бжезинский и Оксенберг убедили Картера этого не делать, предположительно из страха утечек или из опасения, что противники нормализации не позволят ей осуществиться. Холбрук и другие предположили, что влиятельные члены Конгресса были возмущены тем, насколько жёстко обошлись с Тайванем в целом и с Цзинго в частности. Что более важно, они желали быть уверенными в том, что островитяне смогут защитить себя в случае возможного решения Пекина восстановить единство страны силой. Так, например, TRA обязывал американское правительство предоставить Тайваню любое военное снаряжение, необходимое ему для обороны, поддерживать достаточное военное присутствие в Тихом океане на тот случай, если Вашингтон решит оказать помощь Тайваню, и предупредить КНР о недопустимости использования силы. Дэн пришёл в ярость, и уладить вопрос не смогли даже секретные обещания Картера в том, что продажи вооружений будут ограничены. Любые поставки военного снаряжения на Тайвань с тех пор вызывали ожесточённые протесты Пекина.
В оставшиеся месяцы в Белом доме Бжезинский старался улучшить отношения между Соединёнными Штатами и Китаем в области безопасности. Ему удалось договориться о продаже китайцам оборудования двойного назначения, недоступного Советскому Союзу. После того, как СССР оказал ему непредвиденную «помощь» в виде вторжения в Афганистан, он без труда убедил Государственный департамент либерализовать правила экспорта в Китай, включив в список такие пункты, как средства радиоэлектронной защиты и радиолокаторы противовоздушной обороны, имевшие явно военное назначение. Какова бы ни была перспектива китайско-американских отношений, Бжезинский верил, что по меньшей мере на протяжении холодной войны Китай будет полезен для отвлечения советских войск численностью в сотни тысяч человек на базах у себя дома и в Восточной Европе на Восточную Азию и границы с Китаем. В мае 1980 года Бжезинский встретился в Вашингтоне с главой Пекинской военной комиссии и объяснил, что Советский Союз разрабатывает двунаправленную стратегию выхода через Афганистан к Персидскому заливу и через Камбоджу к Малаккскому проливу. Каким бы сомнительным ни был такой анализ, китайцам он понравился, они приняли его на вооружение, и Дэн повторил его Бжезинскому во время его визита в Пекин в 1981 году.
Удачное завершение процесса нормализации имело необычайно важное значение по той причине, о которой Бжезинский не уставал повторять: она невероятно усилила позицию США в Восточной Азии в частности и в противостоянии с СССР в целом. Вряд ли бы Вэнс или Картер смогли довести дело до конца без Бжезинского. Более того, ему удалось сделать то, что не смог сделать Киссинджер. На заре его карьеры коллеги Бжезинского называли его блестящим, но непостоянным – блестящим всё время, но правым в половине случаев. По поводу улучшения отношений с Китаем он был, безусловно, прав. С другой стороны, он пошёл на значительные уступки и сомнительные шаги. Бжезинский уж слишком рьяно был готов отказаться от Тайваня, не обращал внимания на нарушения прав человека в Камбодже и самом Китае, не консультировался как следует с Конгрессом и после нормализации очень сурово отнёсся к Вэнсу.
К концу срока работы администрации Картера Бжезинский подвергался ужесточавшимся нападкам прессы, в основном по вопросам, в которых у него были разногласия с Вэнсом. Лесли Гелб, служивший под началом Вэнса, объяснил читателям «Нью-Йорк таймс» это противостояние следующим образом: Вэнс сражается честно, а Бжезинский – уличный боец. Он утверждал, что Бжезинский перед Картером по-своему интерпретирует слова Вэнса. Печатавшийся в «Нью-Йорк таймс» комментатор Энтони Льюис даже задавал Картеру вопрос, почему он сохраняет при себе Бжезинского – человека, «имеющего за плечами список глупостей, не пользующегося доверием за рубежом и сеющего распри дома». Но по крайней мере одним своим крупным внешнеполитическим успехом – восстановлением дипломатических отношений с Китаем – администрация Картера была обязана Бжезинскому[172].
Оставив свой пост в администрации после выборов Рональда Рейгана, Бжезинский по-прежнему пользовался доступом к средствам массовой информации для выражения своих взглядов. Он поддерживал решение администрации Рейгана о поставках вооружений в Китай, утверждая, что КНР является частью новой глобальной коалиции, сдерживающей экспансию Советского Союза. Риторика Пекина, сваливающая в одну кучу США и СССР, как стремящиеся к гегемонии державы, которым нужно дать отпор, вроде бы ставила под сомнение такое предположение. Но Бжезинский игнорировал риторику, утверждая, что она не соответствует реальной политике и реальным действиям Китая. В то же время его тревожило сближение Рейгана с Тайванем. Были основания предполагать, что администрация может продать планы Тайбэю, чего он не допускал в годы Картера. Намерены ли Рейган и его советники вернуться к политике «двух Китаев»? По крайней мере, такое впечатление могло создаться у Дэна. Когда госсекретарь Джордж Шульц продемонстрировал, что КНР для него не так важна, как для Бжезинского или Киссинджера, пойдя на конфронтацию по поводу экспорта текстиля и политики в отношении Тайваня, Бжезинский подверг его критике. Он заявлял, что к Китаю нужно относиться как к партнёру. Он советовал не давать Советскому Союзу поводов вбить клин между Пекином и Вашингтоном.
В 1988 году Рейган и Михаил Горбачёв вместе работали над ослаблением напряжённости между Соединёнными Штатами и Советским Союзом. Широко было распространено мнение о том, что Горбачёв представляет собой новый тип советского руководителя, решившего покончить с холодной войной. Историки позже будут хвалить Рейгана за его открытость в ответ на предложения Горбачёва. Но для Бжезинского мир и стабильность несли отношения с Китаем, позволявшие американцам воспринимать СССР не в таком зловещем свете.
Резня на площади Тяньаньмэнь в 1989 году потрясла Бжезинского. Он продолжал верить в необходимость интеграции Китая в мировое сообщество, но призывал администрацию Джорджа У. Буша, заявив о том, что она будет оказывать помощь только тому Китаю, который уважает свой народ. Никакой помощи репрессивному режиму не будет. Он выразил надежду, что после трагедии китайское руководство поймёт, что деспотичное правительство приводит к социально-экономической катастрофе. К весне 1990 года Бжезинский присоединился к лагерю тех, кто ратовал за лишение Китая статуса страны наибольшего благоприятствования для экспорта. Он заявлял, что Пекин следует наказать за его репрессивную и авторитарную политику. Когда в 1993 году демократы вернули себе контроль над Белым домом, Бжезинский, не скрывая своего убеждения в важности отношений с Пекином, поддержал идеологическую линию Клинтона, критикуя китайское правительство за его жестокое подавление протестов на площади Тяньаньмэнь и в других регионах страны. Он потребовал от Вашингтона воздержаться от помощи Китаю в случае сохранения репрессивного режима. После окончания холодной войны и распада Советского Союза ему было легче отказываться от своих убеждений в необходимости укрепления Китая, и он выражал некоторую озабоченность соблюдением прав человека в КНР.
Администрация Клинтона быстро поняла, что китайцы не пойдут ни на какие уступки в вопросах соблюдения прав человека в общем и в отношении политических диссидентов в частности. Угрозы лишить Китай статуса наибольшего благоприятствования оказались напрасными. Желая найти средний путь между «реалистичной» политикой Бжезинского и Киссинджера, подчёркивающими важность сохранения хороших отношений с Китаем и сделанными в ходе кампании обещаниями прекратить заигрывать с «мясниками из Пекина», госсекретарь Уоррен Кристофер попросил Бжезинского и Киссинджера, как «друзей Китая», сообщить своим контактным лицам, что на определённые уступки в сфере прав человека всё-таки придётся пойти[173]. Но китайцы, уверенные в том, что американские деловые интересы не позволят администрации отменить статус наибольшего благоприятствования, стояли на своём; из-за этого Кристофер Уоррен, приехавший в Пекин требовать уважения к правам человека, даже был поставлен в неловкое положение. В конце концов администрация сдалась, а китайцы продолжили пользоваться привилегиями статуса наибольшего благоприятствования.
В течение президентского срока Клинтона Бжезинский вновь стал прямо говорить о необходимости укрепления отношений с Китаем, особенно когда сравнивал Китай с Россией. Он утверждал, что КНР, основная военная и экономическая держава, больше России заслуживает, чтобы её включили в «Большую семёрку». Он настаивал на том, что Китай не враг и не угроза интересам США и что наиболее важные двусторонние отношения у Америки как раз с Китаем. К восхищению председателя Китая Цзян Цзэмина, Бжезинский высказывал мнение, что китайцы активнее американцев стремятся найти точки сближения и преодолеть растущие разногласия. Он сообщал, что Пекин тревожит растущее военное сотрудничество США с Японией. В 1999 году Бжезинский раскритиковал «теорию двух государств» тайваньского президента Ли Дэнхуэя как попытку легитимизировать постоянное разделение Китая. Он никогда не отказывался от своих взглядов, согласно которым интересы Тайваня имеют второстепенное значение перед потребностью Америки в хороших отношениях с Пекином[174].
Пристрастность Бжезинского к Китаю и его враждебность к России заметны в его книге 1997 года «Великая шахматная доска»[175]. Позже, после прихода к власти Владимира Путина, Бжезинский критиковал Клинтона за то, что тот стремится к «показательному соглашению» с российским лидером по вопросу национальной противоракетной обороны. Он желал знать, почему Клинтон равнодушно относится к жестокой войне в Чечне при Путине и при этом обвиняет Китай в нарушении прав человека. И он предупреждал, что если на Аляске будут развёрнуты противоракеты для борьбы с «несуществующими» баллистическими ракетами Северной Кореи, то это может привести к усилению напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем. В своей книге он даже склонялся к тому, чтобы отказаться от распространённого среди политической элиты своего собственного убеждения в том, что Япония является гарантом безопасности Америки в Азии; он выдвигал предположение, что основным азиатским партнёром вместо Японии должен стать Китай.
В 2000 году Бжезинский опубликовал статью «Жизнь с Китаем» в журнале «Нейшнл интерест». На этот раз он проявил к России мягкость, включив её вместе с Китаем, Европой и Японией в число основных приоритетов для развития отношений с Соединёнными Штатами. Он отмечал, что в Конгрессе, как и в американском обществе, нет единого мнения по поводу Китая. Политика администрации Клинтона, по его мнению, отличалась непоследовательностью. Помимо прочего, он предлагал исключить Тайвань из охвата противоракетной обороны на театре военных действий, провести трёхсторонний стратегический диалог с Японией и Китаем, принять Китай во Всемирную торговую организацию (ВТО) и включить Китай в «Большую восьмёрку» (сделав её «девяткой»). По его мнению, настала пора прекратить жаловаться на международное поведение Китая – оно, во всяком случае, было лучше поведения Индии[176].
И всё же Бжезинский вызвал неодобрение китайского руководства тем, что защищал доклад заместителя государственного секретаря Тома Пикеринга о том, что бомбардировка китайского посольства в 1999 году в Белграде была случайностью. Китайцы обвинили Бжезинского и других придерживающихся таких взглядов в лицемерии и в том, что они обвиняют в нарушении прав человека другие страны, тогда как их собственная страна убивает невинных людей, считая себя «гегемоном». Было очевидно, что китайцы не любят, когда их друзья отходят от точки зрения самих китайцев.
После избрания президентом Джорджа Г. У. Буша, Бжезинский вернулся к роли общественного интеллектуала. Он наблюдал, что отношения между США и Китаем стремительно ухудшаются, и считал, что больше в этом виноваты китайцы. Он считал, что китайская пресса, особенно её публикации о Народной освободительной армии (НОА), слишком враждебна. Согласно его мнению, Китай переусердствовал в инциденте, когда китайский перехватчик упал в Южно-Китайское море после столкновения с американским самолётом-разведчиком EP-3. В этом случае Китай вёл себя как недружественное государство. Бжезинский также предупреждал Китай, что объединение с Тайванем должно происходить мирным путём. Что касается политики администрации Буша, то Бжезинский её критиковал, повторяя свой тезис о том, что с Китаем у Америки самые важные двусторонние отношения. Он опровергал точку зрения администрации, согласно которой Китай являлся стратегическим конкурентом.
Согласно Бжезинскому, столкновения с Китаем никогда не будет. Своё мнение он объяснил в опубликованных дебатах с Джоном Миршаймером, известным политологом из Чикагского университета, который считал, что конфликт между Америкой и Китаем весьма вероятен, если не неизбежен. Бжезинский настаивал, что Китай сосредоточен на своём собственном экономическом развитии и на своём политическом влиянии, предполагая, что Пекин будет придерживаться осторожной внешней политики во время Олимпийских игр 2008 года и во время проведения всемирной выставки Экспо-2010 в Шанхае. Признавая, что в будущем возможны трения, он, тем не менее, утверждал, что до открытого столкновения дело не дойдёт. Китайские войска не настолько сильны, чтобы бросить вызов США, а китайское руководство понимает, что конфронтация крайне негативным образом скажется на их экономике. Он также предположил, что отрицательных последствий, которые часто сопровождали превращение какого-либо государства в ведущую силу на мировой арене, удастся избежать благодаря сдерживающей силе ядерного оружия – этот аргумент часто использовали для объяснения, почему во время холодной войны не было прямых столкновений между Соединёнными Штатами и Советским Союзом. Кроме того, Бжезинский уверял, что Китай не станет выталкивать США из Азии и не будет предпринимать попыток захватить Тайвань из-за вероятности американского вмешательства.
Бжезинский восхищался тем, что сотрудничество между США и Китаем давно переросло рамки когда-то заботивших его двухсторонних отношений. Сотрудничество в области сдерживания ядерной программы Северной Кореи, по его мнению, должно расшириться и до сдерживания иранской ядерной программы. Более стратегический диалог между Пекином и Вашингтоном, по его мнению, помог бы избежать кризиса в Персидском заливе и в качестве побочного эффекта расстроить Москву[177].
Таким образом, ещё до инаугурации Барака Обамы в 2009 году Бжезинский призывал к проведению регулярных встреч между руководителями Китая и США и к глобальному партнёрству – то есть к тому, что он называл «Большой двойкой» (G-2). Согласно его мнению, Китай и Соединённые Штаты сообща могли бы решить большинство мировых проблем. В марте он составил список насущных вопросов, в которых могла бы помочь КНР: глобальный финансовый кризис, ядерная программа Ирана, проблемы между Индией и Пакистаном и даже израильско-палестинские отношения.
В 2011 году, когда Вашингтон посетил председатель КНР Ху Цзиньтао, Бжезинский написал статью «Как оставаться друзьями с Китаем». В ней он выражал своё беспокойство по поводу неопределённости в отношениях и сохранения взаимного недоверия и опасался эскалации взаимной демонизации. Но Обаме и Ху важно не забывать о том, что их страны нужны друг другу. Бжезинский давал своим соотечественникам ожидаемый совет: не демонизируйте Китай, ведь нам придётся работать вместе с ним. Он заявлял, что в настоящее время китайцы умерили свою агрессивную риторику, намекая на то, что они прислушиваются к его предложениям. Его нисколько не беспокоило строительство флота базирования в открытом море, на что, по его мнению, Китай, как упрочившее своё влияние в мире государство, имеет полное право. Он утверждал, что вызов главенствующему положению США бросают политические и экономические проблемы в самих Соединённых Штатах, а не Китай. Оставаясь реалистом, Бжезинский советовал придержать обвинения в нарушении Китаем прав человека и сосредоточиться на взаимных стратегических интересах. В октябре 2011 года в своей речи он повторил призыв к созданию китайско-американского объединения – «Группы двух», или «Большой двойки», которая совместно решала бы глобальные проблемы – но, признавая, что среди друзей и союзников США эта концепция может вызвать беспокойство, он не советовал называть это объединение таким термином.
Сейчас, по прошествии времени, величайшим достижением Бжезинского остаётся нормализация отношений с КНР – несомненно важнейшая поворотная веха в истории холодной войны. К этому стремились многие, но потерпели неудачу. К 1978 году Бжезинский понимал, что наилучшим образом интересы США представляет сотрудничество с Китаем против Советского Союза. Неудивительно, что благодаря успешному завершению переговоров в 1978 году поддержание и усиление китайско-американских отношений оставались в фокусе его внимания и на протяжении последующей карьеры. Эту точку зрения разделяли многие аналитики – в немалой степени и Генри Киссинджер, бывший некогда его соперником. Другие же высказывали сомнения, особенно после окончания холодной войны. Даже сам Бжезинский усомнился в некоторых аспектах отношений непосредственно после резни на площади Тяньаньмэнь.
Недавний призыв Бжезинского к созданию «Большой двойки» – фактическому, если не номинальному объединению усилий Китая и Америки – означает, что он преодолел свои сомнения. Его оптимизм в отношении Китая иногда превосходит собственные оценки Китая и вызывает опасения среди многих зарубежных сторонников США[178]. Но если многие и не разделяют представление Бжезинского о будущем, то они признают его заслуги по нормализации отношений с КНР в 1978 году. Ему удалось блестяще претворить в жизнь политические планы администрации Картера – и он уж точно был более чем наполовину прав.
Глава 6. Карикатура и человек
Роберт А. Пастор
В представлении некоторых исследователей и журналистов Збигнев Бжезинский был типичным суровым бойцом холодной войны, благодаря своему польскому происхождению затаившим ненависть к России и испытывавшим презрение к коммунизму. Как и любой стереотип, такой образ сформировал устойчивые представления о его стиле в политике и о том, как он с макиавеллкевским хладнокровием манипулировал только что избранным неискушённым президентом. С окончанием холодной войны этот образ немного потускнел и расплылся, широкая публика стала больше ценить его стратегическое мышление, но прежние представления до сих пор проскальзывают в рассказах об администрации Картера – в частности, в недавно вышедшей книге Бетти Глэд «Аутсайдер в Белом доме: Джимми Картер, его советник и формирование американской внешней политики»[179].
В такой карикатуре есть какая-то доля, своего рода осколки, истины, но если кто-то хочет по-настоящему понять этого человека или его влияние на внешнюю политику во времена Картера, то сложить целую картину только из этих осколков у него не получится. По своему мировоззрению он не был консерватором; напротив, он был либералом и в некоторых отношениях даже революционером. Права человека для него были не просто оружием против коммунизма, но и против любой диктатуры, а также идеалом, обязанность распространять который лежала на Соединённых Штатах. Он считал доктрину Монро устаревшей и старался привлечь США к поддержке стран третьего мира в их стремлении к независимости и расовой и социальной справедливости. В спорах он мог быть резким, но всегда уважал собеседников и выслушивал точку зрения своих коллег и подчинённых. Вопреки стереотипам о человеке, «помешанном» на советской угрозе, он всегда приветствовал новые идеи и инициативы и умел впитывать и формулировать их с удивительной скоростью.
Будучи человеком прямым и сложным, Бжезинский инстинктивно вёл себя жёстко с противниками Америки, но умело сглаживал неловкие переходы в многоуровневых переговорах. Он обладал почти уникальной способностью чётко и ясно выразить суть стратегической проблемы в одной фразе. Так, название его книги «Власть и принцип» не только отражает один из аспектов американской внешней политики, но и указывает на его собственные ориентиры – использование власти и влияния ради следования принципам.
Начиная со времён президентства Джона Ф. Кеннеди человек, занимающий должность советника по национальной безопасности, исполнял роли советника президента, координатора внешней политики и агентств национальной безопасности, разработчика долгосрочных планов, стратега и руководителя команды от десяти до трёхсот экспертов по различным регионам и аспектам национальной безопасности. Конкретные обязанности Совета национальной безопасности (СНБ) и роль советника отчасти зависели от самого этого человека, но в большей степени от президента и от того, насколько президент желал сам принимать решения. Президент вроде Рональда Рейгана предпочитал делегировать решения, так что его советник по национальной безопасности не был настолько влиятельным, как советник такого президента, как Ричард Никсон, который хотел руководить внешней политикой из Белого дома. Президент Кеннеди предпочитал, чтобы его советник Макджордж Банди, блестящий профессионал, не только координировал политику, но и предоставлял ему свежие идеи.
Президент Джимми Картер выбрал Бжезинского по тем же причинам. Пусть Картер и не обладал достаточными знаниями в области внешней политики, но он был уверен в своих силах, и Бжезинский привлёк его своими знаниями и своей креативностью. Ему понравилось, что как Бжезинский, так и госсекретарь Вэнс порекомендовали друг друга на эти должности[180], но он признавал их различия в темпераменте и приоритетах и выбрал их обоих как раз благодаря таким различиям и взаимной рекомендации.
Роль координатора отличается от роли представителя или апологета каких-то отдельных взглядов. Координатор должен рассматривать все точки зрения, не отдавая предпочтение ни одной из них, тогда как представитель и апологет защищает только свою позицию. Бжезинский координировал внешнюю политику, как это и требовалось от него, но никогда не был доволен этой ролью. Он предпочитал защищать определённую точку зрения, и хотя честно пытался представлять на рассмотрение альтернативы, его пристрастия всегда заставляли других представителей Государственного департамента сомневаться в его честном посредничестве.
Бжезинский собрал под своим началом коллектив, охватывающий весь идеологический спектр Демократической партии – от либералов до консерваторов. Все они были специалистами в своих областях, но некоторые только начинали свою карьеру, тогда как другие пользовались прочным авторитетом. Бжезинский проводил еженедельные совещания, как если бы это были семинары, формулируя повестку дня и выслушивая комментарии. Он был превосходным менеджером – быстро читал, запоминал детали, но всегда рассматривал информацию в стратегическом или в историческом контексте. В его характере была и весёлая, шутливая сторона, которой он иногда позволял прорываться наружу, но по большей части он оставался серьёзным. Чего он действительно не терпел в любом случае – это когда коверкали его фамилию.
Чтобы понять Бжезинского, как советника по национальной безопасности, нужно понять внешнюю политику администрации Картера. Согласно распространённому мнению, внешняя политика Картера была следствием конфликта между Вэнсом, умным и либеральным государственным деятелем из числа элиты, и Бжезинским, блестящим стратегом, но интриганом, пользующимся своей близостью к Картеру, чтобы подтолкнуть США к новой холодной войне. Это очень упрощённый и во многом неверный взгляд; он несправедлив как в отношении конкретных лиц, так и всех сложных внешнеполитических проблем, с которым пришлось столкнуться администрации Картера. Проблемы эти были весьма значительными, и Картер не пытался отвернуться от них. Он не боялся зайти туда, куда опасались его предшественники, и ему удалось заключить договоры о Панамском канале и первый протокол Договора Тлателолко (согласно которому Латинская Америка и Карибский бассейн становились регионами, свободными от ядерного оружия), укрепить внутриамериканские институты по защите прав человека и демократии, нормализовать отношения с Китаем, выступить посредником при заключении Кэмп-Дэвидских соглашений между Египтом и Израилем, поставить защиту прав человека в центр американской внешней политики, провести переговоры по ОСВ-2 и заключить договор о ядерном оружии, договориться о прекращении дискриминации со стороны белого населения в Родезии и принять новую концепцию политики в отношении Африки, сформировать убедительную энергетическую политику и разработать новую концепцию контроля над обычными вооружениями и нераспространения ядерного оружия.
Распространённое мнение о внешней политике Картера ошибочно по четырём следующим причинам.
Во-первых, согласно ему, Картер был пассивным лидером, посредником между Вэнсом и Бжезинским или объектом манипуляций со стороны последнего, когда на самом деле настоящим инициатором политики был Картер.
Конечно, Картер действительно пришёл в Белый дом, обладая недостаточным опытом в сфере внешней политики, но он быстро и охотно учился, а Бжезинский был убедительным учителем. Верно также и то, что Бжезинский иногда пытался разыграть карту в свою пользу, и это раздражало Вэнса. Верно и то, что Картер предпочитал иметь дело с бумагами, а не присутствовать на совещаниях. Некоторые полагают, что Бжезинскому из-за этого было легче манипулировать процессом, поскольку все документы по внешней политике и отчёты о заседаниях СНБ либо составлялись им самим, либо проходили через него.
Но Картер создал защитный механизм, обеспечивающий честность процесса. Он настоял на том, чтобы в подаваемых ему документах всегда указывалась точка зрения Государственного департамента и других заинтересованных агентств, и когда наблюдались разногласия, он всегда лично звонил Вэнсу или руководителям соответствующих департаментов. Таким образом, степень доверия Картера к Бжезинскому зависела отчасти от того, насколько Бжезинский честно излагал взгляды других. Исследователи архивов не нашли доказательств того, что Бжезинский злоупотреблял своим положением и истолковывал мнение Вэнса в свою пользу.
Но главное, неверно само утверждение о том, что у Картера не было своих собственных взглядов на политику. И он не просто старался объединить взгляды своих советников. Как и у всякого ответственного политика, у Картера были свои представления об Америке, ещё более оформившиеся в годы избирательной кампании и поездок по стране, и он старался сочетать свои мысли со взглядами советников на ситуацию в мире и с их рекомендациями. И действительно, внешняя политика администрации Картера по существу была его политикой – в гораздо большем отношении, чем политикой его советников. Да, он не предлагал полностью оформленную и всеохватывающую стратегию, как это было в случае Франклина Д. Рузвельта или Джона Ф. Кеннеди. Но он вступил в должность, имея чёткое представление о некоторых целях, таких как защита прав человека, стремление упрочить мир, несмотря на скептицизм и политические затраты, необходимость руководствоваться моральными принципами в осуществлении власти и желание помогать развивающемуся миру. От предшественников ему также достался довольно большой список проблем и дел, либо полностью незатронутых (Панама, Куба, Родезия), либо незаконченных (ОСВ, Китай и Ближний Восток); к этому добавлялись такие постоянные вопросы, как соблюдение прав человека, нераспространение ядерного оружия и сокращение вооружений. Поэтому Картер, оказавшись в Белом доме, прекрасно представлял себе свои задачи, но его конкретные действия основывались на советах и документах, которые ему предлагали, в основном, Бжезинский с подчинёнными. Следует отметить и то, что среди его советников не наблюдалось разногласий по поводу важности всех этих задач.
Различия во взглядах – особенно между Вэнсом и Бжезинским – касались приоритета той или иной задачи, и в этом заключалось основное различие между Картером и всеми его советниками. Если все они советовали ему взяться за какие-то отдельные вопросы и оставить самые трудные на второй срок, Картер настаивал на том, чтобы решать их все сразу, и как можно скорее. И получилось так, что он достиг гораздо большего, чем кто-то другой – за исключением самого Картера – считал возможным. В любом случае, обсуждения шли на самые разные темы, и Картер поощрял их, стараясь рассмотреть различные точки зрения, прежде чем принять своё решение. В этом процессе у Бжезинского было одно важное преимущество. Он, в отличие от Картера и Вэнса, умел рассматривать международные события в стратегическом и историческом контекстах, придававшим значение тому или иному решению; при этом Бжезинский также показывал Картеру, как отдельные решения согласуются друг с другом. Недостаток Вэнса, как и Картера, заключался в том, что он был человеком более спокойным и более либеральным и предпочитал работать над одним вопросом в отдельный промежуток времени.
Иногда Картера беспокоили слухи о стычках между Вэнсом и Бжезинским, но он был настолько уверен в том, что последнее слово остаётся за ним, что не беспокоился всерьёз об общественном мнении и не старался на него повлиять. Это оказалось политической ошибкой.
Во-вторых, вопреки распространённому мнению, неудачи администрации – например, задержка в переговорах по ОСВ-2, неудача с шахом в Иране, подъём сандинистов в Никарагуа – не были результатом провалов профессионалов или разногласий между ними, но следствием упорного сопротивления Советского Союза идее более масштабного сокращения вооружений или внутренних проблем Ирана и Никарагуа.
Бжезинского несправедливо обвиняли в охлаждении американо-советских отношений из-за того, что администрация отвергла владивостокское предложение Киссинджера по ОСВ-2 в пользу более широкого контроля над вооружениями и публично критиковала репрессивную политику СССР и его вмешательство в дела Африки. Изначально Бжезинский предлагал более скромное сокращение вооружений; именно Картер настаивал на большем. В конце концов Картер во время своей избирательной кампании выступал не только против Джеральда Форда, но и чрезмерно осторожной дипломатии Генри Киссинджера, обещая избирателям более смелую политику и уничтожение ядерного оружия. Поэтому для советского руководства не должно было стать сюрпризом сделанное Картером предложение о масштабном сокращении ядерных арсеналов обеих стран. Тем не менее советский лидер Леонид Брежнев удивился, или сделал вид, что удивлён, и отклонил это предложение, замедлив тем самым процесс переговоров. (Панама же, напротив, горячо приветствовала инициативу Картера, и поэтому договор о Панамском канале стал основным вопросом в повестке дня сената). Возможно, Брежнев с коллегами ошибочно предположили, что, отклонив первоначальное предложение Картера, они заставят Соединённые Штаты умерить пыл и согласиться на более скромное предложение Москвы.
В-третьих, наиболее важные перемены во внешнеполитическом курсе администрации второй половины срока вызваны не относительным влиянием Бжезинского, а переменой самой обстановки, в частности вмешательством СССР и Кубы и падением некоторых режимов третьего мира. Администрации Картера определённо приходилось реагировать на требующие твёрдой реакции глобальные вызовы – например на явные попытки Москвы испытать решимость Америки. Некоторые критиковали Бжезинского за то, что он заставлял Картера высказывать критические замечания, например по поводу советско-кубинских вторжений[181], но документы Совета национальной безопасности доказывают, что президент Картер сам выступал с инициативой таких высказываний. Испытывая недовольство от того, что Государственный департамент не выполняет его требований и не высказывается на эти темы, Картер даже поощрял действия Бжезинского. Разумеется, тому не требовалось особого приглашения.
Что касается советско-кубинского вмешательства в дела Африканского Рога, то все три главных лица, определявших внешнюю политику, имели разные мнения на этот счёт. Как и Вэнс, Картер хотел, чтобы США играли в Африке ключевую роль, проводя переговоры о мире и о политическом переходе в Зимбабве, Родезии и Южной Африке. Но при этом Картер, как и Бжезинский, считал, что советско-кубинское военное вмешательство мешает этому процессу. Бжезинского гораздо больше заботили геополитические последствия: если Советский Союз не заплатит за военную интервенцию, то, по мнению Бжезинского, это подтолкнёт его к вторжению в другие регионы. Точно так же, по Бжезинскому, вторжение СССР в Афганистан произошло, отчасти, из-за того, что США не нашли эффективного способа сдержать Советский Союз во время войны за Огаден 1977–1978 годов между Сомали и Эфиопией. Картеру нравилась идея повышения ставок для Советского Союза, но он не думал, что отослать авианосец к берегам Африканского Рога, как предлагал Бжезинский, будет таким уж эффективным шагом. Картер опасался, что это усилит ожидания возможного военного разрешения конфликта, который в то время никак не входил в планы США.
Как и Вэнс, Картер хотел заключить договор по ОСВ и стремился к хорошим отношениям с Советским Союзом. Но, как и Бжезинский, Картер понимал, что для того чтобы убедить сенат и широкую публику в необходимости довести переговоры по ОСВ до конца, нужно представить это дело как противостояние Советам. Для этого он должен был публично осудить их за нарушение прав человека и политику вмешательства в дела других государств. (Со временем Бжезинский выработал лучшее чутьё по поводу того, что необходимо и что возможно с политической точки зрения; в этом его учителями были некоторые политические советники Белого дома, в частности Гамильтон Джордан.) В любом случае политика Картера сочетала в себе элементы обеих точек зрения, но отличалась своей логикой.
В конце 1970-х годов могло показаться, что политика Советского Союза находится на подъёме и что он начинает играть примерно такую же глобальную роль, что и Америка до Вьетнама. Американцы вполне справедливо были озабочены (если не возмущены) растущей активностью СССР и Кубы в Африке, вьетнамским вторжением в Камбоджу и наращиванием советского арсенала ракет в Восточной Европе. Такое беспокойство обострило разрыв между Вэнсом и Бжезинским во время искусственного кризиса после «обнаружения» советской бригады на Кубе в сентябре 1979 года. Кризис был искусственным, поскольку бригада находилась на Кубе ещё с Карибского кризиса 1962 года и представляла угрозу разве что предполагаемому нейтральному статусу Кубы. Но прежде чем администрация успела разъяснить этот вопрос, информация просочилась в прессу, а сенаторы Фрэнк Чёрч и Генри Джексон «Скуп», представляющие спектр Демократической партии, заявили, что договор по ОСВ не будет ратифицирован, пока бригада не покинет Кубу. Конечно же, СССР не собирался отзывать своих военных, которые находились там семнадцать лет, так что администрация оказалась в ловушке. Вэнс и Бжезинский оба хотели спасти договор по ОСВ, но Вэнс считал, что для этого лучше замять инцидент, а Бжезинский считал, что администрация должна занять более жёсткую позицию по отношению к СССР. Картер согласился с некоторыми рекомендациями Бжезинского, но пока он пытался довести процесс до конца, Советский Союз, сочтя, что договор всё равно не будет ратифицирован, почувствовал, что ничто не мешает ему осуществить вторжение в Афганистан. Именно этот эпизод, как ничто другое, привёл к обострению холодной войны.
В-четвёртых, холодная война возобновилась не вследствие ухудшения отношений между Вэнсом и Бжезинским. По существу, в первые два года администрации между Вэнсом и Бжезинским не наблюдалось серьёзных разногласий, и они более или менее соглашались по большинству внешнеполитических вопросов. Разногласия проявились по мере обострения холодной войны – начиная с Африки и достигнув пика после обнаружением советской бригады на Кубе и во время вторжения в Афганистан. Разворот во внешней политике США произошёл не потому что Бжезинский перехитрил конкурента, а потому что Картеру нужно было адаптироваться к меняющейся ситуации в мире и проявлять больше напора. И в самом деле, после советского вторжения в Афганистан время переговоров прошло. Когда Вэнс постарался возобновить их, советский министр иностранных дел Андрей Громыко даже не захотел с ним встречаться.
Президент Картер понимал, что как по стратегическим, так и по политическим причинам Соединённые Штаты должны проявлять более жёсткую политику в отношении СССР. Со стратегической точки зрения вторжение в Афганистан ставило такие вопросы, как, например, осуществит ли Советский Союз экспансию в Персидский залив, – и администрация ответила на них доктриной Картера, ставящей чёткие границы. С политической точки зрения, поскольку большинство американцев понимали опасности расширения советской зоны влияния, Картер, имевший репутацию «мягкого» политика, чтобы вернуть себе общественную поддержку, должен был ответить достаточно жёстко. Вот почему Картер склонился в сторону более решительной политики, которую проповедовал Бжезинский. Вэнс, человек, убеждённый в американском превосходстве, верил в необходимость более примиренческого подхода.
В конечном счёте переход США к более «ястребиной» политике в конце 1970-х годов произошёл вследствие растущей агрессивности Советского Союза, а не из-за взглядов Бжезинского. Президент Картер реагировал на значительные перемены в мире, а не на убеждения своего советника по национальной безопасности. Любопытно, что если раньше республиканцы обвиняли Картера в слабости и нерешительности, то демократы критиковали Бжезинского, как упорствующего в своих взглядах бойца холодной войны. В обоих случаях пропасть между правдой и вымыслом – между реальностью и карикатурой – весьма велика.
Глава 7. Ближневосточные вопросы
Уильям Б. Куандт
Я познакомился с Бжезинским в середине 1974 года. Мы оба входили в исследовательскую группу, изучающую возможные стратегии США в арабо-израильском конфликте в предстоящие годы. Мы с ним, можно сказать, были настроены на одну волну. Мы считали, что пошаговая дипломатия Генри Киссинджера исчерпала себя, что Америка должна занимать более решительную позицию и что палестинский вопрос следует решать в политическом ключе, а не только как гуманитарную проблему беженцев. Как и в наше время, это был весьма щекотливый вопрос, но тогда между обсуждающими наблюдалось меньше разногласий и пристрастности.
В результате дискуссий в декабре 1975 года вышла небольшая публикация под названием «К миру на Ближнем Востоке», или «Брукингский доклад». Она призывала к комплексному решению арабо-израильского конфликта при активном содействии США и предполагала создание палестинского государства в результате переговоров. Не могу утверждать, что это совместное мероприятие нас со Збигом сильно сблизило, но я видел, что он неплохо разбирается в моём регионе – Ближнем Востоке, серьёзно относится к национализму, умеет выразить суть дискуссии и обладает даром чётко обозначать точки соприкосновения всех членов группы.
Примерно через год Збиг неожиданно позвонил мне и спросил, не хочу ли я поработать под его началом в Совете национальной безопасности (СНБ) в качестве специалиста по Ближнему Востоку. (Я работал заместителем в этом Совете при Киссинджере с 1972 по 1974 год.) Я попросил время на размышления. Со своей типичной прямотой он сказал, что не против, чтобы я подумал, но предложил мне высказаться по поводу других кандидатов на эту работу. Не такой уж хитрый приём, но он сработал. Через неделю я уже находился в составе Совета. К тому времени я ещё не встречался с недавно избранным президентом Картером и не предполагал, что его вообще интересует арабо-израильский конфликт.
Я навсегда запомнил свой первый рабочий день, 21 января 1977 года, и тогда же я понял, что со Збигом стоит работать. В какой-то момент он позвонил мне и сказал, что в его кабинете сидит сенатор Ричард Стоун (демократ из Флориды), который хочет поговорить со мной. Я тут же прошёл в кабинет. Бжезинский сказал, что ему необходимо встретиться с президентом, извинился и вышел, оставив меня наедине со Стоуном и в полном неведении относительно того, что происходит. Оказалось, что Стоун попросил Бжезинского уволить меня из-за моих «противоречивых» взглядов на арабо-израильский конфликт. Бжезинский предложил Стоуну поговорить со мной, и так я оказался наедине с сенатором.
Вооружившись целой кипой бумаг, Стоун начал расспрашивать меня о том, что я имел в виду в 1975 году, когда сказал, что «палестинский вопрос следует решать посредством переговоров» в дополнение к моим другим странным предложениям. Я так понял, что у него достаточно материалов, чтобы «дисквалифицировать» меня. Но пока мы говорили, он постепенно смягчался и наконец заявил, что «со мной можно работать». Потом он добавил: «У меня тут список других людей в администрации, взгляды на Израиль которых неприемлемы. Вам с Бжезинским нужно с ними что-то сделать!» С этими словами он вышел, и почти немедленно вернулся Бжезинский.
«Ну, как прошла беседа?» – поинтересовался он. Я рассказал и спросил, что мне делать с длинным списком, который мне дал Стоун. «Выкинуть в корзину», – ответил Бжезинский. Тогда-то я и понял, что не прогадал, согласившись работать с ним.
Эта история имела продолжение, о котором тоже стоит упомянуть. Несколько месяцев спустя на первой полосе «Вашингтон пост» вышла статья «Чёрный список сенатора Стоуна», достаточно чётко излагающая происшедшее и изображавшая Стоуна едва ли не маккартистом. Разъярённый Стоун позвонил Бжезинскому и потребовал опубликовать опровержение. Бжезинский выразился в том духе, что он и рад бы опровергнуть историю, но проблема заключается в том, что это правда. С тех пор мы мало слышали о сенаторе Стоуне.
Что же до главной темы, то арабо-израильский конфликт действительно волновал как Бжезинского, так и Картера. Они с неподдельным интересом изучали аналитику и все данные, и я каждый день отсылал им записки и доклады. Картер предпочитал получать информацию в письменном виде, а Бжезинский, хотя и умел читать быстро, вычленяя нужные детали, иногда предпочитал обсудить вопросы в беседах. Он держался по-деловому, быстро приходил к выводам, но был готов выслушать иные точки зрения. С государственным секретарём Сайрусом Вэнсом у них были кое-какие трения, но не относительно моей темы. Разработав для Картера общую стратегию для этого региона, Бжезинский оставил повседневную дипломатию на попечение Вэнса. Но всякий раз, как мы натыкались на какое-нибудь препятствие – а таких случаев было немало, – Збиг приходил нам на помощь.
Когда в сентябре 1978 года мы все отправились на саммит в Кэмп-Дэвиде, он понимал, что ставки очень высоки. Картер во что бы то ни стало хотел добиться соглашения; Вэнс был настроен более осторожно. Мне кажется, я не погрешу против истины, если скажу, что израильский премьер-министр Менахем Бегин считал, что мы ему в Кэмп-Дэвиде готовим своего рода ловушку. В любом случае он слышал много негативных отзывов о Бжезинском и обо мне. Еще с «Брукингского доклада» многие израильтяне воспринимали нас как сторонников палестинцев. И я подозреваю, что некоторые израильтяне полагали, что Збиг, будучи поляком, разделяет антисемитские взгляды, что, разумеется, было неправдой. Но Бегин вёл себя как старомодный джентльмен, всегда вежливо и обходительно. В самый разгар напряжённых переговоров они со Збигом решили сыграть в шахматы. Бегин изображал из себя любителя, но на самом деле играл довольно хорошо, и я сделал памятную фотографию, на которой эти волевые личности, оба выходца из Польши, смотрят на шахматную доску и размышляют, как победить соперника. Не помню, кто тогда победил, но я точно помню, что Бегин в Кэмп-Дэвиде, несмотря на все его жалобы на нашу предвзятость и на то, что с ним поступают нечестно, очень уверенно и стойко защищал свои взгляды и позиции Израиля.
Вскоре после прорыва в Кэмп-Дэвиде резко ухудшилась ситуация в Иране. К счастью для меня, Ираном заведовал мой друг и коллега Гэри Сик. Но из-за Иранской революции нам стало труднее доводить до конца соглашения между египтянами и израильтянами.
В марте 1979 года Картер решил отправиться на Ближний Восток, чтобы обеспечить заключение договора. Перед этим он отправил Збига на встречу с Садатом. Вэнсу это пришлось не по душе. Я не сопровождал Збига в этой поездке, но знаю, что во многом именно благодаря ему через несколько дней, когда в Египет приехал Картер, Садат согласился с нашим окончательным предложением. Того же нельзя сказать в отношении Израиля, поездка в который состоялась несколько дней спустя. Бегин, похоже, совсем не хотел подписывать какое бы то ни было соглашение с Египтом, по крайней мере на тот момент. Это были очень напряжённые дни, и мы постоянно спорили над каждым словом и над каждым дополнительным соглашением. Мы со Збигом были уверены, что Бегин хочет стать свидетелем провала Картера, и это могло быть правдой. Но другие представители кабинета Бегина – особенно Моше Даян и Эзер Вейцман – не были готовы к тому, чтобы мы покинули их с пустыми руками, и в конце концов мы всё-таки получили от Бегина то, что нам было нужно. Это был драматический процесс, и Бжезинский сыграл в нём ключевую роль, доведя его до того, что Бегин и Садат подписали мирный договор.
Несколько месяцев спустя я решил покинуть СНБ. На первый план выходили вопросы перевыборов, и администрация не могла уделять достаточное внимание тому, как в Кэмп-Дэвиде идут дела на палестинском фронте. Вэнс устранился от этого вопроса, и палестинским досье занялся политик-ветеран Роберт Страусс. Мне не хотелось провести следующие полтора года где-то на втором плане. Збиг попытался уговорить меня остаться, но, мне кажется, он и сам понимал, что нам за один срок удалось совершить столько всего, что вряд ли нас ожидают какие-то ещё достижения. В то же время решение об отставке приняли ещё два-три члена СНБ. Неподражаемый Билл Сэфайр из «Нью-Йорк таймс» громко объявил об этом на весь мир в статье «Крысы покидают тонущий корабль».
Работая со Збигом, я почти всегда ощущал, что все его суждения по поводу арабо-израильского конфликта были ясными, чёткими и всегда основывались на представлении об американских национальных интересах. Мне никогда не казалось, что он предвзято высказывается против Израиля, хотя политика и педантичная манера Бегина часто доводили нас до отчаяния. В целом мне кажется, что в 1978–1979 годах Картер, Вэнс, Бжезинский и все остальные из нашей небольшой команды прекрасно понимали, почему так важно решить арабо-израильский конфликт. В Кэмп-Дэвиде мы справились неплохо, но все сожалели, что не добились большего. Продвинься мы дальше на палестино-израильском фронте, этот регион сейчас был бы совершенно другим, а интересы Америки были бы защищены гораздо больше. Что же касается Збига, то он продолжил выступать на эту тему и после того, как стал частным лицом, и все его выступления отличались удивительной ясностью и смелостью.
Глава 8. Работа и отдых в СНБ
Роберт Хантер
Совет по международным отношениям, беседа с бывшим президентом Джимми Картером, 1981 год
(Недружелюбно настроенный корреспондент): Мистер президент, почему вы всегда отдавали предпочтение доктору Бжезинскому перед государственным секретарём Вэнсом?
(Президент Картер): Потому что за вечер Бжезинский отсылал мне с десяток идей, а от Госдепартамента я получал хорошо если одну идею в месяц.
В этой цитате главный смысл того переломного момента в истории – или, возможно, в комическом представлении, – который представляла собой борьба между Советом национальной безопасности (СНБ) во главе с Бжезинским и Государственным департаментом, возглавляемым Сайрусом Вэнсом – борьба, возможно, не оконченная до сих пор. Я не беспристрастный наблюдатель. Я был свидетелем того, как Збиг работал во время нашей неудачной кампании Хьюберта Х. Хамфри в 1968 году, а также в качестве его подопечного занимался делами Западной Европы и Ближнего Востока в администрации Картера на протяжении всего его срока, кроме двух часов двадцати минут. Верно и то, что я позже работал с Саем Вэнсом, которым также восхищался.
Приведённое выше высказывание Картера во многом объясняет мою пристрастность: Збиг прежде всего ценил в человеке талант, какую бы должность тот ни занимал, в правительстве или вне правительства, не терпел невежества и дураков и стремился окружать себя талантами. Поэтому, можно сказать, наш состав СНБ был самым разношёрстным за всю его историю. Со временем Бжезинский сформировал целую сеть связей из тех, кто мог бы прийти на помощь ему, как помощнику и правой руке президента. По сравнению с той командой все последующие составы СНБ кажутся довольно тусклыми. И в самом деле, сравнить её можно было разве что с командой Киссинджера – такой же малочисленной, состоявшей из профессионалов, настроенных на рабочий лад и нацеленных на долгосрочные стратегические решения. Это были первоклассные представители аппарата Белого дома по национальной безопасности в эпоху расцвета Америки как сверхдержавы.
Важно и то, что Бжезинский уважал взгляды других людей, часто вынужденных отстаивать свое мнение под градом его острых, часто резких замечаний и вопросов. Настоящей демонстрацией его беспристрастного подхода к различным проблемам были дебаты членов Совета, в которых приходилось отчаянно бороться буквально по каждому пункту, а после выходить из кабинета, в отчаянии качая головой. Затем дня через два Збиг обычно повторял слово в слово «прошедший проверку на прочность» анализ своих коллег президенту, сенатору или иностранному дипломату, что для нас было величайшим комплиментом! Со временем его доверие к нам настолько возросло, что он отправлял наши заметки непосредственно президенту, почти не редактируя их, – тому самому президенту, который читал каждое предложение, каждое слово в предоставляемых ему записях (и не терпевшему пунктуационных или логических ошибок).
Каждый вечер мы должны были отсылать Збигу отчёт в письменном виде (электронной почты тогда не было) о том, что сделали за день, вместе с предложениями, которые он мог бы представить президенту. Мы должны были во всех подробностях описывать наши разговоры с представителями других стран и журналистами, но он никогда не запрещал нам разговаривать с кем-либо или затрагивать какие-либо темы. Мы пользовались его доверием, а он рассматривал все наши предложения и тем самым расширял свои собственные взгляды, и это было очередным шагом по построению взаимного доверия в команде. Также он время от времени брал нас с собой на небольшие встречи с президентом – не на официальные совещания в Зале Кабинета, а более личные – и иногда даже оставлял нас с президентом наедине.
Все знают – или думают, что знают, – о титанической борьбе Збига с Госдепартаментом по поводу политики в отношении СССР. Согласно распространённому мнению, поддерживаемому чиновниками среднего звена из других министерств (но никогда самим Вэнсом), это было своего рода противостояние ангелов с Люцифером. Я однажды даже предложил, что было бы неплохо, если бы Збиг и Сай поменялись текстами своих докладов по советской политике, чтобы проверить, вызовут ли слова Сая (из уст Бжезинского) такую же критику со стороны сторонников Государственного департамента и настроенных положительно к нему средств массовой информации. Конечно, надеяться на такую бюрократическую игру в реальности было бы напрасно, но это был интересный мысленный эксперимент.
Один из типичных эпизодов этой борьбы касался несравненного Роберта Страусса, эмиссара президента на арабо-израильских переговорах. Збиг составил инструкции для Страусса, отнёс к президенту на подпись и поручил мне передать их Страуссу непосредственно перед отправкой самолёта на Ближний Восток. Страусс пришёл в ярость от мысли, что кто-то смеет давать ему «инструкции», и чётко выразил своё недовольство, как мог только он сам. Перед следующим нашим визитом в регион Збиг вызвал меня в свой кабинет и передал запечатанный конверт со всеми возможными секретными штемпелями и печатями, известными правительству США или любой другой страны. «Передайте это Страуссу, только когда уже будете в воздухе», – сказал он, и я поступил так, как было сказано. Страусс побагровел и удалился в отдельную кабину, чтобы вскрыть конверт. «Дорогой Боб, – было написано в послании. – Приятной поездки!»
Бжезинский также отличался озорным и иногда даже немного злым чувством юмора; некоторые считали, что он порой переходит границы. Достаточно вспомнить его фразу «Прощай, ООП!» (которая до сих пор наживает ему недругов из числа сторонников Израиля); его выстрелы из автомата Калашникова в Пакистане по направлению оккупированного Советским Союзом Афганистана; или его жёсткую критику одного своего подчинённого за предполагаемый недостаток усердия в отношении индийского субконтинента – в качестве наказания он сделал этого человека ещё и ответственным за Южный конус Латинской Америки. Мой коллега тогда ещё шутил: «Ах, теперь я отвечаю за все направленные вниз треугольники». Или его странный вопрос, заданный польскому премьер-министру в Варшаве: «Если бы вам предстояло воевать сразу с Россией и Германией, с кем бы вы сразились в первую очередь? Конечно же с Германией, ведь сначала дело, а потом удовольствие». Когда Картер с нашей небольшой командой встречался с немецким канцлером Гельмутом Шмидтом в лондонской резиденции американского посла, Збиг приглушённым голосом спросил президента: «Вы заметили, что Шмидт носит ботинки на высоких каблуках?» «Я заметил», – сухо ответил Картер. Позже в тот же день Маргарет Тэтчер, недавно назначенная лидером британской Консервативной партии, позвонила и сказала: «Ах, доктор Бжезинский, я провела этот вечер за чтением всех ваших книг». Збиг был доволен.
За пределами рабочего места Збиг любил играть с президентом в теннис, сражаясь за каждое очко (сам Картер тоже не мыслил игру иначе). Также он поддерживал доверительные отношения с римским папой, тоже поляком по происхождению, и даже знал частный номер телефона Его Святейшества в Ватикане. Я имел честь составлять черновики писем Картера к папе; президент заканчивал их словами: «Ваш во Христе».
Что касается личных отношений с членами СНБ, то у них не было таких проблем, какие казались бы Збигу слишком большими или слишком незначительными. Мы часто отдыхали вместе и собирались по любому возможному поводу, чтобы расслабиться после чрезмерного напряжения на работе. Он устраивал пикники у своего дома в Вирджинии. Это был человек безупречных европейских манер. На следующий день после званого обеда в его честь в моём доме он позвонил и поблагодарил хозяйку дома, мою жену, с которой мы вместе прожили уже тридцать два года. Его коллеги пришли в восхищение от того, что такой начальник находит время на то, чтобы лично сказать «спасибо». И ещё долго после того, как нас сменили люди Рейгана, мы часто обедали вместе, обсуждая различные вопросы, или отмечали Новый год у него дома.
Достижения? Вот лишь небольшой список: обновление отношений с Китаем, произошедшее, по сути, благодаря СНБ, хотя многие, как обычно, ставили это в заслугу себе; доктрина Картера; договор о Панамском канале; саммиты НАТО; суть Кэмп-Дэвидских соглашений; огромный шаг вперёд в отношениях с европейским сообществом; саммиты «Большой семёрки» и т. д., и т. п. Всё это сделали Збиг и его немногочисленная команда профессионалов, специалистов по различным географическим и функциональным сферам; на наши плечи ложился огромный груз работы, но вместе мы выдавали большое количество идей «президентского качества».
Разочарования? Худшее заключалось в невозможности договориться об освобождении заложников в Иране и в том, что их освободили уже после того, как Картер оставил должность. В этом деле были свои странные эпизоды: так, например, Збиг однажды поручил мне найти частные фонды для покупки оригинала письма пророка Мухаммеда, чтобы предложить его аятолле в обмен на американских заложников (письмо оказалось подделкой).
Збигнев Бжезинский, руководитель СНБ, запомнился мне как патриот, виртуозный мастер воплощения идей в политике, как новатор, признающий вклад других, как замечательный начальник и чудесный друг. И, возможно, наивысший комплимент, какой я могу сказать в его адрес, это, как выражаются во флоте США: «BZ, ZB!» (BZ = Bravo Zulo или «Молодец!»).
Глава 9. Вечерний отчёт
Джеймс Томсон
Когда Збигнев Бжезинский и его заместитель Дэвид Аарон в начале 1977 года пригласили меня к себе, я работал в Пентагоне аналитиком по оборонной политике и связанным с Европой программам. Казалось, они захотели взять кого-то, кто разбирался бы в политике и имел опыт в текущих бюрократических войнах. Для меня их приглашение было неожиданной честью, и я сразу же принялся за работу.
Через пару недель я напомнил о том, что вообще-то я зарегистрированный республиканец. Раньше я был демократом, но сменил партию, чтобы проголосовать на республиканских праймериз 1976 года. Формально я оставался республиканцем и признался в этом Збигу под конец одного коллективного совещания. «Чем меньше разговоров об этом, тем лучше», – дал он мне совет и продолжил говорить о другом. Тогда было другое время. Перед тем, как нанимать меня, никто не проверял мою партийную принадлежность, и, казалось, никого это не заботило – по крайней мере в Совете национальной безопасности.
В Вашингтоне полным-полно интеллектуальных задир, повышающих голос на коллег и подчинённых, – в Пентагоне я навидался их достаточно. Но Збиг точно не был одним из них. Он был вежливым и учтивым. Но его острый ум и быстрый язык иногда пугали, и я, по крайней мере на первых порах, опасался ему перечить. Однажды, когда я предположил, что Соединённые Штаты могли бы сделать предложение – сократить ядерный арсенал в Европе в обмен на отвод советской танковой армии из Восточной Германии, он отрезал: «Танки это ерунда» таким тоном, каким обычно не говорят о боевых танках. Один коллега сказал, что его трудно заставить передумать во время совещания, разве что в разговоре наедине, и что ему лучше отправить записку, что я и сделал. На следующий день она вернулась вся в пометках, а это означало, что он прочитал её и согласился с доводами.
Однажды утром, скорее всего в конце 1978 года, меня срочно вызвали к Збигу. Он сидел в кабинете Дэвида Аарона с обеспокоенным видом. Он только что поспорил с президентом по поводу того, что тот собирается повысить расходы НАТО в оборонном бюджете на три процента. Збиг напомнил, что президент сам сделал такое обещание. Президент ответил: «Если ты мне это докажешь, Збиг, я поцелую твою задницу». Збиг хотел, чтобы я собрал для него материалы. К сожалению, оказалось, что президент прав – по крайней мере технически, если не политически. Такое заявление сделал министр обороны Гарольд Браун, а не сам Картер, который ничего не заявлял и не подписывал никакого коммюнике по этому поводу. Збигу это не понравилось, и он попросил меня вернуться в мой кабинет и собрать все необходимые материалы. Я сказал, что отправлю ему записку. Она вернулась с галочкой «отмечено». О том, что кто-то кому-то поцеловал задницу, я больше не слышал, и вряд ли это имело место.
Мозг Збига обладал удивительной способностью воспринимать огромное количество информации в письменном виде. Все сотрудники Совета (а их было тридцать с небольшим человек) каждый вечер отправляли ему отчёты, которые возвращались утром с пометками и иногда с вопросами или предложением позвонить ему или встретиться с ним. Позже, когда я сам возглавил большую команду, я понял, насколько важную роль в его системе управления играли вечерние отчёты.
Например, я одобрил инициативу Пентагона и Госдепартамента провести переговоры по ротационному размещению самолётов KC-135 ВВС США на базе Королевских ВВС (Великобритании) в Гринэм-Коммон, в городке неподалёку от Лондона. Тогда по этому предложению шли споры, но американские и британские дипломаты сказали, что Королевские ВВС заручились поддержкой политиков. Но это было совсем не так! Когда ошибочность этого размещения стала очевидной, обитатели Гринэм-Коммон потянулись в Белый дом с протестами. Политические советники президента хотели узнать, кто одобрил развёртывание самолётов с крылатыми ракетами. Збиг ответил просто «мы», а не «мои подчинённые». Другими словами, он взял всю вину на себя, а не указал на меня или на каких-то анонимных «подчинённых». Таким вот руководителем он был. Он прекрасно понимал, что самое важное в работе начальника – это назначать людей и делегировать им полномочия. Но в обмен на это он ожидает своевременного информирования. Если подчинённые регулярно информируют своего начальника (как это делал я посредством вечерних отчётов), то коллектив выполняет свою часть сделки. Часть сделки начальника – это поддерживать и защищать своих подчинённых, что бы ни произошло.
Работать на такого человека, в высшей степени принципиального и обладавшего большим интеллектом, было для меня честью. Это были трудные, но очень насыщенные и продуктивные четыре года. Мы все задерживались допоздна, но никто не работал так усердно, как сам Збиг. В один из последних наших общих рабочих дней, я признался ему, что благодарен за предоставленную им возможность послужить моей стране.
Часть III. Политический проповедник
Глава 10. Бжезинский, папа и «заговор» по освобождению Польши
Патрик Воган
Холодным и снежным январским утром 1978 года Збигнев Бжезинский прибыл в Белый дом ещё до рассвета. Всю ночь он читал телеграммы с донесениями и иностранные газеты, подчёркивая темы, которые хотел бы затронуть во время своего выступления на ежедневном президентском брифинге, посвящённом внешней политике. В это утро он был посвящён состоявшемуся недавно визиту Картера в Польшу. Поездка прошла хорошо. Польша переживала тихую революцию, и заявленная Америкой поддержка защиты прав человека воодушевляла набиравшую силы оппозицию.
Бжезинский подготовил визит Картера в Варшаву, чтобы продемонстрировать, что президента интересует не только коммунистическое правительство, но и общество Польши. Президент возложил венок на могилу Неизвестного польского солдата и у монумента Армии Крайовы, посетив тем самым два объекта национальной гордости поляков. Были явные признаки того, что молодые поляки воспринимают американского президента как символ борьбы за права человека. Одна из групп прорвала заграждения полиции, выкрикивая: «Картер! Картер! Спаси нас!» Тем временем Бжезинский договорился о личной встрече с кардиналом Стефаном Вышиньским в его резиденции католического примаса Польши. После войны Вышиньский стал символом польского национального самосознания и сопротивления советскому империализму. Во время встречи Бжезинский также узнал много нового о польских «летучих университетах» – так называлась неофициальная система высшего образования, в которой читались лекции по запрещённым темам, включая историю борьбы Польши за независимость от Российской империи и советскую оккупацию после Второй мировой войны.
Такая демонстрация гражданского неповиновения представляла особую проблему для коммунистического руководства. На той же неделе, например, полиция разогнала дубинками собравшихся на лекцию диссидента Адама Михника. Но через несколько часов запись выступления передали по радио «Свободная Европа» (RFE) для ещё большей аудитории.
Бжезинский считал RFE очень полезной. В Белом доме он ратовал за увеличение охвата сети из пяти станций, вещающих на страны Восточного блока на их национальных языках. Бжезинский говорил Картеру, что радио – это бесценное оружие холодной войны, в которой идеи столь же важны, как и баллистические ракеты с реактивными самолётами. И это несмотря на то, что в начале 1970 года американские сенаторы, помимо прочего, назвали RFE «пережитком холодной войны».
Кардинал Кароль Войтыла, впоследствии архиепископ Кракова, был одним из миллионов поляков, слушавших RFE каждое утро. Когда много лет спустя один диктор польской службы захотел представиться Войтыле, кардинал сказал, что узнал его по голосу: «Я слушал вас по утрам во время бритья».
Во время Второй мировой войны и нацистской оккупации Польши Войтыла скрывался в архиепископском дворце. После окончания войны, во время советской оккупации он стал известной фигурой в римской католической церкви. Он увлекался лыжами и альпинизмом, общался с поэтами и интеллектуалами в среде католической интеллигенции. В августе 1976 года Войтыла посетил Соединённые Штаты, где участвовал в международном Евхаристическом конгрессе, на котором присутствовал и Бжезинский. Войтыла прочитал речь о материалистическом характере марксизма и капитализма, утверждая, что только христианская духовность сможет справиться с отчуждением в современном мире. На приеме после лекции состоялась его краткая беседа с Бжезинским, которого поразили его интеллект и спокойная сила.
Два года спустя, в октябре 1978 года, когда Бжезинский уже занимал пост советника по национальной безопасности при Картере, его давняя ассистентка Труди Вернер вошла в кабинет и спросила: «Слышали? Выбрали нового папу. И он поляк!» За несколько часов до этого на площади Святого Петра в Риме конклав кардиналов выбрал кардинала Кароля Войтылу, архиепископа Краковского, папой Иоанном Павлом II. Эта новость, казалось, озадачила многих, кто ждал решения конклава. Как это возможно? Иоанн Павел II стал не только первым папой неитальянского происхождения за 455 лет, но и первым представителем коммунистической страны. В Польше жители выходили на улицы городов, распевая патриотические песни и религиозные гимны. И почти никто не сомневался в том, что папа-поляк окажет значительное влияние на политическую ситуацию в Польше, да и, возможно, на ситуацию в соседних странах. В конце концов, он на личном опыте знал слабости тоталитарных систем и знал, как с ними сражаться. «Перед нами человек, который действительно знает, что такое несвобода, – заметил один дипломат в Риме, услышав новость. – Конечно, наши итальянские кардиналы люди замечательные, но никто из них никогда не был внутри тюрьмы»[182].
Советское руководство, разумеется, было встревожено. Давно прошли времена, когда Сталин с презрительной усмешкой спрашивал: «А сколько дивизий у папы римского?» Согласно распространённому в 1970-е годы выражению, ответ, можно сказать, витал в воздухе. Стареющие кремлёвские руководители, с волнением управлявшие беспокойной империей, понимали, что им придётся столкнуться с новой неблагоприятной реальностью; в конце концов Россия старалась контролировать Польшу еще с конца позднего Средневековья. В недавнее же время спокойная Польша считалась необходимым звеном, поддерживающим связь с 350-тысячными советскими войсками в Восточной Германии.
Глава КГБ Юрий Андропов связался со своими агентами в Варшаве и поинтересовался, что же все-таки произошло. При этом он гневно спросил: «Как вы вообще допустили избрание папой гражданина социалистической страны?» Агенты, по всей видимости, и сами были весьма расстроены, но даже они не имели влияния на Ватикан. Андропов приказал сотрудникам Первого главного управления КГБ составить отчёт, и в этом отчёте утверждалось, что избрание Иоанна Павла II было частью заговора. В частности, согласно отчёту, Бжезинский (вместе с кардиналом Джоном Кролом, польско-американским архиепископом Филадельфии) договорился с Ватиканом о дестабилизации обстановки в Польше и странах Варшавского договора[183].
КГБ не мог предоставить доказательства такого заговора. Но, по сути, в предыдущие два десятилетия Бжезинский как раз занимался тем, что исследовал закрытые системы, образующие советскую систему, и пытался понять, как их подорвать изнутри. Воспользовался ли он подвернувшейся возможностью, чтобы реализовать кое-какие свои планы? Коммунистические системы демонстрировали свою неэффективность. Общественность была деморализована, хотя рабочий класс начинал выражать недовольство коммунистическим правлением. А теперь у поляков появился духовный лидер. «Збиг обсудил это с президентом, и тот был весьма воодушевлён. Они ощутили целую волну перемен в отношениях между Востоком и Западом», – сообщил пресс-службе заместитель Бжезинского Дэвид Аарон. В своей записке Картеру Збиг утверждал, что «избрание папы можно рассматривать как новый этап в защите прав человека. В мире ширится движение за права человека, и вы должны подтвердить, что США являются приверженцами этой идеи».
Бжезинский был членом американской делегации, посетившей церемонию вступления папы в должность в Риме. Он помахал рукой тысячам счастливых поляков, гордо размахивавших бело-красными польскими флагами. Там же он повстречался с кардиналом Агостино Казароли, государственным секретарём Ватикана, которого называли «Киссинджером в рясе». Оба сидели под шёлковым портретом Джимми Картера работы Энди Уорхола и обсуждали возможные последствия избрания папы. Они договорились о создании частного канала общения между Белым домом и Святым престолом. В последующие два года президент Картер и Иоанн Павел II пользовались «ватиканской горячей линией» для обсуждения вопросов веры и поддержки прав человека по всему миру[184].
Бжезинский обдумывал и геополитические последствия происшедшего. За несколько десятилетий до этого, когда он только поступил в монреальский Университет Макгилла, Уинстон Черчилль в своей знаменитой речи заявил о «железном занавесе», нависшем над Восточной Европой. Означало ли избрание папы поворот Польши на Запад или её возвращение к «римской» традиции, и, как следствие, подъём «железного занавеса»? В 1950-х годах Бжезинский написал работу «Русско-советский национализм», где отмечал, что общая красная масса, изображаемая на картах напротив Америки, создаёт иллюзию стабильности Советского Союза. Он утверждал, что Советский Союз представляет собой не единое целое, а бурлящий котёл различных национальностей, объединённых в результате российской экспансии. Теперь же, когда в Ватикане находился папа, казалось вполне вероятным, что автономная Польша сможет стряхнуть советское владычество над Литвой и Украиной, с которыми у нее были давние культурно-исторические связи.
В том же году Советский Союз поддержал Эфиопию в войне с Сомали за Огаден в регионе Африканского Рога. Бжезинский видел в этом далеко идущие последствия: Советский Союз пытался упрочить контроль над ключевыми стратегическими точками вокруг Персидского залива. Вскоре новый папа бросил новый вызов: в июне 1979 года он сообщил, что готов посетить свою родину. Руководитель польской партии Эдвард Герек пытался сообщить советскому руководителю Леониду Брежневу, что у него нет вариантов, кроме того, чтобы принять Иоанна Павла II подобающим образом. «Вот мой вам совет – не принимайте его вообще, от этого у вас будут одни лишь проблемы», – отрезал Леонид Брежнев. Герек настаивал на том, что проигнорировать присутствие папы будет трудно. Неужели Брежнев ожидает, что польское правительство просто проигнорирует визит папы? Брежнев ответил: «Скажите папе – он мудрый человек – чтобы он публично объявил, что не сможет приехать из-за болезни». Герек настаивал на том, что это только оттянет неизбежное. «Ну, поступайте, как хотите. Но смотрите, не пожалейте об этом позже», – подвёл итог Брежнев[185].
В июне 1979 года произошло триумфальное возвращение папы в Польшу. Миллионы поляков пришли увидеть его своими глазами, и ещё больше слушали его выступление по радио. Этот визит был назван «психологическим землетрясением». Папа Иоанн Павел II стал источником морального вдохновения и способствовал грандиозному подъёму национального самосознания поляков в их борьбе с советским империализмом.
После Польши Иоанн Павел II посетил Соединённые Штаты. В сентябре 1979 года он выступил перед миллионами американцев и попал на обложку журнала «Тайм» с заголовком «Иоанн Павел, Суперзвезда». В Вашингтон-Холле он обратился к двумстам тысячам человек с обращением, во многом совпадавшим с призывом Белого дома защищать права человека. Кульминацией визита стала встреча с президентом на северной лужайке Белого дома. Там папа удивил Бжезинского, спонтанно предложив ему и его семье встретиться с ним позже этим же днём в доме нунция. Супруга Бжезинского, Мушка, в спешке попыталась собрать трёх детей-тинейджеров, разбредшихся по всему городу. Старший сын Ян только что вернулся из школьной автобусной поездки за город в Шарлоттсвиль. «Тем вечером я уже собрался пойти на футбол, – вспоминал он позже. – Не успели мы заехать на стоянку, как увидели женщину, бегущую за автобусом на высоких каблуках. К моему разочарованию, это оказалась моя мать». Услышав, что дело не терпит отлагательств и что никакие возражения не допускаются, Ян быстро пригладил волосы и переоделся в чистую рубашку и брюки за ближайшими кустами. Он приехал слишком поздно, и его тут же посадили за стол напротив Иоанна Павла II. «Я понял, что выгляжу настоящим дураком. Мне стало стыдно за то, что я поставил в неловкое положение всю семью», – вспоминал он. Но папа быстро подмигнул ему, словно сообщая, что полностью понимает его. «И мне тут же стало легче на душе. Я физически ощущал, как его присутствие успокаивает меня. Это был настоящий лидер, обладавший даром сочувствия к кому угодно и даром понимания»[186].
Позже тем же вечером Бжезинский и папа побеседовали наедине. Помимо прочего они обсудили Советский Союз и развивающуюся политическую ситуацию в Польше. Когда папа уже готовился к отбытию, он сказал Бжезинскому, что всегда готов принять его и его семью в Ватикане. Советская теория заговора стала своего рода дружеской шуткой. «Вы выбрали меня, а теперь приехали ко мне», – сказал он с улыбкой[187]. Бжезинский осознал ироничность положения. Когда он разговаривал с Картером, часто создавалось впечатление, что он обращается к религиозному лидеру. Но с папой Иоанном Павлом II он разговаривал как с государственным деятелем. «Он и в самом деле [рассматривал вещи в долгосрочной] перспективе – что случится лет через сто, – вспоминал Бжезинский. – Даже когда речь шла о коммунизме. Когда я рассуждал о том, как можно подорвать [систему] в ближайшем будущем, он говорил о долгосрочных тенденциях. Он всегда утверждал, что всё образуется, но меня беспокоило, что он имел в виду сотню лет, а это дольше того, что было важно для меня»[188].
В следующие месяцы из Белого дома приходило мало хороших новостей. 4 ноября 1979 года в Иране толпа захватила американское посольство и взяла в заложники его сотрудников. Через два месяца советские войска вошли в Афганистан. Картер послал Бжезинского в Пакистан, где журналист спросил его, будут ли Соединённые Штаты поставлять оружие афганским повстанцам. «А пакистанцы будут поступать как поляки или как чехи?» – ответил он, объяснив, что во время Второй мировой войны поляки сформировали подпольную армию, боровшуюся как с нацистской Германией, так и с Советским Союзом. Чехи, преданные в Мюнхене, по большей части капитулировали. «Люди, которые полны решимости сражаться за свою свободу, в конечном итоге заслуживают уважение и сочувствие всего мира, и даже нечто большее, – подвёл итог Бжезинский. – Это исторический факт, а не политическое заявление»[189].
На протяжении весны восемьдесят тысяч советских солдат были вынуждены подавлять отчаянное сопротивление яростных моджахедов. Во время Московской Олимпиады в том же году иностранные журналисты впервые услышали о «тысячах» погибших в конфликте, перераставшем в затянувшуюся войну.
1 июля 1980 года польское правительство объявило о повышении цен на продукты питания. В ответ на это по стране прокатилась волна забастовок, и этому способствовали слухи о том, что польское мясо поставляют в Москву для Олимпиады. В тот же месяц посол Польши в США Ромуальд Спасовский получил официальное сообщение из Варшавы о том, что Коммунистическая партия США собирает информацию о Бжезинском – нечто уличающее его в том, что «он или его родственники эксплуатировали крестьян».
Спасовский был убеждённым коммунистом на протяжении многих лет, но в последнее время что-то изменилось. Теперь он сомневался в идеологии, которая некогда так много обещала. Похоже, на него оказывала влияние жена, убеждённая католичка, которую глубоко впечатлило избрание Иоанна Павла II. В ту неделю, например, она настояла на том, чтобы её неверующий муж посетил мессу в соборе Святого Матфея в Вашингтоне.
В конце июля Спасовский договорился о тайной встрече с американским советником по национальной безопасности. Встреча прошла в ресторане «Мэзон Бланш» неподалёку от Белого дома. Бжезинский немного опоздал и прибыл в сопровождении агентов секретной службы; он хотел обсудить ситуацию в Афганистане. «Рассматриваете ли вы возможность того, что Варшава поможет нам найти достойное решение, которое мы сочтем приемлемым?» – спросил он. Он также спросил, сможет ли Герек выступить посредником между Вашингтоном и Москвой. «Увы, нет!» – ответил польский посол и добавил, что такое предложение «вызовет противоположный эффект. Мою телеграмму прочтут в Москве раньше, чем в Варшаве. И Советы сочтут её провокацией. Никакими телеграммами и письмами обмениваться невозможно». «Они читают всё?» – спросил Бжезинский. «Конечно. У них есть прямой доступ ко всей нашей системе связи». – «И как вы намерены поступить?» – спросил Бжезинский. «Я поговорю с Гереком при первой же возможности, – ответил посол. – Единственный вопрос в том, как это обставить». «Мы хотим честного решения, – сказал Бжезинский. – Им нужно предоставить возможность сохранить лицо; для них это важно. Я немного подумаю над этим… А теперь, что касается Польши. Как мы можем помочь Польше?» Польский посол сказал, что правительство всё больше отдаляется от населения.
Уходя, посол упомянул ещё кое о чём интересном: «Американские коммунисты попросили, чтобы мы предоставили какой-то компромат на вас… Я сказал, что мы не собираем информацию о членах американского правительства». «Такова демократия, – заметил Бжезинский, усмехнувшись, – здесь всё возможно». Затем посол раскрыл ещё один секрет: «Когда я был в Варшаве, я узнал, что им известно о ваших телефонных разговорах с Ватиканом. Очевидно, что вы очень много разговариваете с Ватиканом… Я не знаю, как они прослушивают, но они точно прослушивают вас. Я заявляю об этом со всей ответственностью. Будьте осторожны. Это всё». Вскоре посол Спасовский оставил свой пост и поселился в Соединённых Штатах[190].
Тем временем забастовки охватили и судоверфи на Балтийском море. 14 августа 1980 года Лех Валенса взобрался на стену крупной судоверфи имени Ленина. Безработный электрик оказался харизматичной фигурой и вскоре возглавил семь тысяч рабочих, требующих право на образование своих независимых профсоюзов. Чиновники Госдепартамента в Вашингтоне, казалось, хотели избежать очередной конфронтации с Москвой. Главными вопросами, по их мнению, были: «Следует ли нам занимать сторону французских рыбаков в споре в Шербуре?» или «Предполагается ли, что Соединённые Штаты должны высказаться по стальной забастовке в Великобритании?» Бжезинский же стремился к тому, чтобы не подавать СССР даже намёка на нейтральную позицию США. Он доказывал Картеру, что это не просто трудовой спор и что крайне важно обеспечить выживание профсоюза.
Обе стороны в Польше на протяжении двух долгих недель вели переговоры на судоверфи имени Ленина. В конце концов польское правительство согласилось почти на все требования рабочих, включая создание первого независимого профсоюза в коммунистическом мире. Рабочие назвали его «Солидарность».
Но героические рабочие Польши не смогли спасти кампанию Картера, которому бросил вызов республиканец, занимавший более жёсткую позицию в отношении Советского Союза. В ноябре 1980 года победу в президентской гонке одержал Рональд Рейган.
В Вашингтоне беспокоились о том, что Советский Союз может воспользоваться переходным периодом для подавления польского бунта. Бжезинский был хорошо информирован о намерениях СССР. На протяжении десяти лет полковник Рышард Куклинский, офицер по связи между советскими и польскими войсками, передавал ЦРУ невероятное количество секретных документов и сведений о Советской армии. Во время президентского перехода в США в начале 1980 года Куклинский сообщил о признаках того, что Советы готовятся к вторжению в Польшу. Бжезинский посоветовал Картеру избежать любых двусмысленностей и чётко предупредить Москву о недопустимости вторжения. Он составил текст жёсткого предупреждения, которое Картер отправил непосредственно Брежневу по горячей линии Белого дома. «Соединённые Штаты с растущим беспокойством наблюдают усиление советских войск вдоль польской границы», – заявил Картер. В то же время советник по национальной безопасности связался с папой в Ватикане и посоветовал лидерам «Солидарности» предпринять необходимые меры предосторожности. Советский Союз прекратил стягивать войска к границе с Польшей. Москва, очевидно, решила дать новому польскому лидеру Станиславу Кане шанс стабилизировать обстановку. Впоследствии Каня утверждал, что послание Картера сыграло большую роль в предотвращении ввода советских войск. Кроме того, советское руководство с сомнением относилось к идее вторжения в Польшу в то время, когда советские войска увязли в Афганистане.
В 1981 году Бжезинский вернулся к частной жизни преподавателя Колумбийского университета и занял пост в Джорджтаунском центре стратегических и международных исследований (ныне CSIS). Время от времени он выступал, но по большей части работал над мемуарами. «Мне казалось, что моя работа в Белом доме была сродни победе в Ирландском тотализаторе. Мне нравилась каждая минута, но это случается только раз в жизни, а потом заканчивается», – сказал он. В своём офисе он проводил еженедельные неформальные семинары по внешней политике, на которых вместе со своими бывшими коллегами обсуждал главные вопросы дня.
К моменту вступления в должность Рональда Рейгана советско-американские отношения достигли низшей точки за два десятилетия. Рейган инстинктивно шёл на конфронтацию с Советским Союзом и говорил о том, что невозможно установить стабильные отношения с тоталитарной империей. Бжезинский поддерживал жёсткую позицию Рейгана, но также замечал, что помимо увеличения расходов на оборону требуется кое-что ещё. «Не думаю, что у них есть какой-то стратегический план, – говорил он о новой администрации. – Недостаточно просто выкрикивать антисоветские лозунги. Нужно иметь политику». Реальный мир требовал более конструктивного подхода, и особенно это было верно в отношении быстро развивавшейся ситуации в Польше.
С судоверфей «Солидарность» распространила своё влияние по всей стране, и численность этой организации достигла десяти миллионов человек. В марте миллионы польских промышленных рабочих провели четырёхчасовую забастовку в знак протеста против жестоких избиений профсоюзных активистов. Валенса поддержал забастовку, предупредив о том, что если советские войска войдут в Польшу, то «мы можем потерять всё». В мае Иоанн Павел II едва не погиб во время покушения на него в Ватикане. Покушение совершил турок, который, предположительно, действовал по заданию болгарских спецслужб. Бжезинский сказал, что заговор почти несомненно был разработан в КГБ. В то же время его беспокоило то, что администрация Рейгана относится к Польше довольно равнодушно или воспринимает ситуацию в ней как очередной повод для антисоветской пропаганды. С негодованием он следил за тем, как чиновники Рейгана чинят препоны Польше, подавшей заявку на вступление в Международный валютный фонд (МВФ). «Такая односторонняя антикоммунистическая перспектива одновременно трагически ошибочна и слепа к возможностям долгосрочного улучшения отношений между Востоком и Западом, которые заложены в польской эволюции», – писал он.
Ситуация осложнялась и перестановками в польском руководстве. В феврале 1981 года премьер-министром Польши стал генерал Войцех Ярузельский. Его невозмутимое лицо, чёрные очки и строгая осанка делали его весьма загадочной фигурой в глазах западных телезрителей. Зная многих лидеров польской коммунистической элиты, Бжезинский отметил, что Ярузельский отличается от всех остальных. Он родился в семье дворянского происхождения, разделявшей очень традиционные взгляды, и получил иезуитское образование. Жизнь его резко изменилась после вторжения Красной армии в Польшу в 1939 году. Семью сослали в Сибирь, и там Войцех стал приверженцем коммунистических идеалов и вступил в сформированную в СССР польскую пехотную дивизию. Советский Союз он воспринимал как новый тип цивилизации – мощную светскую силу, привносящую индустриализацию и социальную справедливость в отсталую и феодальную Польшу.
Советский Союз наградил Ярузельского за его лояльность. В 1950-х годах он занимал высшие должности в польской армии, что было необычно для эпохи, когда советские руководители доверяли только людям с «правильным» социальным происхождением. «Что же должен был сделать человек с таким происхождением, чтобы его одобрил генерал НКВД? – задавался позже вопросом Бжезинский. – Какого рода испытание он был должен пройти? Ведь требовались не просто слова, а дела»[191]. Ярузельский и в самом деле был преданным исполнителем и военным, поддерживавшим советскую оккупацию Польши. Весь 1981 год он провёл, вынашивая планы введения военного положения и сокрушения «Солидарности».
В то же время администрация Рейгана ожидала масштабного ввода советских войск. Куклинский продолжал отсылать секретные документы в ЦРУ. Но появление новых технологических средств разведки изменило способы получения информации. «ЦРУ утратило веру в свои политические индикаторы, – говорил Ричард Нед Лебоу, профессор, приглашённый в ЦРУ. – Это значило, что оно меньше доверяло чутью людей. И что все большее влияние приобретали люди, причастные к разработке национальных технических средств разведки, но меньше разбиравшиеся в политике». Другой внутренний источник отмечал: «Любая оценка была недостоверной. Они получали противоречивые сообщения. Поэтому им пришлось полагаться на технические источники»[192].
Госдепартамент Рейгана также был склонен недооценивать доклады Куклинского. «В Госдепартаменте считали, что не нужно ничего делать поспешно, пока они не будут точно уверены, – вспоминал сотрудник сенатской комиссии по разведке. – Их даже не обучали политике ожиданий»[193].
15 сентября 1981 года Ярузельский провел секретное заседание, на котором рассказал о планах введения военного положения. Куклинскому удалось передать эти планы до своего последнего доклада, в котором он сообщал, что его раскрыли, и попросил срочной эвакуации в США. Через несколько дней его доставили в Вашингтон и допросили. Ярузельский пришёл в бешенство от такого предательства. Он предположил, что США получили доступ ко всем его планам военного положения, но отметил, что Белый дом не заявил никаких протестов и не предупредил лидеров «Солидарности». «Отсутствие реакции мы восприняли как положительный сигнал, – позже говорил Ярузельский. – Делайте, что угодно, но не нарушайте стабильность в Европе».
В воскресенье вечером, 13 декабря 1981 года Ярузельский ввёл в Польше военное положение. Активисты «Солидарности» были арестованы, все каналы связи перекрыты. В ночное время вводился комендантский час, собрания запрещались. Заснеженные улицы патрулировали танки и военные машины, строго наблюдая за исполнением всех запретов. Ярузельский оправдывал такие жёсткие меры тем, что это «меньшее зло» по сравнению с возможным вводом советских войск и «широкомасштабным экономическим крахом».
Бжезинский читал присылаемые по телеграфной связи невнятные доклады и язвительно называл Ярузельского «польским Квислингом», преследующим скорее интересы Советского Союза, нежели Польши. По его мнению, военное положение просто задерживает неизбежное. События в Польше – это мрачное пророчество для СССР, считал Бжезинский. Империя может распасться в ближайшее десятилетие – скорее всего, из-за националистических вопросов. Через несколько дней после объявления военного положения Бжезинский писал: «Французская и британская империи прекратили своё существование. Должна прекратить своё существование и советская. Главный вопрос заключается в следующем: произойдёт ли это мирно и постепенно, или жестоко и резко?» К этому он добавлял: «Такие движения, как «Солидарность» дают надежду на мирное развитие. Их подавление со стороны Советского Союза делает более вероятными взрывы и опасные последствия»[194].
Администрация Рейгана приостановила оказание экономической помощи Польше – в том числе отсылку американских продуктов питания и кормового зерна на 100 миллионов долларов. Вскоре стало ясно, что военные на улицах не заставят людей вернуться на работу и не заполнят пустые полки магазинов. «Солидарность» заняла прочное место в умах и сердцах большинства населения Польши. Тем временем статьи Бжезинского, которые читали по радио «Свободная Европа», нелегально перепечатывали и распространяли в больших количествах. Однажды он по случаю посетил отделение «Солидарности» в Брюсселе и, к удивлению директора, вынул чековую книжку и сделал щедрое пожертвование. Но казалось, что из политического тупика нет выхода.
В октябре 1984 года в водохранилище был обнаружен труп священника Ежи Попелушко, смелого и активного сторонника «Солидарности». Вскрытие показало, что перед смертью священник был жестоко избит. Ярузельский поспешил дистанцироваться от этого зверского убийства и распорядился провести публичное расследование, в результате которого члены польской тайной полиции получили длительные тюремные сроки. Обвиняемые утверждали, что приказы поступали «с самого высокого уровня», под которым большинство поляков подразумевало советский КГБ.
12 марта 1985 года радио «Москва» прервало музыкальную передачу, чтобы сообщить о выборе на должность генерального секретаря КПСС Михаила Горбачёва, молодого и энергичного функционера, который, казалось, искренне хотел покончить с застоем и коррупцией в Советском Союзе. Он принадлежал к новому поколению, пришедшему во власть, когда сталинские репрессии и Вторая мировая война считались уже историей. В лексиконе холодной войны прочно укоренились два русских слова: «перестройка» и «гласность», означавшие реформацию системы и её открытость. Изначально Бжезинский скептически относился к новому лицу в Москве. Пусть даже Горбачёв и искренен в своём добродушии, замечал он, но проблемы Советского Союза носят системный характер и глубоко укоренены в ленинской догматике и семидесятилетней однопартийной коррумпированной диктатуре. «Не стоит слишком пристально смотреть на костюм, на то, как он держится, на то, как он машет западным корреспондентам или на то, что его жена носит сумочку от Gucci, – сказал Бжезинский. – Нужно смотреть на то, какие взгляды он поддерживает и какова была его карьера»[195].
Но более гибкое мышление Горбачёва действительно предоставило новые возможности Польше. Бжезинский пытался по своим каналам устроить встречу с Ярузельским – чтобы проверить, какова ситуация в польском руководстве. Ян Новак, фактический директор Польско-американского конгресса и друг Бжезинского, отговаривал его. «Мне не нравилась идея этой встречи, – вспоминал Новак. – На самом деле я даже активно выступал против. Я опасался, что Ярузельский попытается воспользоваться ею, как тактическим знаком одобрения военного положения». Позже Новак передумал. «Это была не светская встреча. Бжезинский знал эти системы лучше всех остальных на Западе – как и знал трагическую историю восстаний в Восточной Европе… Так что он использовал Ярузельского, как мостик к польскому руководству. Не для умиротворения – это не был его стиль – а для попытки воспользоваться этим мостиком для мирной эволюции системы… И он хотел донести один важный пункт: взрыв насилия в Восточной Европе отбросит назад всё, включая реформы Горбачева, что не было ни в чьих интересах»[196].
В сентябре 1985 года Ярузельский прибыл в Нью-Йорк, чтобы выступить в ООН. «Я прилетел в Нью-Йорк, потому что мы – члены Организации Объединённых Наций, – сообщил он по прибытии в аэропорт имени Кеннеди. – На этот раз я прибыл лично, потому что Польша хочет принимать участие в главном процессе современности – сохранении мира». Ярузельский также дал несколько интервью, в которых выглядел вполне добродушным, хотя его и вывело из себя едкое замечание министра обороны Уайнбергера о том, что он «польский генерал в советской униформе». Конечно, примерно то же думали о Ярузельском и многие американские поляки – для них он был ненавистным военным, подавившим движение «Солидарности» четырьмя годами ранее. На протяжении всего визита его сопровождали группы протестующих с плакатами, а в Нью-Йорке перед советским дипломатическим представительством на пересечении 67-й улицы и Лексингтон-авеню гневные горожане устроили пикет.
В общении с Ярузельским Бжезинский придерживался осторожности. Они вместе обедали в Радужной комнате – знаменитом ресторане, оформленном в стиле ар-деко и расположенном на шестьдесят восьмом этаже Рокфеллеровского центра. Среди собравшихся были Дэвид Рокфеллер и Лоуренс Иглбергер, бывший чиновник из администрации Рейгана, который довольно благосклонно относился к польскому генералу – по крайней мере, до того, как тот ввёл военное положение. Ярузельский был без своих обычных тёмных очков. Он восхитился роскошной панорамой на Нью-Йорк и сказал одному из помощников, что ожидал увидеть больше смога в логове порока и капитализма. «Можно даже сказать, что он был впечатлён, – прокомментировал помощник этот сомнительный комплимент. – Конечно, с такой высоты город выглядит не так отталкивающе». При встрече Ярузельский передал Бжезинскому большой пакет, в котором находились письма и документы его отца, проходившего службу во время советско-польской войны 1920 года. «Он сказал, что это некоторые «семейные материалы», – вспоминал Бжезинский. – А я довольно глупо спросил: «Как вы нашли эти документы?» И сразу же понял, что они из моего досье»[197].
На протяжении всей встречи они обсуждали состояние дел в коммунистическом мире. Бжезинский описывал ситуацию в Польше без прикрас. Советский Союз двигался против исторического течения. Горбачёв предпринимал попытку реформировать сверху донизу систему, остававшуюся однопартийной диктатурой, что могло иметь непредвиденные последствия. «Солидарность» же, напротив, представляла собой органичное сопротивление масс снизу. Она формировала параллельное общество, которое могло бы стать реальной альтернативой коммунистической партии. Если бы поляки пошли на политический компромисс, то могли бы предоставить надежду и для других восточноевропейских стран. И Ярузельскому стоит над этим подумать, потому что нет никаких гарантий, что Горбачёв задержится надолго, как и его реформы[198].
Через несколько лет Ярузельский вспоминал встречу с Бжезинским в Нью-Йорке так: «Бжезинский был заклятым врагом. Так что наша встреча в каком-то смысле выглядела странно. Но она была и полезной, потому что мы оба хотели избежать восстания. В конце концов, он был поляком, он родился в Польше и знал нашу романтическую историю и историю трагических восстаний. Его это очень беспокоило, и он рассматривал переговоры как возможность альтернативного варианта»[199].
В июне 1986 года газета «Вашингтон пост» опубликовала на первой полосе статью о значительных переменах в Польше. Впервые польское правительство раскрыло роль полковника Рышарда Куклинского в передаче военных планов Польши ЦРУ. Представитель Ярузельского настаивал на том, что это доказательства того, что ЦРУ предало «Солидарность». Он утверждал, что копии планов о введении военного положения лежали на столе Рейгана несколько недель, и всё же Соединённые Штаты никак на них не отреагировали. «Администрация США могла бы обнародовать эти планы и предупредить тем самым «Солидарность»». В этом случае введение военного положения могло бы стать невозможным», – заявил представитель правительства.
Бжезинский же по-прежнему считал Куклинского национальным героем Польши. Они встретились в отеле «Four Seasons» в Джорджтауне. Бжезинский поприветствовал Куклинского фразой, с которой обычно обращаются к польским военным при их награждении: Pan sie dobrze Polsce zasluzyl – «Вы достойно послужили Польше»[200].
Летом 1986 года вице-президент Джордж Г. У. Буш начинал свою собственную президентскую кампанию, и его помощник связался с Бжезинским по политическому вопросу. Как американский поляк отреагирует на поездку Буша в Польшу? В этом были очевидные политические риски. Госдепартамент Рейгана советовал Бушу не ехать. Санкции в отношении режима Ярузельского сохранялись, а республиканское крыло не слишком тепло поддерживало Буша. Бжезинский предупредил Буша, что официальный визит мог бы оказаться продуктивным, но только если он будет проходить по модели визита Картера десятилетием ранее. Нужно чётко заявить, что экономическая помощь напрямую зависит от более толерантного отношения к польским оппозиционным группам. Затем по своим каналам Бжезинский убедил Ярузельского позволить Бушу встретиться с рядовыми польскими гражданами в дополнение к официальным встречам и довольно скучным посещениям телевидения и завода электроламп.
Вице-президент Буш полностью воспользовался представившейся возможностью. В Варшаве, во время прямого телеэфира он упомянул «Солидарность» и пожал руки ее лидерам во время эмоционального визита к могиле отца Ежи Попелушко. Затем он исчез из виду и появился уже на балконе церкви над улицей. Толпа взорвалась приветственными криками, когда рядом встал Лех Валенса, а Буш вынул из кармана знамя «Солидарности» и показал пальцами знак победы «V». Сотрудникам служб безопасности оставалось лишь наблюдать за тем, как толпа скандирует: «Солидарность! Лех Валенса! Да здравствует Буш! Да здравствует Рейган! Солидарность! Лех Валенса!» Американские средства массовой информации подали этот случай, как американское внутриполитическое событие. Буш тоже способствовал такому впечатлению, пошутив насчет своей встречи с Валенсой: «Сколько у него делегатов в Айове? Вот что я хочу знать».
Но этот визит оказал глубокое влияние и на Польшу. Это был не просто официальный визит. Он отражал совет Бжезинского и одновременно настрой администрации Рейгана. «Риторика Рейгана всегда была очень жёсткой, и мы это ценили, – вспоминал член «Солидарности» Адам Михник. – Но Бжезинский всегда следовал выверенной стратегии и знал, как на самом деле способствовать переменам – как использовать политические символы и рычаги экономического давления. Буш отчётливо дал понять, что поддерживает оппозицию. И его визит ознаменовал для нас психологический переломный момент»[201].
В январе 1988 года Бжезинский произнёс речь, посвящённую памяти Хью Сетона-Уотсона в лондонском Центре политических исследований. В ней он предсказал, что 1988 год может стать очередным 1848 годом – знаменитой «Весной народов», когда страны Центральной Европы поднялись на борьбу за свою независимость. «Не будет преувеличением сказать, что все пять стран Восточной Европы созрели для революционного взрыва, – отметил Бжезинский. – Также не будет преувеличением сказать, что такой взрыв может произойти одновременно более чем в одной стране». Осознавая риски бесконтрольного развития ситуации, Бжезинский закончил свою в целом оптимистичную речь важным предупреждением. «Широкомасштабное революционное восстание в регионе не в наших интересах»[202].
Ситуация в Польше, похоже, достигла критической точки. По всей стране прошли шумные демонстрации с требованием легализации «Солидарности». Если режим Ярузельского ответил бы на них военной силой, то это могло бы иметь весьма серьёзные последствия для всего советского мира. «Если здесь произойдёт революция, то её подавят, – предупреждал Бжезинский в мае 1988 года. – Если подавление окончится неудачей, то последует советское вторжение, и это будет концом перестройки»[203].
Стремительные перемены в международной политике добавляли остроты президентским выборам 1988 года. Тем летом Бжезинский пересёк партийные границы и предпочёл поддержать Буша, а не кандидата от демократов Майкла Дукакиса. «Я считал, что это [победа Дукакиса] будет очень плохо для Соединённых Штатов, – сказал Бжезинский. – [Его курс] был совершенно неверным для страны и для демократической партии»[204]. В сентябре вице-президент Джордж Буш представил Бжезинского как члена его оперативной группы по национальной безопасности. «В области международной политики Джордж Буш лучше всех способен следовать курсу двух партий, – объяснял Бжезинский. – При этом я продолжал гордиться тем, что служил национальным интересам при президенте Картере»[205]. «Я никогда не был его поклонником, – вспоминал Дукакис. – Мне казалось, что это никудышный советник по национальной безопасности с невероятно раздутым эго». Осенью демократ из Массачусетса проиграл выборы. К тому времени, когда в Вашингтон переехала новая администрация Буша, Бжезинский обсуждал свою недавно выпущенную книгу, название которой в какой-то мере отражало его академическую и политическую карьеру: «Большой провал: рождение и смерть коммунизма в XX веке». Газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала отрывок из книги с провокационным заголовком «Развалится ли Советский Союз?» Бжезинский утверждал, что это не преувеличение, а один из возможных сценариев, вероятность которого с каждым днём увеличивается. Тем временем появились и другие признаки того, что холодная война может закончиться очень скоро.
Примерно в то же время Ярузельский подходил к очень важному решению. Целых десять лет он боролся с «Солидарностью», но в свете забастовок 1988 года и стремительно ухудшавшейся экономической ситуации он призвал коммунистическую партию Польши к «смелому развороту» и к переговорам с «Солидарностью».
Бжезинский, проведший три последних года в переговорах с Ярузельским, испытывал в отношении его смешанные чувства. Он явно не симпатизировал решению Ярузельского ввести военное положение в 1981 году, но понимал, что тот, фигурально выражаясь, «сделан из другого теста», нежели большинство коммунистических руководителей, с которыми он имел дело за все годы своей карьеры. Двойственное отношение, в частности, проистекало из их бесед конца 1980-х годов. Польский лидер признался Бжезинскому в том, что в его жизни были два определяющих момента. Первое – это когда он молодым человеком увидел контраст между феодальной Польшей и современным промышленным государством социальной справедливости, каким перед ним предстал Советский Союз. Но более болезненное откровение он пережил в конце 1980-х, когда великие обещания марксизма-ленинизма обернулись жестокой иллюзией[206].
В начале 1989 года при поддержке Ярузельского произошли переговоры «Круглого стола» с относительно умеренной целью легализации «Солидарности» в рамках того, что оставалось от коммунистической системы. Вскоре в повестку переговоров были включены и требования демократических выборов. Польские телезрители стали свидетелями эпохального рукопожатия между Лехом Валенсой и генералом Ярузельским. Роль Бжезинского была неофициальной, он действовал за кулисами, но его незримое присутствие обеспечивало более прочную связь между активными участниками процесса. «Я не верю, что «Круглый стол» был бы возможен без Бжезинского, – вспоминал Ян Новак. – Он имел влияние на администрацию Буша и на американскую дипломатическую службу; за сценой он убеждал обе стороны в важности мирного урегулирования. В «Солидарности» он пользовался огромным авторитетом – как и до некоторой степени у Ярузельского»[207].
«Круглый стол» стал первым примером мирного и в конечном счёте успешного перехода от коммунизма к демократии, первым в истории случаем эволюционного прекращения коммунистического тоталитаризма. При этом в последующие годы представители правого крыла критиковали компромисс «Круглого стола» за его ограниченность и даже за циничный сговор элит. Но в 1988–1989 годах ситуация в Советском блоке оставалась крайне нестабильной. Была большая озабоченность, что если она выйдет из-под контроля, то приверженцы жёсткой линии в Кремле предпримут попытку остановить этот процесс и повернуть его вспять. Бжезинский полагал, что некоторые элементы в польской секретной полиции и в партийном аппарате специально принуждали советских консерваторов совершить политическую интервенцию в самый последний момент. Было достаточно просто убедить «ястребов» из Кремля, что Польша до сих пор представляет собой важное звено для сообщения с 380-тысячной группировкой войск в Восточной Германии. И было неясно, как Советский Союз отреагирует на перспективу объединения Германии в центре Европы.
В мае 1989 года Бжезинский по приглашению американского посла посетил Варшаву и сам стал свидетелем того, как «Солидарность» заручилась подавляющей поддержкой польского народа, а также свидетелем отречения от коммунистического правительства. В августе 1989 года президент Ярузельский назначил премьер-министром Польши Тадеуша Мазовецкого, представителя католической интеллигенции и ключевого советника «Солидарности». «Это наиболее важные и радикальные перемены в Восточной Европе и в советском мире со времени смерти Сталина, – говорил Бжезинский. – И они окажут огромнейшее влияние на будущее коммунизма и связей между Востоком и Западом… Мы наблюдаем конец целой эпохи»[208].
Год продолжал преподносить свои сюрпризы. В октябре Бжезинский посетил Москву, где ему устроили овацию в Дипломатической академии. Строуб Толботт взял у него интервью для журнала «Тайм», заголовок которого полностью отражал всё его содержание: «Торжество сторонника жёсткого курса». Сам же Бжезинский в интервью высказывался осторожно: «Сейчас время задать себе вопрос – как нам креативно и исторически отреагировать на явный крах Советского Союза? Мы можем либо активно создавать новый мир, либо позволить разваливаться старому, некоторые обломки которого могут даже угрожать нам самим».
Через несколько недель коммунистические режимы Восточной Европы пали в результате мирных «бархатных» революций.
Месяц спустя, в ноябре 1989 года, Лех Валенса приехал в Вашингтон для выступления в Конгрессе Соединённых Штатов. «Мы не разбили ни единого окна, – сказал Валенса. – Но мы были упрямыми, очень упрямыми и готовыми пойти на страдания. Мы знали, чего мы хотим. И в конце концов мы оказались сильнее»[209]. В зале присутствовал и Збигнев Бжезинский. «Я знал Бжезинского много лет, – вспоминал один из членов «Солидарности». – Это был очень гордый человек, редко демонстрирующий свои эмоции. Но в тот вечер я увидел, как он смахивает слезы радости с глаз. Это было трогательное мгновение».
Глава 11. Свидетель «Большого провала» в Москве 1989 года
Марин Стрмецки
Поздней осенью 1989 года Збигнев Бжезинский находился на борту самолёта, отправлявшегося в Москву, где он должен был участвовать в профинансированной из частных источников американо-советской конференции о будущем Восточной Европы[210]. Когда в тот облачный день самолёт вынырнул из облаков и стал опускаться на посадку, в иллюминаторе стали постепенно проявляться черты столицы, переживающей социально-экономический упадок. Даже окраины Москвы походили на картины 1950-х годов в Апаллачах, если не превосходили их по безнадёжности. Дороги в ямах и грязи, дачные домики из разнокалиберных досок и жестяных листов, клубы тёмного дыма из покосившихся труб. После приземления Бжезинский и остальные члены американской делегации пересекли зал московского международного аэропорта, во многом походившего на типичный терминал страны третьего мира – грязный, пыльный и построенный в устаревшем модернистском стиле. Делегация быстро прошла зону таможенного контроля без декларации. Вдоль другого коридора толпились советские граждане, пользовавшиеся любой возможностью раздобыть за рубежом почти отсутствующие дома потребительские товары. Такой встретила американцев сверхдержава, которая на протяжении семидесяти лет тратила огромные ресурсы на военное соперничество с Западом и на достижение мировой революции.
Бжезинский только что опубликовал книгу «Большой провал: рождение и смерть коммунизма в XX веке», и в ней он утверждал, что коммунистический мир вошёл в стадию системного кризиса, который должен привести к краху этого идеологического эксперимента. В своём вашингтонском офисе в Центре стратегических, международных исследований, где он занимал должность старшего научного сотрудника и советника, он каждый день пристально наблюдал за всеми событиями коммунистического мира. С неизменным вниманием читал он ключевые статьи в советской прессе, переводимые и публикуемые Информационной службой иностранного вещания при правительстве США. Сидя в удобном кресле, он методично просматривал доклады в мягких бежевых обложках, откладывая отдельные статьи в прозрачные папки с ярлычками. К наброскам глав он приступил в самом начале 1988 года, а закончил рукопись в августе. Общий замысел «Большого провала» стал интеллектуальной схемой, которая определила ход дискуссий в Москве и легла в основу как вопросов Бжезинского, так и выдвигаемых им аргументов.
На протяжении предыдущих четырёх лет западные эксперты спорили между собой о том, что же представляют собой реформы Горбачёва – уловку, призванную пробудить в Западе ложное чувство безопасности, или искреннюю попытку перестроить здание тоталитарной системы, возведённое Лениным и Сталиным. Вопрос этот служил источником горячих обсуждений в политических кругах. Но к концу 1989 года во внутренней и внешней политике Советского Союза произошло слишком много перемен, чтобы от них можно было легко отмахнуться. В Польше на выборах победил независимый профсоюз «Солидарность». Коммунистическая партия Венгрии разрешила проведение многопартийных выборов. За несколько дней до визита в Москву Бжезинского Горбачев проследил за сменой руководства в Восточной Германии, передав его в руки предполагаемых реформаторов. В самом Советском Союзе политическая открытость выразилась в резкой критике коммунистической системы со стороны средств массовой информации и привела к повышению сепаратистских настроений в союзных республиках. Все эти события служили драматическим фоном московской конференции.
В своей книге Бжезинский уже предложил обстоятельный анализ интеллектуальных дискуссий в политических кругах Советского Союза. Суть этих дискуссий он выразил в так называемых «десяти факторах разногласий»:
1. Экономическая реформа. Если Советский Союз намерен преодолеть «застой», то есть экономический упадок эпохи Брежнева, то следует ли ему отойти от централизованной плановой экономики? Каким образом может произойти переход к системе самостоятельных предприятий, реагирующих на спрос и цены? Как советское правительство собирается реагировать на возможные экономические потрясения, связанные с таким переходом?
2. Социальные приоритеты. Следует ли сократить инвестиции в тяжёлую промышленность и оборону, чтобы повысить не слишком благоприятный уровень жизни советских граждан? Следует ли сократить и подвергнуть публичной критике привилегии «номенклатуры» – высокопоставленных государственных и партийных чиновников?
3. Политическая демократизация. Можно ли провести экономические и социальные реформы без желания прислушиваться к требованиям общества и без поощрения политической инициативы снизу? Если нет, то должна ли советская система включить в себя возможность идеологического плюрализма и политического выбора?
4. Роль партии. Должны ли идеологические споры и плюрализм привести к демократизации коммунистической партии или даже к отмене её политической монополии? Должна ли на смену системы, при которой все государственные дела контролирует «партия-авангард», прийти многопартийная система?
5. Идеология, религия и культура. Если гласность позволила заявить о себе другим идеологическим системам и представлениям помимо марксизма-ленинизма, то следует ли коммунистической партии ослабить идеологический контроль над системой общественных ценностей и позволить больше свободы в сферах религии и культуры?
6. История (сталинизм). Поскольку советская система представляет собой наследие сталинского периода, то следует ли провести моральную переоценку этого периода? Следует ли преступления Сталина приписать одному ему, или также Ленину и марксизму-ленинизму в целом? И какова легитимность политической системы, допускающей такие преступления и такое насилие?
7. Внутренние национальные проблемы. По мере распространения гласности в нерусских областях Советского Союза фасад национального единства начал рушиться. Нерусские народности начали задаваться вопросом – следует ли им возродить свою национальную идентичность и свою национальную историю и следует ли им бросить вызов руководящей политической роли русского этноса? Дело дошло даже до обсуждения возможного политического самоопределения.
8. Война в Афганистане. По мере роста потерь и расходов политические комментаторы задавались вопросом о смысле этого вторжения. Было ли оно бессмысленным? Можно ли утверждать, что бремя войны распределилось равномерно по всему обществу, если оно не коснулось детей политической элиты?
9. Внешняя и оборонная политика. Должен ли Советский Союз отказаться от доктрины мирного сосуществования (согласно которой временное примирение с капиталистическими странами – это всего лишь «передышка» на пути к мировой революции), особенно в свете риска ядерной войны и растущей взаимозависимости? Если да, то что это будет значить для широкомасштабных инвестиций в советский военно-промышленный комплекс?
10. Советский блок и мировое коммунистическое движение. Должна ли Коммунистическая партия Советского Союза отказаться от руководящей роли по отношению к своим братским партиям в других странах? Если да, то что это будет означать для Доктрины Брежнева?
Конец октября 1989 года был, конечно, знаменательным временем для посещения Советского Союза. Историческое значение обозначенных в «Большом провале» тем для дискуссий заключалось в том, что эти фундаментальные вопросы обсуждались не зарубежными критиками Советского Союза, а членами политической элиты. Задачей Бжезинского и остальных членов американской делегации было определить, куда же могут завести все эти дискуссии.
В день открытия конференции Бжезинский должен был произнести речь в Дипломатической академии Министерства иностранных дел, здание которой ещё за несколько месяцев до этого оставалось закрытым для иностранных посетителей. Строгость социалистического режима подчёркивалась тем, что это представительное, но ничем особенным не выделяющееся среди других подобных строений здание, до сих пор не имело вывески снаружи. Обе делегации зашли внутрь, и американцы прошли по паркетному проходу, обрамленному стенами с потускневшей светло-зелёной штукатуркой. За стеклянными витринами были выставлены лозунги, плакаты и фотографии, демонстрирующие достижения Ленина и Горбачёва. Их политический смысл был ясен без перевода – с ними не сравнится ни один другой лидер.
Бжезинский прошёл в главный лекционный зал, походивший на большую университетскую аудиторию с рядами полукруглых столов, образовывавших своего рода амфитеатр. Внутри этого амфитеатра были расставлены столы для конференции, с которых Бжезинский и другие главные участники обращались к собравшимся. За ними, на возвышении, похожем на обтянутый красным бархатом алтарь, располагался внушительный бюст Ленина. Атмосфера в зале походила на сцены революционного собрания из фильма «Красные». Зал был забит битком, студенты теснились вдоль стен и выглядывали из дверных проходов; тусклое освещение в советском стиле придавало происходящему некоторую нереальность. Бжезинский, критикующий советскую идеологию с 1960-х годов, приобрёл особую популярность в советской прессе, неизменно называвшей его «скандально известным» или «пресловутым». И поэтому, когда один из главнейших идеологических врагов Кремля поднялся и начал свою речь, в аудитории воцарилась гробовая тишина, прерываемая только щёлканьем затворов фотоаппаратов.
В начале своего выступления Бжезинский отметил, что до этого выступал в коммунистических странах только три раза: в Чехословакии в 1968 году, в Венгрии в 1988-м и в Польше в 1989-м. Он добавил, что по исключительному совпадению за его выступлениями последовали антикоммунистические волнения в Праге, отставка долго занимавшего пост руководителя Венгрии Яноша Кадара и сокрушительная победа «Солидарности» на выборах в Польше. После он добавил, что в этом смысле рад выступить перед такой замечательной аудиторией в Советском Союзе. По залу пронёсся многозначительный смех.
Бжезинский процитировал Горбачёва, утверждавшего, что цель его политики по отношению к Европе – это построение «общего европейского дома», а в более широком смысле – «попытка ослабить напряженность между Востоком и Западом». Многие западные наблюдатели в то время полагали, что эта политика была призвана подорвать трансатлантическое единство, поскольку «общий европейский дом» мог, скорее всего, подразумевать исключение североамериканской стороны в лице Соединённых Штатов. Но вместо того, чтобы оспаривать формулу Горбачёва, Бжезинский удивил аудиторию тем, что поддержал его благородное стремление, что заинтриговало собравшихся. Затем он задался вопросом, что же требуется для того, чтобы построить общий европейский дом. Для него необходим фундамент в виде общих ценностей. Он отметил растущую потребность в фундаментальных и политических переменах в Советском Союзе, а это, по его мнению, свидетельствовало о том, что советское общество начинает признавать универсальность некоторых ценностей и их необходимость для успешного развития всех современных стран. К этому времени Бжезинский уже полностью овладел вниманием аудитории, и многие невольно подавались вперёд, пытаясь лучше вслушиваться в его речь. Он же последовательно и чётко перечислил ряд перемен, которые должны произойти в Восточном блоке для того, чтобы мечта об общем доме стала реальностью. Москва должна признать право восточноевропейских стран на самостоятельный выбор политической системы и право Германии на объединение (если такова будет воля немецкого народа), принять настоящую демократию и свободу выбора в Советском Союзе, рыночную экономику во всем социалистическом мире и конфедеративную структуру Советского Союза.
Какими бы еретическими ни казались эти предложения на тот момент, они были восприняты как дружеский жест по отношению к советской стороне и желание помочь ей достигнуть собственных заявленных целей, а также как способ преодоления идеологической догмы и геополитических позиций, мешающих советским гражданам объединиться с их европейскими братьями. К концу его речи зал взорвался громкими аплодисментами – знак того, насколько сильно изменилось советское мышление. Пока другие главные члены делегации произносили свои речи, а Бжезинский приводил в порядок заметки, в зале стоял гул – это переговаривались между собой несколько сотен людей.
После этого началась более сложная часть встречи – ответы на вопросы аудитории, подаваемые в форме записок. Никто бы не удивился, если бы в них выражались резко противоположные или полемические точки зрения, но вместо этого в них проскальзывало интеллектуальное любопытство и искреннее желание договориться. Кто-то задал довольно иронический вопрос – что Бжезинский ощущал, выступая со своей речью перед бюстом Ленина. Бжезинский сдержанно ответил, что Ленин, будучи крупнейшей исторической фигурой, имел много что сказать интересного по актуальным вопросам прошлой истории. Аудитория поняла его намёк таким образом, что с современным миром идеи Ленина не соотносятся. Во время ответа на другой вопрос Бжезинский заметил, что Советский Союз тратит на оборону от 20 до 30 процентов своего ВВП, что является серьёзной причиной отставания советской экономики. С советской стороны последовало ожидаемое возражение. Один из лидеров советской делегации сказал, что этот показатель в крайнем случае доходит до 20 процентов. Но даже эти цифры представляли собой резкий контраст с публичным утверждением Горбачева о том, что расходы на оборону не превышают треть указанного числа.
После выступления Бжезинский и остальные члены американской делегации перешли в более скромное помещение для беседы с Георгием Шахназаровым, высокопоставленным чиновником Центрального комитета КПСС и личным советником Горбачёва по Восточной Европе. Это была знаменательная дискуссия, затронувшая вопросы всё более беспокойной обстановки в восточноевропейских странах и глубокого кризиса политической системы, построенной на устаревшей марксистско-ленинской идеологии. Представители советской стороны говорили открыто и искренне и сразу же согласились с необходимостью трансформационных перемен, но старались задать границы таких перемен, ошибочно полагая, что коммунистическую систему можно реформировать и тем самым сохранить.
После вступительных заявлений обеих сторон Бжезинский перешёл к делу. Он спросил, каков смысл недавних заявлений Горбачёва, намекающих на поддержку происходящих в Польше и Венгрии перемен, в результате которых коммунистические партии утратили политическую монополию, а страны перешли к многопартийной системе. Бжезинский отметил, что Горбачёв не вмешался, чтобы остановить эти перемены, и спросил, до какой степени подобные события могут угрожать советским интересам.
Шахназаров ответил, поначалу официальным тоном, что Советский Союз желает, чтобы другие страны уважали его безопасность и сохраняли с ним дружеские отношения, и что «мы также заинтересованы в политическом процессе, который в настоящее время происходит в Европе – в объединении Европы и в демонтаже двух блоков». Увлёкшись темой, Шахназаров стал утверждать, что перемены в отношениях между Восточной Европой и Советским Союзом должны сопровождаться параллельной трансформацией отношений между НАТО и Организацией Варшавского договора. Он выразил точку зрения, согласно которой СССР «желает поддерживать долгосрочные отношения со своими союзниками на экономическом, политическом и культурном уровнях». Намекая на масштабные планы правительства Горбачева, он добавил: «Эта задача вполне достижима, тем более что мы сами меняемся. Идея в том, что не только Восточная Европа, но и Советский Союз присоединится к Европе».
Бжезинский недоверчиво спросил, что Шахназаров имеет в виду под «дружескими отношениями», особенно если учесть, что Сталин так же описывал свои цели в восточноевропейских странах. Он добавил, что Польша и Венгрия переходят к «действительно всеобъемлющим реформам своих политических и экономических систем» и что в этом смысле они идут «далеко впереди Советского Союза». Отсюда он сделал логический вывод: «Если поддерживать баланс между реформами в Восточной Европе и в Советском Союзе, то либо Польше и Венгрии придётся притормозить, либо Советскому Союзу придётся поспешить с переменами».
Пытаясь защитить свою позицию, Шахназаров заявил, что польский премьер-министр, якобы, дал понять, что Советский Союз до сих пор необходим в качестве «основного гаранта» независимости Польши и что такое положение продлится ещё десять-пятнадцать лет, пока отношения между Востоком и Западом утратят характер конфронтации. Наклонившись вперёд в попытке продемонстрировать свою искренность, он подчёркнуто сказал: «Мы не будем стараться замедлять перемены в Восточной Европе. Эти перемены идут в том же направлении, что и реформы в Советском Союзе – сокращение роли идеологии, усиление рыночных отношений, упрочение законности и децентрализация политической власти. Эти процессы едины. В СССР и в Восточной Европе происходит одно и то же».
Выслушав советскую сторону, Бжезинский шутливо спросил: «А какова будет ваша реакция, если поляки начнут вешать коммунистов на фонарных столбах?» Глава советской делегации Олег Богомолов без колебания ответил: «Это внутренние дела поляков, и им решать». Шахназаров повторил свои аргументы, подчеркнув: «Как мы неоднократно говорили, мы не станем вмешиваться во внутренние дела других стран». Так ведущий эксперт Горбачёва по Восточной Европе фактически заявил, что Советский Союз не будет сопротивляться антикоммунистическим выступлениям, которые угрожали свергнуть правительства стран Варшавского договора. Немного подумав, Бжезинский с лукавой улыбкой заметил: «Ну что ж, остаётся только надеяться на то, что поляки этого не услышат, потому что они могут приступить к делу прямо сейчас, если поймут, что им за это ничего не будет». Советская делегация отреагировала неловким смехом.
Затем беседа перешла к идеологии. Шахназаров сказал, что нашёл книгу Бжезинского «Большой провал» чрезвычайно интересной, и педантично добавил: «Впрочем, мне кажется, название у неё неверное. Провалом закончились не идеи социализма и коммунизма, а всего лишь одна модель, построенная на этих идеях».
Бжезинский спокойно углубился в дискуссию, словно руководя академическим семинаром. Он сказал, что единственной моделью того, что мы называем коммунизмом, был Советский Союз после окончания Новой экономической политики в 1928 году. «Такова реальность коммунизма, – объяснял он. – Он существует теоретически. Что касается его известных реализаций – то есть реалий Советского Союза, стран Восточной Европы и Китая – то все они обернулись большим провалом». К такому же выводу, по его мнению, приведут оценки системы исходя из социальных предпочтений, условий жизни и цены прогресса. «Вы заплатили ужасную цену за прогресс при коммунизме, – продолжил он, – и этот прогресс не стал настолько существенным, как прогресс при западных системах. Более того, все примеры реформ сводятся к тому, чтобы отказаться от основополагающих черт коммунизма. Вы фактически признаёте, что суть социализма лучше передают идеи социальной демократии, а не коммунизма. Вы утверждаете, что правы были меньшевики». В конце своей речи Бжезинский заявил: «Горбачев уже сказал венгерским партийным лидерам – которые вскоре после этого повторили мне его слова – что всё сделанное после 1928 года было ошибкой».
Настал черёд Шахназарова иронично улыбаться. «Мы больше не боимся, что нас назовут меньшевиками. Всё это в прошлом», – сказал он. После обмена мнениями о том, сойдутся ли политико-экономические системы Запада и Востока, делегации обсудили необходимость советского руководства отказаться от идеологических лозунгов и символов. Шахназаров отмахнулся, сказав, что это второстепенный вопрос. Когда Сталину во время Второй мировой войны понадобилось воспользоваться патриотическими настроениями, он поменял символы, но жёсткая система от этого не изменилась. Он объяснил, что Горбачёв стремится подчеркнуть важность ленинских идей, представляющих собой моральный каркас социализма, искажённый впоследствии Сталиным. Упоминая о преступлениях Сталина, Шахназаров утверждал: «Ленин этого не делал. Он создал партию и государство, но собирался демократизировать систему. Он бы увидел, что сама жизнь доказывает невозможность иного. Трагедией было то, что он не прожил достаточно долго, чтобы осуществить свои планы».
Бжезинский немного помедлил, чтобы как следует усвоить сказанное, а затем перевёл разговор в более философское русло: «В ваших словах и во всей конференции меня поразило, насколько отличается ваш образ мышления от образа мышления в Соединённых Штатах и развитых странах Европы. Во-первых, в развитых западных странах практика предшествует социальной теории. Здесь же социальная теория предшествует практике. Интеллектуальная модель – абстрактная конструкция – буквально определяет политику. На западе мы занимаемся политикой после того, как электорат заявит о своих предпочтениях, а также стараясь выяснить, что сработает для решения конкретной проблемы». В его голосе проявлялись нотки озабоченности. «Во-вторых, меня поразила озабоченность Лениным. Я не говорю, что он не был интересным человеком. Но постоянно ссылаться на него, не только в поисках легитимности, но в качестве политического ориентира, абсурдно. Вы сами делаете себя пленниками прошлого. Нельзя использовать Ленина, как основание для широкомасштабных реформ. Вам нужно найти институты, которые будут работать, и перестать думать о том, одобрил бы их Ленин или нет».
Шахназаров поспешно закивал и признал, что многое из этого правда, но возразил, сказав: «Вы не учитываете наши политические процессы». С некоторым сожалением он добавил: «Идеология имеет свои корни в системе». Член американской делегации, Марк Палмер, спросил, как советское руководство собирается дистанцироваться от идеологии. Шахназаров, вдохновлённый возможностью поговорить о грядущих реформах, сказал, что основную проблему представляет вопрос частной собственности, и объяснил: «Наша центральная идея состоит в том, что общественная собственность – это хорошо. Частная собственность приводит к расслоению людей на высшие классы, владеющие частной собственностью, и низшие классы, не владеющие ею. Верховный Совет сейчас решает проблему, как называть собственность в Советском Союзе. Некоторые предлагают термин «индивидуальная собственность». Есть «личная собственность», но так называется собственность, которую не используют для получения дохода. Мы сейчас не хотим отказываться от общественной собственности. Мы считаем, что она – благо. Но если можно будет разрешить некоторые виды частной собственности – хорошо контролируемые и тому подобное – то, возможно, смешанная система сработает». Затем собравшиеся вкратце обсудили различные формы собственности на Западе и модели, которыми мог бы воспользоваться Советский Союз.
Любопытно, что именно Шахназаров заговорил о связи экономических реформ с политическими. «Нам необходима более эффективная экономическая система, – сказал он, – но первой должна идти система политическая. Это основная идея Горбачёва. Он понимает, что успех перестройки зависит от фундаментальных реформ политической системы». При этом он упомянул разрабатываемые правительством Горбачёва законы об отмене цензуры, о независимых частных организациях, защите свободы совести, либерализации эмиграции и реформе экономических отношений. Американская делегация спросила, хватит ли столь часто упоминаемого плюрализма внутри коммунистической партии для проведения настолько глубоких реформ и не потребуется ли перехода к многопартийной системе. С исключительной убеждённостью в прочном положении коммунистической партии Шахназаров ответил: «У нас есть все возможности получить голоса большинства для сохранения власти. Это вопрос ближайшего будущего. Он будет испытан на примере следующих выборов в органы местной власти. Многопартийная система – это вопрос дальнейшего будущего. При современных условиях он не актуален. Мы переживаем глубокий кризис, который может закончиться взрывом и хаосом. Единственный сдерживающий институт – это коммунистическая партия. Многопартийная система – это роскошь. Для нас – опасная роскошь».
После обсуждения будущего цензуры была поднята довольно щекотливая тема. Глава американской делегации Чарльз Гати спросил, когда Москва даст новую оценку своему вторжению в Чехословакию и подавлению Пражской весны 1968 года, или хотя бы выскажет свои сожаления; по его мнению, без такого шага волнения в Чехословакии неизбежны. Глядя на стол, Шахназаров назвал это «весьма деликатным вопросом» и сказал, что сделать первый шаг на пути к переоценке должно местное руководство в Праге. Подняв голову и посмотрев на своего американского собеседника, он добавил: «У нас единое мнение по этому поводу. Это вторжение очень плохо повлияло на международную ситуацию и на ситуацию внутри страны. Мы все это понимаем, но не сказали об этом открыто, на публике».
Другой американец, Строуб Толботт из журнала «Тайм», заметил, что высказывание министра иностранных дел Шеварднадзе о том, что вторжение в Афганистан было «незаконным, аморальным действием», представляет собой резкий контраст с молчанием по поводу 1968 года. В раздражении от напористости американцев, глава советской делегации вставил: «Вы действительно хотите от нас дестабилизации ситуации в Чехословакии?» Стараясь снять напряжение, Шахназаров прокомментировал: «Мы, как страна, не будем решать этот вопрос. Но мы не станем препятствовать другим».
После недолгого обсуждения Восточной Германии стороны вернулись к Чехословакии. Богомолов сказал: «Что касается Чехословакии, то мы прямо не осуждали вторжение 1968 года, потому что не хотим создавать еще одного Чаушеску. Такой шаг заставил бы сплотиться консерваторов, которые попытались остаться у власти своими методами». Немного разочарованный нежеланием некоторых американцев признавать искренность его заявлений, Шахназаров заявил: «Горбачев сказал, что не будет вмешиваться во внутренние дела, и пока что не вмешивался. Доктрина Брежнева никогда не была опубликована, так что и отказаться от неё формально невозможно. Что ещё вы от нас хотите?»
На следующий день американские и советские эксперты вновь встретились в неказистом помещении для очередного обмена мнениями и дискуссии на разные темы. К концу встречи, после продолжительных разговоров о будущем Европы, итоговые высказывания обнажили один из острых моментов.
Один из членов советской делегации в продолжительной, но довольно последовательной речи изобразил будущую эволюцию Европы как слияние Востока и Запада. Согласно его мнению, Европа была осью противостояния холодной войны, вызванной страхами противоположных сторон. Создавшееся напряжение привело к гонке вооружений и к защитной реакции Москвы, которая пыталась сохранить свою социалистическую модель и своё присутствие в Восточной Европе. Теперь Москва ищет пути выхода из этой конфронтации, ставшей причиной экономического застоя в социалистическом лагере. Одно из важных направлений действий – это внутренние реформы. Во внешнем же мире Москва отказывается от своей мессианской политики и пытается положить конец разделению Европы. Оратор предсказывал эволюцию на пути к созданию «военного равновесия на минимальных уровнях», когда обе стороны лишь поддерживают «ненаступательные силы». В этом случае возможны проявления национализма, но даже он уступит дорогу экономической интеграции и взаимозависимости. В заключение выступающий сказал, что в том будущем, каким его видит Москва, обе страны, Соединённые Штаты и Советский Союз, поддерживают «общеевропейское сотрудничество».
Бжезинский постарался опровергнуть такой взгляд сквозь розовые очки на будущую роль СССР в Европе. В частности, он усомнился в том, что «ослабление конфликта в Европе одинаковым образом скажется на отношениях европейских стран к обеим державам». Гораздо вероятнее, что США не только сохранят, но и упрочат своё присутствие, в то время как СССР будет вытеснен на обочину. Он объяснял это так: «Текущая ситуация основана на разделении Европы, и военное присутствие сверхдержав – ключевой фактор в определении их относительных позиций. После ослабления конфронтации в Европе важность военных сил уменьшится. В результате вырастет роль других факторов, таких как идеология, культура, коммуникации, политика и экономика. Во всех этих областях Соединенные Штаты имеют преимущество – причём растущее – над Советским Союзом». Далее он сравнил относительное положение обеих сверхдержав в невоенных сферах влияния и пришёл к чёткому выводу: «Вопрос заключается в том, сохранит ли вообще СССР присутствие в Европе». Подводя итоги своим рассуждениям, он сказал: «Единственная надежда для вашей страны в этом отношении – это проведение радикальных внутренних реформ, которые позволят вам принять участие в этих глобальных процессах».
Его слова, по всей видимости, произвели отрезвляющий эффект на некоторых членов советской делегации, возможно, подтвердив их собственные опасения и худшие сценарии. Конференция тихо закончилась, и участники не спеша перешли из помещения в зал для банкетов. За обедом Бжезинский сидел рядом с тремя советскими участниками, высокопоставленными сотрудниками Дипломатической академии или других институтов, сделавших карьеру в рамках коммунистической системы.
Явно пытаясь спровоцировать своих собеседников, Бжезинский ещё раз повторил, что не перестаёт поражаться различию в образе мышления советских и западных коллег: «На Западе мыслят прагматично, а здесь идеологически. Советские политологи а) выдумывают лозунги, такие как «перестройка» или «общеевропейский дом», не имеющие реального содержания, потом б) разрабатывают целую теорию о том, что значат эти лозунги без связи с реальностью, а под конец в) навязывают своё искусственное идеологическое представление обществу под видом того, что требуется этому обществу». Он добавил, что при таком мышлении Советский Союз никогда не решит свои проблемы. «Как мне это видится, такой образ мышления отчасти является результатом того, что ваша система была основана пропагандистом и любителем лозунгов. Чтобы выйти из текущего кризиса, вашей стране нужно в более явной форме порвать с ленинизмом, хотя, как я думаю, это создаст серьёзные проблемы для легитимности режима».
Его манёвр удался. С советской стороны последовала незамедлительная эмоциональная реакция и разговор продолжился на повышенных тонах. Его соседи по столу принялись защищать Ленина и достоинства Октябрьской революции, порицая Сталина за искажение революционных «глубоко гуманистических устремлений». Довольный тем, что вызвал такой спор, Бжезинский ответил:
«Но Ленин и создал условия для появления Сталина, и, фактически, сделал крайне маловероятным приход к власти в Советском Союзе кого-то, отличающегося от Сталина. Ленинизм основывался на трёх вещах – догматической идеологии, тоталитарной партии и терроре. Одно дело уважать Ленина, как политического аналитика, активиста и исторического деятеля. И другое дело игнорировать тот факт, что он, по сути, был основателем системы ГУЛАГА, обрекая на смерть тысячи людей только из-за их принадлежности к тому или иному идеологически определяемому классу. До тех пор, пока вы не осудите наследие ленинизма, оно будет препятствовать вашим реформам и мешать вашему необходимому разрыву с прошлым».
Подсознательно перейдя на традиционные советские формулы и стиль рассуждения, один из советских оппонентов Бжезинского отвечал, что лагеря предназначались для «перевоспитания этих классов» и что репрессивные действия были «исторически необходимы после революции». Другой утверждал, что политические репрессии были необходимы «исходя из ситуации и сложившихся политических условий». Подняв бокал, третий произнёс тост: «За перестройку и ГУЛАГ». Но для остальных это было уже слишком. Одна из его соотечественниц с явным неодобрением сказала: «За перестройку, но не за ГУЛАГ». Но при этом она добавила: «Я считаю, что противоречия внутри советского общества требовали решительных мер, чтобы взять ситуацию под контроль и обеспечить стабильность».
Бжезинский невозмутимо возразил: «Можете приводить этот аргумент сколько вам угодно. Но нетерпимость Ленина к инакомыслящим, даже внутри партии, превосходила все границы того, что требовалось для предотвращения анархии. И в каком-то смысле, его нетерпимость делала появление Сталина неизбежным».
Контраст между официальной советской историей и реальными событиями острее всего проявился во время поездки Бжезинского к месту трагедии в Катыни, где НКВД расстрелял тысячи польских офицеров, взятых в плен в результате раздела Польши между Сталиным и Гитлером в начале Второй мировой войны. Официальная советская версия возлагала ответственность за убийство поляков на нацистов, захвативших этот регион после нападения Германии на СССР в 1941 году. Несмотря на то что политика гласности заставила по-новому взглянуть на различные страницы истории, эпизод в Катыни всё ещё не был пересмотрен.
Бжезинский совершил поездку вместе с несколькими членами американской делегации и послом США в Москве, Джеком Мэтлоком. Ранним вечером все они прибыли на машине посла на вокзал, с которого отправлялся ночной поезд в Смоленск. По пути Бжезинский вкратце перечислял основные факты о Катыньском расстреле.
Он рассказал, что советские военные захватили в плен польских офицеров и распределили их по трём лагерям, где их допрашивали и предлагали перейти на службу в Советскую армию. Несколько сотен согласившихся выжили и после по памяти составили списки пленных. Отказавшихся расстреляли – всего около 4500 человек в Катыньском лесу. Сведения о двух других лагерях просто исчезли, хотя позже польские строители, работавшие в Советском Союзе у западной границы, обнаружили массовые захоронения, из-за чего советские власти выдворили их из страны. Много доказательств всплыло во время расследования Красного Креста после проведённой немцами эксгумации массовых захоронений. Были даже свидетели, которым удалось спастись в самый последний момент. На трупе одного офицера был обнаружен дневник, записи в котором недвусмысленно подтверждали, что ко времени расстрела поляки находились в советском плену.
Все присутствовавшие слушали молча. Бжезинский сказал, что он помнит последнюю строчку дневника, впоследствии отосланного дочери офицера: «Что будет с нами?»
В Смоленске группу встретили местные советские чиновники. К их досаде, Бжезинский открыто говорил о массовых убийствах и о различных местах, которые намерен посетить; из его слов явно следовало, что преступление совершил Советский Союз. Поскольку официальная история всё ещё возлагала вину на Гитлера, то принимающая сторона оказалась в неловком положении, и её представители были вынуждены придумывать различные отговорки, стараясь не потерять при этом полностью связь с реальностью. Время от времени советские представители принимались твердить заученные фразы, не оказывавшие никакого влияния на членов американской делегации. На месте расстрела стоял монумент из чёрного мрамора, на котором было написано: «В память о польских офицерах, расстрелянных нацистами в 1941 году». Бжезинский демонстративно положил букет в стороне от этого монумента, вложив в цветы карточку с надписью: «Жертвам Сталина и НКВД». Другие члены американской группы добавили по красной гвоздике, которые им дали принимающие.
Когда американцы пошли к другим захоронениям, группа поляков из частной организации «Семьи жертв Катыни» двинулась по окутанному туманом лесу. Это был День поминовения всех святых, или, выражаясь формулой атеистических государств, День памяти. В результате договорённостей на высоком уровне, в которых принимал участие сам Горбачёв, советское правительство впервые разрешило родственникам жертв посетить места трагедии. Несколько сотен человек прикрепили к своей одежде красно-белые значки с надписью: «Катынь». Большинство держали в руках свечи, некоторые несли плакаты или польские флаги. Через какое-то время американская группа вновь прошла мимо монумента, где шла организованная поляками месса. Сотни свечей были расположены на земле в виде символических могил. Поверх слова «нацистами» на табличке монумента кто-то написал «НКВД», уточнив настоящий смысл мессы.
В пресс-интервью Бжезинский призывал советское общество заглянуть в зеркало и осознать свою собственную историю. Он открыто говорил тележурналистам о том, что военное преступление совершили сталинские военные. Показ этого интервью по телевидению стал беспрецедентным шагом на пути к разоблачению исторических фальсификаций. В интервью Би-би-си Бжезинский сказал: «В отличие от большинства этих людей [поляков] меня привела сюда не личная боль, а осознание символического смысла Катыни. Здесь бок о бок лежат замученные до смерти русские и поляки. Я считаю, что очень важно рассказать правду о том, что происходило на самом деле, потому что только правда поможет советскому руководству отстраниться от преступлений Сталина и НКВД». Позже он добавил: «Тот факт, что советские власти позволили мне приехать сюда, а они знали о моих взглядах, означает, что перестройка – это разрыв со сталинистским прошлым».
О том, что эпоха коммунизма подходит к концу, свидетельствовала не только борьба с официальной идеологией. О том же говорили и личные истории членов советских делегаций и других представителей советской стороны, с которыми Бжезинский общался во время визита. Наиболее поразительным оказался его разговор со старшим помощником Горбачёва, одним из проповедников политики гласности. В частной беседе он поведал Бжезинскому о том, что гласность изменила не только советскую систему, но самих советских граждан, включая его самого. Он рассказывал, как в процессе отказа от строгих идеологических догм поменялись его взгляды на проблемы, и даже поменялся он сам, как человек. По его словам, он и его коллеги заметили эти перемены в себе, и что он теперь нравится лично себе гораздо больше. Затем он добавил: «Пути назад у нас уже нет».
Такие изменения проявлялись и в общей атмосфере, ставшей более непринуждённой. Члены советской делегации, не смущаясь, делились шутками о советской системе. Рассказывая о жизни при прежней системе, один из них широко улыбался. В брежневские времена подчинённые должны были строго следовать линии, обозначенной их начальниками. Однажды Брежнев довольно резко высказался по одному внешнеполитическому вопросу, а потом повернулся к своему помощнику и сказал: «Но у нас же демократия. У вас другое мнение?» Помявшись, помощник ответил: «Да, у меня другое мнение. Но я с ним не согласен».
Другой советский представитель с каким-то озорным удовольствием рассказал анекдот о недостатках экономики эпохи гласности и перестройки. Один мужчина долго стоял в очереди за хлебом, а когда подошёл к прилавку, выяснилось, что хлеб закончился. В раздражении он принялся ругать советскую власть: «Хлеба нет, сахара нет, мыла нет, мяса нет. Что за система! Долой ее!» Вечером к нему приехали сотрудники КГБ и отвезли его на допрос. На допросе ему объяснили, что такое поведение недопустимо, а строгий офицер добавил: «Раньше мы бы вас просто расстреляли». Мужчина вернулся домой ещё более расстроенный и сказал жене: «Всё гораздо хуже, чем я думал. У них ещё и патроны закончились».
Молодой член советской делегации, Владимир Чернега, признался, что даже в самые мрачные времена он и его товарищи пытались с риском для себя докопаться до правды. Он с восхищением отзывался о книгах Бжезинского, рассказав, что однажды вынес экземпляр «Советского блока» из закрытого отдела библиотеки, чтобы прочитать его дома. По его словам, в то время он был совсем молод, но понимал, какая огромная пропасть между тем, что говорят официально, и тем, что происходит на самом деле. Он добавил, что в годы Брежнева читал и «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, копию которого из рук в руки передавали его коллеги по Дипломатической академии. Если бы у него нашли эту книгу, то это обозначало бы конец его карьере. На вопрос, почему он шёл на такой риск, он ответил, что «настоящий интеллектуал должен идти на риск в поисках правды» и что он бы не был верен своему призванию, если бы не бросал вызов цензуре. В его словах звучала явная гордость за то, что гласность почти устранила само понятие «запрещённой литературы».
Члены советской группы понимали необходимость проведения коренных и необратимых реформ. В одном разговоре за завтраком Бжезинский вернулся к теме о том, что для успеха перестройки Горбачёву нужно более чётко и ясно заявить о том, какую именно систему он намерен создать. Советский собеседник ответил, что Горбачёв, как очевидно всем, «хочет создать рыночную экономику и плюралистскую политическую систему на основе законности и уважения общечеловеческих ценностей». Бжезинский возразил и сказал, что ему это не настолько очевидно. Собеседник с эмоциональностью в голосе ответил: «Но это должно произойти. Система должна пройти через радикальные преобразования. В любом другом случае общество погрузится в хаос».
Бжезинский и члены американской делегации стали свидетелями, можно сказать, предсмертных судорог коммунизма. Всё, что они видели и слышали, не имело прецедентов в советской истории и иногда даже казалось невероятным. Советский «истеблишмент» принимал и приветствовал человека, которого раньше считал непримиримым идеологическим врагом. Высокопоставленные чиновники и политологи открыто описывали происходящие перемены и называли их фундаментальным разрывом с советским прошлым. Некоторые из их замечаний – например, высказывание старшего советника Горбачёва о том, что доктрина Брежнева мертва, – казались настолько противоречащими прежним принципам, что многим членам американской делегации было трудно в них поверить. В то же время было очевидно, что реформы направляют Советский Союз в неизведанные воды; уверенные в необходимости коренных преобразований реформаторы, сами того не осознавая, пробуждали неконтролируемые силы и запускали процессы с непредсказуемым результатом.
Конференция оказала значительное влияние на представления Бжезинского о Советском Союзе. Месяц спустя, в интервью прессе он утверждал: «В мышлении людей происходят потрясающие перемены. На протяжении семидесяти лет они были искусственным образом отрезаны от интеллектуальных и философских течений западного мира, а сейчас некоторые эти связи восстанавливаются, процессы возобновляются». Когда его спросили, будет ли существовать СССР в 2001 году, он без сомнения ответил: «Нет. Будет что-то совсем другое. Скорость перемен, их масштаб и глубина таковы, что нам приходится перестать мыслить в привычных терминах».
В последующие недели и месяцы скорость исторических перемен только ускорилась. В начале ноября пала Берлинская стена, ускорив объединение Германии, произошедшее в 1990 году. За этим последовало падение коммунистических режимов в Чехословакии, Румынии и Болгарии. В феврале 1990 года Горбачёв отменил монополию коммунистической партии на политическую власть. 13 апреля 1990 года, в сорок седьмую годовщину открытия массовых захоронений в Катыни, советское правительство официально признало ответственность за убийства и выразило свои «глубокие сожаления». В национальных республиках формировались новые партии, требующие большей автономии. Некоторые из республик провели многопартийные выборы, закончившиеся поражением местных коммунистов.
В 1991 году реакционные силы в Москве вознамерились взять реванш. Некоторые из самых активных сторонников Горбачёва были отправлены в отставку или даже исключены из КПСС. В августе сторонники жёстких мер попытались устроить переворот. В то время Шахназаров находился на курорте в Крыму, недалеко от Горбачёва, с которым разрабатывал план «союзного договора», призванного реформировать легальную основу самого Советского Союза. Перед так называемым «путчем» он последним говорил с Горбачёвым. Через три дня путч закончился провалом, и это стало поворотной точкой.
Реформ существующего строя оказалось недостаточно. Борис Ельцин, президент Российской республики, вывел на улицы оппозицию и заручился поддержкой военных. После возвращения Горбачёва в Москву Ельцин отказался подчиняться ему. Почувствовав слабость центрального правительства, лидеры национальных республик потребовали ещё большего суверенитета и даже объявили о независимости. 8 декабря 1991 года Ельцин и президенты Украинской и Белорусской республик аннулировали союзный договор, лишив тем самым Советский Союз легальной основы, и создали вместо него Содружество Независимых Государств. Через семнадцать дней Горбачёв сложил с себя полномочия президента СССР, и советский флаг в Кремле был спущен навсегда.
Глава 12. Бжезинский и Ирак: становление «голубя»
Джеймс Манн
В первые несколько десятилетий своей карьеры благодаря своим жёстким взглядам на Советский Союз Збигнев Бжезинский считался «ястребом». Каково же было удивление широкой публики, когда во время администрации Джорджа Г. У. Буша Бжезинский снова принял активное участие в политических дискуссиях, на этот раз в виде «голубя». Начиная с 2002 года он решительно осуждал войну Буша в Ираке. Осуждать военные действия он начал ещё раньше и сильнее других демократов, многие из которых стали занимать какую-то определённую позицию только после того, как после войны прошло несколько лет.
Чем же был вызван переход Бжезинского из правого крыла внешнеполитической элиты Демократической партии в левое крыло? Первым на ум приходит конец холодной войны и распад Советского Союза, изменившие политическую картину таким образом, что Бжезинского стали заботить совершенно другие проблемы. Но при более пристальном анализе взглядов Бжезинского на Ирак видно, что их эволюция началась ещё в годы холодной войны – о том говорят размышления о важности многосторонних связей, стратегической роли нефти и необходимости разрешения ближневосточного конфликта между Израилем и палестинцами. Критика войны не была мнением нового Бжезинского, а продолжением взглядов старого, только исполняющего теперь новую роль.
Мнение Бжезинского по поводу войны в Ираке, высказанное им в 2003 году, примечательно по многим причинам. Он был одним из немногих профессиональных политологов, усомнившихся как в необходимости войны в Персидском заливе 1991 года, так и в обоснованности войны в Ираке двенадцатью годами спустя. Отрицательное отношение Бжезинского к обеим войнам выделяло его на фоне многих демократов, которые выступили против войны Джорджа Г. У. Буша в заливе, но впоследствии поддержали войну в Ираке (или, по крайней мере, не оспаривали её необходимости). В то же время Бжезинский отличался и от республиканских реалистов, таких как Брент Скоукрофт, который поддерживал войну 1991 года, но осуждал войну 2003 года. Взгляды Бжезинского, похоже, действительно были уникальными. Он не представлял никакую партию, а только себя самого. И всё же он внёс значительный вклад в дебаты по Ираку: бывший советник по национальной безопасности яростно протестующий против войн с одной и той же страной, развязанных двумя разными президентами в разных десятилетиях.
В каких-то отношениях его мнение по Ираку со временем менялось, но в целом его взгляды оставались на удивление последовательными. Далее следует разбор того, как Бжезинский в итоге стал ведущим оппонентом Джорджа У. Буша по вопросу войны в Ираке.
Когда в 1977 году к власти пришла администрация Картера, американская политика по отношению к Персидскому заливу казалась довольно устоявшейся. США старались сохранять доступ к нефти и ограничивать влияние Советского Союза, но при ограниченном военном присутствии в регионе. Начиная с 1950-х годов в своём противодействии проникновению СССР на юг, Америка полагалась на своё сильное присутствие в Турции, Иране и Пакистане. При администрации Никсона Соединённые Штаты делали особую ставку на Иран в качестве регионального лидера, обеспечивая шаха необходимым вооружением.
Эта политика рухнула из-за нарушивших стабильность событий в последние годы Картера: свержения иранского шаха Исламской революцией 1979 года и вторжения СССР в Афганистан позже в том же году. В своих мемуарах «Власть и принцип» 1983 года бывший советник Картера по национальной безопасности Бжезинский писал, что эти события послужили причиной «стратегической революции, изменившей положение Америки в мире»[211]. Раньше в основном фокусе внимания США находились два региона: Западная Европа и Восточная Азия. Теперь же, по мнению Бжезинского, критическое значение для США приобрёл Ближний Восток. В 1980 году в ежегодном обращении к Конгрессу «О положении страны» президент Картер повторил сформулированные Бжезинским принципы, называемые «Доктриной Картера»: любые попытки посторонних сил обеспечить контроль над Персидским заливом «будут считаться нарушением жизненных интересов Соединённых Штатов Америки, и такое нарушение будет пресечено любыми необходимыми средствами, включая военную силу»[212]. США начали наращивать военное присутствие в заливе, начиная с сил быстрого реагирования. На протяжении последних лет холодной войны размышления Бжезинского по поводу Персидского залива определяло военное и стратегическое соперничество с Советским Союзом. В статье 1987 года он настаивал на том, что США должны перебросить туда стотысячный контингент из Западной Европы – удивительное предложение для страны с европейскими историческими корнями и издавна заявлявшей о своих интересах в Европе.
Эта статья, по существу, была полемическим ответом Бжезинского на предложение членов Конгресса вывести американские войска из залива. Тогда как раз была в разгаре война между Ираном и Ираком, и казалось, что победа должна достаться Ирану. Но для Бжезинского основным поводом для беспокойства был Советский Союз, а не Иран или Ирак:
«Если Советский Союз когда-нибудь добьётся превосходства в Юго-Восточной Азии, Москва сможет оказывать неимоверное давление на наших союзников в Западной Европе и Японии… Уход США из залива покажет, что Персидский залив теперь контролирует [аятолла] Хомейни со своими приспешниками – стратегическое поражение в десять раз хуже потери Ирана. Основную выгоду от ухода США получит Советский Союз. Контроль Ирана над заливом будет, по меньшей мере, временным шагом, за которым последует расширение советского влияния, особенно по мере ослабления американского присутствия. Можно только строить догадки, какой политический хаос нежелание США действовать вызовет в слабых, но значимых государствах Персидского залива[213]».
Основной упор в этой статье 1987 года делался на исключительную военную силу США. «Соединённые Штаты должны сделать всё возможное, чтобы защитить интересы Запада в Персидском заливе – при необходимости в одиночку». На протяжении многих лет Бжезинский был активным проповедником многосторонних отношений; в начале 1970-х годов он способствовал созданию Трёхсторонней комиссии в целях обеспечения сотрудничества США, Европы и Японии. Но он сомневался, что союзники Америки помогут защитить нефть, от которой зависит их экономика. «В идеальном мире войска США патрулировали бы Персидский залив вместе с войсками Франции, Великобритании, Италии, Бельгии и Нидерландов при финансовой поддержке Японии, – писал он. – Таково было бы наилучшее решение. Но если это невозможно, то отсюда не следует, что США ничего не должны делать. Мы должны признать, что Соединённые Штаты обладают статусом мировой силы, а наши союзники – всего лишь региональные силы».
В то время Бжезинский чётко давал понять, что все его рассуждения по поводу Персидского залива основаны на предположении о том, что холодная война будет постоянным фактором. «Мои рассуждения основаны на том, что американо-советский конфликт представляет собой историческое соперничество, которое будет длиться, пока мы живём», – писал он. Он и представить не мог, что Советскому Союзу остается жить три с половиной года и что его собственная карьера ещё почти два десятилетия продолжится в постсоветском мире.
К 1988 году Бжезинский настолько разочаровался происходящим в Демократической партии, и особенно её кандидатом в президенты Майклом Дукакисом, что поддержал республиканского кандидата Джорджа Г. У. Буша. Это был неординарный шаг: в конце концов Буш был преданным вице-президентом Рональда Рейгана, вытеснившего из Белого дома администрацию Картера и самого Бжезинского. К тому же главным советником Дукакиса по внешней политике в кампании 1988 года была Мадлен Олбрайт, бывший член Совета национальной безопасности при Бжезинском и его бывшая ученица в Колумбийском университете. И всё же Бжезинский считал Дукакиса новичком в международных делах: «Высказывания мистера Дукакиса, сделанные им в ходе кампании, представляют собой смесь невежества и антивоенных предубеждений», – сказал Бжезинский в интервью журналу «Дифенс уик» осенью того года[214]. Он говорил, что Дукакис неверно интерпретировал желание Советского Союза идти на переговоры с Соединёнными Штатами по ограничению вооружений и приписывал его доброй воле Михаила Горбачёва, тогда как на самом деле к этому советскую сторону подталкивала жёсткая позиция администрации Рейгана. (В том же интервью журналу «Дифенс уик» 1988 года Бжезинского спросили, кто может быть хорошим кандидатом на пост министра обороны или советника по национальной безопасности, и он ответил: «Брент Скоукрофт, Джон Тауэр [и] Дон Рамсфельд – исключительно способные люди»[215].)
Поддержка Буша служила доказательством того, что интерес Бжезинского к внешней политике перевешивал все партийные соображения. Особенно она значима в свете последующего решения выступить против инициированной Джорджем У. Бушем войны в заливе. Других высказавшихся против неё демократов, таких как сенаторы Джордж Митчелл, Эдвард М. Кеннеди и Сэм Нанн, можно обвинить в политической расчётливости, а именно в желании найти очередной повод для обвинений республиканского президента. В случае с Бжезинским, который изначально поддерживал Буша, такая критика не работает.
В недели, последующие непосредственно за вторжением войск Саддама Хусейна в Кувейт 2 августа 1990 года, Бжезинский обозначил свою позицию, которой придерживался на протяжении всего полугода подготовки к войне: Америка должна объявить войну, если Саддам Хусейн пойдёт дальше и вторгнется в Саудовскую Аравию, но он был против использования войск для выдворения иракцев из Кувейта. «Я считаю, что интересы Америки… настоятельно требуют защиты Саудовской Аравии с целью бесперебойных поставок нефти по разумным ценам, – говорил он в интервью 21 августа в телепрограмме «Час новостей Макнила-Лерера». – Это жизненные интересы, которые ни в коем случае не должны подвергаться угрозе и которые мы должны защищать сами». Выдворить иракские войска из Кувейта «было бы желательно, но это не настолько важно»[216]. Он считал, что арабские государства вполне могут прийти к компромиссу – например, добиться вывода иракских войск из Кувейта, «но при этом договориться о предоставлении Ираку доступа к некоторым кувейтским активам и компаниям». Осенью того же года в опубликованной в «Нью-Йорк таймс» статье он предлагал пересмотреть послужившие поводом для вторжения финансовые и территориальные претензии Ирака к Кувейту, утверждая, что «не все они были лишены оснований»[217].
Конечно же, сомнения Бжезинского в обоснованности военных действий были обусловлены общими стратегическими соображениями, а не деталями спора между Ираком и Кувейтом. Он неоднократно призывал Соединённые Штаты действовать сообща с другими странами вместо того, чтобы играть роль «острия копья» в кампании против Ирака. Один из аргументов затрагивал роль США в мире после холодной войны: «Позиции Америки сейчас действительно высоки, – говорил он в августовском интервью, – и меньше всего мне сейчас хочется видеть, как Соединённые Штаты увязают в исключительно американской войне против арабов на Ближнем Востоке, что может случиться, если мы слишком далеко оторвёмся от остальных»[218]. В другом своём появлении на телепередаче «Час новостей» в январе 1991 года, сразу же после начала войны, Бжезинский с хмурым видом предупреждал: «Мы должны критически пересмотреть лозунг «Новый мировой порядок», о котором так много говорили в последнее время, и задать себе вопрос – действительно ли сейчас наблюдается новый мировой порядок, или это просто порядок, основанный на превосходстве одной сверхдержавы, то есть Соединённых Штатов?»[219]
Заодно он предупреждал о порочных последствиях использования силы в Персидском заливе. Сейчас его суждения кажутся на удивление пророческими, особенно в свете второй иракской войны, происшедшей десятилетие спустя. (Согласно его оценкам, затяжная война будет стоить американским налогоплательщикам до 1 миллиарда долларов в день – примерно столько же стоила война во время президентства Буша-младшего, но не в 1991 году). Его также беспокоила дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке и в самом Ираке. Если Ирак потерпит поражение и Саддам Хусейн лишится власти, «то насколько далеко мы пойдем в стремлении установить новую власть [в Ираке]?» – задавался вопросом Бжезинский и отвечал на него: «Я не уверен, что мы на самом деле подумали об этом». Более того, если Ирак будет разорён войной, то, по его мнению, существовал риск, что «геополитической силой номер один в регионе Персидского залива станет Иран. Как нам принять этот факт?»[220]
Его предположения оказались пророческими не во всех отношениях. В частности, стратегическое чутьё у него было развито лучше способностей к военному анализу. Так, например, он поддерживал аргументы лидеров Демократической партии, которые утверждали, что война приведёт к большим потерям с американской стороны. В опубликованной в «Нью-Йорк таймс» статье он описывал иракскую армию, как «проверенную в боевых испытаниях и обладавшую опытом оборонительных сражений. Поскольку основная нагрузка почти наверняка ляжет на американские войска, следует ожидать тысячных потерь среди американских солдат»[221]. В такой низкой оценке есть своя ирония – новое высокоточное управляемое оружие, доказавшее свою эффективность во время войны в заливе и определившее ее исход, стало разрабатываться Пентагоном как раз по приказу администрации Картера при министре обороны Гарольде Брауне и будущем министре обороны Уильяме Перри.
На протяжении нескольких месяцев подготовки перед войной Бжезинский порицал воинственную риторику – например, используемое Бушем сравнение Саддама Хусейна с Адольфом Гитлером. Он снова и снова настаивал на том, что следует полагаться на экономические санкции, а не на войну. Даже если Саддам Хусейн разрабатывает ядерное оружие, проблему, по мнению Бжезинского, можно было решить политикой сдерживания, а не использованием силы. «Америка сорок лет жила в тени советской ядерной угрозы, при том что Сталин или Хрущёв были готовы без всяких угрызений совести уничтожить тех, кто слабее их, – заявлял он. – Но политика сдерживания сработала, так что у Америки уж точно хватит сил сдерживать Ирак»[222].
Вышло так, что администрации Буша удалось обеспечить гораздо более тесное сотрудничество между США и их союзниками, чем предполагал Бжезинский, что привело к быстрой победе возглавляемой Америкой коалиции. Но всё же Саддам Хусейн не лишился власти после поражения, на что надеялась администрация Буша. После войны и на протяжении всех 1990-х годов Бжезинский продолжал сомневаться в эффективности американской политики по отношению к Ираку и странам Персидского залива.
Когда в свои последние дни администрация Буша распорядилась провести последний ракетный обстрел Ирака, Бжезинский сказал, что ракетные удары были «тактическими по природе», но «не решающими сути проблемы, заключавшейся в чувстве разочарования и озлобленности арабских масс». Он предупреждал о том, что коалиция может распасться, и Америка останется в союзе лишь с бывшими колониальными державами Великобританией и Францией. «Для нас важно заручиться поддержкой Египта, Саудовской Аравии, Сирии и далее, вплоть до Марокко. А заручиться их поддержкой можно, только если разработать широкую политику решения проблем Ближнего Востока»[223]. Это была отсылка на необходимость мирного разрешения израильско-палестинского конфликта, частый предмет размышлений Бжезинского.
Позже, в 1993 году, когда администрация Клинтона впервые нанесла удар по Ираку в ответ на план Саддама Хусейна убить бывшего президента Буша, Бжезинский выдвинул тезис, ставший ещё одним его частым мотивом: необходимость оценивать Ирак в перспективе, и не отдельно, сам по себе, а в его связи с Ираном. «Нам следует крайне тщательно поддерживать своего рода равновесие в Персидском заливе, рассматривая угрозы со стороны Ирака и Ирана», – сказал он в своём выступлении на канале Си-эн-эн. – По сути, Иран представляет бо́льшую угрозу, тогда как Ирак представляет бо́льшую проблему, и мы должны учитывать это различие»[224].
Белый дом Клинтона, похоже, прислушался к его совету. В первый срок Клинтона администрация приняла предложенную Бжезинским политику двойного сдерживания, как Ирана, так и Ирака. Но через несколько лет Бжезинский стал сомневаться в этой политике и в способах её реализации.
В 1996 году Совет по международным отношениям назначил Бжезинского вместе с другим бывшим советником по национальной безопасности, Брентом Скоукрофтом, сопредседателями группы по изучению американской политики в Персидском заливе. Они придерживались поразительно разных взглядов на минувшую войну; для Скоукрофта главным обстоятельством было то, что Саддам вторгся в Кувейт, тогда как для Бжезинского это было лишь одним из стратегических факторов в контексте более широкой ближневосточной политики. Но к середине 1990-х годов они во многом сблизились, и каждый воспринимал взгляды другого как идеи разделяемого ими внешнеполитического реализма. Их партнёрство продолжилось и во времена администрации Джорджа Буша-младшего, когда оба стали ведущими критиками американского вторжения в Ирак.
Поводом для исследования Совета, по всей видимости, послужил Акт о санкциях против Ирака и Ливии (ILSA), принятый в 1996 году руководимым республиканцами Конгрессом. Этот закон предусматривал односторонние санкции по отношению к имеющим деловые отношения с Ираном компаниям; союзники США, особенно в Европе, были им крайне недовольны. Доклад группы Бжезинского и Скоукрофта был озаглавлен «Разграничивающее сдерживание». В заключении они писали, что настала пора продемонстрировать больше политической гибкости по отношению к Ирану и Ираку. «Международное согласие по поводу продолжающегося сдерживания Ирака рушится», – писали Бжезинский и Скоукрофт вместе с Ричардом Мёрфи, директором исследовательской группы. «Решительная» кампания США по изоляции Ирана, по их мнению, также не работала. Они советовали Соединённым Штатам придерживаться «более деликатного» подхода: «Такая новая политика продолжит сдерживать Саддама, но политические модификации позволят сохранить единство коалиции войны в заливе». В докладе также говорилось о том, что Иран обладает большей геополитической силой по сравнению с Ираком: США должны признать, что их «текущие попытки одностороннего сдерживания Ирана дороги и неэффективны». Среди прочих рекомендаций был совет использовать в отношениях с Ираном «творческие компромиссы», «такие как ослабление позиции по иранской ядерной программе в обмен на более тщательные и всесторонние инспекции и процедуры контроля». В более общем смысле Бжезинский и Скоукрофт утверждали: «Необходимо, чтобы все стороны понимали важную стратегическую реальность: Соединённые Штаты намерены остаться в Персидском заливе. Безопасность и независимость региона представляют собой жизненные интересы США. На этом факте должны основываться любые планы урегулирования ситуации в регионе после Саддама или любые планы примирения с менее враждебным правительством Ирана». Бжезинский явно возвращался к фундаментальным основам политики Картера[225].
К концу 1990-х годов критика иракской политики Клинтона со стороны Бжезинского стала ещё более острой: «В Ираке мы утратили чувство равновесия и пропорций, – заявил он в конце 1998 года, вскоре после начала очередных интенсивных бомбардировок Ирака. – Мы говорим об Ираке как о нацистской Германии. Но это бедная страна с населением 22 миллиона человек, с подорванной эмбарго экономикой и разрушенная ударами. Это проблема, это помеха, но никак не главная мировая угроза»[226].
В том же телевизионном интервью Бжезинский сказал, что грозное правление Саддама Хусейна в каком-то смысле парадоксальным образом служит более широким интересам Америки на Ближнем Востоке. «Он даже нам полезен, поскольку усиливает зависимость стран залива и Саудовской Аравии от нашей защиты – так что он даже укрепляет наше присутствие в регионе, иначе арабы могли бы отвернуться от нас, отчасти вследствие израильского конфликта и других факторов»[227].
Таким образом, ко времени президентства Джорджа У. Буша Бжезинский: 1) уже на протяжении более двух десятилетий был сторонником сильного присутствия Америки в Персидском заливе, которое рассматривал как необходимое условие бесперебойного доступа к нефтяным месторождениям; 2) утверждал, что США должны действовать сообща со своими союзниками; 3) считал крайне важным мирное урегулирование израильско-палестинского вопроса и 4) часто и охотно выступал публично, выражая свои взгляды на американскую политику в Персидском заливе и не стесняясь острых высказываний.
Поскольку со временем Бжезинский приобрёл известность как один из главных критиков вторжения в Ирак, то может показаться, что он выступал против этой идеи с самого начала. Но более тщательное исследование его публичных заявлений показывает, что на протяжении трёх месяцев после атак 11 сентября, когда администрация Буша впервые стала раздумывать о возможном нападении на Ирак, Бжезинский также рассматривал эту идею и не был настроен против – по меньшей мере, при определённых условиях. И только в следующем году, когда руководство США стало вынашивать более определенные планы вторжения, а связи между Ираком и атаками 11 сентября казались всё более неопределёнными, Бжезинский стал твёрдым противником войны.
Через две недели после атак на Международный торговый центр и Пентагон Бжезинский написал для «Уолл стрит джорнал» статью о том, как США должны ответить на них. По его мнению, необходимо было провести немедленную военную акцию против Аль-Каиды «с целью продемонстрировать решимость Америки противодействовать терроризму и, говоря по существу, строго покарать виновных». Более трудный вопрос заключался в том, что делать после первоначальной стадии войны в Афганистане. Администрация Буша должна «сосредоточиться на правительствах, которые молчаливо соглашались с террористическими организациями или тайно поддерживали их, а, возможно, даже сговаривались о проведении террористических актов», – говорил Бжезинский. «Если имеются веские основания говорить о сотрудничестве – например, если Саддам Хусейн предоставлял организационную помощь в осуществлении недавних терактов, – непосредственная военная операция США по уничтожению такого режима будет не только оправданной, но и необходимой» (выделено автором-составителем)[228].
Полтора месяца спустя Бжезинский добавил ещё одно соображение: «Поскольку нельзя игнорировать тот факт, что Ближний Восток представляет собой пороховую бочку, а у Ирака были мотивы, средства и извращённые идеологические основания действительно предоставлять помощь террористам, то и нельзя ссылаться на формальные причины отсутствия «улик» причастия Ирака к событиям 11 сентября»[229].
К тому моменту Бжезинский, похоже, был готов принять некоторые доводы осуждающих Ирак «ястребов» в администрации. После 11 сентября некоторые комментаторы предсказывали, что администрации Буша из необходимости придётся теперь больше полагаться на союзников и друзей, чем в первые месяцы, когда она подчёркивала свою самостоятельность. В этой статье Бжезинский с ними не соглашался: «Отсюда следует вывод, что перед лицом террористической угрозы Соединённым Штатам придётся активно действовать в одиночку»[230].
Но даже во время этой начальной стадии Бжезинский высказывал взгляды, отличающиеся от взглядов администрации. Он утверждал, что кампания против террористов будет вынуждена столкнуться с «некоторым, если не со всем, сопротивлением, поддерживающим терроризм». Согласно его мнению, при планировании долгосрочного ответа на 11 сентября администрация должна «сосредоточиться на формировании всемирной коалиции государств»[231]. Что более важно, Бжезинский предупреждал, что такие решительные действия против Саддама Хусейна «вряд ли удастся осуществить в контексте продолжающегося израильско-палестинского насилия»[232].
В первой половине 2002 года некоторые события настроили Бжезинского против администрации. В начале года Буш выступил с речью «О положении страны», в которой назвал Иран, Ирак и Северную Корею «осью зла», свалив их в одну кучу. Это был яркий образец как раз того самого морализаторства, которое недолюбливал Бжезинский, – точно так же он возражал против сравнения Саддама Хусейна с Гитлером в речах Буша-старшего. Более того, рассуждения об «оси зла» ещё сильнее настроили европейскую оппозицию против администрации Буша, затруднив тем самым создание международной коалиции, что тоже беспокоило Бжезинского. Весной того же года произошла вспышка насилия в Израиле, на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Израиль перехватил оружие и ракеты, которые, по его заявлению, переправлялись из Ирана палестинцам. Внутри Израиля арабские смертники устроили несколько терактов с подрывом бомб – в результате одного из них погибли двадцать девять отмечавших праздник Песах израильтян. Правительство Аарона Шарона ответило тем, что направило войска, танки и вертолёты на Западный берег.
В Вашингтоне в администрации Буша произошёл раскол по поводу Израиля и по поводу возможных военных действий против Саддама Хусейна. «Ястребы» во главе с вице-президентом Диком Чейни, считали, что мирные переговоры на Ближнем Востоке можно ускорить, если сделать палестинских лидеров более сговорчивыми. Многие из «ястребов» были лично причастны к войне в Персидском заливе. Военные действия как акция устрашения привела к временному отчуждению палестинского лидера Арафата от арабских государств; «ястребы» 2002 года надеялись теми же методами снова изолировать Арафата. Война, по их мнению, должна была послужить толчком к мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта[233].
Другая фракция в администрации Буша, возглавляемая госсекретарём Колином Пауэллом, придерживалась диаметрально противоположных взглядов: Соединённые Штаты должны как можно быстрее добиться мира на Ближнем Востоке перед тем, как разбираться с Саддамом Хусейном. Пауэлл и другие представители Госдепартамента считали, что для успеха операции в Ираке Америка должна заручиться поддержкой арабских государств. Военная операция Израиля и последующее ужесточение мер на палестинских территориях сделали для США невозможным создание широкой коалиции против Ирака.
Чейни и Пауэлл весной 2002 года нанесли отдельные визиты на Ближний Восток. Пауэлл советовал Бушу провести международную конференцию по миру на Ближнем Востоке, но в конце концов победила точка зрения Чейни. В середине года президент выступил с речью, призывающей не к мирной конференции, а к смене Арафата новым руководством Палестинской автономии в результате демократических выборов. Бжезинский в этом противостоянии занимал сторону Пауэлла. Он казался всего лишь сторонним наблюдателем этого перетягивания каната внутри администрации, но интересовался им не из простого любопытства. В конце концов именно он принимал непосредственное участие в Кэмп-Дэвидских переговорах при Картере. После 11 сентября он неоднократно подчёркивал, насколько важное значение для интересов Америки в том регионе имеет мирное урегулирование на Ближнем Востоке.
Летом 2002 года администрация начала подготавливать общественность и Конгресс к военным действиям в Ираке. Главным спорным аргументом оставался не сам вопрос о необходимости таких действий, а необходимость получения одобрения со стороны ООН. Именно в это время Бжезинский выступил со строгой публичной критикой администрации. Он выступал параллельно со Скоукрофтом, с которым всего лишь несколькими годами ранее был сопредседателем группы по изучению ситуации в Персидском заливе. В середине августа Скоукрофт, бывший наставник советника Буша по национальной безопасности Кондолизы Райс, опубликовал в «Уолл-стрит джорнал» статью с ярким заголовком «Не нападайте на Саддама Хусейна»[234]. Три дня спустя в «Вашингтон пост» Бжезинский высказал свои претензии против команды Буша. В этой написанной довольно резким языком статье перечислялись не только почти все его прежние аргументы по поводу Ирака, но и высказывались новые. «Война – это слишком серьёзное и непредсказуемое по своим динамическим последствиям дело… к нему нельзя подходить из каких-то личных предубеждений, демагогически сформулированных страхов или смутных фракционных соображений», – писал Бжезинский. Президент должен был предложить нации «тщательно обоснованное решение, без кричащих лозунгов и с конкретными фактами угрозы»[235].
Более того, продолжал Бжезинский, «поскольку Соединённые Штаты готовятся к войне, следует активнее добиваться мирного решения израильско-палестинского конфликта, оказывая давление на обе стороны». В случае неудачи «существует высокий риск, что атака США на Ирак будет воспринята в регионе (и, возможно, также в Европе), как часть американо-израильского плана установить новый порядок на Ближнем Востоке без всякого внимания к потерям среди иракских или палестинских мирных жителей».
Новой идеей Бжезинского стал план по послевоенному урегулированию положения в Ираке. Администрация Буша, по его мнению, должна была начать переговоры со своими союзниками «относительно возможного послевоенного урегулирования в Ираке, включая продолжительное присутствие общих сил безопасности и планы международной финансовой поддержки социального восстановления страны». Это позволило бы укрепить доверие к позициям Америки среди союзников. Под конец Бжезинский выходил за рамки иракского вопроса и предлагал задуматься о более широких стратегических последствиях одиночных действий и того, что они означают для роли Америки в мире. «Если война неизбежна, то её следует вести таким образом, который легитимизирует глобальную гегемонию США и, в то же время, способствует созданию более ответственной системы международной безопасности». «В конечном итоге на кону нечто большее, чем Ирак. Это характер международной системы и роль в ней государства, которое фактически является самым сильным в мире»[236].
Статья Бжезинского в «Вашингтон пост» задала тон для его последующих выступлений. Когда он две недели спустя выступал в воскресном ток-шоу, его спросили о том, как он относится к заявлению вице-президента Чейни о том, что отправка международных наблюдателей в Ирак только подтвердит ложные заверения о том, что у Саддама Хусейна нет оружия массового поражения (ОМП). Бжезинский ответил: «Вице-президент, по сути, говорит следующее: мы не знаем, есть ли у него оружие, какого оно типа, не знаем, где оно, и никогда не найдём его – но мы собираемся вторгнуться туда и уничтожить его. Это не очень логично»[237]. На протяжении осени 2002 года и первых месяцев 2003 года он неоднократно ставил под сомнение доводы в пользу войны, настаивал на необходимости создания широкой коалиции государств и подчёркивал важность переговоров о мирном урегулировании между израильтянами и палестинцами, как необходимого условия получения международной поддержки. Решение администрации Буша действовать в одиночку, без поддержки ООН, «скорее всего, заставит Америку и взвалить исключительно на себя вероятные болезненные и дорогостоящие последствия войны». «Финансовые расходы Америки будут, скорее всего, невероятными», – писал он[238]. И всё же, несмотря на свои постоянные возражения, Бжезинский всегда допускал возможность, что при некоторых обстоятельствах он поддержит военные действия: если США будут действовать вместе с другими государствами в ответ на недвусмысленные и грубые нарушения постановлений ООН.
Осенью того же года администрация Буша получила одобрение Конгресса на использование военной силы против Ирака. Позже демократических сенаторов Джона Керри, Хиллари Клинтон, Джона Эдвардса и Джо Байдена будут критиковать за то, что они отдали свои голоса в поддержку такого решения, да и они сами будут сокрушаться по этому поводу, но как бы это ни казалось удивительным сегодня, Бжезинский, наиболее известный среди демократов критик войны, сказал, что тоже проголосовал бы за это решение. Во время интервью каналу Си-эн-эн произошёл следующий диалог:
Вульф Блитцер: Доктор Бжезинский, если бы вы были членом Конгресса и вас бы попросили проголосовать за резолюцию, разрешающую президенту Бушу при необходимости использовать силу против Ирака, вы проголосовали бы «за» или «против»?
Бжезинский: Я, вероятно, проголосовал бы «за», особенно если бы голосование происходило после речи [Буша] 12 сентября, когда президент заявил, что война без союзников будет последним средством, и только при неминуемой угрозе, и если президент в ООН сделает всё возможное, чтобы определить угрозу не только как неминуемую, а как серьёзную и нарастающую[239].
5 февраля 2003 года, когда госсекретарь Колин Пауэлл произнёс свою известную речь в ООН, в которой поведал о собранных американской разведкой доказательствах предполагаемого наличия у Ирака ОМП, Бжезинский заявил о поддержке Пауэлла. «Мне показалось, у него получилась очень впечатляющая презентация; она звучала убедительно, – сказал он в своём выступлении по телевидению вечером того же дня. – Я также впервые за всё время почувствовал, что администрация предъявила настоящие обвинения в том, что Ирак представляет собой долгосрочную и нарастающую угрозу. Надеюсь, это послужит основанием для более сплочённого международного сотрудничества с целью принуждения Ирака к выполнению требований или его сдерживания, если он не согласится»[240].
Однако в последующие недели, когда администрация Буша старалась обеспечить рекомендованную Бжезинским международную поддержку, сам Бжезинский окончательно перестал поддерживать идею военной операции на том основании, что сейчас как раз время дипломатических действий. «Соединённым Штатам желательно предоставить инспекторам ООН в Ираке несколько месяцев на то, чтобы стало яснее, соглашается ли Ирак, пусть и нехотя, выполнять требования, или намеренно уклоняется от них», – писал он в «Вашингтон пост»[241]. Телевизионное интервью он закончил следующими словами: «Мы – сила номер один. Мы должны идти впереди. Но наша руководящая роль также зависит от того, насколько её воспринимают легитимной. Нам нужно мобилизовать страны на основе общих принципов. И как раз это нам и не удалось сделать»[242]. Администрация Буша не прислушалась к его предупреждениям. Не добившись резолюции ООН в поддержку немедленного использования силы, 19 марта 2003 года Соединённые Штаты начали войну при умеренной поддержке британских, австралийских и польских войск.
Почти во всех высказываниях и статьях Бжезинского до вторжения в Ирак фигурировал условный вопрос: «Если у Ирака будет обнаружено ОМП, то как поступят Соединённые Штаты?» Бжезинский утверждал, что в таком случае основной целью США должно стать устранение ОМП в Ираке, а вовсе не свержение режима. Он также допускал возможность решения проблемы ОМП с помощью политики сдерживания, а не использования военной силы. Если же дело дойдёт до вторжения, то, по его мнению, его должны будут осуществлять силы широкой международной коалиции.
Через шесть недель после вторжения американских войск в Ирак Буш объявил об окончании широкомасштабной операции и о фактической победе – стоя под лозунгом со словами: «Миссия выполнена». Но ещё через несколько недель выяснилось, что послужившая поводом для вторжения задача, задавшая тон всем предвоенным дебатам, так и не была выполнена. Американские войска не обнаружили в Ираке никакого ОМП какого бы то ни было типа.
Именно в этот момент Бжезинский превратился в решительного и яростного противника войны в Ираке, которым его привыкли видеть американские телезрители на протяжении последующих пяти лет. Если другие представители вашингтонского сообщества политологов находили поводы сдерживать свою критику, то у Бжезинского таких поводов не было. Особенно разительным представлялся контраст с Генри Киссинджером, другим бывшим советником по национальной безопасности и старым приятелем Бжезинского по Гарварду. Оба летом 2003 года выступали на Си-эн-эн. Темой обсуждения тогда был вопрос, действительно ли администрация Буша ввела в заблуждение общественность США и всего мира своими заявлениями по Ираку. Ведущий CNN Вульф Блитцер спросил обоих бывших советников по национальной безопасности, должен ли уйти в отставку кто-то из администрации или разведки. «Не думаю, что кто-то должен уходить в отставку, – ответил Киссинджер. – Нужно проанализировать проблему, но мне не кажется, что это был главный фактор в решении президента».
Ответ Бжезинского прозвучал более жёстко:
«Соединённые Штаты на самом высоком уровне неоднократно заявляли без всяких оснований, что Ирак обладает оружием массового поражения. Не только ядерным, но бактериологическим и химическим… И поэтому мы начали войну. Вот что мы сказали миру. Вот что мы сказали американскому народу. Теперь ясно, что никакого такого оружия у иракцев не было. Они его не использовали. Мы победили их армию в сражениях. Мы захватили их арсеналы. Мы ничего там не нашли. Теперь мы утверждаем, что они могли спрятать оружие массового поражения, что, вообще-то, трудно сделать. Если оно у них было, и они были вооружены им до зубов, то почему не использовали? Если они его не использовали и спрятали, то это значит, их что-то сдержало… А, может, администрацию ввели в заблуждения плохие разведданные? В таком случае кто-то в разведке должен совершенно точно понести наказание, потому что разведывательные ошибки такого масштаба подрывают глобальное доверие к Америке. Или же сжульничал кто-то в администрации, а разведка выполнила свою задачу как следует? Вот что нужно выяснить»[243].
Киссинджер настаивал на том, что на момент сбора данных разведка могла быть права, но что впоследствии Ирак уничтожил или спрятал оружие. «Я считаю, что по сути он [Буш] был прав, даже если сейчас выясняется, что некоторая часть этого оружия могла быть уничтожена», – сказал Киссинджер. Бжезинский опроверг и это предположение. При этом он признался, что, как и многие, поверил в заявление американской разведки о том, что у Ирака есть ОМП. «Тем не менее факт заключается в том – и мы не можем от него отвертеться – что у него нет этого оружия… То есть, если оно у него есть, то покажите его нам. Иракцы его не использовали. Его не нашлось в их арсеналах. Мы там уже несколько месяцев, но ничего не нашли»[244].
В последующие два года Бжезинский только укрепился в своей позиции. В статье для «Нью Рипаблик» в середине 2004 года он утверждал, что «становящаяся всё более запутанной иракская авантюра» проистекает от «экстремистской внешней политики администрации». В той же статье Бжезинский выдвинул свой новый тезис: Соединённые Штаты должны обозначить план вывода войск из Ирака. «Без строго установленной даты вывода американских войск оккупация будет только усиливать враждебность Ирака», – заявлял он[245].
Поскольку позже призыв к выводу войск стал общим местом для демократов и либералов, сейчас трудно осознать, насколько необычным он был для Бжезинского в середине 2004 года. Конечно, и тогда кое-где раздавались голоса с требованием о выводе войск со стороны тех, кто с самого начала был против войны. Но среди внешнеполитической элиты тогда были распространены другие настроения, и её представители придерживались старого принципа «стоять на своём до конца». Раз уж Соединённые Штаты вмешались, то они не могут оставить это дело без катастрофических последствий.
Сенатор Эдвард М. Кеннеди – пожалуй, самый убеждённый противник войны в сенате – призвал к немедленному выводу войск в начале 2005 года. Позже в том же году сенатор Рассел Файнголд привлёк внимание средств массовой информации, потребовав вывода войск в течение восемнадцати месяцев, – но сообщения об этом также подчёркивали тот факт, что с ним не согласились другие известные сенаторы, в том числе Хиллари Клинтон, Джо Байден и лидер меньшинства Гарри Рид. В палате представителей оппозицию войне в Ираке возглавила лидер меньшинства Нэнси Пелоси, но она официально не предлагала вывести войска до осени 2006 года[246]. Так что в своём призыве Бжезинский опередил большинство демократов по меньшей мере на год-два.
К концу президентского срока Буша Бжезинский регулярно осуждал войну в Ираке в самых суровых выражениях. «На Ближнем Востоке многие воспринимали нас как освободителей, особенно после Второй мировой войны, – утверждал он в 2008 году. – Постепенно это восприятие изменилось вплоть до того, что нас стали изображать новыми колониалистами, особенно из-за военного вторжения в Ирак, односторонней поддержки [израильского премьер-министра Аарона] Шарона при Джордже У. Буше и своего рода безразличия к тому, что происходит с палестинцами»[247].
В совокупности взгляды Бжезинского сыграли заметную роль в общественных дебатах по поводу Ирака, предоставив много доводов противникам войны. Он стал частым критиком американской внешней политики и героем тех левых, которые осуждали (или осудили бы) его за жёсткую позицию в отношении Советского Союза во время холодной войны.
Неудивительно, что такие взгляды сделали его мишенью для атак справа. После того, как они со Скоукрофтом выступили против войны, журналист и комментатор Чарльз Краутхаммер обвинил обоих в «ностальгии по политике ограничений и ядерного сдерживания». По словам Краутхаммера, складывалось впечатление, что они тоскуют по эпохе холодной войны, когда Советский Союз можно было запугивать угрозами возмездия, что не сработало бы в отношении Саддама Хусейна[248]. Накануне вторжения «Уикли стандард» назвал Бжезинского «страдающим слабоумием» и обвинил его в том, что он запустил algoreitis simplex – загадочную инфекционную болезнь мозга, названную так по наиболее очевидному проявлению: «тяге его жертв к нелепо преувеличенному осуждению войны Джорджа У. Буша, которую тот ведёт с терроризмом»[249].
Порицатели Бжезинского иногда вспоминали о его роли в администрации Картера, осуждая его за все её грехи и утверждая о связи его былой деятельности с текущими обстоятельствами. «Что касается критикующего [политику по отношению к Ираку] мистера Бжезинского, то большинство из нас, всё же отдаст предпочтение Соединённым Штатам 2005 года, а не хаотической Америке 1977–1980-х годов при администрации, которая мало что сделала для сдерживания набиравшего силу исламского фундаментализма», – писал Виктор Дэвид Хэнсон[250]. «Уолл-стрит джорнал», вспомнив о том, что Бжезинский родился в Варшаве, однажды обвинила его в применении двойных стандартов по отношению к Ираку и к своей родине. «Есть у нас даже Збигнев Бжезинский, который на протяжении всей своей карьеры сражался за свободу своей родной Польши, но отказывает в ней Багдаду. Какое разочаровывающее зрелище», – сообщало европейское издание газеты[251].
Тем временем американские либералы стали воспринимать его как проповедника своих идей. В 2004 году Центр американского прогресса, только что образованный «мозговой инкубатор», призванный пропагандировать либеральные взгляды, выбрал Бжезинского своим главным оратором на конференции по разработке новой национальной стратегии безопасности для Соединённых Штатов. (В своей речи Бжезинский осудил администрацию Джорджа У. Буша за «экстремистскую демагогию» и пропаганду «параноидального взгляда на мир» согласно «философии с нами или против нас».[252]) Такие либеральные журналы, как American Prospect и Nation регулярно хвалили Бжезинского за его мудрость[253].
Возможно, самую главную оценку вклада Бжезинского в осуждение войны в Ираке со стороны демократов дал один из его критиков-неоконсерваторов. Весной 2007 года, в самом начале новой президентской кампании, специалист по Ближнему Востоку Руэл Марк Герехт сокрушался по поводу нежелания демократов поддержать Буша в его решении отослать новый военный контингент в Ирак. «Сейчас не время разговоров о графике вывода – и уж никак не время разговоров о том, что война проиграна, – писал Герехт в редакторской колонке журнала. – Неужели мыслящие демократы действительно верят в то, что ситуация на Ближнем Востоке, служащем ареной нашей борьбы с суннитским джихадизмом и нашего противостояния потенциальным мировым агрессорам, улучшится вследствие поспешного ухода из Междуречья с передачей полномочий? Демократическая партия начинает звучать, как эхо Збигнева Бжезинского»[254].
Глава 13. Решение арабо-израильского конфликта
Дэвид Игнейшес
О многом говорит тот факт, что Збигнев Бжезинский стал сторонником Джимми Картера в 1975 году после их разговора о необходимости установления мира между арабами и израильтянами. Как вспоминает в своих мемуарах Бжезинский, этот разговор произошёл во время конференции Трёхсторонней комиссии в Японии. «Картер страстно и с прямотой говорил о справедливом разрешении ближневосточного вопроса», а позже выставил свою кандидатуру на пресс-конференции, на которую пригласил Бжезинского[255]. Это, по словам Бжезинского, стало «поворотным моментом», и, вернувшись домой, он рассказал жене о дискуссиях по Ближнему Востоку и о том, «насколько меня восхитил Картер в целом»[256]. Это послужило толчком к дальнейшим событиям, изменившим историю.
Мир между арабами и израильтянами и готовность ради него обретать политических врагов – одна из определяющих тем карьеры Бжезинского. Со временем, несмотря на то, что начинал он специалистом по Советскому Союзу, Ближневосточный регион стал основным фокусом его внимания. Обсуждая касающиеся этого региона вопросы, многие американские политологи стараются смягчать свои высказывания из нежелания оскорбить влиятельные заинтересованные группы, но Бжезинский всегда высказывался напрямую, иногда даже чересчур. И он придерживался последовательных взглядов с тех пор, как серьёзно начал задумываться над этими вопросами, начиная с середины 1970-х годов, защищая идею всеобъемлющего урегулирования, включающего в себя и создание палестинского государства, а не просто «пошаговую» стратегию.
В Бжезинском всегда было сильно чувство противоречия – его боевая черта, из-за которой он, казалось, находил удовольствие в спорах, особенно защищая непопулярную точку зрения. Это заметно и в его отношении к арабо-израильскому вопросу, что иллюстрирует одна история, происшедшая ещё до того, как он стал советником президента: в 1976 году Бжезинского, как и многих известных политиков и политологов того времени, пригласили посетить Израиль и встретиться с его ведущими государственными деятелями. Смысл таких визитов заключался в том, что израильтяне хотели донести до американцев идею о том, что эта маленькая страна с трудно защищаемыми границами не пойдёт ни на какие территориальные уступки арабам, окружающим её с трёх сторон. Бжезинский вынес из поездки совсем другой урок, как он объяснял это в своих мемуарах: «Возможно, вопреки ожиданиям израильских хозяев, моя поездка на Голанские высоты и поездки по стране убедили меня в бессмысленности обеспечения безопасности посредством приобретения территории. Мне стало ясно, что Израиль никогда не получит достаточно территорий для компенсации враждебности арабов – и, следовательно, вопрос безопасности Израиля следует рассматривать отдельно от вопроса территориального суверенитета. Расширение суверенитета Израиля само по себе не обеспечит его безопасности, особенно если такое расширение только усиливает враждебность арабов»[257].
Взгляды Бжезинского на арабо-израильский конфликт начали формироваться после войны 1967 года. Сам он так вспоминал о том, как государственные деятели США реагировали на молниеносную победу Израиля и завоевание им Синайского полуострова, Голанских высот и западного берега реки Иордан: «Меня поразили вызовы интересам США со стороны Советского Союза и вызовы миротворческой политике США, возникшие вследствие разногласий среди советников президента Джонсона; некоторые из них были рьяными сторонниками Израиля, другие – не менее рьяными его противниками»[258]. Советник Джонсона по национальной безопасности Уолт Ростоу, выражал произраильские взгляды; проарабскую сторону представлял заместитель госсекретаря Джордж У. Болл. Бжезинский вспоминает, что беспокоился о том, как «эмоции определяют политику», и принял решение: «Вот проблема, которой лучше заняться плотнее»[259].
В годы Никсона Бжезинский рассматривал арабо-израильскую проблему как часть холодной войны. В 1973 году, через месяц после войны Судного дня, он написал в редакторской колонке «Вашингтон пост» о том, что «победителями в войне Судного дня стали арабы и Советы». Арабы, по его мнению, победили в политическом смысле, избежав очередного сокрушительного разгрома, а СССР приобрёл очки, оказав посредничество в прекращении огня. Любопытно, что, выражая свои формирующиеся критические взгляды по отношению к Израилю, Бжезинский вместе с тем заметил, что «усилившееся влияние Соединённых Штатов на Израиль – единственное, что мы получили в ходе этого кризиса»[260].
Бжезинский одним из первых среди американских интеллектуалов принял идею, что лучший способ выйти из арабо-израильского тупика – это создание палестинского государства. Он выдвинул такой аргумент в январе 1974 года, в рамках мирного предложения, опубликованного в журнале «Нью лидер». В нём он писал о создании автономного палестинского государства на Западном берегу, в федерации с Иорданией, и о гибридном статусе Иерусалима, который позволил бы ему стать одновременно палестинской и израильской столицей[261]. Это выходило далеко за рамки предложенной Генри Киссинджером «пошаговой» стратегии.
Статья 1974 года достойна упоминания тем, что в ней обозначены основные темы, которых Бжезинский придерживался с тех пор. «То, что необходимо сделать в текущей ситуации, – это отделить вопрос безопасности от обладания землёй», – писал он, призывая к удалению израильских поселений на Западном берегу и в секторе Газа и к демилитаризации оккупированных территорий, после того как их вернут арабам. Он также предлагал США дать официальные гарантии безопасности Израиля, «из-за чего последствия любого нападения на Израиль будут гораздо более суровыми». Предлагая свой подробный план мирного урегулирования, Бжезинский, вне всякого сомнения, надеялся, что его воспримут в роли советника от демократической партии, способного к дипломатическим манёврам уровня Киссинджера. Но это и на удивление дальновидный документ, положения которого сохраняют свою актуальность и сорок лет спустя.
Бжезинский повторил свой аргумент в пользу всеобъемлющего урегулирования (и критику более осторожного подхода Киссинджера) в опубликованной в журнале «Форин полиси» статье 1975 года[262]. Рассматривая Ближний Восток через призму своего неизменного интереса к Советскому Союзу, Бжезинский настаивал на дипломатическом решении, в котором будет задействована и советская сторона, как один из гарантов мирного урегулирования. Это станет постоянной темой Бжезинского в период его пребывания в Белом доме; первый год на посту советника по национальной безопасности он провёл в попытках организовать мирную конференцию в Женеве при содействии США и СССР.
В последующем обмене мнениями в «Форин полиси» он уточнил свою критику подхода Киссинджера, утверждая, что продолжительная торговля «приносит незначительные уступки за счёт главных активов Израиля, а также расходует потенциал влияния Америки без разрешения центральных вопросов (палестинское государство, Голанские высоты и Иерусалим). Как следствие, пошаговый подход, скорее всего, приведёт либо к патовой ситуации, либо к усилению разногласий среди арабов… Вот почему мы настаиваем на том, чтобы Соединённые Штаты чётко обозначили широкие принципы окончательного урегулирования»[263].
Стоит упомянуть (хотя это и удручает), что через три десятилетия Бжезинский повторил тот же аргумент – необходимость чётко обозначить принципы окончательного урегулирования – президенту Бараку Обаме. И снова его предложение было отклонено в пользу очередных «шагов», на этот раз со стороны сенатора Джорджа Митчелла, специального представителя Обамы. Бжезинский снова заговорил об этом в марте 2010 года, когда стало ясно, что попытка Митчелла не удалась. На этот раз к нему присоединился Брент Скоукрофт, ещё один бывший советник по национальной безопасности. И снова призыв Бжезинского остался без внимания по той же причине: нежелания показаться диктующими условия Израилю. Но мы немного забежали вперёд.
Растущий интерес Бжезинского к Ближнему Востоку стал причиной, по которой в 1975 году Брукингский институт включил его в группу, изучающую эту проблему. В коллектив входили некоторые известные «голуби» из американского еврейского сообщества, включая Риту Хауслер и Филлипа Клучника, а также известный специалист по Среднему Востоку Уильям Куандт, который позже вошёл в Совет национальной безопасности при Бжезинском. В своём докладе исследователи призывали к «всеобъемлющему урегулированию», включая «самоопределение палестинцев» либо в виде независимого государства, либо в виде федерации с Иорданией[264]. Доклад и его составителей жёстко раскритиковали сторонники Израиля, решившие, что исследователи зашли слишком далеко. Бжезинский же относился к брукингской группе как к важному опыту формулирования политики[265].
Когда Бжезинского в 1976 году спросили, в чём его взгляды на Ближний Восток отличаются от взглядов Киссинджера, Бжезинский дал любопытный ответ: «Пожалуй, я более склонен делать упор на том, что может составить основные принципы конечного урегулирования, включая необходимые уступки»[266]. С тех пор он часто повторял подобные высказывания, но не в таком обнадёживающем тоне. Воплотить в жизнь «основные принципы» решения арабо-израильского конфликта оказалось труднее, чем кто-либо это себе представлял.
В 1975 году Бжезинский присоединился к президентской кампании Картера в качестве советника по внешней политике, к неудовольствию некоторых произраильских демократов, опасавшихся некоторого проарабского наклона в политике, в случае номинации и победы Картера. Беспокойство по этому поводу среди американских евреев было настолько велико, что однажды во время выступления на сборе средств в Филадельфии Картера спросили, что он может сказать по поводу своего советника-араба. Когда Картер поинтересовался, кого именно, ему ответили «Рафшуна», имея в виду руководителя рекламной акции в Атланте Джеральда Рафшуна, который на самом деле был евреем[267].
Картера привлекали чёткие взгляды Бжезинского по Ближнему Востоку и по другим вопросам. В своих мемуарах он вспоминал: «Кое-кто из тех, кто знал его хорошо, предупреждали меня, что Збиг агрессивен и честолюбив и что он может очень резко высказываться по спорным темам… Познакомившись с ним поближе, я понял, что некоторые из этих оценок верны, но как раз этого я и хотел»[268].
Изначальный подход Картера к мирному урегулированию был словно составлен под диктовку Бжезинского – это была попытка свести израильтян и арабов на мирной конференции в Женеве при посредничестве США и СССР. Бжезинский обозначил свою стратегию на первом заседании комитета по анализу политики (PRC) по этому поводу, состоявшемся 4 февраля 1977 года: «Мои аргументы, по сути, следующие: настало время для новой инициативы США, и мы должны сформулировать основные принципы, которыми будем руководствоваться на предстоящих переговорах»[269]. Но визит израильского премьер-министра Ицхака Рабина в Белый дом в марте прошёл неудачно, вплоть до того, что Рабин отмахнулся от предложения Картера посмотреть на его спящую в своей комнате дочь Эми. Раздражённая реакция Рабина, по всей видимости, доказывала, насколько напористым был Картер. Бжезинский цитировал свои заметки, сделанные сразу же после встречи 7 мая: «Он дал ясно понять, что США отдают предпочтение быстрым переговорам, с минимальными изменениями границ, и что к обсуждению каким-то образом должны быть подключены палестинцы (в том числе ООП [Организация освобождения Палестины])»[270].
Израильтяне были недовольны подходом Картера, а также его отказом продать Израилю кассетные бомбы и некоторые другие виды оружия. Произраильские группы в США также были разочарованы и высказывали протест. Визит же президента Египта Анвара Садата в Белый дом в апреле, напротив, прошёл «чрезвычайно хорошо»[271], задав тон мирному урегулированию на протяжении последующих двух лет.
С самого начала Бжезинского беспокоило политическое давление. В своих мемуарах он вспоминает «усилившиеся нападки еврейского сообщества на Картера и, в меньшей степени, на меня»[272] в 1977 году, которые привели к тому, что он описывает как «крупномасштабную кампанию по оказанию давления, предпринятую Американо-израильским комитетом политических действий». Бжезинскому не нравилась роль громоотвода: «Намёки на это начали появляться в журналах «Тайм» и «Ньюсуик», а также в [ежедневной] прессе. Меня изображали противником Израиля, если не хуже, и в некоторых комментариях по Ближнему Востоку намёки на моё польское и католическое происхождение становились всё более язвительными»[273]. Когда Бжезинский, как он сам вспоминает, пожаловался Картеру, тот «как бы рассмеялся и… по сути ответил: «мы как раз хотим, чтобы ты был таким человеком, козлом отпущения», или что-то вроде того».
С тех пор Бжезинского постоянно сопровождали обвинения в том, что его польско-католическое происхождение заставляет его подсознательно придерживаться антиизраильских взглядов. В публичных комментариях он иногда напрямую опровергал это, утверждая – как это было во время выступления в клубе «Метрополитен» в 2011 году, – что поскольку он так упорно добивался всеохватывающего урегулирования и выступал за создание палестинского государства, его обвиняют в антисемитизме, что совершенно необоснованно. Рафшун, работавший с Бжезинским в Белом доме еврей, соглашается с тем, что Бжезинский «человек без предвзятости относящийся к проблеме, какими бы жёсткими ни были его взгляды по Ближнему Востоку»[274].
В мае 1977 года появился новый ключевой игрок – избранный премьер-министром Израиля убеждённый консерватор Менахем Бегин. Картер начал постепенно сбавлять обороты и пообещал Бегину, что не станет больше предлагать Израилю с небольшими изменениями вернуться к границам 1967 года и не будет призывать к созданию «палестинского хоумленда». В ответ Картер попросил Бегина удержаться от создания поселений, но в августе правительство Бегина объявило о создании ещё трёх поселений – так начался новый раунд битвы, продолжавшейся тридцать пять лет.
Картер продолжал подталкивать арабов и израильтян к женевской мирной конференции и всеохватывающим переговорам, в том числе и в американо-советском «совместном заявлении» от 17 октября 1977 года, раскритикованном израильтянами и их сторонниками в США. Чтобы ослабить давление на Израиль, Бжезинский подчеркнул тот факт, что ООП не сможет участвовать в женевской конференции, если не согласится принять резолюцию Совета Безопасности ООН 242 – тем самым заодно принимая право Израиля на существование[275].
Но коренным образом процесс мирного урегулирования изменила не разработанная Бжезинским схема переговоров при посредничестве сверхдержав, а мечта Анвара Садата освободиться от советского покровительства и вернуть Синай благодаря своей собственной дипломатии. Предполагаемое место проведения переговоров изменилось – «Не Женева, а Иерусалим», как называется одна из глав мемуаров Бжезинского – а основным пунктом переговоров стало заключение сепаратного мира между Израилем и Египтом. В начале ноября Садат проинформировал Белый дом о том, что он «готовится посетить Иерусалим, чтобы провести переговоры о мире с израильтянами»[276].
Садат осуществил свой смелый замысел и посетил Иерусалим 20 ноября 1977 года, тем самым разрушив весь план Бжезинского относительно широких переговоров. Обсуждения палестинского вопроса и других условий общего мира продолжались, но основные действия теперь проходили на египетско-израильском дипломатическом фронте. Теперь в центре всеобщего внимания находился Садат, как он и надеялся, а Джимми Картер выполнял роль его советника и посредника. И хотя это стало очевидным лишь более чем через год, отважный шаг Садата по сути означал, что обозначенная Бжезинским цель решения палестинской проблемы была отложена в долгий ящик.
К концу первого года президентского срока Картера Бжезинский в письменном виде дал оценку его политики в отношении Ближнего Востока. Её стоит процитировать вкратце хотя бы из-за искренней самокритики: «Наиболее противоречивый пункт вашего подхода – это идея создания палестинского «хоумленда»… К осени [1977 года] она вызвала очень сильную внутреннюю реакцию… Будет справедливым утверждать, что палестинский вопрос был представлен на рассмотрение слишком рано и без обоснованного внимания к перспективам. В результате мы утратили поддержку своей политики внутри страны, причём в самое неблагоприятное время для попыток мирного урегулирования»[277].
Импульс визита в Иерусалим привёл Садата и Бегина к переговорам в Кэмп-Дэвиде в сентябре 1978 года и в конечном итоге выразился в подписании мирного договора между Египтом и Израилем в марте 1979 года. История этого договора неоднократно и подробно описана и находится за пределами охвата этой статьи. Что касается американской стороны, то это было шоу одного человека, Джимми Картера, а советник по национальной безопасности играл второстепенную роль. Переговоры отражали любопытную динамику: Садат в своём окружении был единственным, кто действительно хотел заключить мир с Израилем; Бегин, напротив, был единственным представителем Израиля, который, похоже, искренне сомневался в необходимости подписания мирного договора с арабским государством. В центре находился Картер, играя роль своего рода брачного консультанта, проповедника и дипломатического посредника.
Но Бжезинский в Кэмп-Дэвиде был фигурой если и не ключевой, то заметной. Дух дипломатической игры того времени был запечатлён в известной фотографии, на которой он и Бегин играют в шахматы возле апартаментов израильского премьер-министра. Согласно версии Бжезинского, хитрый Бегин перед началом игры заявил, что впервые берёт в руки фигуры с 1940 года, когда его последняя игра была прервана пришедшей его арестовывать советской тайной полицией. Чуть позже мимо них прошла супруга Бегина, заметившая: «Менахем любит играть в шахматы»[278].
Настоящая игра в Кэмп-Дэвиде проходила под видом прелюдии к более широкому урегулированию. Перед началом переговоров Картер сказал Бжезинскому, что планирует «пройти весь путь»[279]. Но этому не суждено было случиться, как Бжезинский вспоминает в своих мемуарах: «Связь между египетско-израильскими договорённостями и переговорами по Западному берегу и сектору Газа, которая была заявлена в начале Кэмп-Дэвида, как наиболее важная цель, так и не была достигнута, в большой степени из-за того, что Картер под конец согласился на более туманные формулы Бегина»[280].
Хотя перед формальным заключением мирного договора между Египтом и Израилем в следующем году Картер и продолжал упоминать палестинский вопрос, Бжезинский сейчас признаёт, что «он превратился в фиговый листок»[281]. Как он пишет в своих мемуарах: «Кэмп-Дэвид произвёл впечатление, что сепаратный мир между Египтом и Израилем приемлем как для Египта, так и для Соединённых Штатов»[282].
Основной движущей силой этих переговоров были личные интересы двух сторон. В воспоминаниях 2012 года Бжезинский выразил их динамику следующим образом: «Садат хотел вернуть Синай без всяких компромиссов. Израильтяне хотели подорвать арабскую коалицию, так, чтобы она никогда больше не образовывалась». В результате договора обе стороны получили, что хотели, но он настолько отложил заключение соглашения по Палестине, что все стороны утратили веру в успешный исход мирных переговоров.
В последующие годы Бжезинский утверждал, что вместо того чтобы обвинять Садата, арабам следовало ухватиться за предоставляемую Кэмп-Дэвидом возможность и настоять на рассмотрении палестинского вопроса. Такой аргумент он выдвинул в интервью 1984 года с палестинским журналистом Гассаном Бишарой, опубликованном в журнале «Джорнал оф Палестин стадис»: «Более мудрой стратегией для арабов было бы постараться расширить мирный процесс за пределы израильско-египетских договорённостей… Если бы арабы тем или иным образом пожелали вступить в процесс переговоров, инициированных Садатом, то мистеру Бегину было бы труднее поддерживать патовую ситуацию в палестинском вопросе»[283].
Мои личные оценки роли Бжезинского в дипломатическом решении арабо-израильского вопроса в годы Картера обозначены в следующих нескольких пунктах:
– Во-первых, настаивая на всеобъемлющем урегулировании, Бжезинский слишком большой упор делал на идее проведения конференции в Женеве при посредничестве Москвы и Вашингтона, и слишком мало внимания уделял желаниям самих сторон. Не обладая достаточно глубокими познаниями региона, он не чувствовал мотивов, которыми руководствовались Садат, король Хусейн или Хафез Асад и которые чувствовал бы более опытный специалист по Ближнему Востоку. Если бы он знал регион лучше, он бы мог заручиться поддержкой арабов на то, чтобы Садат включил в своё предложение и более общую стратегию мирного урегулирования, как и смог бы отклонить идею сепаратного мира с Египтом, которая задала тон дебатам со стороны арабов на протяжении целого поколения.
– Во-вторых, Бжезинский был прав, утверждая, что без палестинского компонента египетско-израильские договорённости заморозят, а не ускорят общий процесс урегулирования; он чётко видел эту проблему, но не мог сменить логику переговоров в Кэмп-Дэвиде или отговорить Картера от заключения столь эффектного и восхваляемого договора – но, как понимал Бжезинский, довольно ограниченного и в чём-то даже контрпродуктивного.
– В-третьих, Бжезинский не был слишком проницательным и опытным политиком. Он дал повод сделать себя и Картера объектами произраильского политического давления, не предложив чёткой контрстратегии. Бжезинский довольно рано осознал эту проблему. 10 июня 1977 года в своём еженедельном конфиденциальном докладе президенту, озаглавленном «Внутренние аспекты ближневосточного вопроса», Бжезинский писал: «Нам нужно больше поощрять американцев еврейского происхождения, которые считают, что Израиль должен пойти на риск ради мира. Нужно донести наши идеи до американского народа, но постараться не переусердствовать или не проявить чрезмерный оптимизм, тем самым способствуя нарастанию атмосферы кризиса»[284]. Но он так и не нашёл способ помочь Картеру решить эту проблему.
Бегин прекрасно понимал политическую слабость предложения Картера и Бжезинского и, что показательно, затронул эту тему в частной беседе с Бжезинским в Кэмп-Дэвиде: «Для начала он сказал, что знает о нападках на меня израильской прессы и американских евреев, обвиняющих меня в антиизраильских настроениях, но уверил, что всегда защищал меня»[285]. Что может быть лучше для демонстрации уязвимости собеседника, чем сказать, что защищаешь его! Бжезинский всегда играл с политически слабой позиции, отчасти потому, что, несмотря на его принципиальность, многие его высказывания были не всегда мудрыми.
В качестве окончательной характеристики дипломатии Бжезинского в Белом доме можно привести слова Гамильтона Джордана, пожалуй, ближайшего советника Картера, который в своих мемуарах писал, что Бжезинский играл в теннис так же, как и занимался внешней политикой. Когда Бжезинский добродушно отозвался, что это, наверное, значит, что он чётко и чисто отвечает на каждый удар, Джордан ответил, что это означает, что советник по национальной безопасности бьёт что есть сил по каждому мячу, но некоторые из них не долетают до сетки[286].
В последующие после ухода с поста советника по национальной безопасности годы Бжезинский стал ещё более активным сторонником подхода, к которому призывал с середины 1970-х годов, но который ему не удалось воплотить в жизнь – а именно всеохватывающего решения, основанного на чётко выраженных Соединёнными Штатами принципах разрешения палестинского конфликта. В результате он продолжал быть мишенью нападок со стороны произраильских групп США. Но эти нападки он воспринимал с относительным спокойствием, словно понимая, что это цена за верную, по его мнению, политику.
В 1983 году Бжезинский критиковал администрацию Рейгана, в частности, за то, что она позволила войне Израиля в Ливане и её последствиям нанести непоправимый вред процессу мирного урегулирования на Ближнем Востоке. «Ливан невозможно восстановить без серьёзного и ощутимого прогресса в арабо-израильском споре. Именно этот спор в первую очередь дестабилизировал ситуацию в Ливане и запустил разрушительную цепь событий прошлого года», – писал он в октябре 1983 года в «Нью-Йорк таймс»[287]. Он высказывал опасения, что арабы всё больше воспринимают Америку как «протагониста» в регионе и как «военного представителя Израиля», и поэтому она теряет возможность действовать как посредник.
После вывода американской морской пехоты из Ливана в начале 1984 года вслед за катастрофичными террористическими взрывами предыдущего года Бжезинский в «Вашингтон пост» призывал к открытой переоценке политики США в регионе. Он утверждал, что Соединённые Штаты должны признать, что вторжение Израиля в Ливан в 1982 году было ошибкой, как и по большей части попытки Америки урегулировать ситуацию в Ливане; в его глазах Соединённые Штаты из посредника превращались в воюющую сторону[288].
Неудивительно, что Бжезинскому понравился агрессивный подход президента Джорджа Г. У. Буша на Мадридской мирной конференции 1991 года. В каком-то смысле она казалась воплощением давней идеи Бжезинского о международной мирной конференции, на которой можно было бы принудить израильтян и арабов заключить соглашение на принципах, чётко обозначенных Соединёнными Штатами. Бжезинский с восторгом писал в «Нью-Йорк таймс»: «Впервые теперь на Ближнем Востоке доминирует только одна сила – Соединённые Штаты. Арабам некуда отступать. Израилю приходится очень серьёзно воспринимать взгляды Америки, особенно после того как президент показал в вопросе ссуд на жилищное строительство, что с ним шутить не следует… Что самое главное, Соединённые Штаты должны продолжать оказывать давление и дать чётко понять, что любую прервавшую процесс сторону ожидают определённые санкции»[289]. Мадридская конференция в конечном итоге способствовала подписанию мирного договора между Израилем и Иорданией. Но что касается палестинского вопроса, то «двусторонний процесс в Осло», как и переговоры в Кэмп-Дэвиде, снова помешал добиться поставленных Америкой более общих целей.
Бжезинский продолжил активно призывать к всеобъемлющему урегулированию палестинского вопроса в своих книгах, статьях и телевизионных выступлениях. Его размышления по поводу ошибок и просчётов США в регионе могли бы занять целую библиотечную полку, особенно после 11 сентября 2001 года, когда он из сторонника «жёстких мер» во внешней политике превратился в яростного критика политики администрации Буша в отношении Ближнего Востока и, в частности, её неудачного подхода к решению палестинской проблемы.
Среди книг этого периода достойны внимания «Выбор» (2005), в которой он призывает США к дипломатическому противостоянию с исламским популизмом и тем, что называет «глобальными Балканами», и «Второй шанс» (2007), в которой он сетует на то, что за пятнадцать лет своего превосходства Америка так и не решила израильско-палестинскую проблему, и снова ставит оценки за миротворческий процесс на Ближнем Востоке Бушу-старшему, Клинтону и Бушу-младшему: «B», «D» и «F» соответственно.
Мне выпала уникальная возможность стать свидетелем того, как Бжезинский размышляет вслух по поводу арабо-израильского конфликта, когда я был редактором изданной в 2008 году книги «Америка и мир: разговоры о будущем американской внешней политики», которая представляла собой сборник статей Бжезинского и Скоукрофта, советника по национальной безопасности при Джеральде Форде и Буше-старшем. Бжезинский особенно подчёркивал необходимость подхода, за который ратовал на протяжении более тридцати лет: «Если мы хотим добиться прогресса сегодня, нам нужно публично объявить хотя бы общие параметры урегулирования, а затем сказать: «Остальное за вами, пока вы будете договариваться»»[290]. Он назвал четыре параметра урегулирования: отсутствие права возвращения для палестинцев, реальное разделение Иерусалима, границы 1967 с взаимными поправками и создание демилитаризованного Палестинского государства[291].
В последующие после публикации книги месяцы и годы я не раз слышал, как Бжезинский буквально десятки раз повторял этот список условий мира. В марте 2010 года Скоукрофт посетил Овальный кабинет, чтобы всё то же самое в личной беседе повторить Обаме, я написал статью в «Вашингтон пост», в которой раскрыл его предложение. Сейчас я сожалею об этом – боюсь, что публичное разглашение частного совета уменьшило шансы на то, что Обама ему последовал бы; из-за моей статьи израильтянам и их сторонникам стало легче критиковать известные аргументы двух «пропалестински» настроенных бывших советников по национальной безопасности.
Возможно, было неизбежностью то, что Бжезинский дал увлечь себя в полемику, сопровождавшую публикацию книги «Израильское лобби и внешняя политика США» Джона Миршаймера и Стивена М. Уолта в 2006 году. В комментарии, опубликованном в рамках дискуссии в журнале «Форин полиси», Бжезинский утверждал, что авторы «оказали услугу обществу, инициировав столь необходимые публичные дебаты о роли «израильского лобби» в формировании внешней политики США». Он отметил, что со времён его пребывания на должности в Белом доме произошёл сдвиг от «относительной беспристрастности (приведшей к заключению Кэмп-Дэвидских соглашений) до увеличивающейся благосклонности в пользу Израиля, вплоть до принятия израильских взглядов на израильско-арабский конфликт»[292].
Было бы удивительно, если бы Бжезинский, с его опытом работы в правительстве и академической деятельности, высказался иначе. Но он завершил свою краткую статью в «Форин полиси» дополнительным выпадом против критиков из американского еврейского сообщества: «Конечно, заглушить такие дебаты было бы в интересах тех, кто добился многого в их отсутствии. Отсюда такая резкая реакция со стороны некоторых на работу Миршаймера и Уолта»[293]. Эта провокация произвела ожидаемый эффект. Алан Дершовиц, активный сторонник Израиля из Гарвардской школы права, призвал президента Обаму публично заявить о своём несогласии с оценкой Бжезинским этой книги.
Что поражает в выражаемых взглядах Бжезинского на арабо-израильский конфликт, так это их постоянство. Несмотря на различные меняющиеся обстоятельства, несмотря на степень присутствия Америки в регионе, он всегда придерживался мнения, что в национальных интересах Америки добиться всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке, включая создание независимого Палестинского государства. Если другие меняли свои убеждения, часто по соображениям политической целесообразности, Бжезинский твёрдо стоял на своём – и часто платил за эту цену в виде публичной критики его взглядов.
Я придерживаюсь того мнения, что историки осознают правоту позиции Бжезинского, как и признают, что Америка допустила большую ошибку, не добившись всеобъемлющего урегулирования, какими бы внутренними факторами это ни объяснялось. Пусть политические ходы Бжезинского не всегда бывали лучшими – и иногда он, возможно, проявлял сварливость, которая при иных обстоятельствах заставляет людей вступать в драки в барах, – но его политический анализ и стойкость в защите своих взглядов на арабо-израильский конфликт достойны восхищения.
Глава 14. Стратегический мыслитель
Адам Гарфинкл
Збигнев Бжезинский принадлежит к менее чем полудюжине широко признанных американских стратегических мыслителей. Вместе с Генри Киссинджером, Джорджем Шульцем и Брентом Скоукрофтом он, несомненно, входит в число интеллектуальных знаменитостей, и средства массовой информации, как в Соединённых Штатах, так и за рубежом, охотно интересуются его взглядами на внешнюю политику США и глобальные события.
Впрочем, поскольку каждый понимает словосочетание «стратегический мыслитель» по-своему, можно немного перефразировать высказывание Декарта: если люди считают тебя стратегическим мыслителем, то ты существуешь. Следовательно, Збигнев Бжезинский существует.
В каком-то смысле феномен Бжезинского одновременно и предопределён, и, вместе с тем, случаен. Предопределён он, потому что Бжезинский родился в аристократической семье дипломатов, в юности пережил оккупацию своей родной Польши нацистами и сталинской Россией, затем вместе с семьёй переехал в Канаду, откуда попал в самое экстравагантное окружение – в Гарвардский университет. Благодаря своим интеллектуальным способностям и аналитическому дару он вошёл в элиту Соединённых Штатов, положение в которой ему помогали сохранять дисциплинированный ум и рабочая этика. Но статус Бжезинского предопределил и случай: если бы по формальным причинам ему не отказали в британской стипендии, он мог бы оказаться в канадском министерстве иностранных дел или, как гражданин страны Содружества, возможно, даже в министерстве иностранных дел Великобритании. В этих странах с менее открытой по отношению к выходцам из других стран структурой власти он мог бы долго работать на неприметном посту в относительной безвестности, несмотря на все свои таланты.
Но вышло так, что теперь статус Бжезинского неоспорим; он уже включен в книги по истории и останется в них. Это один из выдающихся американцев двадцатого века, закончивший не один, а два выдающихся университета (Гарвардский и Колумбийский), занимавший должности в правительстве (в Совете национальной безопасности при Кеннеди и в Совете планирования Государственного департамента при Линдоне Джонсоне), вернувшийся к академической работе во всемирно известных «мозговых центрах», а потом снова ставший государственным чиновником (в роли советника по национальной безопасности при Джимми Картере), и после этого ещё долго комментировавший внешнюю политику и иногда даже на основании своего опыта дёргавший за политические струны. Сейчас Бжезинскому без малого девяносто лет. То, что человек в таком возрасте остаётся здоровым и в здравом уме, уже говорит о многом. На 95-летнем юбилее Роберта Штрауса-Хупе в филадельфийской «Юнион-Лиге» одна дама спросила юбиляра, бывшего посла и почтенного профессора: «Сэр, какими качествами вы объясняете своё долголетие и свою активную жизнь?» Штраус-Хупе без малейших раздумий ответил: «Дорогая, я обязан своей долгой и, возможно, активной жизни тому факту, что ещё не умер».
За юмором здесь проглядывает проницательное наблюдение, а именно то, что настоящая мудрость приходит только с опытом и умением анализировать этот опыт. Юность неблагосклонна к таким качествам; как выразился Майкл Оукшотт: «Политика – это занятие, неподходящее для молодых… Для каждого юность – это период мечтаний, блаженное безумие, сладостный солипсизм… Не нужно соблюдать никаких обязательств; не нужно ничему вести учёт»[294]. Бжезинский, который сегодня, несомненно, согласился бы с наблюдением Оукшотта, не признался бы, что в возрасте 30–40 лет понимал столько же, сколько в 70 лет или в настоящее время. Полвека назад, в качестве младшего члена в Совете национальной безопасности президента Кеннеди, он написал многое из того, что исторически не подтвердилось; например, в одной давно рассекреченной записке, составленной непосредственно после Карибского кризиса, тридцатичетырёхлетний Бжезинский восторженно пророчествовал о скорой и неизбежной победе Запада в холодной войне.
Каждый стратегический мыслитель обладает несколькими «визитными» недостатками, оставшимися у него с ранних лет; такова цена за обретение опыта. Если не преодолевать свои недостатки и не опровергать свои ошибки, то ничему и не научишься, – в каком-то смысле без этого невозможно утверждать, что ты мыслишь по-настоящему и бываешь прав. Люди даже в последней трети своей жизни продолжают учиться и совершенствовать свои интеллектуальные и эмоциональные навыки; потенциал такого роста в пожилом возрасте признаёт даже общество, испытывающее недостаток уважения к старшим. И подтверждением этому служит статус мастера стратегии Збигнева Бжезинского.
Кроме общественного признания стратегического мыслителя, существуют и менее субъективные критерии, желательные (если не полностью необходимые) для достижения такого статуса. Каковы же они?
Один из друзей Бжезинского (и один из моих наставников), Оуэн Харрис однажды пошутил, что если хочешь стать проницательным наблюдателем международной политики, то неплохо бы начать с того, чтобы не родиться американцем и не быть молодым[295]. Второе условие мы уже упомянули, рассмотрим же теперь первое.
Харрис, конечно же, не имел в виду американское гражданство, а интеллектуальные недостатки тех, кто родился в культуре, по разным историческим причинам оказавшейся одноязычной, ограниченно-изолированной и тщеславной вследствие самопровозглашённой исключительности, манихейской по своему религиозному настрою, склонной слишком верить «великим», но, как ни парадоксально, узким теориям в противовес анализируемому опыту и, следовательно, не случайно нетерпеливой и, к тому же, исторически невежественной. Кроме того, как выразился Харрис, проблема американцев состоит в том, что у них отсутствует инстинктивное чувство опасности и ожидание трагедии, которые, скажем, у польских, бельгийских, еврейских или корейских детей появляются едва ли не с рождения[296]. Американцы слишком долго жили без внешней угрозы с неукреплёнными границами, без вторжений и без нападений на протяжении почти двух столетий, в условиях постоянного роста своего влияния, которому не было равных. Согласно Харрису, они обрели настолько прочные уверенность в себе и оптимизм, что им трудно воспринимать мир как опасное и очень неоднородное место, к которому следует относиться с осторожностью и сдержанностью. Если заменить все эти свойства на противоположные, то получится неплохой список достоинств любого стремящегося к известности стратегического мыслителя.
Противоположность ограниченности в этом отношении – способность воспринимать различные точки зрения. Это способность понимать, что такое быть иностранцем и что значит иностранное. Это значит осознавать глубинные основы своего общества, понимая тем самым основы других обществ и оценивая их в общем контексте. Это значит не совершать ошибку, интуитивно защищая свои жёсткие рамки мышления и не перенося их на других. Одноязычие ведёт к ограниченности и замкнутости; знание более чем одного языка способствует интеллектуальному плюрализму. Вот почему многие американские мыслители в области социологии и политики родились не в Америке. Збигнев Бжезинский в этом отношении не менее яркий пример, чем Генри Киссинджер или Ганс Моргентау, Арнольд Уолферс, Бронислав Малиновский и многие другие, начиная с Карла Шурца. Для всех их английский язык был вторым, а то и третьим. Это не сделало их менее патриотично настроенными по сравнению с родившимися в Америке; просто их патриотизм не был таким уж безусловным и наивным.
Противоположность тщеславия – смиренность. Смиренность – характерная черта истинного стратегического мыслителя. Истинный стратегический мыслитель понимает, что в человеческих отношениях возможны непредвиденные ситуации, что невозможно преодолеть структурную неопределённость, что способность планировать ограничена. Бжезинский по этому поводу высказывался категорично: «Глобальные политики не мыслят шаблонными формулами и не дают чёткие предсказания». Он издавна критиковал абстрактные модели, выдаваемые за практическое руководство.
Когда говорят о свойственной Америке исключительности, имеют в виду исключительность двух типов. «Исключительность откровения» связана с обусловленными протестантизмом религиозными представлениями и подразумевает, что превосходство Соединённых Штатов предопределено в силу повеления самого Господа Бога. Другой тип – это исключительность, обусловленная случайностью: историческими, географическими и личностными факторами, способствовавшими тому, что именно здесь восторжествовали демократия и прогресс. Воплощая высшие устремления человечества и его мечты о достоинстве, Америка, как выразился Авраам Линкольн в 1862 году, поистине является последней надеждой человечества. Следовательно, поддерживать её безопасность, процветание и могущество необходимо не только из стратегических соображений, но и из моральных обязательств. Но никаких гарантий здесь нет; как ещё прекрасно знал Макиавелли, фортуна – дама весьма капризная. То, что случай дал, случай может и отнять.
Никто не верит, что стратегическим мыслителем может стать сторонник исключительности откровения. Когда человек считает себя исполнителем божественного замысла, то все детали остаются в стороне. Когда американская внешняя политика начинает строиться на рассуждениях о Боге, будь то Тринадцать пунктов Вудро Вильсона или призыв Джорджа У. Буша перейти к «наступательной стратегии ради свободы», то недалеко до больших потрясений и большой резни – в случае с Вильсоном приступ идеализма привёл к разрушению давних основ европейского баланса силы, проложив дорогу ещё более ужасной войне; в случае с Бушем инициатива перешла в руки Ирана, самого опасного и агрессивного действующего лица на Среднем Востоке. Возможно, согласно старому афоризму, Бог и защищает пьяниц, дураков и Соединённые Штаты Америки, но надежда на божественное провидение – не замена политики.
Бжезинский вовсе не придерживался исключительности откровения. Мы никогда не затрагивали эту тему, но поскольку он был католиком, а не протестантом, и, к тому же, довольно скептически относился к религиозным ассоциациям в политике, вся эта идея, скорее, отталкивала его. С другой стороны, как мне кажется, он соглашался с исключительностью случайности. Он неоднократно говорил, что предпочитает реальные способы достижения идеальных целей, а эти цели, согласно его представлениям, определённо подразумевали сильную роль Америки в мире, в той степени, в какой американское общество этого заслуживало. Я не совсем уверен в том, что для стратегического мыслителя так уж необходима интеллектуальная и эмоциональная привязанность к какой-то стороне в споре, но в случае с Бжезинским это было основой его мышления.
Противоположность манихейского [чёрно-белого] и излишне теоретического образа мысли – характерной черты политической теологии или любой, пусть даже незначительной попытки связать рассуждения с религиозностью, как бы это ни называлось, – это аналитический тип мышления, учитывающий сложность, нюансы и многозначность большинства обстоятельств в реальном мире. Это способность, например, ещё с ранних пор разглядеть, что коммунистический мир не монолитен, так что политика США по отношению к восточноевропейским странам может в каких-то аспектах намеренно отличаться от политики по отношению к Советскому Союзу. Возможно, это был первый случай, когда Бжезинскому пришлось взвалить на себя ношу по утверждению и отстаиванию собственного независимого мнения, и ноша эта была особенно тяжёла, когда в Госдепартаменте заседали политики, вроде Джона Фостера Даллеса[297].
Это способность видеть, что во всём существует более двух сторон, а не только демократическая или антидемократическая, в том числе и в таких странах, как Ирак до марта 2003 года; при этом ни одну из таких сторон обычно не получается характеризовать такими терминами. Это способность видеть, что в таких странах, как Афганистан или Пакистан, существуют разные группы, и ни одна из них не попадает под вымышленное американцами понятие «хорошие парни». Но, пожалуй, самый лучший образец такого мышления – наша с ним беседа 2007 года. Я начал с того, что вспомнил его ответ на вопрос, заданный за несколько недель до того редактором другого журнала, – вопрос, касающийся предположительной ошибки американского правительства, помогавшего в борьбе с Советским Союзом «моджахедам», поскольку это привело к созданию Аль-Каиды и к терактам 11 сентября. Бжезинский назвал этот вопрос «безумным», потому что между ситуацией зимы 1979–1980-х годов и упрочением власти Аль-Каиды в Афганистане после 1996 года было огромное множество всяких разных и непредсказуемых событий. В какой-то момент Бжезинский согласился с тем, что обвинение в «ответной реакции».
«Совершенно антиисторично, и, похоже, основано на представлении, пусть и подразумеваемом, о том, что было бы лучше, если бы Советский Союз существовал до сих пор. Так бы мы не вели «Четвёртую мировую войну с исламофашизмом», как выражаются некоторые из самых сумасшедших неоконсерваторов».
На это я сказал:
«Похоже, что подлинный смысл всех этих обвинений в «ответной реакции» заключается не в том, что сторонники этой идеи хотели продолжения существования Советского Союза, но в том, что, по их мнению, любое происходящее в мире зло так или иначе является виной правительства США, результатом его решений в прошлом».
Услышав это, Бжезинский сказал:
«Верно, и снова всё должно быть чёрным и белым. Сложно же думать, что некоторые мусульмане, как большинство афганцев, сотрудничают с Америкой против других мусульман. Было бы гораздо проще, если бы мы вели войну против некоего объединённого исламского, «мусульмано-фашистского» врага, но было бы ошибкой так думать, как со стороны левых, так и со стороны правых».
Затем я уточнил ситуацию:
«Среди так называемых моджахедов были те, кто впоследствии стали не только мусульманами, которым не нравимся мы, но также и члены Северного Альянса, которые во время войны находились на нашей стороне. Это сложный регион мира. Он не так уж легко делится на хороших и на плохих парней. Там не просто две стороны, а часто три или четыре».
Бжезинский ответил на это пространной речью; он поведал, что давно обратил внимание на неспособность американцев признавать сложность политической ситуации или интересоваться её историческими причинами. В частности, он сказал:
«Мне кажется, вы указали на главную слабость современной Америки. Слабость в том, что сейчас мы гораздо более демократичнее, чем раньше, в том смысле, что общественное давление очень быстро превращается в политическое давление. Но мы, пожалуй, сейчас столь же невежественны в отношении других частей света, что и раньше, потому что все сейчас живут в какой-то упрощённой виртуальной реальности, в которой беспорядочно переплетаются факты и вымысел, впечатления и импульсы»[298].
Точно так же об умении Бжезинского воспринимать реальность во всём её многообразии говорит и то, что после окончания холодной войны он говорил, что сейчас не время для самодовольства и для значительных сокращений расходов на оборону, потому что международная политика по своей природе связана с противостоянием и конкуренцией; противостояния не ограничиваются холодной войной и не прекращаются с её окончанием. Он всегда настаивал на том, что геополитика никогда не устареет. И это прекрасно совпадает с самой «не-американской» чертой Бжезинского: его способностью представлять себе трагедию.
Отличительная особенность прирождённого реалиста – опасаться любого, кто убеждённо говорит о том, как нам поступать так или иначе, потому в противном случае «может стать хуже». «Хуже» может стать всегда, и обычно так и происходит. Нет ни одного поляка, родившегося в двадцатом веке – в самой Польше или за её пределами, – кто не пережил бы это на своей шкуре. На протяжении почти всего столетия реальность затмевала любые вымышленные страхи или ожидания: от национального возрождения в 1919–1920-х годах до ската к авторитаризму в 1930-х, затем к нацистской оккупации и десятилетиям мрачной зависимости от Советского Союз. Особенно показателен в этом отношении переход от одной катастрофы к другой, когда летом 1944 года сталинские войска с противоположного берега Вислы спокойно наблюдали за трагическим подавлением Варшавского восстания.
Даже самые горячие сторонники Збигнева Бжезинского не отрицают того, что его взгляд на мир во многом определяло его польское происхождение. На протяжении всей холодной войны его взгляды часто удивительным образом совпадали с практической позицией США в этой борьбе. В 1977 году во время визита Картера в Варшаву один из его бывших коллег по Совету национальной безопасности назвал Бжезинского «начальником по делам Польши», и был недалёк от правды. Сосредоточенность Бжезинского на Европе и его особый интерес к Советскому Союзу казались идеальными для холодной войны, когда самое драматичное противостояние наблюдалось именно в том регионе; в таких условиях было уже не важно, чем конкретно определяются взгляды Бжезинского – его происхождением или чем-то другим. Более того, в администрации, в которой значительным влиянием пользовались такие фигуры, как Сайрус Вэнс, Эндрю Янг и Патриция Дериан, даже те, кто не соглашался с Бжезинским по многим другим вопросам, были благодарны ему (и министру обороны Гарольду Брауну) за то, что они ограничивали урон, которые эти идеалисты нанесли бы, стараясь оказать свои услуги президенту, не обладавшему большим опытом во внешней политике.
Нелюбовь Бжезинского к ограничивающим мышление жёстким и абстрактным идеологическим категориям в ущерб тщательному исследованию и пристальному анализу социальной реальности служит ещё одной его отличительной особенностью, как стратегического мыслителя. Бжезинский в действительности мастер не столько стратегии, сколько государственного управления. Американцы часто используют эти слова как синонимы, но между этими двумя терминами есть глубокая – и часто недооцениваемая – разница. Стратегия имеет отношение к внешней политике и реагированию на различные опасные ситуации в мире. Это умение сопоставлять ресурсы и цели в контексте отношения государства с другими государствами. Государственное управление – это умение координировать внутреннее (внутреннюю политику) с внешним (внешней политикой), балансируя между вызовами и возможностями. Например, в текущих обстоятельствах Соединённым Штатам необходима стратегия для выстраивания отношений с Китаем и Восточной Азией, но нам также необходимо и умение управлять государством, чтобы соотносить экономические вызовы (отчасти вызванные внутренними проблемами и отчасти являющиеся следствием международного окружения) с этой стратегией. Истинный стратегический мыслитель – настоящий государственный деятель, озабоченный пресловутой «большой картиной», размывающей искусственные границы между «международным» и «внутренним».
Настоящий стратегический мыслитель должен знать то, что происходит в Федеральном резерве и в министерстве финансов, точно так же, как и должен знать, что происходит в Государственном департаменте и в министерстве обороны. Более того, стратегическому мыслителю нужно учитывать меняющиеся социальные и культурные переменные, часто находящиеся за пределами обыденного политического кругозора. Недостаточно просто прочитать конспект истории; необходимо знать историю в истинном смысле этого слова: нас интересует не только то, что и когда происходило, но то, что эти события говорят нам о человеческой природе, особенно в том, что касается политических и социальных конфликтов между народами и внутри стран. Первой книгой Бжезинского, в которой он уделяет внимание этим соображениям, стала книга «Между двумя эпохами: роль Америки в технотронной эре» (1970); пожалуй, это даже лучшая его книга среди всех, поскольку в ней он пытается найти практическое применение социальной науки к американскому государственному управлению в поистине глобальном масштабе[299]. Если другие политологи и мыслители были увлечены своими «великими» идеологическими конструкциями, в действительности отражавшими лишь отдельные фрагменты социальной реальности, Бжезинский начинает с философии, переходя к истории и социологии науки и технологии. Технология, и в особенности кибернетическая технология, разрывала устоявшиеся связи между образом жизни людей и исповедуемыми ими ценностями. Технотронная эра, как утверждал Бжезинский, будет настолько же отличаться от индустриальной эры, как индустриальная эра отличается от сельскохозяйственной. Растущее несоответствие между социальной реальностью и системой верований, и то, как правители понимают это расхождение и стараются преодолеть его, будет подталкивать социальные организации в направлениях, общим в одних отношениях, но угрожающе противоречащим в других. В то время было не так уж много людей – как немного их и сейчас – кто мог бы размышлять таким широким и синкретическим образом о глобальном положении дел, и при этом ещё и делать практические выводы в различных областях формирования политики.
Бжезинский всегда старался исследовать большую общую картину в контексте глобальных социальных данных. Будучи по образованию, скорее, социологом, а не историком или экономистом, он всегда обращал внимание на данные, но не давал себе увлечься ими; он всегда считал, что происходящее за пределами политического обзора, глубоко внутри общества, служит ключом для определения того ускользающего понятия, что мы называем будущим. В качестве примера, в своём знаковом эссе, опубликованном в первом выпуске «Американ интерест», он в очередной раз затронул свою старую тему – феномен пробуждения глобальной политики, которая усложнит американскую внешнюю политику в этом столетии, но и предоставит Америке большие возможности[300]. Подход Бжезинского можно в каком-то смысле назвать социальной судебной экспертизой, только в этом случае речь идёт о событиях будущего, а не прошлого. По-другому её можно описать не как «исключительно правительственный», а как «социально-общемировой» подход к случайным ингредиентам международной реальности.
Как в своей прежней роли эксперта по Советскому Союзу, так и в своей последующей роли глобального стратегического мыслителя, Бжезинский по сравнению с большинством аналитиков всегда уделял больше внимания так называемым случайным факторам. В этом отношении все настоящие стратегические мыслители сходятся: они стремятся рассматривать кантианское единство во всём многообразии, и они признают, что многообразие это может расширяться. Фокус (который удаётся немногим) здесь состоит в том, чтобы отточить свою интуицию до того, чтобы из, казалось бы, не связанных между собой тенденций и явлений сплести общую ткань реальности. Для этого не существуют заданные формулы, проверенные уравнения или заданные методы. Мастерство достигается за счёт открытого отношения к субъекту исследований, в частности, благодаря умению учиться на своих ошибках (или на чрезмерном энтузиазме) и избегать слишком лёгких и быстрых способов мышления по аналогии. Наблюдать за тем, как Бжезинский исследует вопрос, означает быть свидетелем проявления его интуитивных способностей. При этом едва ли не слышишь, как поворачиваются шестерёнки, и видишь грань между быстротой и спешкой. Во время размышлений у него появляется особое выражение глаз, говорящее об уважении к сложности предмета исследований – уважение, которое должен испытывать любой, кто собирается стать стратегическим мыслителем.
И, наконец, настоящие стратегические мыслители склонны испытывать «профилактический оптимизм», или, выражаясь иначе, не бояться игры. Это вопрос темперамента, а не интеллекта. Такой черте характера невозможно научиться. Но эта черта настолько развита у государственных деятелей, что немногие посторонние способны её оценить: твоя работа заключается в том, чтобы заставить действовать какую-то политику, но ты не можешь выполнить свою работу хорошо, полагаясь на методы, в эффективности которых не уверен, или которые, по твоему мнению, не всегда приводят к успеху. Преимущество такого подхода состоит в том, что без него почти невозможно преуспеть; недостаток же его в том, что инсайдеры часто последними осознают, что всё пошло не так, как задумывалось. Получается, что динамика когнитивного диссонанса не учитывает вопросы эффективности.
Что касается Бжезинского, то он заслужил свой профилактический оптимизм. Холодная война, главное противостояние его времени, закончилась победой не только для Соединённых Штатов и Запада в общем, но и для его родной Польши. Этот опыт доказывает не только эффективность тактики последовательных шагов, но и возможность достижения триумфа с её помощью. Заодно в рамках этого общего успеха этот опыт дал важный урок – Бжезинский не позволил своей партии попасть под влияние демократов, потерявших чувство стратегического баланса и боевой задор. Во время президентской кампании 1988 года он отдал предпочтение Джорджу У. Г. Бушу, а не кандидату от своей партии, а ведь принять такое стратегическое решение было далеко не просто. И действительно, с точки зрения личной перспективы Бжезинского, победа над крылом Макговерна в Демократической партии была, возможно, более трудной стратегической задачей, чем отправить СССР, по выражению Троцкого, «в мусорную корзину истории».
В любом случае умеренный оптимизм Бжезинского не угас. В своей недавней работе он призывает США к построению более расширенного «Запада», в который будут включены не только страны более объединённого Европейского союза, но и реформированная Россия и пока ещё демократическая Турция; таким образом можно будет создать универсальную демократическую культуру по всему земному шару от Ванкувера до Владивостока. Эта цель перекликается с предложенной им в книге 1965 года «Альтернатива разделению» идеей объединения европейского политического и культурного пространства. В то же время он предлагает Соединённым Штатам сыграть роль внешней уравновешивающей силы в Азии, как между Китаем и Японией, так и между Китаем и Индией. Он понимает, что для такой роли сначала потребуется как следует восстановить наше собственное здание, но не слишком задерживается на этих предпосылках, предпочитая обрисовывать более широкие перспективы для Америки на обоих фронтах – в качестве строителя Запада и уравновешивающей силы Востока[301].
Такие перспективы многие могут назвать слишком оптимистичными, и, возможно, это так и есть. Согласно Бжезинскому, эпоха annus mirabilis («года чудес», согласно выражению английского поэта Джона Драйдена) должна наступить «после 2025 года», то есть через 360 лет, описанного Драйденом; это не настолько далеко в будущем, чтобы казаться фантастикой, но и не настолько близко, чтобы казаться несерьёзным. В наши дни трудно вообразить более сплочённый и эффективный Европейский союз, как и трудно вообразить демократическую Россию. Очень трудно вообразить остающуюся под западным влиянием и по-настоящему демократическую Турцию; создаётся впечатление, что Бжезинский не в полной мере уделял внимание происходившим на протяжении последних двух десятилетий переменам в турецком обществе. Столь же трудно представить, что Соединённые Штаты смогут разрешить давнее противостояние между Китаем и Японией или стать посредником между Китаем и Индией, даже по мере уменьшения военного присутствия США в регионе в силу жёсткой экономии бюджетных средств и связанного с ним уменьшения экономического воздействия. Представить, что мы всё добиваемся этого одновременно, в гармоничном равновесии – несомненно то, что на жаргоне сочинителей речей называется «вызовом».
При этом следует отметить, что кто-то же должен был предложить оптимистичный сценарий, кто-то же должен был подумать о том, как Америка может воспользоваться своими возможностями в новой реальности двадцать первого века. Кто-то же должен был поставить далеко идущие цели. То, что этим занимается человек на девятом десятке жизни, должно, по крайней мере, озадачивать, если не тревожить. Мы обязаны хотя бы высказать свою благодарность этому человеку за его старания, прежде чем указывать на недостатки и прорехи в спроектированном им здании.
В этом весь стратегический мыслитель: его не смущают множественные перспективы; он прекрасно чувствует себя перед множеством различных вариантов, отдавая предпочтение различиям перед сходством и единообразием; он не против моральной и эмоциональной привязанности, но опасается излишне морализаторских или теоретических абстракций; он осознаёт опасность и трагедию, но не впадает в пессимизм или цинизм; он терпелив и не слишком требователен к своевольной реальности; помнит о том, что лучшее враг хорошего, и быстро хватается за подвернувшуюся возможность; осознаёт трудности, но надеется на успех, даже на большой успех; и, что, возможно, самое главное, не слишком молод. В Збигневе Бжезинском сошлись все эти качества. И вполне логично, что он уважает тех, кто наиболее близко подходит к этому идеалу, оставляя самую резкую критику для тех, кто отходит дальше от него[302].
Конечно, если человека называют стратегическим мыслителем, то это вовсе не значит, что он всегда прав, или даже прав чаще всего. В противном случае все стратегические мыслители должны были бы придерживаться одинаковых точек зрения по всем важным вопросам, что, разумеется, не так. Бжезинский поддержал военную интервенцию США во время «Балканских войн за наследство Югославии», как, по моему мнению, лучше всего их называть, но был против Войны в заливе 1991-го по освобождению Кувейта. Другие мыслители, которых с тем же правом можно причислить к «стратегическим», занимали противоположные позиции, и я лично склоняюсь к их мнению, а не к мнению Бжезинского. Тем не менее, как бы ни различались их взгляды и суждения по тому или иному вопросу, стратегические мыслители обычно согласны с тем, как следует задавать вопросы, поскольку опыт научил их выделять самое главное и не отвлекаться на второстепенные детали, эмоциональные факторы и на то, как они будут выглядеть на экранах в нашу эпоху вездесущих средств массовой информации. Иногда случается так, что все или почти все стратегические мыслители в определённом политическом сообществе высказывают в широком смысле общие взгляды по особенно важному делу – по вторжению США во Вьетнам например, – а через десятилетие или больше времени спустя сожалеют об этом. Таким образом, перечисленные качества стратегического мыслителя являются необходимым, но не достаточным условием для верной оценки общей ситуации.
Увы, здесь задействованы ещё темперамент, опыт и предубеждения, которые возникают у серьёзного мыслителя со временем (отличающиеся от поверхностных предубеждений, которые неуверенные в себе используют в качестве защитного механизма). Существует и опасность, что при достижении определённого возраста человек мыслит уже немного в устаревших категориях. Как китайцы, по моему мнению, уж слишком угодливо назвали Генри Киссинджера успешным, и как Брент Скоукрофт остался настолько консервативным мыслителем, что в другом annus mirabilis, 1989 году, не мог представить себе мира без Советского Союза, так и Збигнев Бжезинский может остаться слишком ориентированным на Европу и на Россию в мире, в котором такая ориентация утратила свой стратегический подтекст. Хотя сам Бжезинский, возможно, и возразит против такого объяснения, но его ориентация, как мне кажется, хотя бы частично объясняет его поддержку военного вторжения США на Балканы, но не на Ближний Восток. Происходящее на Балканах непосредственно влияет на посткоммунистическое пространство, включая Польшу и Россию. Происходящее в Кувейте или Ираке не влияет[303].
Такой личный взгляд на мир позволил Бжезинскому удержаться от некоторых общих ошибок – таких, как наделение чрезмерной стратегической ценностью Ближний Восток, на что попались многие, или, как в недавнее время, преуменьшение продолжающегося стратегического влияния Европы. (Да, как отмечали многие, Бжезинский действительно не испытывает особо тёплых чувств к Израилю, но часто забывают, что он не испытывает и тёплых чувств к региональным врагам и критикам Израиля.) Его предубеждения также не лишили его надежды на то, что Россия рано или поздно по своей воле присоединится к Западу; он ни в малейшей степени не является сторонником этнополитического детерминизма, а если и является, то очень тщательно это скрывает.
Находясь в своей нише, мыслитель должен прилагать значительные усилия, чтобы понимать мир, быстро выходящий за рамки европейского нормативного окружения, – мир, в котором основы государственных систем меняются едва ли не сильнее, чем после Вестфальского мира. В недавней работе Бжезинский проводит аналогии с европейским опытом, распространяя их на Азию. И, как можно догадываться, вовсе не потому что делает скидку для западного читателя, не так уж хорошо знакомого с историей Азии, а потому что к этому он привык, и для него это естественный образ мысли. Увы, многие эти аналогии не так уж хорошо переносятся с Запада на Восток.
В любом случае, рассуждая о качествах стратегического мыслителя, очень мало говорят о характере самого человека и о его личных обстоятельствах, что порождает теории заговора. Ещё со времен работы в Трёхсторонней комиссии ни один политолог не был настолько часто главным действующим лицом разнообразных, подчас самых безумных, теорий заговора, как Збигнев Бжезинский. Среди более серьёзных мыслителей Бжезинский пользуется смешанной репутацией. Сторонники Макговерна среди демократов и их нынешние последователи называют его «ястребом»; многие республиканцы критикуют его за сдержанность в вопросах, требующих использования силы. Некоторые считают, что он слишком озабочен Россией, и обвиняют его в том, что он не может найти Южную Америку на карте; другие считают, что он слишком сосредоточен на Китае. Всем угодить невозможно (и уж точно не следует к этому стремиться). Время покажет, чьи идеи оказались ближе всего к исторической истине. Однажды Чжоу Эньлая попросили выразить своё мнение по поводу Французской революции, на что он ответил: «Об этом ещё слишком рано говорить». То же самое можно сказать и о Збигневе Бжезинском как о стратегическом мыслителе.
Часть IV. Портреты
Глава 15. Профессор
Стивен Ф. Сабо
Збигнев Бжезинский был блестящим преподавателем, заботившимся о своих студентах и использовавшим Гарвардский университет, Колумбийский университет, Совет по международным отношениям и Трёхстороннюю комиссию для подготовки к политической деятельности. Многие не академики с удивлением узнают, что на государственной службе он провёл только шесть лет, а всё остальное время в академии или в «мозговых центрах». К числу последних можно отнести Трёхстороннюю комиссию и вашингтонский Центр стратегических и международных исследований. После отставки «мозговые центры» предоставили ему возможность, согласно его собственным словам, переключиться с «создания политики к анализу и защите своих взглядов на политику»[304].
Но в определённых важных отношениях Бжезинский оставался академиком. На лекциях и интервью он говорил чёткими параграфами. Несмотря на то что «политическая наука», по его мнению, по большей части была лишена серьёзного содержания, его аналитическая способность и умение защищать свои взгляды являются следствием систематических исследований, чему он научился в своих школах и университетах: Университете Макгилла в Монреале, в Гарвардском и Колумбийском университетах и Школе передовых международных исследований Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса (SAIS). Из этих четырёх главных учебных заведений больше всего влияние на формирование Бжезинского оказал Гарвард. Именно там он узнал, что значит быть академиком и политологом, а также, в чём разница между этими двумя понятиями. В этом отношении его опыт сходен с опытом его знаменитых коллег по Гарварду – Сэмюэля Хантингтона и Генри Киссинджера, которых другие коллеги считали недостаточно серьёзными исследователями из-за того, что у них были внешние интересы и связи в мире политики.
Бжезинского всегда восхищали идеи, но, в отличие от большинства академиков, он стремился переводить идеи в политику и превращать теорию в практику. Такая ориентация и особенно его интерес к Советскому Союзу обусловлены его биографией. Он, как сын польских эмигрантов, рос в то время, когда родина его семьи находилась в зависимости от Советского Союза. Как он сам пишет: «Мои работы всегда связаны с какой-то фундаментальной политической или философской предпосылкой. Сначала в фокусе моего внимания был Советский Союз. Я считал его угрозой того же плана, что и гитлеризм. Затем я расширил эту мысль и задумался о том, что это значит для американской внешней политики»[305].
Во время его пребывания в Гарварде в Вашингтоне наблюдался значительный интерес как раз к этой теме. В ответ на соперничество с Советским Союзом правительство США предоставило крупную поддержку для исследований в этой сфере посредством законодательных актов, таких как Акт об образовании в области национальной обороны. Университеты на этой начальной стадии холодной войны представляли собой идеальное место, в котором пересекались личные интересы Бжезинского и интересы американского правительства. Он не был одинок, так как другие студенты Гарварда также интересовались тем, как соотнести идею и теорию с политикой. Что их делало особенными в академическом мире, так это их пренебрежение к количественным методам и концептуальным подходам, слишком далёких от реальности – то есть к тем методам и принципам, которые были приняты в большинстве университетских отделений, и приняты до сих пор. (Среди исключений, где регионоведение до сих пор считается важной дисциплиной и признаётся таковой, можно назвать такие академические гавани, как Колумбийский университет, Школа имени Флетчера при Университете Тафтса, Джорджтаунский университет, SAIS и Школа имени Эллиота при Университете Джорджа Вашингтона). Как отмечает Бжезинский: «Если пролистать Обозрение [американской] политологии, то трудно найти что-либо, что соотносится с реальной жизнью. Некоторые теоретики утверждают, что Америка и Китай должны воевать. Я же считаю, что они не должны воевать. Если эти исследователи ошибаются, то разрабатывается новая теория, но такие теории всегда возникают как следствие чего-то. Когда условия меняются и делается верный выбор, теорию нужно изменить»[306]. В результате такого упора на абстрактное в академической политологии политические дискуссии переместились из университетов в «мозговые центры», преимущественно в Вашингтоне.
Бжезинский поступил в Гарвард в 1950 году, закончив бакалавриат и магистратуру в Университете Макгилла. Свою магистерскую диссертацию он написал по теме национальной политики СССР и пришёл в Гарвард с убеждением, что национальный вопрос – ахиллесова пята Москвы[307]. В Гарварде свою диссертацию о роли политических чисток в Советском Союзе он написал под руководством Мерла Фейнсода, настоящего гиганта в области советологии. После аспирантуры на протяжении 1950-х годов Бжезинский преподавал там же, пока ему не отказали в постоянной должности. По его собственному признанию: «Конечно, я хотел стать там постоянным преподавателем, но я ничего не делал ради этого, что сейчас признаю наивным. Когда же я узнал, что мне отказали, я решил, что это не повод для меня и моей жены расстраиваться, и устроил большую костюмированную вечеринку на тему кораблекрушения, и это была одна из лучших моих вечеринок в Гарварде»[308].
Отказ в Гарварде стал решающим моментом в жизни Бжезинского. Главное десятилетие, определившее его взгляды, он провёл в Кембридже, развивая свои идеи и устанавливая дружеские отношения. До этого времени в Гарварде всё ему давалось без труда, и отказ стал для него значительным испытанием. Как всегда, Гарвард был переполнен талантами, и на отделении государственного управления блистали такие звёзды, как Бжезинский, Киссинджер, Хантингтон и Стэнли Хоффман. Университет печально прославился тем, что отказывал в должности постоянного профессора многим одарённым исследователям, из-за чего они достигали блестящей карьеры в других местах; будет лишь небольшим преувеличением утверждать, что лучшее, что может случиться с подающим надежды научным работником, – это получить отказ в Гарварде. Это определённо сработало в случае с Бжезинским (и Хантингтоном тоже).
В 1960-м году Бжезинский переехал в Колумбийский университет, где возглавил Исследовательский институт по вопросам коммунизма (RICA). В Колумбийском университете Бжезинский оставался вплоть до назначения советником по национальной безопасности при президенте Джимми Картере в 1977 году (и вернулся в Колумбийский университет после окончания президентского срока Картера в 1980 году). Он быстро понял, какую выгоду для него предоставляет Нью-Йорк, – в частности здесь располагались престижный Совет по международным отношениям и редакция журнала «Форин афферс», а также телестудии. В марте 1962 года он впервые выступил на телевидении в программе, организованной Колумбийским университетом и посвящённой мировым проблемам. «Нью-Йорк таймс» в обзоре этой программы писала следующее: «Значение международных проблем, преследующих коммунизм… профессор Бжезинский описывал настолько ясно, что тем самым неизменно удерживал внимание»[309]. Когда в 1960-х Гарвардский университет дважды попытался уговорить его вернуться в Кембридж и даже предложил должность штатного профессора с вдвое меньшей нагрузкой, чтобы он мог посвятить свободное время своим исследованиям, Бжезинский встал перед выбором:
«Я сказал себе – да, Гарвардский университет получше Колумбийского, как и Оксфорд лучше Сорбонны, но Сорбонна находится в Париже, а Оксфорд – в Оксфорде. Гарвард находится в Кембридже, а Колумбия – в Нью-Йорке. Останься я в Гарварде, из меня, возможно, вышел бы исследователь получше, но я задал себе вопрос – хочу ли я и через двадцать лет пересекать университетский двор в твидовом костюме с папкой, в которой находится переписанный курс старых лекций с текстом начальной шутки в надежде добиться благосклонности студентов? Буду ли я этим доволен?»[310]
К 1989 году Бжезинскому надоело ездить на работу в Нью-Йорк. Не отрекаясь от Колумбийского университета, он начал подыскивать себе новый академический дом в Вашингтоне. Ему сделали предложения Школа дипломатической службы Джорджтаунского университета и SAIS. Несмотря на то, что между Бжезинским и Полом Нитце были разногласия из-за резкого неприятия Нитце Договора по СНВ, Бжезинский поддерживал дружеские отношения с деканом SAIS Джорджем Пакардом и регулярно играл с ним в теннис. После одного из таких матчей Бжезинский сказал, что устал от еженедельных поездок в Нью-Йорк, и Пакард предложил ему кафедру Осгуда в SAIS. Это не подразумевало его включения в штат профессуры, но Бжезинский пришёл в восторг, поскольку в таком случае ему не обязательно было присутствовать на заседаниях и включаться в бесконечную факультетскую борьбу, чего он старался избегать на протяжении всей своей карьеры. Он сказал, что хочет видеть под своим руководством блестящих студентов и быть членом первоклассного академического института; в итоге он отдал предпочтение SAIS, а не Джорджтауну, потому что Джорджтаунский университет казался слишком академическим, тогда как Школа SAIS более ориентировалась на политику. Бжезинский преподавал в SAIS с 1989 по 1997 год: вёл по одному семинару в год и регулярно читал большие курсы лекций, став одним из самых популярных преподавателей, так что его класс пришлось ограничить до двадцати тщательно отбираемых человек.
Раз в две недели он также устраивал званые обеды, на которые приглашал сотрудников SAIS и вашингтонских политологов, в том числе таких звёзд, как Гельмут Зонненфельд, главный помощник Киссинджера по Европе в Совете национальной безопасности; Фриц Эрмарт, бывший высокопоставленный аналитик из ЦРУ; посол Филлис Оукли и Тоби Гати, бывшие руководители Управления разведки и исследований Государственного департамента; и преподаватели SAIS Фрэнсис Фукуяма и Чарльз Гати (последний посещал семинар Бжезинского по сходной тематике, а затем сосредоточился на вопросах коммунизма в Колумбийском университете в 1970-х годах). На этих собраниях Бжезинский исполнял роль председателя, предлагая ведущим политологам и аналитикам разных политических убеждений выступить с получасовой речью. Он же обычно и задавал первый вопрос, всегда по существу обсуждаемой темы, что демонстрировало его великолепную способность глубоко проникать в суть дела. Предполагалось, что приглашённые будут регулярно посещать эти обеды, иначе на следующий год предложение отменялось. Список ожидающих и без того был длинным. Много лет спустя Джордж Пакард отметил, что «предложение Збигу было одним из лучших моих решений в должности декана. Он дал факультету столь необходимый ему политический опыт и стал необыкновенно популярным преподавателем».
Бжезинский всегда был вдохновенным и одарённым учителем. Он вспоминает, как его представили классу в Вест-Пойнте под видом советского военного атташе, и он выступил со сравнением советского и американского стилей ведения войны, уверяя в превосходстве первого. Аудитория встречала его рассуждения с растущим негодованием, пока он в конце не признался, что он профессор из Гарварда. Тогда по классу прокатился гул одобрения. Позже, в 1968 году, уже в Колумбии, он встретился со студентами, протестующими против войны во Вьетнаме. Он был основной мишенью этих протестов, поскольку поддерживал войну – как советник администрации Джонсона и как участник кампании Хьюберта Х. Хамфри. Он вышел к студентам, собравшимся на ступенях здания RICA, с яблоком в руках, от которого время от времени откусывал, чтобы показать свою безмятежность. К концу напряжённой дискуссии Бжезинский выразил надежду на то, что у них не осталось вопросов, потому что ему ещё нужно запланировать «кое-какие другие геноциды»[311]. В исследовании, которое должно скоро выйти, Жюстен Ваис замечает, что Бжезинский не был высокого мнения об этих студентах, потом что они недостаточно критиковали советское вторжение в Венгрию в 1956 году и подавление выступлений в Чехословакии в 1968 году. При этом сам Бжезинский утверждает, что всегда любил своих студентов, но просто не давал им повода запугать себя.
Несмотря на протесты, Бжезинский зарекомендовал себя в Колумбийском университете как отличный лектор и как организованный и очень умный профессор. Ф. Стивен Ларраби, бывший студент и позже младший член СНБ (Совета национальной безопасности), описывает Бжезинского как «потрясающего профессора, хорошо организованного, обладающего великолепными познаниями и дисциплинированного»[312]. Он также был добросовестным руководителем.
В мою бытность в Колумбийском университете четыре аспиранта, включая меня самого, заинтересовались холодной войной и решили организовать специальный курс. Мы спросили Бжезинского, не хочет ли он вести этот курс – довольно трудный, потому что нужно было составить совершенно новую программу, список для чтения и т. д. Бжезинский любезно согласился. Недели через две-три он подошёл ко мне и спросил: «Вы что-то делаете для этого курса?» Я, как ответственный студент, сказал: «Да, а почему вы спрашиваете?» Тогда он провёл меня в свой кабинет, где на столе лежали книг двадцать из библиотеки Колумбийского университета, посвящённые тематике курса, и спросил: «Зачем, если все эти книги у меня?»[313]
Покойный генерал-лейтенант Уильям Одом, сначала студент, а потом коллега по СНБ и близкий друг Бжезинского, также отзывался о нём положительно: «Лекции Бжезинского всегда были потрясающим событием»[314]. Его давний коллега Чарльз Гати вспоминает: «Когда я познакомился со своей [будущей] женой в Колумбийском университете, она посещала один из курсов Бжезинского и была его помощницей по исследованиям. Помню, как усердно она занималась, да так, что у неё не оставалось времени на меня. Получить отметку у Бжезинского «А» было настоящим достижением»[315].
Среди студентов Бжезинского в Колумбийском университете была и будущий государственный секретарь Мадлен Олбрайт. Вот её воспоминания о нём как о профессоре:
«Впервые я увидела Бжезинского, когда он, как молодой профессор из Гарварда, приехал прочитать лекцию в Уэллсли. Вскоре после этого он опубликовал книгу «Советский блок» – основательный анализ того, как Сталин собрал воедино свою империю.
Ему было всего тридцать с чем-то лет, но его уже цитировали, как пользующегося влиянием в политических кругах. Я подумала, что крайне важно поступить к нему на семинар по сравнительному коммунизму, что само по себе было новой идеей. При всём уважении к другим моим бывшим профессорам, я считаю, что это был лучший курс во всей моей аспирантуре. Преподаватель был непростой, но вдохновляющий, материал совершенно новый, и все студенты считали себя самыми выдающимися.
Бжезинский заставлял много читать по-русски, не спрашивая, по силам ли это нам. Поскольку он был хорошим другом моих знакомых Гарднеров [профессора Гарднера и миссис Ричард Гарднер], а я была старше многих студентов, мне посчастливилось наблюдать и его человеческую сторону. Но для большинства студентов он казался недоступным. Он был блестящим преподавателем, не снисходил до того, чтобы ограничиваться общими фразами, и, хотя говорил с польским акцентом, речь его всегда была чёткой и логичной. Даже тогда почти не было сомнений, что он сыграет важную роль во внешней политике США»[316].
В SAIS курсы Бжезинского всегда пользовались большим интересом. После того, как в его класс записались пятьдесят шесть студентов, он ограничил свои семинары двадцатью студентами, получавшими право посещать их после строгого отбора. К своим преподавательским обязанностям он относился очень серьёзно и, несмотря на загруженность и частые предложения выступить с лекциями, никогда не пропускал занятия. У его студентов по SAIS о нём, как о преподавателе, сохранились самые тёплые воспоминания. Вот лишь некоторые из них.
На семинаре 1992 года по политике Бжезинский заставлял нас выражать свои мысли по стратегическим политическим вопросам очень чётко и ясно. По сравнению с другими курсами мы всегда сидели на его занятиях как на иголках, – никто не хотел разочаровать его, и он пробуждал в нас самое лучшее. Одно из требований, которое я часто вспоминаю, состояло в том, что наши работы не должны были превышать двух страниц, что ужасно для аспирантов, которым дали задание описать политический подход к большим и значимым событиям (моей темой была политика по отношению к бывшему Советскому Союзу). Что касается образа мыслей политиков, то в этом отношении он придерживался следующего мнения: «Надеюсь, многие из вас поступят на службу в правительство, в этой стране или в вашей родной стране (среди его студентов было немало иностранцев), и станете давать советы ведущим политикам. Если вы не сможете выразить суть своего предложения на двух страницах, никакой политик этого читать не станет, так что думайте лучше». Я лично убедился в этом, работая в Государственном департаменте, будь то при Ричарде Холбруке на должности заместителя секретаря в 1990-х, который ограничивал сообщения с мест событий 1000 словами, или при разных госсекретарях, требовавших, чтобы информационные доклады не превышали две страницы (а один секретарь настаивал на одной)»[317].
На основе своего опыта обучения я понял, что в любом образовательном учреждении, независимо от его престижа, могут быть одарённые преподаватели. Они способны создать среду, в которой студенты получают не только знания, но и воодушевление от процесса. Збигнев Бжезинский определённо был таким преподавателем. Я этому удивился, потому что со времён его работы в администрации Картера у меня остались впечатления о нём, как о довольно жёстком, бескомпромиссном борце холодной войны. Его семинар был исключительным явлением. Он с самого начала заявил, что будет начинать занятия строго в назначенное время и не будет их продлевать, потому что так всё устроено в настоящей жизни. Больше всего меня впечатлило то, что он активно поощрял разнообразие взглядов среди своих студентов, от консервативного реализма до расширения приоритета Организации Объединённых Наций перед национальными правительствами. Он действительно не поддерживал ту или иную идею только на основании своих собственных взглядов, а оценивал качество аргументации. Судя по моему опыту, это редкость в академической среде[318].
«Збиг», которого некоторые его студенты одновременно обожали и боялись, был человеком прямым и честным, не слишком добродушным, но и не чрезмерно строгим. В преподавательской деятельности он отличался методичностью и дисциплинированностью, ставил перед собой определённые цели и усердно готовился к занятиям. Пустая болтовня не для него. Это, скорее, преподающий политик, а не преподаватель, который когда-то занимался политикой. По моим впечатлениям, Збиг не был создан учителем, но тем не менее учил. Его занятия дали мне инструменты, которые постоянно пригождаются в повседневной жизни. Все мировые проблемы можно решить, если не настаивать на идеальных решениях. Его методы преподавания и анализа – это адаптация тех методов, которых он придерживался, когда служил советником по национальной безопасности при президенте Картере. Его подход, при котором он сводил всё к основным элементам, был прагматичным и надёжным. Ко всему он относился, прежде всего, как патриот Америки. Вечные проблемы международного масштаба он рассматривал, отталкиваясь именно от национальных интересов Америки[319].
Сам Бжезинский не особенно задумывался о своих методах преподавания («Я просто учил инстинктивно, так же, как общался со студентами»). Он никогда специально не обучался преподавательскому мастерству; его стиль возникал в процессе взаимодействия с классом: «Из моего инстинктивного стремления заинтересовать студентов, иногда запугать, но при этом подтолкнуть их к чему-то лучшему. Заставить их оценить тот факт, что у них получается лучше. Оценку “А” я ставил только за то, что они действительно заслуживали. Я взял за правило отсылать письма студентам, в которых писал, что только они из всего класса получили “А”»[320].
В 1998 году Бжезинский прекратил преподавать в SAIS на постоянной основе, но это не значило, что он полностью прекращает свою преподавательскую деятельность. В SAIS он сохраняет за собой свой кабинет, в котором принимает коллег и студентов. В каком-то смысле он даже расширил свой класс за счёт периодических лекций в SAIS (которые всегда пользуются огромным успехом), а также за счёт книг, статей и выступлений на телевидении. На девятом десятке жизни он остаётся одним из мудрейших и эффективных обозревателей международной политики – и профессором, которого его студенты вспоминают с благоговением и восхищением.
Глава 16. Признательность
Фрэнсис Фукуяма
Моя высокая оценка жизни и интеллекта Збигнева Бжезинского обусловлена не только его книгами и статьями, но даже в большей степени нашим личным общением на протяжении более двух десятилетий, в основном в рамках его семинара по текущим событиям, которые он раз в две недели проводил в Школе передовых международных исследований Пола Нигце при Университете Джонса Хопкинса (SAIS) в Вашингтоне. Начиная с краха коммунизма и окончания холодной войны, этот семинар затрагивал такие политические темы, как война на Балканах, мирная конференция в Осло, первая война в заливе, затем теракты 11 сентября и все тревожные события последнего десятилетия; он служил площадкой, на которой участники делились своими взглядами, выслушивали других ораторов и старались проникнуть в суть проблемы под проницательным руководством Збига, который неизменно задавал первые вопросы. Ему удавалось поддерживать фокус дискуссии на национальных интересах и не терять при этом взгляда на общую картину благодаря своему полученному в Вашингтоне опыту занятий политикой. Я сожалею, что эти обеды уже не являются частью моей жизни.
Я считаю, что главное в наследии Бжезинского, каким его будут помнить в будущем, это два больших достижения. Первое – это его моральное противостояние бывшему Советскому Союзу и его доминирующей роли в Восточной Европе, а также признание угрозы, какую Советский Союз представлял западным демократическим ценностям и институтам. Понятно, что, будучи поляком и эмигрантом, он с самого начала был весьма скептически настроен к российской власти. Но его польское происхождение служило ему не столько источником предубеждений, сколько отправной точкой для размышлений по поводу того, как иметь дело с СССР.
Его вклад начался с классической, написанной ещё на заре его академической карьеры в соавторстве с Карлом Фридрихом книги «Тоталитарная диктатура и автократия», ставшей своего рода линзой, через которую западные исследователи рассматривали СССР в последующие годы. Она постулировала ставшее впоследствии общим местом существенное различие между тоталитаризмом и авторитарными режимами, основанное на свойственном тоталитаризму «циркулярном потоке власти». Слияние идеологии с тиранической политической властью определило суть столкновений XX века, отличавшихся от всего, что было до них.
Тоталитарная модель начала разваливаться с момента секретного выступления Хрущёва в 1956 году, но Бжезинский в своём последующем анализе советской системы никогда не давал увлечься этой концепцией. Он прекрасно понимал, до какой степени Советский блок (выражаясь названием другой его основополагающей книги) охватывал неоднородные интересы – интересы, которые рано или поздно могли бы привести к развалу всей системы. Такова была тема, которая во многих отношениях определила его раннюю карьеру.
В 1970-е годы со стороны Германии и других стран НАТО наблюдалось стремление к «разрядке» в отношениях; Збиг сыграл важную роль в администрации Картера, ослабив этот импульс и проследив за тем, чтобы в переговорах учитывался ещё и фактор силы. Результатом всего развития событий стал, конечно же, крах Организации Варшавского договора, распад Советского Союза, а также освобождение родной для Збига Польши от коммунизма и вступление её в НАТО и Европейский союз. Трудно представить себе человека, более других лично заинтересованного в таком исходе.
Второй крупной сферой, на национальные дебаты по поводу которой в значительной степени повлиял Бжезинский, был Ближний Восток. По отношению к этому региону он занимал последовательно реалистичную позицию: интересы Соединённых Штатов страдают от продолжительного израильско-арабского конфликта и оккупации Израилем после войны 1967 года западного берега реки Иордан и сектора Газа; при этом стороны не способны договориться сами по себе. Бжезинский принимал участие в переговорах в Кэмп-Дэвиде, приведших к заключению мирного договора между Египтом и Израилем и превращению конфликта государств в конфликт народов.
Поскольку Америка считала Израиль своим демократическим союзником и поскольку проследить все подробности этого конфликта было довольно трудно, перед Соединёнными Штатами издавна стоял соблазн принизить важность этого вопроса для других угроз и регионов. Как и Брент Скоукрофт, Збиг понимал, что какие бы действия Соединённые Штаты ни предпринимали в этом регионе, противодействуя ли расширению влияния Советского Союза, сдерживая ли Иран после революции 1979 года или разбираясь с радикальным исламским терроризмом, всё это становилось гораздо труднее из-за этого нерешённого конфликта. То решение, на каком настаивал он, возможно, и сработало бы, если бы Соединённые Штаты приняли его на ранней стадии. К сожалению, возможность была упущена, а тем временем усиливалась поляризация сторон. На смену Арафату и светской Организации освобождения Палестины пришёл исламистский «ХАМАС», в израильском обществе произошёл сдвиг далеко вправо, и перспективы мирного урегулирования при содействии США стали совсем призрачными.
В каком-то смысле самым ярким моментом Збига стало его ранее противостояние войне в Ираке 2003 года. Идеи использования Соединёнными Штатами своей военной силы в практических целях не были для него такими уж чуждыми – в конце концов именно при нём администрация Картера учредила оборонительные Силы быстрого реагирования, на основе которых впоследствии было создано Центральное командование, основная структура, организовывавшая применение военной силы США в Персидском заливе. Но он никогда не покупался на апокалиптичные сценарии глобального конфликта с «исламофашизмом», о котором часто твердили представители правого крыла после терактов 11 сентября; и он продолжал сомневаться в желании и в способности США изменить политику в регионе благодаря развёртыванию своих сил в нём. В своих работах того периода он предупреждает о широкой глобальной мобилизации социальных сил, которые коренным образом изменят политику в регионе и контролировать которые Соединённым Штатам будет очень трудно. Эти предсказания грядущих неудач во влиянии США на Ближний Восток подтвердили последующие события, когда Соединённые Штаты увязли в иракском болоте, а кажущиеся первоначальные успехи в Афганистане обернулись крупными волнениями и восстаниями.
Збигнев Бжезинский, подобно своему современнику и отчасти сопернику Генри Киссинджеру, обладал даром стратегического мышления. Главное отличие между ними в том, что для Збига характерна прямота в высказываниях и смелость в отстаивании своих позиций. Если на взгляды Киссинджера по любой теме, от войны в Ираке до инициативы Джорджа Шульца по уничтожению ядерного оружия, часто влияют сложные расчёты своей позиции и политические ветра в тот или иной конкретный момент, Збиг всегда прямо говорит, что думает, даже если это грозит ему осуждением и критикой. У него имеются свои недостатки: он всегда был гораздо больше увлечён тем, что, например, происходит в крошечной Грузии, чем в гигантской Мексике под боком, и было бы напрасно искать в его книгах какие-то существенные мысли и рассуждения по поводу Латинской Америки в целом. Но всё равно на свете найдётся мало людей, способных сравниться с ним по широте кругозора и по вовлечённости в текущие политические дебаты, в которых он постоянно участвовал на протяжении своей необычайно долгой и продуктивной жизни.
Глава 17. О себе
В беседе с Чарльзом Гати[321]
Чарльз Гати: В качестве одного из способов начать эту беседу можно процитировать Макса Асколи, основателя и редактора ныне уже не выходящего еженедельника «Репортер». Как вы (и я), он был эмигрантом. Он приехал в эту страну из Италии накануне Второй мировой войны. Много лет спустя Асколи сказал, что есть некоторые люди, которые сами родились за рубежом, но по своему складу личности являются «прирождёнными американцами». Как вы сами ощущаете себя в этом смысле?
Збигнев Бжезинский: Я не ощущаю себя «прирождённым американцем», но после окончания Второй мировой войны моя родина для меня оказалась закрытой, и я страстно желал найти себе что-то, с чем можно было бы себя отождествлять. Когда в 1950-х я стал студентом Гарварда, то этот вакуум быстро заполнила Америка. Я ощущал себя американцем, но, как мне кажется, это больше говорит об Америке, о том, как люди здесь быстро приняли меня.
ЧГ: Кто произвёл на вас впечатление? Я знаю, вы были близки с покойным Биллом Одомом. Вы не против поговорить о ваших с ним отношениях и, возможно, рассказать о том телефонном звонке в три часа утра 19 ноября 1979 года?
ЗБ: Одом был военным человеком. Мы познакомились в Колумбийском университете, когда он только что вернулся со службы во Вьетнаме. Я попросил его сделать презентацию на моём семинаре, и меня поразили его ум и способность к анализу. В начале 1970-х он провёл несколько лет в Колумбийском университете, и мы поддерживали отношения. Когда я перешёл в Белый дом, он стал полковником. Я решил взять его в свои военные советники, и мы очень тесно сотрудничали.
Наша дружба охватывала целый спектр, от профессиональных отношений до регулярных партий в теннис; мы разделяли интерес к Советскому блоку и вскоре после распада этого блока совершили совместную поездку по его бывшим странам. Это был своего рода круг почёта, когда мы переезжали из одной столицы в другую.
Я также помню, как однажды он разбудил меня ночью – как вы и сказали, 19 ноября 1979 года. Он был не только моим военным помощником, но и помощником по кризисным ситуациям. В мои обязанности входило консультировать президента по поводу решения в ответ на ядерную атаку на США. Одом разбудил меня в три часа, я поднял трубку и услышал: «Извините, сэр. На нас готовится ядерный удар». Конечно, от такого заявления сразу пропадёт весь сон. «Сообщи подробности», – сказал я, и он ответил: «Тридцать секунд назад Советский Союз запустил по направлению к Соединённым Штатам 200 ракет». Согласно правилам, я должен был в течение двух минут подтвердить это сообщение, а затем у меня было ещё четыре минуты на то, чтобы разбудить президента, проверить все варианты в ходе так называемого «футбола», получить решение президента и затем распорядиться об ответном ударе. Поэтому я сказал ему: «Позвони, когда проверишь информацию». Я помню, как сидел, испытывая странные ощущения, потому что я не такой уж геройский человек. Например, я очень нервничаю, когда самолёт, в котором я лечу, попадает в зону турбулентности. Но в тот раз я был совершенно спокоен. Я понимал, что через 28 минут все могут погибнуть – моя жена, дети, все остальные. В таком случае мне оставалось проследить, чтобы у нас была большая компания на том свете. Поэтому я сказал: «Выполни все процедуры Стратегического авиационного командования для подготовки к запуску». Затем я ждал подтверждение. Прошла минута, и оставалось получить ещё один ответ. Тут снова позвонил Билл и сказал: «Отбой. Не те записи. Запуска не было». Помню, как я сказал ему: «Не забудь дать отбой Стратегическому авиационному командованию».
Билл Одом был одновременно и интеллектуалом, и бойцом – такое сочетание, которое мне нравилось.
ЧГ: Не хотите поговорить о своём отце? Особенно мне было бы интересно узнать о роли, которую он сыграл в помощи центральноевропейским и восточноевропейским евреям избежать преследований в годы перед Второй мировой войной.
ЗБ: Не так давно я получил письмо от женщины, живущей возле Вашингтона, в Бетесде, в штате Мэриленд. Письмо начиналось так: «Мне 93 года, и я хотела давно написать вам, но делаю это сейчас, пока ещё не отправилась на тот свет. Я хочу, чтобы вы знали – ваш отец [польский консул в Германии в 1931–1935 годах] спас меня и моего покойного мужа, выдав паспорта нашей семье. Он подтвердил, что мы польские граждане». На самом деле они были гражданами Германии. Мой отец поступил так вопреки своему дипломатическому статусу.
ЧГ: Он когда-нибудь говорил вам о своих взглядах?
ЗБ: Он придерживался глубоко либеральных взглядов, и его оскорбляли полуфашистские проявления польского антисемитизма. Моё самое первое воспоминание об этом – когда мы в середине 1930-х годов гуляли по улицам польского города Лодзь. Мне было тогда лет шесть. Мы увидели толпу правых фанатиков, с огромным плакатом, на котором было написано по-польски: «Все евреи – свиньи. Убирайтесь в Палестину. Варшава и Краков только для поляков». Мой отец ходил с тростью, не потому что она была ему нужна, а потому что тогда в Европе это было стильно, и он набросился на них с этой тростью. Что касается паспортов, то ребёнком я об этом не знал. Я узнал про них, потому что правительство Израиля признало его заслуги и особо отметило их несколько лет назад.
ЧГ: Перед войной вашего отца перевели в Канаду, и ваша семья переехала в Монреаль. В подростковом возрасте вы встречались с Яном Карским, который останавливался там на пути из Польши в Вашингтон, чтобы рассказать о холокосте. Впоследствии мы с ним стали друзьями, когда он лет сорок преподавал в Джорджтаунском университете. В 2012 году Обама посмертно наградил его Президентской медалью Свободы.
ЗБ: Во время войны наш дом в Монреале превратился в своего рода убежище для людей, которых мой отец знал в Польше. Я помню, как Ян Карский останавливался в нашем доме, прежде чем встретиться с президентом Рузвельтом. Карский был эмиссаром польского подполья, и он должен был сообщить всему миру о том, что происходит с евреями. Помню, что у него на запястьях были заметные шрамы.
Чтобы самому увидеть, что происходит в концлагерях, он переоделся в униформу офицера СС. Его задержали на границе между Польшей и Словакией. Он собирался переправиться в Венгрию, а оттуда через оккупированную Югославию на запад, но гестапо поймало и пытало его. Не в силах терпеть пытки, он перерезал себе вены, но нацисты не дали ему покончить с собой и отправили в госпиталь, потому что понимали, насколько он важен. В госпитале он сообщил некоторым медсёстрам, что связан с подпольем, и попросил привести к нему священника, чтобы тот отправил сообщение его соратникам. Они привели священника, Карский объяснил ему, кто он такой, но священник сказал: «Я занимаюсь только делами духовными, а не земными». Но несколько часов спустя явились вооружённые люди и вывели его из госпиталя. Так что священник оказался хорошим, просто боялся раскрыть себя перед незнакомцем.
Я помню, как отец спросил Карского: «Так что же происходит в Польше с евреями?» Карский ответил: «Их убивают». Мой отец был родом с востока Польши с его большим и оживлённым еврейским сообществом. «Что вы хотите этим сказать?» – спросил отец. Карский сказал: «То и хочу – убивают. Всех». Отец недоверчиво переспросил: «Как, что значит всех? Мужчин? Женщин? Детей?» Карский ответил: «Да, это я только что и сказал вам». Моего отца это потрясло. Он знал, что Гитлер ненавидит евреев, но даже он поначалу не мог поверить Карскому.
Я потом читал, что когда Карский приехал в Вашингтон и встретился с Феликсом Франкфуртером [другом и советником Рузвельта], их беседа проходила примерно так же. Франкфуртер в какой-то момент повернулся к польскому послу и сказал: «Не могу в это поверить». Польский посол взорвался: «Феликс! Как ты можешь говорить, что не веришь ему? Посмотри на его руки!» Франкфуртер ответил: «Я не говорил, что не верю ему, я просто не могу поверить услышанному». Когда я читал эти воспоминания, они мне очень напомнили реакцию моего отца в Монреале.
ЧГ: Ещё одним человеком, сыгравшим большую роль в вашей жизни, был папа Иоанн Павел II.
ЗБ: В начале своей карьеры, во время Второй мировой войны, он был священником из рабочих. Одной из главных целей для него было достижение социальной справедливости. Он не выступал против свободной рыночной системы, но без воодушевления относился к капитализму. Он подчёркивал важность социальной ответственности и определённого равновесия в распределении богатства. Так получилось, что я разделял эту точку зрения. В нём удивительным образом сочетались духовность и политическая проницательность. Он заражал своими религиозными убеждениями, спонтанными и глубоко прочувствованными. Их можно было выразить простыми словами, что он и продемонстрировал, когда стал папой.
Я присутствовал на его коронации как представитель США, отчасти символически – благодаря своим связям с Польшей. Мы сидели у собора Святого Петра, возле которого собралось около шестидесяти тысяч человек. Когда он вышел к собравшимся, он в театральном жесте поднял руки, и сразу стало понятно, что это по-настоящему вдохновенный человек. Обращаясь к огромной толпе, он сказал: «Не бойтесь», и затем начал речь. В каком-то смысле одним этим предложением он затронул тему высшей тайны человеческого существования и связанного с ней беспокойства. Потому что мы на самом деле не знаем, кто мы. Мы не знаем, сколько нам суждено прожить. Мы не знаем, есть ли что-то ещё кроме нашего физического существования, и что именно. Это тайна бытия, и в ней есть элементы страха. А в его призыве «не бояться» звучит нечто трансцендентное, что придаёт смысл и значение нашему существованию.
В то же время он был очень политическим человеком и определённо осуждал коммунизм. Он понимал, что в этом отношении Америка играет роль противовеса Советскому Союзу, но это вовсе не означало, что он должен, например, автоматически прославлять Стратегическое авиационное командование. Духовно мы находились на одной стороне. И в этом смысле мне было легко разговаривать с ним, как о политике, так и, в какой-то степени, о теологии и вере. Однажды я сказал ему, что являюсь католиком, потому что родился католиком, но если бы родился в Китае, то, наверное, был бы буддистом. Я считаю, что можно разными способами прикоснуться к тому, что находится за пределами нашего познания, и что существует не только один способ. Я думал, он не согласится, но он сказал: «Нет, вы абсолютно правы».
Посещая Рим, я встречался с ним несколько раз, и однажды я вошёл в его апартаменты перед обедом – в небольшое помещение, где он должен был находиться, с часовней с одной стороны. Был полдень. Он лежал на полу совсем один, ничком, вытянув руки в виде креста, – это не предназначалось ни для ничьих глаз. Просто лежал перед алтарём и молился.
ЧГ: Советское руководство считало, что это вы устроили его выборы.
ЗБ: Точно. Советскому политбюро представили доклад, согласно которому я, якобы, подговорил филадельфийского кардинала Крола организовать американских кардиналов. Затем американские кардиналы подговорили немецких кардиналов создать американо-германскую коалицию, затем подговорили других, и таким образом получалось, что за избрание папы несу ответственность я. Папа тоже слышал об этом «великом заговоре». Помню, как однажды мы с ним прощались, и он предложил: «Приезжайте ещё, как сможете». Я ответил: «Ну, я не так уж часто могу приезжать. Вы знаете, это для меня привилегия», а он улыбнулся и сказал: «Вы же меня избрали, так что обязаны встречаться со мной».
ЧГ: Прежде чем спросить вас о президентах, которых вы знали или с которыми встречались, поговорим о советском лидере Михаиле Горбачёве. Что вы думали о нём в 1985 году, когда он пришёл к власти, и что вы думаете о нём сейчас?
ЗБ: В 1985 году я воспринял его как глоток свежего воздуха, особенно в сравнении с его предшественниками. Тогда всем было совершенно понятно, что советское руководство постепенно вырождается. А он отличался от большинства, был моложе, умнее, искреннее, и к тому же не говорил как убеждённый коммунист. Но вместе с тем мне казалось, что он неумелый специалист, потому что у него не получалось придать идее перестройки политическую и социальную согласованность и связанность. Мне кажется, такое суждение остаётся верным до сих пор, но в 1985 году я не думал, что он действительно способен поменять механизм принятия решений и обладает желанием экспериментировать. В дальнейшем, когда я узнал его получше, я стал воспринимать его как человека по-настоящему рассудительного и умного, довольно отважного, с чувством юмора и даже с некоторой долей гибкости.
Позвольте мне рассказать об одном забавном случае. После того, как он потерял власть в России, мы встречались на различных конференциях по всему миру. Однажды вечером я регистрировался в отеле перед одной такой конференцией и услышал, как кто-то называет меня по имени: «Збиг! Збиг!» Повернувшись, я увидел, что это Горбачёв. Мы с ним обнялись. Это была наша первая встреча после того, как он перестал быть президентом, и я подумал: «Ну, раз он называет меня Збигом, то я буду называть его Михаилом. Я сказал: «Михаил! Михаил!», и тут он как бы весь напрягся. Впрочем, ничего катастрофичного в этом не было. На следующий день в своей речи он сказал: «Поговорите с присутствующим здесь Бжезинским. Конечно, он мечтает о временах старой доброй холодной войны, которая ему так нравилась». После окончания мероприятия я подошёл к нему, положил ему руку на плечо и спросил: «Михаил, почему вы так сказали обо мне? К моей речи это не имело ни малейшего отношения». Он ответил: «Збиг, они нам заплатили и ожидали, что мы будем спорить».
ЧГ: И вам действительно хорошо заплатили?
ЗБ: Не совсем, но ему, похоже, казалось, что да.
ЧГ: Позвольте мне спросить вас о пяти президентах, с которыми вы встречались и некоторых из которых хорошо знали. Что вы думали о них, когда впервые встретились с ними, и как вы относитесь к ним сейчас? Начнём с Джона Ф. Кеннеди, пожалуй.
ЗБ: Я встретился с ним в 1950-х годах, когда учился в Гарварде, и тогда я едва не боготворил его. Он меня очень впечатлил, когда стал президентом. Его инаугурационная речь была очень проникновенной. Мне понравилось особое чувство бодрости и энтузиазм, которые он придал Америке, казавшейся немного неуверенной в то время, особенно после запуска «спутника». И я был до глубины души потрясён, когда его убили. Я очень ярко помню тот момент, но стоит добавить, что позже, чем больше я узнавал о нём, тем сильнее ставил под сомнение свой энтузиазм по отношению к нему. Я начал понимать, что им было довольно легко манипулировать, что он мог действовать под влиянием момента или исходя из собственных личных интересов и что он в меньшей степени, чем я верил, руководствовался возвышенным кодексом поведения или стандартами. Так что, в каком-то смысле, это была отрезвляющая переоценка.
ЧГ: Следующий – президент Картер. Когда речь заходит о внешней политике, то некоторые критики утверждают, что он был едва ли не самым слабым из всех современных президентов. И это странно, потому что во время его президентского срока – когда и вы были в Белом доме, конечно – были нормализованы отношения США с Китаем, были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения, заключён договор о СНВ-II, договор о Панаме, а также не было никаких крупных войн. Да, вам не удалось освободить заложников в Иране. Но не слишком ли предвзято относятся к Картеру? Может, источник такой критики – его нынешние критические взгляды на Израиль? Не является ли это отчасти таким ретроспективным осуждением?
ЗБ: Прежде всего, я не думаю, что преобладающее общественное мнение настолько враждебно к нему, но некоторые сегменты в нашем обществе действительно относятся к нему негативно – особенно те, кто верят в эффективность одностороннего использования силы и, как вы заметили, критикуют его взгляды на Израиль. Я бы заметил, в качестве контраргумента, что его можно рассматривать как президента, который предвидел серьёзные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в области энергетики, и который очень эффективно подходил к решению различных критических вопросов внешней политики. Если бы Джордж У. Буш или Барак Обама достигли бы хотя бы половины всего, что достиг Картер, то для них это было бы величайшим успехом. Я также считаю, что в очень большой степени оценка наследия Картера связана с эмоциями. Давайте признаем начистоту: еврейское сообщество – это наиболее активное политическое сообщество американского общества. И людей из этого сообщества очень расстроило высказывание Картера о том, что Израиль становится государством апартеида.
ЧГ: Это и меня расстроило.
ЗБ: Да, это могло обеспокоить вас. Это и меня обеспокоило в том смысле, что я желал бы, чтобы он так не говорил. Но знаете, кто ещё так сказал? [Бывший израильский премьер-министр] Эхуд Барак, помимо прочих. Слово в слово. Когда речь заходит о болезненных вопросах, касающихся евреев, то я не нахожу никаких достаточно убедительных аргументов, исходя из которых не-евреи не имели бы права высказывать своё мнение. Мы все имеем право комментировать друг друга. И я возражаю, когда говорят, что те или иные комментарии являются проявлением антисемитизма. Это гораздо более сложный вопрос, а такие высказывания только упрощают проблему антисемитизма и изображают её слишком тривиальной.
ЧГ: Помочь советским евреям, позволив им эмигрировать в Соединённые Штаты, – это идея возникла ещё до администрации Картера, но кто подал Картеру идею отстаивать права человека? Вы ухватились за неё, чтобы сыграть на их подавлении со стороны Советского Союза?
ЗБ: Он подкупил меня своей приверженностью идее защиты прав человека, и я разделял её, за исключением того, что у меня было особое мнение насчёт Советского Союза. Изначально Картер колебался, но в конечном итоге согласился, что мы можем подорвать сплочённость Советского Союза, поддержав национальные устремления нерусских народностей – даже несмотря на рекомендации Государственного департамента не делать этого, что он оправдывал не внушающими доверия основаниями. Госдепартамент утверждал, что как американская нация состоит из людей различного этнического происхождения, так и советская нация состоит из людей различного этнического происхождения. Помню, что спросил кого-то из Госдепартамента: «И на каком же языке, по-вашему, говорит эта «советская нация»? На советском?» Общего языка нет. Украинцы говорят по-украински. Туркмены говорят по-туркменски. Казахи говорят по-казахски. В Прибалтике вообще не считают себя частью Советского Союза. Это не Америка, где мы сами индивидуально принимаем американский вариант английского в качестве общего языка. Мы стали частью Америки, как отдельные граждане, а не потому что проживающие на этой территории национальности были вынуждены подчиняться Вашингтону.
ЧГ: Я читал, что президент Рейган прислушивался к вашим советам по поводу Москвы. Как я понимаю, вы консультировали его.
ЗБ: Да, я иногда консультировал его, потому что некоторые люди в Белом доме считали меня неплохим консультантом. Как пишет в своих мемуарах [советник Рейгана и впоследствии глава ЦРУ Уильям] Кейси, Рейган даже размышлял, не оставить ли меня на должности советника по национальной безопасности, но это всё равно бы не сработало. Тем не менее я могу рассказать случай, который, вроде бы, подтверждает высказывание Кейси. Однажды мне позвонил [другой соратник Рейгана, впоследствии генеральный прокурор Эдвард] Миз и сказал, что планируются трёхдневные военные учения, имитирующие столкновение между США и СССР. Главнокомандующим будет президент. Но он не хочет командовать все три дня, а только часа два, после чего объявит, что передаёт командование мне. Меня это известие застало врасплох, и я спросил: «Почему президент выбрал меня?», на что Миз ответил: «Ну, он сказал, что вы обладаете президентским восприятием».
Голова у меня закружилась, и тут я совершил глупость – глупость с точки зрения своих личных интересов. Я сказал, что, конечно же, согласен, но хочу знать, спросил ли он [помощника Рейгана и впоследствии государственного секретаря Александра] Хейга и [министра обороны Каспара] Уайнбергера. Сказал, что не знаю, как они отреагируют на то, что заменять президента буду я. Немного помолчав, Миз ответил: «Хороший вопрос. Попробую поговорить с ними». Он перезвонил днём и сказал: «Планы поменялись. Попросим руководить учениями [бывшего государственного секретаря] Билла Роджерса. Так будет легче». Но этот эпизод многое говорит о моих отношениях с Рейганом. И он действительно соглашался с моими идеями, особенно относительно Афганистана.
ЧГ: Среди молодого поколения вы более известны как строгий и последовательный критик президента Джорджа У. Буша. Как вы относились к нему в 2001 году? И что думаете о нём теперь?
ЗБ: Мои мысли о нём в 2001 году фундаментальным образом не слишком отличаются от того, что я думаю о нём сейчас. Единственная разница в том, что сейчас имеется гораздо больше подтверждений моего первоначального мнения. Я считаю, что он напрямую ответственен за то, что Америка сохраняла статус единственной сверхдержавы не более двадцати лет.
ЧГ: Последний в моём списке президентов – Барак Обама. Вы довольно рано выразили свою поддержку ему. Что вы думали о нём в 2008 году и что думаете сейчас?
ЗБ: Мы встречались пару раз за год до выборов, я ездил вместе с ним, и у нас был случай поговорить. Меня впечатлил его очень проницательный взгляд на то, насколько фундаментально изменилось положение в современном мире и насколько гораздо более сложной стала глобальная сцена. Он понимал, что Америка должна преследовать свои национальные интересы в этом широком контексте, с большим вниманием к различным факторам. Его речь в Каире, речь в Стамбуле, речь перед Бранденбургскими воротами перед выборами, речь в Праге – все они подтверждали моё первоначальное мнение о нём. Он осознавал, что по разным причинам глобальная гегемония одной силы, в частности Запада, больше невозможна. В глобальной системе произошёл сдвиг от запада к востоку. Политическое пробуждение, свидетелями которого мы стали в последние годы, привело к настолько нестабильной ситуации, что Америке для поддержания своей эффективности нужно полагаться как на свой интеллект, так и на свою привлекательность.
Теперь я склоняюсь к тому, чтобы относиться к нему более критично, потому что, несмотря на все свои убедительные речи, он показал, что не слишком хорошо воплощает в жизнь свои стратегии. Например, неразбериха, которую мы в настоящее время имеем на Ближнем Востоке, может обернуться взрывом всего региона, и она нанесёт серьёзный ущерб как глобальной экономике, так и нашим национальным интересам. В этом я вижу стратегическую нерешительность с его стороны, возможно, даже неудачу его стратегического мышления. Может быть, это следствие внутренних экономических и финансовых проблем, с которыми ему пришлось столкнуться; другими словами, возможно, его сбили с пути. Но может быть и хуже. В критический момент он не показал, что у него хватает духа и не настоял на своём. На публике он произносил очень вдохновенные речи об урегулировании, но когда между ним и [израильским премьер-министром Биньямином] Нетаньяху возникла конфронтация, Обама уступил. И это в значительной степени усилило неразбериху, которая теперь наблюдается на Ближнем Востоке.
Я понимаю, что он не хотел ставить под угрозу свои перевыборы. Но всё же я думаю, что когда на кону гораздо более важные вопросы, то нужно воспользоваться шансом и сделать то, что считаешь верным. Мы и в самом деле можем скатиться к очень мощному взрыву, последствия которого сильно повредят нашим интересам.
ЧГ: Следующая противоречивая тема, которую я хотел бы затронуть, это права человека, Китай и внутренняя борьба в администрации Картера. Ваши критики утверждают, что вы более чем охотно свернули бы политику разрядки и контроля над вооружениями в отношении Советского Союза, потому что считали, что гораздо лучших результатов можно добиться, улучшив отношения с Китаем. Но Вэнс так не считал, как и Маршалл Шульман, ваши коллеги по Колумбийскому университету. Они не соглашались с вами, и в то время действительно недолюбливали вас. Лесли Гелб назвал вас уличным бойцом…
ЗБ: Я считаю это комплиментом.
ЧГ: С сегодняшней перспективы как вы воспринимаете политику администрации Картера по отношению к Китаю?
ЗБ: Прежде всего позволю усомниться в вашем описании американо-советских отношений того времени. Вы говорите, это была «разрядка». На самом деле это была никакая не разрядка. Это было время повышенного напряжения, когда Советский Союз начал военные операции в Африке и других местах, заявляя одновременно о своем военном и экономическом превосходстве. Сегодня вспоминать об этом почти смешно. Но таковы были обстоятельства. Каждый день мы жили в ожидании ядерной войны. В таком контексте отношения с Китаем определённо имели необычайно важное стратегическое значение, и как раз этими соображениями я и руководствовался. Конечно, критики сразу же заговорили о том, что я «бросаю» Тайвань, но они как-то уж очень быстро забыли, что этот вопрос был решён годом раньше, во время визита в Китай Никсона и Киссинджера, когда США признали, что мы уважаем взгляды Китая на то, что существует только один Китай.
ЧГ: Так что ваши переговоры только закрепили то, что одобрил Киссинджер?
ЗБ: Мы не укрепляли это, мы перевели его в русло нормальных отношений, не только давших нам дипломатические рычаги, но и позволивших инициировать политику обмена разведданными и временами фактического геополитического сотрудничества против СССР. Эти новые отношения в конечном итоге позволили китайцам добиться такого успеха в ходе экономических реформ уже после ухода нашей администрации, которого Дэн Сяопин ни за что бы не добился в ином случае. Другими словами, мы начали то, что выглядело многообещающим, но всё более напряжённым партнёрством между Соединёнными Штатами и Китаем. Нам удалось осуществить настоящий прорыв. Я не понимаю, почему некоторые люди из Госдепартамента всячески ставили нам палки в колёса.
ЧГ: Вы были готовы поступиться правами человека ради укрепления отношений с Китаем.
ЗБ: У нас были не такие уж и особые отношения с Китаем до последнего года [1980]. Президент Картер и Дэн Сяопин иногда затрагивали тему прав человека в своих дискуссиях. С тех пор в Китае это стало проблемой. Очевидно же, что между нашей возможностью защищать так называемые абстрактные ценности и необходимостью защищать наши национальные интересы наблюдается некоторый баланс. Это давняя дилемма, которую ещё никто не смог решить с математической точностью.
ЧГ: Должны ли Соединённые Штаты подходить к вопросу защиты прав человека без лишнего шума или громогласно, с публичной конфронтацией – это тема постоянных споров. Какую позицию занимаете вы?
ЗБ: Я бы добавил ещё одно измерение – восприятие этого вопроса внутри страны. Какое политическое преимущество в том, чтобы поступать так или иначе? Насколько актуален сейчас этот вопрос? Простой формулы не существует. В каждом случае приходится решать: что сейчас на кону? Насколько контрпродуктивным это может стать? И в каждом случае ответы бывают разные.
ЧГ: А как насчёт публичного выражения своей озабоченности – даже если вы не знаете, какие результаты это даст в краткосрочной перспективе, можно хотя бы просто выразить свою озабоченность, отчего мы, американцы, можем ощутить удовлетворение, почувствовать себя лучше? «Решительная поддержка» прав человека может создать благоприятное впечатление об идеализме или альтруизме Америки.
ЗБ: Не думаю, что это такой уж хороший аргумент. Во внешней политике следует руководствоваться не тем, кто будет ощущать себя лучше, а результатами с ощутимыми последствиями. Может случиться так, что поспорив с какой-то страной по поводу прав человека, мы нанесём урон нашим с ней отношениям, а выгоды для защиты прав человека будет немного из-за наших ограниченных возможностей воздействовать на ситуацию. Такая дилемма встала перед Соединёнными Штатами после событий на площади Тяньаньмэнь. Цена была жестокой, но преимущество заключалось в улучшении наших отношений с Китаем. Могли ли мы в действительности повлиять на судьбу студентов или сменить политическую систему Китая благодаря давлению на него? Вероятнее всего, что нет. Стоило ли поддерживать хорошие отношения с Китаем? Вероятно, да. Такие решения следует принимать в зависимости от обстоятельств.
ЧГ: Считаете ли вы, что Китай до сих пор полезен так, как он был полезен во времена существования Советского Союза – особенно сейчас, когда наши отношения носят более или менее прочный характер?
ЗБ: Польза здесь не совсем верное слово. То, что мы поддерживаем отношения с Китаем, – это, как я думаю, жизненный факт; без таких отношений обеим нашим странам было бы хуже. Наши интересы не были бы в достаточной мере соблюдены, если бы мы придерживались политики, мешающей Китаю добиваться значительных экономических и социальных успехов. Это страна с почти полуторамиллиардным населением, чрезвычайно умным и энергичным; какая была бы выгода от бедного, неорганизованного и враждебного Китая?
У нас тесные отношения с Китаем – самые важные наши отношения в Азии и, пожалуй, во всём мире. И мне не нужно извиняться за то, что я старался укрепить наши отношения с Китаем, что помогло нам закончить холодную войну с Россией. В какой то степени эти отношения помогли Китаю заявить о себе миру – заявить о себе в смысле, значительно отличающемся от того, что служил мотивацией Советскому Союзу. Если говорить вкратце, мы являемся свидетелями беспрецедентного исторического эксперимента. Могут ли Соединённые Штаты и Китай – две исключительные силы – сосуществовать? Я отвергаю предположение о том, что не могут, как и отвергаю идею о том, что не должны. Я считаю, что нам обязательно нужно попробовать, и я думаю, что обе стороны достаточно разумны, а значит, у нас всё получится. При этом, однако, следует добавить, что на горизонте заметны кое-какие тучи. К сожалению, наблюдается тенденция демонизировать друг друга.
ЧГ: Чтобы затронуть тему ваших более противоречивых взглядов, вернёмся к Израилю. В то время, пока неоконсерваторы и некоторые другие продолжают критиковать вас, а правительство Нетаньяху определённо раздосадовано вашим отношением к этому вопросу, всё больше американцев поддерживают идею двухгосударственного решения. Ожидаете ли вы урегулирования в следующие пять лет?
ЗБ: Ожидаю. Насколько это вероятно в пределах пяти лет, не могу сказать. Я ожидал решение в первые пять лет президентства Обамы, и этого не произошло. Но я до сих пор считаю, что добрая воля израильского народа возьмёт вверх. Я верю, что большинство израильтян придерживаются здравого смысла и строгих принципов, которые делают урегулирование возможным.
ЧГ: Как вы думаете, вас критикуют только потому, что критики не согласны с осуществимостью предложенного вами двухгосударственного решения или вашими четырьмя пунктами в качестве основы для переговоров? Может, здесь ещё чувствуются и предрассудки против поляка-католика?
ЗБ: Мне кажется, что это тоже играет свою роль. Мартин Перец [на протяжении многих лет владелец и редактор журнала «Нью рипаблик»] неизменно величал меня «католическим польско-американским советником по национальной обороне» и характеризовал меня исключительно как антисемита. Я, например, никогда не эксплуатировал образ своего отца, спасавшего евреев от концлагерей. Только вы заставили меня затронуть эту тему ранее в нашей беседе.
ЧГ: Вы сказали, что в Колумбийском университете большинство ваших друзей и знакомых были евреями. Это верно до сих пор?
ЗБ: Да, хотя это звучит как глупая шутка: «Некоторые из моих лучших друзей евреи…» Но факт есть факт, потому что я вырос в интеллектуальном окружении, а евреи – это интеллектуалы высшей лиги. Может быть, половина из тех, кто присутствовал на моём бракосочетании в католической церкви, были евреи. Однажды к моему другу по Гарварду, декану Генри Росовски, пришёл журналист-еврей, попросивший его предоставить доказательства моего антисемитизма. Генри ответил: «Ах да, могу рассказать подходящую историю. Знаете, он заставил меня стоять на коленях на этом ужасном полу во время своей свадьбы. А теперь убирайтесь из моего кабинета!» Терпеть не могу людей из американского еврейского сообщества, которые обзывают всех вокруг антисемитами, не понимая, что тем самым только опошляют саму идею антисемитизма. Надеюсь – и даже верю – что сейчас ситуация начинает меняться.
И ещё одно: знаете, единственная страна, кроме Польши, в которой я действительно ощущаю себя за границей, как дома, это Израиль. Там я вспоминаю и даже заново переживаю своё детство. В Израиле столько выходцев из Польши, что мы вместе с ними говорим по-польски.
ЧГ: Ещё одно обвинение в ваш адрес, достаточно широко распространённое в 1960-х и 1970-х годах среди демократов, это то, что вы русофоб. Якобы всё, что вы делаете и говорите, отражает глубоко укоренённую враждебность не только к коммунизму или тоталитаризму, но и просто к России. Как вы реагируете на обвинение в русофобии?
ЗБ: В каком-то смысле я бы поспорил с первой частью вашего вопроса относительно того, что меня обвиняют некоторые демократы. Примите во внимание следующее: я был сопредседателем «Молодых американцев за Линдона Джонсона», так что этот конкретный демократ вовсе не разделял упомянутых вами взглядов. Другой демократ, Хьюберт Хамфри, попросил меня стать его главным советником по внешней политике, так что он тоже не разделял такие взгляды на меня. А потом, в начале 1970-х, как бы нескромно это ни звучало, настал мой черед выбирать, у кого становиться советником по внешней политике. Так что, очевидно, у них были иные взгляды, чем у «демократов», на которых вы ссылаетесь. При этом я знаю, что в американском внешнеполитическом истеблишменте есть сегмент, относящийся ко мне с подозрением. Эта группа не совсем демократы; они представляют как демократов, так и республиканцев, и к ним принадлежат многие члены традиционной англосаксонской элиты, которые полагают, что право понимать национальные интересы и говорить о них имеют только те, кто является американцем в третьем или четвёртом поколении.
Одним из ветеранов старой когорты, выражавших такие взгляды, был [бывший губернатор штата Нью-Йорк У. Аверелл] Гарриман [подробности указаны в главе 1 этой книги. – ЧГ]. Как-то я заговорил с ним начистоту: «Вы сомневаетесь в моём праве заниматься политикой, потому что я родился в Польше. А как насчёт вас, мультимиллионера, владельца того и этого в России, рудников в Грузии?» Он принёс мне свои извинения в письменном виде.
ЧГ: Я рад, что вы бросили ему вызов. Он был хорошим губернатором, насколько я помню, но одновременно наивным и снисходительным по отношению к Советскому Союзу – ужасное сочетание. А что насчёт постсоветской России? В настоящее время вы высказываете довольно оптимистичные предположения.
ЗБ: Я считаю, мы наблюдаем в России рождение новой реальности, и эта реальность доминирует. Она оформляется постепенно, но шансы на её усиление очень высоки, в основном посредством образования гражданского общества. Сейчас мы видим в ней не героев-одиночек прошлого, изолированных и часто преследуемых диссидентов, которыми могли восхищаться как личностями, а более широкий феномен. Более молодые представители растущего нового среднего класса служат доказательством возникновения настоящего городского гражданского общества со своими устремлениями и ожиданиями. Есть и другие симптомы этой новой реальности. Не думаю, что мы здесь, в Америке, понимаем – поскольку часто смотрим на вещи поверхностно – насколько разнообразными стали в России средства массовой информации, насколько по-разному факты и взгляды изображаются в газетах и в Интернете. Частью новой реальности стала даже политическая сатира.
Я считаю, что над нашим на Западе восприятием перемен в России доминирует тень Путина, его ностальгия по прошлому. Она скрывает более глубинные перемены, которые, как мне кажется, будут представлять проблемы его правлению. Трудно сказать, какова будет его реакция; возможно, он попытается сопротивляться переменам или даст увлечь себя потоку.
Вот довольно сложная и запутанная история, многое говорящая о современной России. Наверное, вы помните о взрывах жилых домов в Москве, предположительно устроенных чеченцами, и о том, как Путин воспользовался этим поводом для атаки на боевиков. Согласно одной из версий, взрывы на самом деле осуществила Федеральная служба безопасности России (ФСБ, преемник советского КГБ), и Путин задумал всё это специально. Для большинства граждан западных стран такая версия показалась слишком натянутой и неправдоподобной. И в самом деле, как мог руководитель страны распорядиться взорвать жилые дома, в которых живут его сограждане?
Но учтите вот что. Некий российский гражданин сбежал в Лондон с дополнительными доказательствами по делу о взрывах домов. Это был Александр Литвиненко, бывший сотрудник ФСБ, и его убили. Его устранили из-за того, что он слишком много знал? Трудно сейчас сказать наверняка, что именно он знал. Но мы знаем, что его покровителем в Лондоне был российский олигарх Борис Березовский. И Березовский сделал документальный фильм, в котором говорилось о возможной причастности к терактам ФСБ и Путина. А теперь главный вопрос: знаете ли вы, что этот фильм был показан в трёх московских кинотеатрах? Для меня, свидетеля расцвета Советского Союза, наблюдавшего, как он стремится к глобальной власти, а потом заставшего и его распад, этот факт обладает особой символической значимостью. По меньшей мере эта история говорит о двух вещах: во-первых, о том, что сознание раскрепостилось (а когда оно свободно, его невозможно снова запереть в клетку), а во-вторых, о том, что исчез страх. Чтобы вернуть страх, потребуются колоссальные усилия, на которые, возможно, Путин не способен. Перефразируя папу Иоанна Павла II, можно сказать: «Если у вас нет страха, то вам подвластны перемены».
ЧГ: Ближе к концу нашей беседы мне хотелось бы спросить, сожалеете ли вы о том, что говорили и писали о Вьетнаме или делали в его отношении?
ЗБ: Да. Я поддерживал войну во Вьетнаме, пока сам не побывал там в 1968 году, после чего изменил своё мнение. В каком-то смысле – да, я сожалею. Но не очень, потому что в то время я почти вообще не обладал влиянием. И всё же, я определённо недооценил – по сути не только недооценил, а полностью проигнорировал – критические различия между националистическими устремлениями вьетнамцев и коммунистическим движением.
ЧГ: А есть какие-то сожаления о том, что вы поддерживали моджахедов в Афганистане?
ЗБ: Нет, вовсе нет. Было бы гораздо хуже, если бы мы их не поддерживали. Во-первых, после 11 сентября они были бы настроены гораздо враждебнее к нам. Во-вторых, если бы Советский Союз их подавил, то вы и сами можете представить, как развивались бы события при нестабильной обстановке в Иране и при слабом пакистанском правительстве, каким оно было на самом деле. Так что, понимаете ли, выбор был между участием и неучастием; участие, по крайней степени, способствовало поражению СССР в Афганистане.
ЧГ: Если говорить об Афганистане и о холодной войне в целом, то вас тогда воспринимали, преимущественно, как «ястреба». Но в этой книге отдельная глава (12) посвящена тому, каким «голубем» вы стали, и это даже указано в её заголовке. Я также вспоминаю ваше интервью в «Тайм» 1989 года с подзаголовком «Торжество сторонника жёсткого курса».
ЗБ: Позвольте для начала прояснить это противопоставление между «ястребом» и «голубем». Я никогда не воспринимал себя как «ястреба». Но и «голубем» я сегодня себя не ощущаю. Я всегда отстаивал политику, которая позволила бы нам победить в холодной войне – посредством того, что назвал «мирным вовлечением». Это поддержание связей с нашими соперниками. Это способ воздействия на режимы. Мы проникаем в общество, начинаем усиливать противоречия между представителями восточноевропейских стран и русскими. В конечном итоге мы разрушаем Советский Союз изнутри.
Президент Рейган продолжил программу, которую я разработал в должности советника по национальной безопасности. Помимо прочего, мы развивали радио «Свободная Европа» и оказывали помощь нерусским националистам, желавшим освободиться от власти Москвы. В широком смысле история подтвердила правильность моей концепции.
Что касается относительно недавнего времени, и особенно войны в Ираке, то она была оправдана ложными доказательствами. Это совершенно очевидно, и я не считаю, что демократия должна тратить свои ресурсы и отправлять свою молодёжь на войну, основанную на лжи. Что такого мог сделать нам Саддам Хусейн, после того как Буш-старший эффективно разоружил его? Он утратил свою мощь, и ничего не мог нам противопоставить. Так что я был против войны. Что касается Афганистана, то я был за немедленное вторжение после терактов 11 сентября. Но я также помню, как отправил записку [министру обороны Дональду] Рамсфельду – и отрывки из неё я включил в газетную статью, – в которой писал, что если мы решимся на вторжение, то нужно, по возможности, лишить власти Талибан и уничтожить Аль-Каиду, но не следует оставаться там на длительный срок ради построения демократического общества, потому что в таком случае мы повторим ошибку СССР, который вторгся в Афганистан с целью создания там социалистического или коммунистического общества. В этом отношении моя позиция тоже отличалась.
ЧГ: После нашей первой беседы вы сказали, что я мастер задавать вопросы, что очень любезно с вашей стороны. Так что позвольте сделать мне ещё одну подачу: из всех своих достижений чем вы гордитесь больше всего?
ЗБ: Наверное, приятнее всего мне думать о том, как закончилась холодная война – без кровопролития и с успехом; надеюсь, что в этом есть и моя заслуга. Я не утверждаю, что она закончилась благодаря мне, но я считаю, что в немалой степени способствовал такому исходу событий. То, что холодная война завершилась без некоего подобия Третьей мировой войны, это само по себе уже благословение; пожалуй, с исторической точки зрения это и есть самый важный факт, а не то, кто в ней победил. Так что я вспоминаю об этом с тёплым чувством.
Также я горжусь своими отношениями со студентами. Они никогда не были особенно тесными и тёплыми, потому что я по натуре не такой человек, но я старался показать лучшее, на что был способен. В каких-то случаях это получалось.
Пожалуй, к этому мало что можно добавить. Я не из тех, кто постоянно размышляет и вспоминает о себе. Я не оцениваю своё прошлое.
ЧГ: Мой последний вопрос касается вашего имени. В 1958 году, когда вы получили американское гражданство в Бостоне, у вас была возможность сменить имя и фамилию. Вы задумывались над этим?
ЗБ: Да, задумывался, но решил сохранить своё настоящее имя по двум причинам. Это был очень хороший для меня период, как в личном, так и в профессиональном плане. Я чувствовал уверенность в своём завтрашнем дне, и спросил себя – зачем менять имя? Я был также уверен в будущем Америки и в том, что любой человек может стать американцем, не забывая о своём этническом происхождении.
Это вскоре подтвердилось, когда я понемногу начал становиться известной персоной. Где-то в начале 1960-х, когда мне было ещё тридцать с небольшим лет, журнал «Ньюсуик» вдруг опубликовал статью обо мне, в которой говорилось о моём влиянии на внешнюю американскую политику. Под конец в ней утверждалось, что только в Америке человек, которого зовут «Збигнев Бжезинский», может громко заявить о себе, не меняя своего имени.
Благодарности
Я благодарен Школе передовых международных исследований Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса и Фонду Смита Ричардсона за их щедрую поддержку. Кристина Канкел из Института международной политики Школы проявила необычайный административный талант и заботу. Бри Бэнг-Дженсен выполняла обязанности помощника-референта для меня и некоторых других авторов. Ее помощь неоценима. Книга была завершена вовремя только благодаря её готовности отвечать на все мои вопросы в любое время дня и ночи, с полным пониманием и глубоким интересом. Обширные записки моей жены, сделанные во время беседы, изложенной в главе 17, оказались крайне полезными, и я благодарю её за это. И, что не менее важно, за все ошибки и недостатки книги читатели и критики должны винить меня, а авторов должны похвалить за их профессиональный вклад.
Хронология
1928 Родился в Варшаве, Польша
1931 Отец, Тадеуш Бжезинский, сотрудник министерства иностранных дел Польши, получает назначение в Берлин
1936 Тадеуш Бжезинский получает назначение в Советский Союз
1938 Тадеуш Бжезинский назначен консулом в Монреале; семья переезжает в Канаду
1945 Заканчивает среднюю школу имени Лойолы и поступает в Университет Макгилла в Монреале
1949 Получает степень бакалавра в Университете Макгилла
1950 Получает степень магистра в Университете Макгилла, пишет диссертацию на тему «Русско-советский национализм», начинает докторскую программу в Гарвардском университете в Кембридже
1953 Получает степень доктора наук в Гарварде, начинает преподавательскую деятельность
1955 Женится на скульпторе Эмили Анне Бенеш
1956 Опубликованы работы «Постоянная чистка» и «Тоталитарная диктатура и автократия» (в соавторстве с Карлом Фридрихом)
1957 Впервые после детства посещает Польшу
1958 Получает американское гражданство в Бостоне
1960 Переходит из Гарвардского университета в Колумбийский университет города Нью-Йорка, работает советником Джона Ф. Кеннеди во время президентской кампании, получает стипендию Гуггенхайма
1961 Избран членом Совета по международным отношениям
1962 Опубликована книга «Идеология и власть в советской политике»
1963 Родился сын Ян Бжезинский
1964 Избран одним из «десяти выдающихся молодых людей 1963 года» Молодёжной торговой палатой США, избран сопредседателем организации «Молодые американцы за Линдона Джонсона»
1965 Родился сын Марк Бжезинский; опубликована книга «Альтернатива разделению»
1966 Вступает в Совет планирования Государственного департамента
1967 Родилась дочь Мика Бжезински
1968 Работает советником по внешней политике Хьюберта Х. Хамфри во время президентской кампании
1970 Опубликована книга «Между двух эпох».
1971 Шесть месяцев проводит в Японии по стипендии Фонда Форда
1973 Начинает работу в Трёхсторонней комиссии с Дэвидом Рокфеллером
1973 Приглашает губернатора Джорджии Джимми Картера вступить в Трехстороннюю комиссию
1974 Работает в исследовательской группе по Ближнему Востоку в Брукингсе; опубликован совместный доклад с планом мирного урегулирования на Ближнем Востоке
1975 Начинает консультировать Картера по вопросам внешней политики
1977 Работает советником по национальной безопасности президента Картера
1978 Посещает Пекин и закладывает основы нормализации отношений с Китаем; польский кардинал Кароль Войтыла избран папой Иоанном Павлом II; заключены Кэмп-Дэвидские соглашения
1979 Иранский кризис с заложниками; советское вторжение в Афганистан
1980 В Польше формируется профсоюз «Солидарность»
1981 Возвращается к академической карьере в Колумбийском университете; устраивается на работу в Центр стратегических и международных исследований (CSIS); получает президентскую медаль Свободы; в Польше вводится военное положение
1983 Опубликована книга «Власть и принцип»
1985 Избран членом Комиссии по химическому оружию
1987 Член Комиссии по интегрированной долгосрочной стратегии, образованной на основе Совета национальной безопасности и министерства обороны; работает в президентском Консультативном совете по внешней разведке
1988 Поддерживает Джорджа У. Г. Буша в качестве кандидата в президенты и отказывается от поддержки Майкла Дукакиса, служит при Буше сопредседателем Оперативной группы по национальной безопасности
1989 Оставляет Колумбийский университет и начинает преподавать в SAIS Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне
1989 Опубликована книга «Большой провал»; поездка в Москву в октябре
1990 Высказывает своё мнение против войны в Персидском заливе
1992 Опубликована книга «Из-под контроля»
1997 Опубликована книга «Великая шахматная доска»
2002 Становится главным критиком войны в Ираке
2004 Опубликована книга «Выбор: глобальное доминирование или глобальное лидерство»
2007 Поддерживает Барака Обаму в качестве кандидата в президенты; опубликована книга «Ещё один шанс: три американских президента и кризис американской сверхдержавы»
2012 Опубликована книга «Стратегическое прозрение»
Избранная библиография
Книги Збигнева Бжезинского
The Permanent Purge: Politics in Soviet Totalitarianism. Cambridge, MA: Harvard University Press, Russian Research Center Studies, 1956.
Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956. With Carl Friedrich.
The Soviet Bloc: Unity and Conflict. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960.
Ideology and Power in Soviet Politics. New York: Praeger Books, 1962.
Political Power: U.S.A./U.S.S.R. New York: Viking Press, 1964. With Samuel Huntington.
Alternative to Partition: For a Broader Conception of America’s Role in Europe. New York: Published for the Council on Foreign Relations by McGraw-Hill, Atlantic Policy Studies Series, 1965.
Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era. New York: Viking Press, 1970.
The Fragile Blossom: Crisis and Change in Japan. New York: Harper and Row, 1972.
Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser, 1977–1981. New York: Farrar, Straus, Giroux, 1983.
Game Plan: A Geostrategic Framework for the Conduct of the U.S.-Soviet Contest. Boston: Atlantic Monthly Press, 1986.
In Quest of National Security. Boulder, CO: Westview Press, 1988. With Marin Strmecki.
The Grand Failure: the Birth and Death of Communism in the Twentieth Century. New York: Scribner, 1989.
Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century. New York: Scribner, 1993.
Differentiated Containment: U.S. Policy towards Iran and Iraq, Report of an Independent Task Force Sponsored by the Council on Foreign Relations. Washington, DC: Brookings Institution, 1997. With Brent Scowcroft and Richard Murphy.
The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. New York: Basic Books, 1997.
The Geostrategic Triad: Living with China, Russia, and Europe. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2000.
The Choice: Global Domination or Global Leadership. New York: Basic Books, 2004.
Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower. New York: Basic Books, 2007.
America and the World: Conversations on the Future of American Foreign Policy. New York: Basic Books, 2008. With Brent Scowcroft and David Ignatius.
Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power. New York: Basic Books, 2012.
Книги о Збигневе Бжезинском
Lubowski, Andrzej, Zbig. Człowiek, który podminował Kreml (Zbig: The Man Who Undermined the Kremlin). Toronto, ON: Agora, 2011.
Vaïsse, Justin. «De Harvard à la Maison-Blanche. Zbigniew Brzezinski et l’ascension des universitaires dans l’Etablissement de politique étrangère américaine pendant la guerre froide» («From Harvard to the White House: Zbigniew Brzezinski and the Rise of Universities in the Foreign Policy Establishment during the Cold War»). Institut d’études politiques de Paris, 2011.
Vaughan, Patrick. Brzezinski: A Life on the Grand Chessboard of Power. Warsaw: Polish Scientific Publishers, 2010 (in Polish).
Ziollowska-Boehm, Aleksandra, Korzenie Sa Polskie (The Roots Are Polish). Warsaw, 1982.
Авторы
Джимми Картер – президент США с 1977 по 1980 год.
Уоррен И. Коэн – почётный профессор Мэрилендского университета в Балтиморе, преподаватель истории американской дипломатии и американо-восточноазиатских отношений. Среди его недавно вышедших книг: «Ответ Америки Китаю», «Империя без слёз», «Америка в эпоху советской власти», «Восточная Азия в центре», «Распадающаяся империя Америки», «Внешние отношения США после холодной войны»; последняя его книга – «Очерки гуманности».
Дэвид К. Энгерман – профессор истории Брандейского университета. Написал две книги о восприятии России/СССР в Америке, включая недавно вышедшую «Знай своего врага: Подъём и падение американских экспертов по Советскому Союзу». Благодаря своему давнему интересу к программам модернизации и развития стран Третьего мира, принимал участие в двух сборниках (включая «Поэтапный рост: модернизация, развитие и глобальная холодная война); в настоящее время принимает участие в проекте по изучению американской и советской помощи Индии.
Фрэнсис Фукуяма – старший сотрудник Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета. До этого занимал должность профессора и руководителя программы международного развития в Школе передовых международных исследований Пола Нитце Университета Джонса Хопкинса. Среди его книг – «Конец истории и последний человек», «Доверие: социальные добродетели и сотворение благоденствия» и «Происхождение социального порядка: от дочеловеческих времён до Французской революции».
Адам Гарфинкл – основатель журнала «Американ Интрест». В 2003–2005 годах работал главным составителем речей для Государственного департамента (Совет планирования). Также был редактором журнала «Нэшнл интрест» и обучался в Школе передовых международных исследований Пола Нитце Университета Джонса Хопкинса, Пенсильванском университете, Хаверфорд-колледже и других высших учебных заведениях. Также был членом Группы по исследованию национальной безопасности (главный автор) Комиссии США по национальной безопасности в XXI веке (Комиссии Харта-Радмена) и помощником сенатора Генри М. Джексона.
Чарльз Гати – профессор-лектор исследований России и Евразии и старший сотрудник Института международной политики в Школе передовых международных исследований Пола Нитце Университета Джонса Хопкинса. Почётный профессор Юнион-колледжа, пятнадцать лет преподавал в Колумбийском университете и работал старшим сотрудником Совета планирования Государственного департамента США в начале 1990-х. Помимо многочисленных статей и глав, посвящённых России, международной политике США и политике Центральной Европы, Гати опубликовал две заслужившие большое признание книги («Обманутые ожидания: Москва, Вашингтон, Будапешт и Венгерское восстание 1956 года» и «Венгрия и Советский блок»), книгу «Блок, который развалился» и многочисленные другие книги.
Роберт Хантер – директор Центра исследований трансатлантической безопасности в Университете национальной обороны, работал старшим советником в корпорации RAND. В администрации Картера был директором Совета национальной безопасности по западноевропейским вопросам, а позже директором по Ближнему Востоку. Во время президентства Клинтона был послом США в НАТО. С 2003 по 2008 год занимал должность президента Ассоциации Атлантического договора, в настоящее время председатель Консультационного совета государственного секретаря по международной безопасности.
Дэвид Игнейшес – помощник редактора и автор статей в «Вашингтон пост», автор восьми романов. Один из ведущих Post Global и онлайн-дискуссий по международным вопросам по адресу . Лауреат многочисленных наград, включая орден Почётного легиона Французской республики, премии для прессы Урбино Итальянской республики и премии за прижизненные достижения Международного комитета иностранной журналистики.
Марк Крамер – директор программы исследований холодной войны в Гарвардском университете и старший сотрудник Центра Дэйвиса по российским и евразийским исследованиям Гарвардского университета. Преподавал международные отношения и сравнительную политологию в Гарвардском, Йельском и Браунском университетах, профессор по контракту в Орхусском университете в Дании. Был стипендиатом Гарвардской Академии международных и региональных исследований и стипендиатом Родса в Оксфордском университете. В конце 2013 года вышла его последняя книга «Сдерживание и принуждение в польско-советских отношениях: СССР, Варшавский договор и кризис «Солидарности» в 1980–1981 годах».
Джеймс Манн – писатель, лауреат различных наград и бывший журналист. Среди его книг, посвящённых американской внешней политике, – «Обамцы: борьба внутри Белого дома за переопределение американской власти», «Восстание Рональда Рейгана: история конца холодной войны» и «Возвышение вулканов». Также написал три книги об американских связях с Китаем: «Китайская фантазия», «О лице» и «Пекинский джип». В настоящее время штатный писатель в SAIS Университета Джонса Хопкинса, раньше был штатным писателем в Центре стратегических и международных исследований и штатным автором «Лос-Анджелес таймс», в том числе и в пекинском отделении.
Роберт А. Пастор – профессор международных отношений Американского университета, где основал Центр демократии и электорального менеджмента и Центр североамериканских исследований, руководителем которых является в настоящее время. В 1977–1980 годах был директором по Латинской Америке в Совете национальной безопасности, а также консультантом Государственного департамента и министерства обороны. Получил степень доктора наук в Гарвардском университете, автор и соавтор семнадцати книг, включая «Североамериканская идея: Представление о континентальном будущем», «Выход из водоворота: Внешняя политика США по отношению к странам Латинской Америки и Карибского бассейна» и «Путешествие длиною в столетие: как сверхдержавы оформили мир».
Уильям Б. Куандт – профессор отделения политологии Университета Вирджинии. В администрациях Никсона и Картера служил в Совете национальной безопасности и был старшим научным сотрудником, заведующим программой исследований внешней политики в Брукингском институте. Его книги посвящены роли Америки на Ближнем Востоке, среди прочих – «Процесс мирного урегулирования: американская дипломатия и арабо-израильский конфликт с 1967 года», «Соединённые Штаты и Египет: эссе о политике 1990-х» и «Кэмп-Дэвид: Миротворчество и политика».
Дэвид Дж. Роткопф – генеральный директор и главный редактор журнала «Форин полиси», профессор-лектор в Фонде Карнеги за международный мир, где возглавляет Круглый стол Карнеги по экономической стратегии. Также президент международной консалтинговой компании Garten Rothkopf. Бывший генеральный директор корпорации «Интеллибридж», управляющий директор консалтинговой фирмы «Киссинджер ассосиейтес» и помощник заместителя министра экономики по международной торговой политике. Автор книг «Власть, Inc.: эпическое соперничество между большим бизнесом и правительством и размышления о том, что нас ждёт дальше», «Сверхкласс», «Глобальная элита власти и мир, который она создаёт» и «Управление миром: инсайдерская история Совета национальной безопасности и архитекторов американской власти».
Марин Стрмецки – старший вице-президент и директор программ в Фонде Смита Ричардсона с 1994 года. До этого в 1990–1991 годах был специалистом Особого комитета сената по разведке и Комитета сената по международным отношениям, в 1992 году членом Совета по планированию министерства обороны и с 1993 по 1994 год помощником по вопросам законодательства сенатора Оррина Хэтча. Также с 1985 по 1990 год работал научным сотрудником по международным исследованиям в Центре стратегических и международных исследований, где анализировал американо-советские отношения и предоставлял исследовательскую и редакторскую помощь доктору Збигневу Бжезинскому.
Стивен Ф. Сабо – исполнительный директор Трансатлантической академии Фонда Маршалла. До этого сотрудничал со Школой передовых международных исследований Пола Нитце Университета Джонса Хопкинса, где временно занимал должность декана и был профессором европейских исследований. Ранее был профессором по вопросам национальной безопасности в Университете национальной обороны и председателем западноевропейских исследований в Институте дипломатической службы Государственного департамента США.
Джеймс Томсон – президент и генеральный директор корпорации RAND с 1989 по 2011 год. До этого – член Совета национальной безопасности администрации Картера, где заведовал вопросами обороны и контроля над вооружениями. При Форде и Никсоне сотрудник аппарата министерства обороны. Получил докторскую степень по физике в Университете Пердью.
Нэнси Бернкопф Такер – профессор истории Джорджтаунского университета и Школы дипломатической службы Эдмунда А. Уолша. В 2007 году получила медаль за достижения Национальной разведки за достойную службу в качестве первого помощника директора Национальной разведки по аналитическим принципам и стандартам и омбудсменом-аналитиком в аппарате директора Национальной разведки. В 2012 году получила премию за исследовательскую карьеру Джорджтаунского университета. Среди её книг – «Разговор начистоту: американо-тайваньские отношения и кризис в Китае», «Неопределённая дружба: Тайвань, Гонконг и Соединённые Штаты, 1945–1992» и «Узоры на пыли: Китайско-американские отношения и споры о признании, 1949–1950».
Жюстен Ваис – старший научный сотрудник по международной политике в Брукингском институте и адъюнкт-профессор в Школе передовых международных исследований Пола Нитце Университета Джонса Хопкинса. Специалист по трансатлантическим отношениям и истории американской политики, автор многочисленных статей и книг, в том числе «Неоконсерватизм: Биография движения». В настоящее время работает над биографией Збигнева Бжезинского на основе его личных документов.
Патрик Воган – профессор трансатлантических исследований Ягеллонского университета в Кракове, Польша, где занимается темами холодной войны и применением «мягкой власти» со стороны Америки. Среди его опубликованных работ – «За благодушным пренебрежением: Збигнев Бжезинский и польский кризис 1980 года» и «Збигнев Бжезинский и Хельсинкский заключительный акт». Опубликовал первую полную биографию Бжезинского на польском языке.
Сноски
1
Генри Киссинджер Збигневу Бжезинскому, 23 января 1964 г.; Збигнев Бжезинский Генри Киссинджеру, 30 января 1964 г., папка «Киссинджер, Генри 1956–1969», ящик L16, Збигнев Бжезинский, Отдел рукописей, Библиотека Конгресса, Вашингтон D.C. (далее «Документы Бжезинского»). Упомянутая Киссинджером статья – «Опасность немецкого вето», New Leader, 20 января, 1964, 13-15.
(обратно)2
Walter Isaacson, Kissinger: A Biography (New York: Simon and Schuster, 1992), 715 («взаимная холодность»), 699 («заклятый враг»), 80 («среди самых больших соперников»), 706 («тлеющая неприязнь»).
(обратно)3
Стэнли Хоффман, интервью с автором, 4 декабря 2009 г.
(обратно)4
Бжезинский Киссинджеру, 28 февраля 1956 г. и 16 февраля 1957 г.; Киссинджер Бжезинскому, 15 марта 1957 г., папка «Киссинджер, Генри 1956–1969», ящик L16, Документы Бжезинского.
(обратно)5
Збигнев Бжезинский, интервью с автором, 22 июня 2010 г.; Генри Киссинджер, интервью с автором, 27 января 2012 г.
(обратно)6
Robert Novak, «Kennedy’s Braintrust: More Professors Enlist but They Play Limited Policy-Making Role», Wall Street Journal, 4 августа 1960, 1.
(обратно)7
Henry Kissinger, «Military Policy and Defense of the ‘Grey Areas’», Foreign Affairs, апрель 1955; Zbigniew Brzezinski, «The Challenge of Change in the Soviet Bloc», Foreign Affairs, апрель 1961.
(обратно)8
См. рассказ об этом в David Halberstam, The Best and the Brightest (New York: Random House, 1974), 3-10; Walter Isaacson and Evan Thomas, The Wise Men Six Friends and the World they Made (New York Simon and Schuster, 1986) 594, и I. M. Destler, Leslie Gelb and Anthony Lake, Our Own Worst Enemy: The Unmaking of American Foreign Policy (New York: Simon and Schuster, 1984), 92.
(обратно)9
Лучшим описанием внешней политики истеблишмента остаётся книга Isaacson and Thomas, Wise Men.
(обратно)10
Джереми Сури первым писал о Киссинджере и Университете холодной войны в книге Henry Kissinger and the American Century (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007), 102. Об Университете холодной войны помимо Сури см. книги, упомянутые в David Engeman, «Rethinking Cold War Universities, Some Recent Histories», Journal of Cold War Studies 5, номер 3 (лето 2003): 80–95.
(обратно)11
Dwight D. Eisenhower, прощальная речь, 17 января 1961 г., http//nas.ucdavis.edu/Forbes/Efarewell.html
(обратно)12
См. Sigmund Diamond, Compromised Campus: The Collaboration of Universities with the Intelligence Community, 1945–1955 (New York: Oxford University Press, 1992).
(обратно)13
См. David Engerman, Know Your Enemy The Rise and Fall of America’s Soviet Experts (New York: Oxford University Press, 2009).
(обратно)14
Реджинальд Фелпс Бжезинскому, 17 августа 1950 г., папка «Гарвардский университет 1950–1953, 1959–1960», ящик I.12, Документы Бжезинского.
(обратно)15
Бжезинский профессору Уильяму Лангеру, 25 февраля 1958 г. (на самом деле 1959), папка «Гарвардский университет 1950–1953, 1959–1960», ящик I.12, Документы Бжезинского.
(обратно)16
Zbigniew Brzezinski, The Permanent Purge Politics in Soviet Totalitarianism (Cambridge, MA: Harvard University Press, Russian Research Center Studies 2o, 1956), Zbigniew Brzezinski and Carl Friedrich, Totalitarian Dictatorship and Autocracy (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956), Zbigniew Brzezinski, The Soviet Bloc: Unity and Conflict (Cambrige, MA: Harvard University Press, 1960).
(обратно)17
О Международном семинаре см. Isaacson, Kissinger, 70; и Suri, Kissinger and the American Century, 117.
(обратно)18
О Confluence см. «Confluence Magazine: General Records, 1951–1969 (включительно)», ящики 1–8, UAV 813.141.75, Harvard University Archives.
(обратно)19
О CFIA см. David Atkinson, In Theory and in Practice: Harvard’s Center for International Affairs, 1958–1983 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007).
(обратно)20
В 2009 году Роберт Боуи попросил меня перестать записывать нашу беседу, затронув тему его отношений с Киссинджером; Р. Боуи, интервью с автором, 7 июля 2009 г.
(обратно)21
См. Бжезинский Альберту Мавринаку, 28 февраля 1959 г., папка «Мавринак, Альберт А., 1959–1965», ящик I.20, Документы Бжезинского.
(обратно)22
Збигнев Бжезинский, интервью с автором, 2 июня 2011 г.
(обратно)23
Isaacson, Kissinger, 83.
(обратно)24
Henry Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy (New York: Harper, для Совета по международным отношениям, 1957).
(обратно)25
Nabil Mikhail, «Zbigniew Brzezinski: The Scholar and the Statesman. A Study of the Thoughts and Policies of the National Security Adviser and His Staff in the Carter Administration» (докторская диссертация, University of Virginia, 1996), 92–93.
(обратно)26
Henry Kissinger, The Troubled Partnership: A Re-appraisal of the Atlantic Alliance (New York: McGrau-Hill, для Совета по международным отношениям, Atlantic Policy Studies Series, 1965).
(обратно)27
Zbigniew Brzezinski and William Griffith, «Peaceful Engagement in Eastern Europe», Foreign Affairs, July 1961.
(обратно)28
Сокращение от Research and Development (исследования и разработки). – Прим. ред.
(обратно)29
«Toward Peace in the Middle East – Reports of a Study Group» (Brookings, 1975). Выводы этого доклада воспроизведены в Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser 1977–1981 (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1983), 85–86.
(обратно)30
Збигнев Бжезинский, интервью с автором, 2 июня 2011 г.; также «Minutes of the May 9th Meeting on the proposed Commission for Peace and Prosperity», в «Джордж Франклин Бжезинскому и другим», 11 мая 1972 г., папка «Корреспонденция: 5/11/72–2/28/73», ящик 33.1, Предоставленные исторические материалы, Коллекция Збигнева Бжезинского (33), Досье Трёхсторонней комиссии, Библиотека Джимми Картера, Атланта, GA. См. также David Rockefeller, Memoirs (New York: Random House, 2002), 416.
(обратно)31
«The Debate», Time, неподписанная редакторская статья, 2 июля 1965 г.
(обратно)32
Киссинджер Бжезинскому, 24 октября 1963 г.; Бжезинский Киссинджеру, 30 октября 1963 г., папка «Киссинджер, Генри 1956–1969», ящик I.16, Документы Бжезинского.
(обратно)33
Ted Van Dyk, Heroes, Hacks and Fools: Memoirs from the Political Inside (Seattle: University of Washington Press, 2007), 101. В своей биографии Киссинджера (с. 133) Уолтер Айзексон упоминает о том, что Сэмюэл Хантингтон, ещё один эксперт, работавший на Хамфри во время избирательной кампании, тем летом также получил предложение поделиться документами по Никсону от Киссинджера на Мартас-Винъярд.
(обратно)34
Isaacson, Kissinger, 133.
(обратно)35
David Halberman, «The New Establishment: The Decline and Fall of the Eastern Empire», Vanity Fair, октябрь 1994. Источник Киссинджера подтверждает Richard Nixon, RN: The Memoirs of Richard Nixon (New York: Grosset and Dulnap, 1978), 323. Известно, что Генри Киссинджер не соглашался с такой интерпретацией его роли в кампании 1968 года.
(обратно)36
Збигнев Бжезинский, интервью с автором, 15 февраля 2011 г.
(обратно)37
См., например, Бжезинский Максу Кэмпелману, 16 марта 1972 г., и 6 мая 1972 г., включая черновик речи под названием «Сообщество индустриальных наций», папка «Президентские избирательные кампании 1972, Хамфри, Хьюберт Х. 1971–72, n.d.», ящик I.94, Документы Бжезинского.
(обратно)38
См., например, Бжезинский Хамфри, 25 мая 1970 г., папка «Хамфри, Хьюберт Х. 1970–1977», ящик I.13; Бжезинский Маски, 26 мая 1970 г., папка «Маски, Эдмунд С., 1969–1975», ящик I.21; Бжезинский Эдварду Кеннеди, 3 июня 1970 г., папка «Кеннеди, Эдвард Мур, 1964–1976», ящик I.16, Документы Бжезинского. В 1972 году использование одних и тех же материалов для нескольких кандидатов было ограничено кандидатурами Маски и Хамфри; см. Бжезинский Максу Кэмпелману, 6 марта 1972 г., папка «Президентские избирательные кампании 1972, Хамфри, Хьюберт Х. 1971–72, n.d.», ящик I.94; и Бжезинский Тони Лейку, 6 марта 1972 г., папка «Президентские избирательные кампании 1972, Маски, Эдмунд М. 1972, nd.», ящик I.94, Документы Бжезинского.
(обратно)39
Rowland Evans and Robert Novak, «McGovern’s Odd Braintrust», Washington Post, September 3, 1972, C7; и Zbigniew Brzezinski, «Not In Agreement» (письмо редактору), там же.
(обратно)40
Zbigniew Brzezinski, The Fragile Blossom: Crisis and Change in Japan (New York: Harper and Row, 1972).
(обратно)41
Zbigniew Brzezinski, Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era (New York: Viking Press, 1970), 334.
(обратно)42
См., например, Бжезинский Картеру, 17 декабря 1974 г., папка «Корреспонденция Збигнева Бжезинского: 12/1/74–12/31/74», ящик 33.7; Бжезинский Картеру, 17 июня 1975 г., папка «Хронологическое досье Збигнева Бжезинского: 6/1/75-6/30/75», ящик 33.6, Предоставленные исторические материалы, Коллекция Збигнева Бжезинского (33), Досье Трёхсторонней комиссии, Библиотека Джимми Картера, Атланта, GA.
(обратно)43
Destler, Gelb, and Lake, Our Own Worst Enemy, глава 2.
(обратно)44
Suri, Kissinger and the American Century, 11.
(обратно)45
Isaacson and Thomas, Wise Men, 736.
(обратно)46
Бжезинский Авереллу Гарриману, 21 июня 1974 г., папка «Гарриман, У. Аверелл 1964, 1974–1976», ящик I.12, Документы Бжезинского.
(обратно)47
Среди девяти профессоров были Стэнли Хоффман, Маршалл Шульман, Дэвид Лэндес, Ник Валь, Ричард Улльман, Стивен Гробар, Роберт Пфальграфф, Уолтер Лакер и Бжезинский. Записка о беседе, «Meeting with Secretary of State, luncheon given by Henry Kissinger, Dec. 61973, 1:pm-3:15pm», папка «Киссинджер Генри 1970–1973», ящик I.16, Документы Бжезинского.
(обратно)48
«Talk + dinner with Henry Kissinger», 14 июля 1969 г.; Бжезинский Киссинджеру, 15 июля 1969 г.; Киссинджер Бжезинскому, 22 июля 1969 г., папка «Киссинджер, Генри 1956–1969», ящик I.16, Документы Бжезинского.
(обратно)49
Записка о беседе с Генри Киссинджером, 23 мая 1970 г., папка «Киссинджер, Генри 1970–1973», ящик I.16, Документы Бжезинского.
(обратно)50
Записка «Камбоджийский кризис», 25 мая 1970 г., папка «Kissinger, Henry 1970–1973», ящик I.16, Документы Бжезинского; Zbigniew Brzezinski, «Cambodia Has Undermined Our Vital Credibility», Washington Post, May 24, 1970, 35.
(обратно)51
Киссинджер Бжезинскому, 22 июня 1970 г., папка «Киссинджер, Генри 1970–1973», ящик I.16, Документы Бжезинского.
(обратно)52
См., например, Киссинджер Бжезинскому, 14 ноября 1970 г., папка «Киссинджер, Генри 1970–1973», ящик I.16, Документы Бжезинского.
(обратно)53
Zbigniew Brzezinski, «Half Past Nixon», Foreign Policy, номер 3 (лето 1971): 3-21. См. Также «The Balance of Power Delusion», Foreign Policy, номер 7 (лето 1972): 54–59.
(обратно)54
Zbigniew Brzezinski, «The Deceptive Structure of Peace,» Foreign Policy, номер 14 (весна 1974): 35–55.
(обратно)55
Выделение в оригинале.
(обратно)56
Выделение в оригинале. Верное название статьи Бжезинского в журнале Foreign Affairs 1961 года, написанной в соавторстве с Уильямом Гриффитом: «Мирное вовлечение в Восточной Европе» (Peaceful Engagement in Eastern Europe).
(обратно)57
Киссинджер Бжезинскому, 23 марта 1974 г., папка «Киссинджер, Генри 1974–1975, n.d». ящик I.16, Документы Бжезинского.
(обратно)58
Бжезинский Киссинджеру, 16 апреля 1974 г., папка «Киссинджер, Генри 1974–1975, n.d.», ящик I.16, Документы Бжезинского.
(обратно)59
Бжезинский Киссинджеру, 12 декабря 1974 г., папка «Корреспонденция Збигнева Бжезинского: 12/1/74–12/31/74», ящик 33.7, Предоставленные исторические материалы, Коллекция Збигнева Бжезинского (33), Досье Трёхсторонней комиссии, Библиотека Джимми Картера, Атланта, GA.
(обратно)60
Киссинджер Бжезинскому, 21 апреля 1975 г., папка «Киссинджер, Генри 1974–1975, n.d.», ящик I.16, Документы Бжезинского.
(обратно)61
Бжезинский Картеру, 28 октября 1975 г., папка «Международные записки 1975», ящик I.38, Документы Бжезинского.
(обратно)62
«Записка о беседе, Вашингтон, 13 марта 1976 г., 10 a.m.», Отдел истории Государственного департамента, Международные отношения Соединённых Штатов, 1969–1976, том 37, Энергетический кризис, 1974–1980 (2012), 336. Доступны по адресу -76v37/pdf/frusi969-76v37.pdf.
(обратно)63
James Reston, «When Jimmy Pretends», New York Times, 19 марта 1976 г., 32.
(обратно)64
Бжезинский Картеру, 23 марта 1976 г., папка «Хронологическое досье Збигнева Бжезинского: 1/1/76–4/30/76», ящик 33.6, Предоставленные исторические материалы, Коллекция Збигнева Бжезинского (33), Досье Трёхсторонней комиссии, Библиотека Джимми Картера, Атланта, GA.
(обратно)65
Brzezinski, Power and Principle, 8. Это подтверждается в Richard Gardner, Mission Italy: On the Front Lines of the Cold War (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2005), 19.
(обратно)66
Цитируется Бжезинским, там же, 502.
(обратно)67
Zbigniew K. Brzezinski, «Russo-Soviet Nationalism» (магистерская диссертация, Универитет Макгилла, 1950), 2, 1, 145–146.
(обратно)68
Zbigniew Brzezinski, введение к Political Controls in the Soviet Army (New York: Research Program on the Soviet Union, 1954); Clyde Kluckhohn, Raymond A. Bauer, and Alex Inkeles, «Strategic Psychological and Sociological Strengths and Vulnerabilities of the Soviet Social System,» окончательный доклад по ВВС (октябрь 1954) в «Докладах по Проекту опроса беженцев» (Архивы Гарвардского университета), Серия UAV759.175.75, ящик 5.
(обратно)69
William Marvel, записка о беседе с Шайлером Уоллесом, 20 февраля 1956 г., Carnegie Corporation of New York Records (Библиотека Колумбийского университета), Серия III. A, ящик 514, папка 6.
(обратно)70
Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (New York: Harcourt, Brace, 1951); Abbott Gleason, Totalitarianism: The Inner History of the Cold War (Oxford: Oxford University Press, 1997), главы 2–3; Margaret Canovan, Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), глава 2.
(обратно)71
Carl Friedrich and Zbigniew Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956), vii; заявка на грант «Russian Constitutional and Administrative History in Modern Times and Its Relation to the Constitutional Development of the Rest of Europe» (1937–38), в Документах Карла Иоахима Фридриха (Архивы Гарвардского университета), Серия HUG (FP) 17.10.
(обратно)72
Список приглашённых в Документах Фридриха, Серия HUG(FP) 17.12, ящик 33.
(обратно)73
Carl Friedrich, «The Unique Character of Totalitarian Society», в Totalitarianism: Proceedings of a Conference Held at the American Academy of Arts and Sciences, March 1953, ed. Friedrich (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1954), 52–53, 55–57.
(обратно)74
Friedrich and Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, 3, 7, 9–10, 81, 18, 246–247.
(обратно)75
Merle Fainsod, How Russia Is Ruled (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1953), 12, 47, 489, 31, 59.
(обратно)76
Friedrich and Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, 295–300.
(обратно)77
Zbigniew Brzezinski, The Permanent Purge: Politics in Soviet Totalitarianism (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956), 8, 37, 89, 145, 62, 72; Brzezinski, «The Permanent Purge and Soviet Totalitarianism» (докторская диссертация, Harvard University, 1953).
(обратно)78
Brzezinski, Permanent Purge, 8, 37, 89, 145, 165, 173.
(обратно)79
John Stearns Gillespie, обзор The Permanent Purge, by Zbigniew Brzezinski, Journal of Politics 19, номер 2 (май 1957): 293–295; Robert M. Slusser, обзор The Permanent Purge, by Zbigniew Brzezinski, American Slavic and East European Review 15, номер 4 (декабрь 1956): 543–546.
(обратно)80
Raymond A. Bauer, Nine Soviet Portraits (Cambridge, MA: MIT Press; New York: Wiley, 1955), xv, 173.
(обратно)81
Raymond A. Bauer, Alex Inkeles, and Clyde Kluckhohn, How the Soviet System Works: Cultural, Psychological and Social Themes (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956), 230, 218, 27, глава 8, 12–13, 19.
(обратно)82
Alex Inkeles and Raymond A. Bauer, The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian Society (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959), 3–4.
(обратно)83
Isaac Deutscher, Russia: What Next? (Oxford: Oxford University Press, 1953).
(обратно)84
Barrington Moore, Terror and Progress – USSR: Some Sources of Stability and Change in the Soviet Dictatorship (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1954), 178, 224, 185, 224, 191, 189, 225–226, 231.
(обратно)85
Barrington Moore, Terror and Progress – USSR: Some Sources of Stability and Change in the Soviet Dictatorship (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1954), 288; Barrington Moore, «The Outlook», Annals of the American Academy of Political and Social Science 303 (январь 1956): 9–10.
(обратно)86
Barrington Moore, «Dictatorship and Industrialism» (год не указан – 1953? 1954?), RRC Research Papers (Архивы Гарвардского университета), Серия UAV759.275, ящик 8.
(обратно)87
Zbigniew Brzezinski, «Totalitarianism and Rationality», American Political Science Review 50, номер 3 (сентябрь 1956): 762, 761.
(обратно)88
Zbigniew Brzezinski, «The Nature of the Soviet System», Slavic Review 20, номер 3 (октябрь 1961): 354–55, 357.
(обратно)89
Zbigniew Brzezinski, «The Nature of the Soviet System», Slavic Review 20, номер 3 (октябрь 1961): 361, 365.
(обратно)90
Zbigniew Brzezinski, «The Nature of the Soviet System», Slavic Review 20, номер 3 (октябрь 1961): 362, 367.
(обратно)91
Alfred Meyer, «USSR, Incorporated», Slavic Review 20, номер 3 (октябрь 1961): 369–76. Zbigniew Brzezinski, «Reply», Slavic Review 20, номер 3 (октябрь 1961): 383–88.
(обратно)92
Robert C. Tucker, «The Question of Totalitarianism», Slavic Review 20, номер 3 (октябрь 1961): 377–82.
(обратно)93
Zbigniew Brzezinski and Samuel Huntington, Political Power: USA/USSR: Similarities and Contrasts, Convergence or Evolution (New York: Viking, 1964), xi, 436; H. Gordon Skilling, «Interest Groups and Communist Policy», World Politics 18, номер 3 (апрель 1966): 441n31.
(обратно)94
Robert Burrowes, «Totalitarianism: The Revised Standard Version,» World Politics 21, номер 2 (январь 1969): 281–94.
(обратно)95
Carl Friedrich, «Предисловие к переработанному изданию», Friedrich and Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, 2-е издание, Revised by Friedrich (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965), vii-viii; Friedrich, «The Evolving Theory and Practice of Totalitarian Regimes», в Friedrich et al., Totalitarianism in Perspective: Three Views (New York: Praeger, 1969), 153.
(обратно)96
Zbigniew Brzezinski, интервью с автором, 19 февраля 2004 г.
(обратно)97
Zbigniew Brzezinski, «The Soviet Political System: Transformation or Degeneration» (1966) и «Concluding Reflections» (1968), обе статьи в Brzezinski, ed., Dilemmas of Change in Soviet Politics (New York: Columbia University Press, 1969), 31–33, 162, 153–154, 15n10.
(обратно)98
Диаграмма, автор Edward McGowan в Brzezinski, «Concluding Reflections», 157.
(обратно)99
Диаграмма, автор Edward McGowan в Brzezinski, «Concluding Reflections», 153–54.
(обратно)100
Zbigniew Brzezinski, «The Soviet Political System: Transformation or Degeneration», Problems of Communism 15, номер 1 (январь-февраль 1966): 1–15.
(обратно)101
Zbigniew Brzezinski, ed., Dilemmas of Change in Soviet Politics (New York: Columbia University Press, 1969).
(обратно)102
Все цитаты здесь приводятся по указанным публикациям Бжезинского.
(обратно)103
Brzezinski, «Concluding Reflections», в Dilemmas of Change, 160–161.
(обратно)104
Myron Rush, Political Succession in the USSR (New York: Columbia University Press, 1965); Rush, How Communist States Change Their Rulers (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1974); и Rush, «The Soviet Military Buildup and the Coming Succession», International Security 5, номер 4 (весна 1981): 169–185.
(обратно)105
Richard Löwenthal, «Development vs. Utopia in Communist Policy,» в Change in Communist Systems, ed. Chalmers A. Johnson (Stanford: Stanford University Press, 1970), 33–116.
(обратно)106
Robert C. Tucker, «The Dictator and Totalitarianism», World Politics 17, номер 4 (июль 1965): 555–83.
(обратно)107
Zbigniew Brzezinski, «Soviet Politics: from the Future to the Past», в The Dynamics of Soviet Politics, ed. Paul Cocks, Robert V. Daniels, and Nancy Whittier Heer (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976), 341.
(обратно)108
Zbigniew Brzezinski, «Soviet Politics: from the Future to the Past», в The Dynamics of Soviet Politics, ed. Paul Cocks, Robert V. Daniels, and Nancy Whittier Heer (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976), 341–342.
(обратно)109
Zbigniew Brzezinski, Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era (New York: Viking, 1970). Более ранняя статья – Zbigniew Brzezinski, «America in the Technetronic Age», Encounter 30, номер 1 (январь 1968): 16-26.
(обратно)110
Если не указано иное, цитаты здесь приводятся по Brzezinski, Between Two Ages.
(обратно)111
Between Two Ages, 164–166.
(обратно)112
Stephen Kotkin, Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970-2000 (New York: Oxford University Press, 2001), 27.
(обратно)113
Jerry F. Hough and Merle Fainsod, How the Soviet Union Is Governed (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979).
(обратно)114
Zbigniew Brzezinski, The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century (New York: Charles Scribner’s Sons, 1989).
(обратно)115
Zbigniew Brzezinski, The Soviet Bloc: Unity and Conflict (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960). Переработанное и расширенное издание опубликовано в 1967 году.
(обратно)116
Если не указано иное, все цитаты здесь приводятся по Brzezinski, The Grand Failure.
(обратно)117
Zbigniew Brzezinski, «From Eastern Europe Back to Central Europe», в Centre for Policy Studies, A Year in the Life of Glasnost: The Hugh Seton-Watson Memorial Lecture and Other Essays, Policy Study номер 94 (London: CPS, 1988), 6–18.
(обратно)118
Brzezinski, The Grand Failure, 105.
(обратно)119
Brzezinski, «From Eastern Europe Back to Central Europe», 14.
(обратно)120
Brzezinski, «From Eastern Europe Back to Central Europe», 15.
(обратно)121
Brzezinski, «From Eastern Europe Back to Central Europe», 15–16.
(обратно)122
Об этом эпизоде см. Mark Kramer, «The Demise of the Soviet Bloc,» Journal of Modern History 83, номер 4 (декабрь 2011): 816–817.
(обратно)123
Все цитаты здесь приводятся по Brzezinski, The Grand Failure.
(обратно)124
Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser 1977–1981 (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1983), 6.
(обратно)125
«The Second Presidential Debate», 6 октября 1976 г. Доступно по адресу -hour/debatingourdestiny/76debates/2_a.html.
(обратно)126
Brzezinski, Power and Principle, 10–11.
(обратно)127
Brzezinski, Power and Principle, 4.
(обратно)128
Zbigniew Brzezinski, интервью с автором, 21 мая 2004 г.
(обратно)129
Walter Mondale, интервью с автором, 19 мая 2004 г.
(обратно)130
Интервью с Бжезинским.
(обратно)131
Madeleine Albright, интервью с автором, 10 сентября 2004 г.
(обратно)132
Служащий администрации, интервью с автором.
(обратно)133
Brzezinski, Power and Principle, 456.
(обратно)134
John Prados, Keeper of the Keys: A History of the National Security Council from Truman to Bush (New York: Morrow, 1991), 390.
(обратно)135
Интервью со служащим администрации.
(обратно)136
Интервью со служащим администрации.
(обратно)137
Prados, Keeper of the Keys, 405.
(обратно)138
О том, как сам президент Картер вспоминал, почему Бжезинский был уполномочен вести дела по переговорам с Китаем и почему он не хотел делиться информацией с представителями Госдепартамента уровнем ниже госсекретаря Сайруса Вэнса, см. Jimmy Carter, Foreign Affairs, Письма редактору, ноябрь/декабрь 1999 г., 164–165. См. также письмо Бжезинского редактору в том же выпуске, 165–166. См. также предисловие Картера к этой книге.
(обратно)139
Гарольд Браун, интервью с автором, 21 июля 2004 г.
(обратно)140
Cyrus R. Vance, Hard Choices: Critical Years in American Foreign Policy (New York: Simon and Schuster, 1983), 78–79; Brzezinski, Power and Principle, 222.
(обратно)141
Erwin Hargrove, Jimmy Carter as President: Leadership and the Politics of the Public Good (Baton Rouge: Louisiana University State Press, 1988), 104.
(обратно)142
Gary Sick, All Fall Down: America’s Tragic Encounter with Iran (New York: Random House, 1985), 246, 249.
(обратно)143
Gary Sick, All Fall Down: America’s Tragic Encounter with Iran (New York: Random House, 1985), 290.
(обратно)144
Бжезинский верил, что китайское правительство может распасться. «Chinese Rulers’ Fall Predicted», Wall Street Journal, 30 мая 1990 г., A9.
(обратно)145
Zhang Haizhou, «Leaders Must ‘Meet More Often’», China Daily, 13 января 2009 г., 2.
(обратно)146
Zbigniew Brzezinski, «The Challenge of Change in the Soviet Bloc», Foreign Affairs 39 (апрель 1961): 430–443; Zbigniew Brzezinski, Letter to the Editor, New York Times, 11 июля 1961 г.
(обратно)147
Zbigniew Brzezinski, «The Balance of Power Delusion», Foreign Policy, номер 7 (лето 1972): 54–59; Zbigniew Brzezinski, «Half Past Nixon», Foreign Policy, номер 3 (лето 1971): 3–21.
(обратно)148
Zbigniew Brzezinski, The Fragile Blossom: Crisis and Change in Japan (New York: Harper and Row, 1972).
(обратно)149
Warren I. Беседа Коэна с Уильямом Банди, декабрь 1976 г.
(обратно)150
Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser 1977–1981 (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1985), 37, 172–173.
(обратно)151
Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser 1977–1981 (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1985), 203.
(обратно)152
Уильям Глейстин-младший в своём интервью утверждает, что китайцы использовали Вэнса и Бжезинского друг против друга. Association for Diplomatic Studies and Training, Library of Congress Foreign Affairs Oral History Project, June 10, 1997 (далее ADST).
(обратно)153
Stanley Hoffmann, «The Hell of Good Intentions», Foreign Policy, номер 29 (зима 1977–1978): 14.
(обратно)154
Elizabeth Drew, «Brzezinski»», New Yorker, 1 мая 1978 г, 90; Don Oberdorfer, «Brzezinski Plans to Visit China, Despite Reported Opposition from Vance», Washington Post, 27 апреля 1978 г., A18.
(обратно)155
Brzezinski, Power and Principle, 196.
(обратно)156
Gleysteen Oral History, ADST. Глейстин был назначен в СНБ до инаугурации Картера, ненадолго вернулся в Госдепартамент, а позже в 1978 году был назначен послом в Южную Корею.
(обратно)157
Запись беседы Збигнева Бжезинского с министром иностранных дел Хуан Хуа, 21 мая 1978 г., Вертикальная папка/Китай, MR-NLC-98-215, Библиотека Джимми Картера, Атланта, Джорджия (далее Библиотека Картера).
(обратно)158
Книга Элизабет Беккер «When the War Was Over: Cambodia and the Khmer Rouge Revolution» (New York: Simon and Schuster, 1986), основанная на её репортажах о красных кхмерах для Washington Post, завоевала книжную премию Роберта Ф. Кеннеди. Она утверждала, что в интервью Бжезинский сказал: «Я убеждал китайцев поддержать Пол Пота… Пол Пот был чудовищем. Мы не могли поддерживать его, но китайцы могли» (435). После повторной публикации книги в 1998 году журналом Public Affairs Бжезинский в письме редактору New York Times (22 апреля 1998 г., A26) решительно отрицал, что договаривался с китайцами об оказании помощи Пол Поту.
(обратно)159
Запись о беседе Бжезинского с Хуаном, 21 мая 1978 г.
(обратно)160
Запись о беседе Збигнева Бжезинского с председателем Хуа Гофэном, 22 мая 1978 г., Вертикальная папка/Китай, Библиотека Картера.
(обратно)161
Запись о беседе Збигнева Бжезинского с вице-премьером Дэн Сяопином, 21 мая 1978 г., Вертикальная папка/Китай, Библиотека Картера.
(обратно)162
Bernard Gwertzman, New York Times, 28 мая 1978 г., А1.; Holger Jensen with Sydney Liu, «Polar-Bear Tamer», Newsweek, 5 июня 1978 г.
(обратно)163
James R. Lilley, Oral History Interview, ADST, 21 мая, 1998 г.
(обратно)164
Ричард Холбрук, интервью с Нэнси Бернкопф Такер, 13 марта 2001 года; Richard H. Solomon, Chinese Negotiating Behavior: Pursuing Interests through «Old Friends» (Washington, DC: United States Institute of Peace, 2005), 40; James Mann, About Face (New York: Knopf, 1999), 86–89.
(обратно)165
Бжезинский предложил сопровождающим пробежаться наперегонки до вершины стены; тот, кто прибежит последним, должен будет воевать с русскими в Эфиопии. В целом он так много шутил по поводу Советского Союза, что китайцы прозвали его «Укротителем полярного медведя». Nancy Bernkopf Tucker, China Confidential: American Diplomats and Sino-American Relations, 1945–1996 (New York: Columbia University Press, 2001), 324; Jensen with Liu, «Polar-Bear Tamer», 61.
(обратно)166
Cyrus Vance, Hard Choices: Critical Years in American Foreign Policy (New York: Simon and Schuster, 1983), 118–119.
(обратно)167
Интервью с Холбруком, 13 марта 2001 г.
(обратно)168
Беседа Уоррена И. Коэна с Майклом Оксенбергом, 30 января 1979 г.
(обратно)169
Интервью с Холбруком, 13 марта 2001 г.
(обратно)170
Brzezinski, Power and Principle, 409.
(обратно)171
Следующее обсуждение TRA основано на Nancy Bernkopf Tucker, Strait Talk: United States-Taiwan Relations and the Crisis with China (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 116–126.
(обратно)172
Leslie Gelb, «Muskie and Brzezinski», New York Times, 20 июля 1980 г., раздел 6, 26; Anthony Lewis, «The Brzezinski Puzzle», New York Times, 18 августа 1980 г., A23; Sally Quinn. «Zbigniew Brzezinski, Insights, Infights, Kissinger and Competition», Washington Post, 21 декабря 1979 г., C1.
(обратно)173
Ann Devroy and Daniel Williams, «Top Clinton Advisers Are Said to Support China Trade Breaks», Washington Post, 20 мая 1994 г., A30.
(обратно)174
Liu Jiang and Yuan Binzhong, «Li Zhaoxing Urges US Adherence to ‘One China’ Policy», Внутренняя служба агентства «Синьхуа» в Пекине, 15 сентября 1999 г., FTS19990915000260.
(обратно)175
Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (New York: Basic Books, 1997).
(обратно)176
Zbigniew Brzezinski, «Living with China», National Interest, весна 2000 г.
(обратно)177
Zbigniew Brzezinski and John J. Mearsheimer, «The Clash of the Titans,» Foreign Policy, 5 января 2005 г. .
(обратно)178
Zbigniew Brzezinski, «How to Stay Friends with China», New York Times, 2 января 2011 г., ; Edward Wong, «Former Carter Adviser Calls for a ‘G-2’ between U.S. and China», New York Times, 2 января 2009 г., -beijing.3.19283773.html?_r=1; «China Wary of ‘G-2’ with US», Defencetalk, 8 апреля 2009 г., -wary-of-g2-with-us-analysts-17430/.
(обратно)179
Betty Glad, An Outsider in the White House: Jimmy Carter, His Advisors, and the Making of American Foreign Policy (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2009).
(обратно)180
Jimmy Carter, Keeping Faith: Memoirs of a President (New York: Bantam Books, 1982), 52.
(обратно)181
Wayne S. Smith, The Closest of Enemies: A Personal and Diplomatic Account of U.S. – Cuban Relations since 1957 (New York: W. W. Norton, 1987), 125.
(обратно)182
«A Pope from Poland», Newsweek, 30 октября 1978 г.
(обратно)183
George Weigel, Witness to Hope: The Biography of Pope John Paul II (New York: Harper-Collins, 1999), 279.
(обратно)184
James M. Rentschler, «Meanwhile: Hooking Up the Vatican Hot Line», New York Times, 30 октября 1998 г.
(обратно)185
Weigel, Witness to Hope, 301.
(обратно)186
Ян Бжезинский, интервью с автором, 16 июня 2005 г.
(обратно)187
Jonathan Kwitny, The Man of the Century: The Life and Times of Pope John Paul II (New York: Henry Holt, 1997), 341–342.
(обратно)188
Jonathan Kwitny, The Man of the Century: The Life and Times of Pope John Paul II (New York: Henry Holt, 1997), 341–342.
(обратно)189
«Brzezinski at the Pass: Bonhomie, Bullets», New York Times, 4 февраля 1980 г.
(обратно)190
Romuald Spasowski, The Liberation of One (San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1986), 622–625.
(обратно)191
Tina Rosenberg, The Haunted Land: Facing Europe’s Ghosts after Communism (New York: Vintage, 1996), 146.
(обратно)192
Tina Rosenberg, The Haunted Land: Facing Europe’s Ghosts after Communism (New York: Vintage, 1996), 207.
(обратно)193
Tina Rosenberg, The Haunted Land: Facing Europe’s Ghosts after Communism (New York: Vintage, 1996), 210.
(обратно)194
«The Polish Crisis: Proof of an Empire’s Failure: Brzezinski Sees Similar Tensions for Russia Too», Washington Post, 20 декабря 1981 г.
(обратно)195
Norman D. Sandler, «New Younger Leader; Same Old Policies», United Press International, 11 марта 1985 г.
(обратно)196
Ян Новак, интервью с автором, 4 сентября 2003 г.
(обратно)197
Elaine Sciolino, «Polish Chief Is Caught Up in the Whirl», New York Times, 26 сентября 1985 г.
(обратно)198
Збигнев Бжезинский, интервью с автором, 27 июля 2007 г.
(обратно)199
Войцех Ярузельский, интервью с автором, 27 апреля 2003 г.
(обратно)200
Benjamin Weiser, A Secret Life: The Polish Officer, His Covert Mission, and the Price He Paid to Save His Country (New York: Public Affairs, 2004), 290.
(обратно)201
Адам Михник, интервью с автором, 26 марта 2003 г.
(обратно)202
Richard Gwyn, «Eastern Bloc May Be Ready to Explode», Toronto Star, 7 февраля 1988 г.
(обратно)203
«Gorbachev’s Weakest Link», Newsweek, 9 мая 1988 г., 26.
(обратно)204
Збигнев Бжезинский, интервью с автором, 27 сентября 2003 г.
(обратно)205
Diane Alters, «Brzezinski Named to Top Position on Bush Task Force», Boston Globe, 13 сентября 1988 г.
(обратно)206
Stephen Engelberg, «As Jaruzelski Leaves Office: A Traitor or a Patriot to Poles?», New York Times, 22 декабря 1990 г.
(обратно)207
Ян Новак, September 13, 4 сентября, 2003 г.
(обратно)208
Bryan Brumley, «Bush Administration Hails Move toward Non-Communism ill Poland», Associated Press, 18 августа 1989 г.
(обратно)209
Lawrence Knutson, «Walensa Charms the Senate: ‘I Really Am an Electrician’», Associated Press, 15 ноября 1989 г.
(обратно)210
Эта конференция была второй и последней американо-советской конференцией-диалогом, организованной Советом по международным исследованиям и обменам (IREX), Исследовательским институтам международных перемен Колумбийского университета и Институтом международных экономических и политических исследований Советской академии наук. Её сопредседателями были профессор Чарльз Гати с американской стороны и доктор наук Олег Богомолов с советской стороны. Бжезинский был самым старшим членом американской делегации. Среди других на втором московском диалоге присутствовали Майкл Мандельбаум, Строуб Толботт, Марк Палмер, Вернон Аспатурян, Уильям Гриффит, Джим Браун и Анджела Стент. Автор статьи, на тот момент сотрудник отдела международных исследований под руководством Бжезинского в вашингтонском аналитическом центре, был включён в делегацию в роли наблюдателя и секретаря. Эта глава основана на обширных личных заметках автора, сделанных во время конференции и во время частных встреч Бжезинского с советскими официальными лицами.
(обратно)211
Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security Advisor 1977–1981 (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1983), 454.
(обратно)212
Jimmy Carter, Речь «О положении страны», 23 января, 1980.
(обратно)213
Zbigniew Brzezinski, «We Need More Muscle in the Gulf, Less in NATO», Washington Post, Outlook section, 7 июня 1987 г., B-1.
(обратно)214
Zbigniew Brzezinski, «We Need More Muscle in the Gulf, Less in NATO», Washington Post, Outlook section, 7 июня 1987 г., B-1.
(обратно)215
David J. Lynch, «Jimmy Carter Confidant Brzezinski Tells Why He Jumped Ship For Bush», Defense Week, 31 октября, 1988 г., 8.
(обратно)216
Интервью со Збигневом Бжезинским, MacNeil/Lehrer News Hour, PBS, 21 августа 1990 г.
(обратно)217
Zbigniew Brzezinski, «Patience in the Persian Gulf, Not War», New York Times, 7 октября 1990 г., A-19.
(обратно)218
Интервью с Бжезинским, NewsHour, 21 августа 1990 г.
(обратно)219
Интервью со Збигневом Бжезинским, MacNeil/LehrerNewsHour, PBS, 17 января 1991 г.
(обратно)220
Интервью со Збигневом Бжезинским, MacNeil/LehrerNewsHour, PBS, 17 января 1991 г.
(обратно)221
Brzezinski, «Patience in the Persian Gulf».
(обратно)222
Brzezinski, «Patience in the Persian Gulf».
(обратно)223
Збигнев Бжезинский, интервью с Дэвидом Френчем, CNN, 17 января 1993 г.
(обратно)224
Збигнев Бжезинский, интервью с Фрэнком Сесно, CNN, 28 января 1993 г.
(обратно)225
Zbigniew Brzezinski, Brent Scowcroft, and Richard Murphy, «Differentiated Containment», Foreign Affairs 76, номер 3 (май/июнь 1997): 20–30.
(обратно)226
Збигнев Бжезинский, интервью, News Hour with Jim Lehrer, PBS, 21 декабря 1998 г.
(обратно)227
Збигнев Бжезинский, интервью, News Hour with Jim Lehrer, PBS, 21 декабря 1998 г.
(обратно)228
Zbigniew Brzezinski, «APlan for Political Warfare», Wall Street Journal, 25 сентября 2001 г., A-18.
(обратно)229
Zbigniew Brzezinski, «A New Age of Solidarity? Don’t Count on It,» Washington Post, 2 ноября 2001 г., A-29.
(обратно)230
Zbigniew Brzezinski, «A New Age of Solidarity? Don’t Count on It,» Washington Post, 2 ноября 2001 г., A-29.
(обратно)231
Brzezinski, «Plan for Political Warfare».
(обратно)232
Brzezinski, «New Age of Solidarity?»
(обратно)233
См. James Mann, Rise of the Vulcans: The History of Bush’s War Cabinet (New York: Viking Press, 2004), 322–327.
(обратно)234
Brent Scowcroft, «Don’t Attack Saddam», Wall Street Journal, 15 августа 2002 г., A-12.
(обратно)235
Zbigniew Brzezinski, «If We Must Fight…», Washington Post, 18 августа 2002 г., B-7.
(обратно)236
Zbigniew Brzezinski, «If We Must Fight…», Washington Post, 18 августа 2002 г., B-7.
(обратно)237
Збигнев Бжезинский, интервью, This Week with Sam Donaldson and Cokie Roberts, ABC News, 1 сентября 2002 г.
(обратно)238
Zbigniew Brzezinski, «The End Game», Wall Street Journal, 23 декабря 2002 г., A-23.
(обратно)239
Збигнев Бжезинский, интервью, CNN Late Edition with Wolf Blitzer, CNN, 20 октября, 2002 г.
(обратно)240
Збигнев Бжезинский, интервью, News Hour with Jim Lehrer, PBS, 5 февраля 2003 г.
(обратно)241
Zbigniew Brzezinski, «Why Unity Is Essential», Washington Post, 19 февраля 2003 г., A-29.
(обратно)242
Збигнев Бжезинский, интервью, Early Show, CBS News, 10 марта 2003 г.
(обратно)243
Интервью с Генри Киссинджером и Збигневом Бжезинским, CNN Late Edition with Wolf Blitzer, CNN, 13 июля 2003 г.
(обратно)244
Интервью с Генри Киссинджером и Збигневом Бжезинским, CNN Late Edition with Wolf Blitzer, CNN, 13 июля 2003 г.
(обратно)245
Zbigniew Brzezinski, «Lowered Vision», New Republic, 7 июня 2004 г., 16.
(обратно)246
Peter Baker and Shailagh Murray, «Democrats Split over Position on Iraq War», Washington Post, 22 августа 2005 г., A-й; Adam Nagourney, «Democrats Turned War into an Ally», New York Times, 9 ноября 2006 г., A-1.
(обратно)247
Zbigniew Brzezinski and Brent Scowcroft, America and the World: Conversations on the Future of American Foreign Policy, mod. David Ignatius (New York: Basic Books, 2008), 93.
(обратно)248
Charles Krauthammer, «The Obsolescence of Deterrence», Weekly Standard, 9 декабря 2002 г.
(обратно)249
«Profiles in Chutzpah,» Weekly Standard, 18 марта 2003 г.
(обратно)250
Victor Davis Hanson, «An American ‘Debacle’?», National Review Online, 14 октября 2005 г., -debacle/victor-davis-hanson.
(обратно)251
Неподписанная редакторская статья, Wall Street Journal (Брюссель), 31 января 2005 г., A-8.
(обратно)252
James Traub, «The Things They Carry», New York Times Magazine, 4 января 2004 г., 28.
(обратно)253
См., например, Ari Berman, «The Democrats: Still Ducking», Nation, 27 марта 2006 г., -still-ducking; «A Conversation with Zbigniew Brzezinski», American Prospect, июнь 2007 г.,12.
(обратно)254
Reuel Marc Gerecht, «On Democracy in Iraq», Weekly Standard, 30 апреля 2007 г.
(обратно)255
Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser 1977–1981 (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1983), 5–6.
(обратно)256
Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser 1977–1981 (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1983), 6.
(обратно)257
Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser 1977–1981 (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1983), 84.
(обратно)258
Збигнев Бжезинский, интервью с автором, март 2010 г.
(обратно)259
Збигнев Бжезинский, интервью с автором, март 2010 г.
(обратно)260
Zbigniew Brzezinski, «The Mideast: Who Won?», Washington Post, 21 ноября 1973 г.
(обратно)261
Zbigniew Brzezinski, «Plan for Peace in the Middle East», New Leader, 7 января 1974 г.
(обратно)262
Zbigniew Brzezinski, Francois Duchene, and Kiichi Saeki, «Peace in an International Framework», Foreign Policy, номер 19 (лето 1975): 3–17.
(обратно)263
Zbigniew Brzezinski et al., «An Exchange on Mideast Guarantees», Foreign Policy, номер 21 (зима 1975–1976): 218.
(обратно)264
Brzezinski, Power and Principle, 85–86.
(обратно)265
Brzezinski, Power and Principle, 84; интервью с Бжезинским.
(обратно)266
Bulletin of the American Professors for Peace in the Middle East, июнь 1976 г., 75.
(обратно)267
Джеральд Рафшун, интервью с автором, май 2010 г.
(обратно)268
Jimmy Carter, Keeping Faith: Memoirs of a President (Little Rock: University of Arkansas Press, 1995), 52.
(обратно)269
Brzezinski, Power and Principle, 86–87.
(обратно)270
Brzezinski, Power and Principle, 91.
(обратно)271
Brzezinski, Power and Principle, 93.
(обратно)272
Brzezinski, Power and Principle, 96.
(обратно)273
Brzezinski, Power and Principle, 98.
(обратно)274
Интервью с Рафшуном.
(обратно)275
Збигнев Бжезинский, интервью на Face the Nation, опубликовано в Department of State Bulletin, том 77, номер 2006, 800–805.
(обратно)276
Brzezinski, Power and Principle, 111.
(обратно)277
Brzezinski, Power and Principle, 234.
(обратно)278
Brzezinski, Power and Principle, 255.
(обратно)279
Brzezinski, Power and Principle, 254.
(обратно)280
Brzezinski, Power and Principle, 273.
(обратно)281
Интервью с Бжезинским.
(обратно)282
Brzezinski, Power and Principle, 277.
(обратно)283
Zbigniew Brzezinski, «Peace at an Impasse», Journal of Palestine Studies 14, номер 1 (осень 1984): 4–6.
(обратно)284
Brzezinski, Power and Principle, 558.
(обратно)285
Brzezinski, Power and Principle, 263.
(обратно)286
Hamilton Jordan, Crisis: The Last Year of the Carter Presidency (New York: Putnam, 1982), 84.
(обратно)287
Zbigniew Brzezinski, «America’s Mideast Policy Is a Shambles», New York Times, октябрь 1983 г., E19.
(обратно)288
Zbigniew Brzezinski, «Lebanon: The Aftermath in America», Washington Post, февраль 1984 г., B8.
(обратно)289
Zbigniew Brzezinski, «An Ocean Away, Pundits and Former Players Offer Views of Madrid Talks», New York Times, 3 ноября 1991 г., 23.
(обратно)290
Zbigniew Brzezinski and Brent Scowcroft, America and the World: Conversations on the Future of American Foreign Policy, mod. David Ignatius (New York: Bantam Books, 2008), 81.
(обратно)291
Zbigniew Brzezinski and Brent Scowcroft, America and the World: Conversations on the Future of American Foreign Policy, mod. David Ignatius (New York: Bantam Books, 2008), 81.
(обратно)292
Zbigniew Brzezinski et al., «The War over Israel’s Influence», Foreign Policy, номер 155 (июль-август 2006): 63–64.
(обратно)293
Zbigniew Brzezinski et al., «The War over Israel’s Influence», Foreign Policy, номер 155 (июль-август 2006): 64.
(обратно)294
Из Michael Oakeshott, Rationalism In Politics (London: Methuen, 1962).
(обратно)295
Оуэн Харрис, беседа с автором, 1997 г.
(обратно)296
См. Zbigniew Brzezinski, Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era (New York: Penguin Books, 1970), xiv и примечание на с. xvi.
(обратно)297
См. Zbigniew Brzezinski, Alternative to Partition: For a Broader Conception of America’s Role in Europe (New York: McGraw-Hill, 1965).
(обратно)298
Этот обмен мнениями опубликован в «‘I’d Do It Again’: Talking Afghanistan with Zbigniew Brzezinski», American Interest, май/июнь 2008 г.
(обратно)299
Это была действительно основополагающая книга, поскольку Бжезинский возвращается ко многим упомянутым в ней темам в Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the Twenty-First Century (New York: Macmillan, 1993).
(обратно)300
Zbigniew Brzezinski, «The Dilemma of the Last Sovereign», American Interest, осень 2005 г.
(обратно)301
Zbigniew Brzezinski, Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power (New York: Basic Books, 2012). Отрывок напечатан под названием «Balancing the East, Upgrading the West» в Foreign Affairs, январь/февраль 2012 г.
(обратно)302
Это, по моему мнению, объясняет как тон, так и суть книги Бжезинского Second Chance: Three Presidents and the Crisis of the American Superpower (New York: Perseus, 2007).
(обратно)303
Те же предубеждения и, на мой взгляд, их аналитическую ограниченность можно разглядеть в книге Бжезинского The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (New York: Basic Books, 1998).
(обратно)304
Збигнев Бжезинский, интервью с автором, 24 февраля 2012 г.
(обратно)305
Збигнев Бжезинский, интервью с автором, 24 февраля 2012 г.
(обратно)306
Збигнев Бжезинский, интервью с автором, 24 февраля 2012 г.
(обратно)307
Patrick G. Vaughan, «Zbigniew Brzezinski: The Political and Academic Life of a Cold War Visionary» (докторская диссертация, Университет Западной Вирджинии, 2003), 26–27.
(обратно)308
Интервью с Бжезинским.
(обратно)309
Jack Gould, «TV: Preview of International Affairs», New York Times, 26 марта 1962 г.
(обратно)310
Интервью с Бжезинским.
(обратно)311
Justin Vaïsse, De Harvard à la Maison Blanche, Zbigniew Brzezinski et I’ascension des universitaires dans I’establishmentde politique tangère américaine pendant la guerre froide. Habilitation à diriger rècherche histoire (Paris: Sciences Po, 2011). (Готовится к публикации на английском языке в 2013 году под титулом Justin Vaïsse, Zbigniew Brzezinski: A Complete Biography.)
(обратно)312
Ф. Стивен Ларраби, интервью с Джеффом Рейдером, 31 марта 2003 г.
(обратно)313
Интервью с Бжезинским.
(обратно)314
Уильям Э. Одом, интервью цитируется в Jeff Raider, «Leadership Case: Zbigniew Brzezinski», неопубликованной работе, подготовленной для семинара «Leadership in Europe» в Школе передовых международных исследований Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса в апреле 2003 г.
(обратно)315
Чарльз Гати, интервью с Джеффом Рейдером.
(обратно)316
Madeleine Albright with Bill Woodward, Madam Secretary: A Memoir, Madeleine Albright (New York: Miramax Books, 2003), 57.
(обратно)317
Джордж Кент, интервью с Джеффом Рейдером.
(обратно)318
Дэниел Хилдрет, интервью с Джеффом Рейдером.
(обратно)319
Титинан Понгсудирак, интервью с Джеффом Рейдером.
(обратно)320
Интервью с Бжезинским.
(обратно)321
Это сокращённая и отредактированная версия двух бесед. Одна состоялась в присутствии небольшой группы студентов и преподавателей SAIS 22 февраля 2012 года. Вторая проходила в кабинете профессора Бжезинского 4 мая 2012 года. С помощью Бри Бэнг-Дженсен текст был отредактирован Чарльзом Гати и одобрен Збигневом Бжезинским.
(обратно)


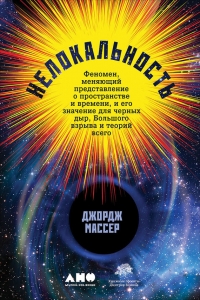



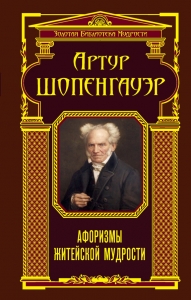
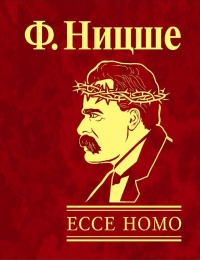

Комментарии к книге «Збиг: Стратегия и политика Збигнева Бжезинского», Чарльз Гати
Всего 0 комментариев