Дэвид Дойч Начало бесконечности. Объяснения, которые меняют мир
Издательство благодарит Russian Quantum Center, Сергея Белоусова и Виктора Орловского за помощь в подготовке издания
Переводчик Мария Талачева
Редактор Игорь Лисов
Редактор Russian Quantum Center Александр Сергеев
Руководитель проекта А. Половникова
Корректор Е. Аксёнова
Компьютерная вёрстка М. Поташкин
Дизайн обложки Ю. Буга
© David Deutsch, 2011
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
* * *
Благодарности
Хочу выразить благодарность своим друзьям и коллегам Саре Фиц-Клэридж, Алану Форрестеру, Герберту Фройденхайму, Дэвиду Джонсону—Дейвису, Полу Таппендену и особенно Эллиоту Темплу, а также моему редактору Бобу Дэвенпорту за то, что они смогли найти время на вычитку черновых вариантов книги, за высказанные ими замечания и предложения. Хочу поблагодарить и тех, кто вычитывал отдельные главы и вносил полезные комментарии, — это Омри Серен, Артур Экерт, Майкл Голдинг, Алан Грейфен, Рути Риган, Саймон Сондерс и Лули Тэнетт.
Спасибо Нику Локвуду, Томми Робину и Лули Тэнетт за то, что они сумели неожиданно для меня столь точно перевести мои объяснения на язык иллюстраций.
Благодарю Сергея Белоусова и всю команду Российского квантового центра за возможность публикации русской версии книги.
Предисловие
Прогресс настолько быстрый, чтобы его можно было заметить, и достаточно устойчивый, чтобы незыблемо присутствовать в жизни не одного и не двух поколений, за всю историю человечества случился лишь однажды. Он начался в эпоху научной революции и продолжается до сих пор. Речь идёт об успехах не только в сфере научной мысли, но и в области технологий, в развитии политических систем, моральных ценностей, искусства, во всех аспектах обеспечения благосостояния человека.
Когда бы и в чём бы ни проявлялся прогресс, всегда находились влиятельные мыслители, которые либо отрицали его реальность, либо считали его нежелательным, либо объявляли саму эту концепцию лишённой смысла. Но они заблуждались в своих рассуждениях. Существует объективное различие между ложным объяснением и верным, между хронической невозможностью решить проблему и её решением, а также между ложью и истиной, между безобразным и красивым, между страданием и облегчением мук, а следовательно, и между застоем и прогрессом в самом полном смысле этого слова.
В своей книге я привожу доводы в пользу того, что прогресс, как в области теории, так и в области практики, обусловлен лишь стремлением людей найти то, что я называю разумными объяснениями. Стремление это присуще только человеку, но его эффективность является ещё и фундаментальным фактом, описывающим действительность на самом объективном уровне, в масштабе Вселенной, а именно: действительность соответствует универсальным законам природы, которые на самом деле являются разумными объяснениями. Эта простая взаимосвязь между космическим и человеческим наводит на мысль о центральной роли человека в космической системе вещей.
Но должен ли прогресс иметь конец — будь то катастрофа или некое логическое завершение — или он нескончаем? Верно последнее. Это отсутствие предела выражается словом «бесконечность» в названии книги. Чтобы найти этому объяснение, а также понять, когда прогресс возможен, а когда нет, нам придётся пройти практически по всем областям фундаментальной науки и философии. И каждый раз мы будем узнавать, что прогресс вовсе необязательно должен иметь конец, но у него всегда есть отправная точка — причина, по которой он начался, событие, которое способствовало этому, или необходимое условие для его начала и успешного развития. Каждая из таких отправных точек — это «начало бесконечности» с позиций рассматриваемой научной области. На первый взгляд кажется, что в большинстве своём они никак не связаны между собой. Однако все они — части одного целого, того, что присуще нашей действительности и что я называю собственно началом бесконечности.
1. Применимость объяснений
За всем этим, несомненно, стоит такая простая и красивая идея, что когда — лет через десять, сто или тысячу — мы додумаемся до неё, то непременно спросим: а разве могло быть иначе?
Джон Арчибальд Уилер. Труды Нью-Йоркской академии наук (Annals of the New York Academy of Sciences), т. 480 (1986)Несколько тысяч светящихся точек на ночном небе да тусклая и размытая полоса Млечного Пути — такой мы видим невооружённым глазом Вселенную вне пределов Солнечной системы. Но если спросить астронома, что же там на самом деле, он расскажет не о точках и не об этой полосе, а о звёздах — сферах из раскалённого газа, диаметр которых достигает миллионов километров и которые удалены от нас на много световых лет. Солнце — самая обыкновенная звезда, скажет он, и выглядит оно не так, как другие звёзды, только потому, что находится гораздо ближе к Земле, хотя нас и разделяет 150 миллионов километров. И хотя эти расстояния невообразимы, мы уверены, что знаем причину сияния звёзд: всё дело в ядерной энергии, скажет астроном, выделяющейся в результате трансмутации, в ходе которой один химический элемент преобразуется в другой (главным образом — водород в гелий).
Некоторые типы трансмутации происходят самопроизвольно и на Земле, при распаде радиоактивных элементов. Впервые это продемонстрировали в 1901 году физики Фредерик Содди и Эрнест Резерфорд, но представление о трансмутации восходит к античности. Алхимики веками мечтали о том, чтобы превратить неблагородный металл — железо или свинец — в золото. Но они так и не смогли даже приблизительно понять, что для этого нужно, поэтому у них ничего не вышло. А вот учёные XX века с этой задачей справились. Справляются с ней и звёзды, когда они взрываются как сверхновые. Получить золото из неблагородных металлов путём трансмутации во Вселенной под силу только звёздам — и разумным существам, разбирающимся в том, какие процессы протекают в их недрах.
А Млечный Путь, скажет астроном, несмотря на свою иллюзорность, — самый крупный объект, который можно увидеть невооружённым глазом, — галактика, состоящая из сотен миллиардов звёзд, связанных взаимным притяжением на расстояниях в десятки тысяч световых лет. Мы смотрим на него изнутри, потому что являемся его частью. И хотя ночью кажется, что небо безоблачно и ничто в нём особо не меняется, во Вселенной кипит бурная деятельность, скажет астроном. Самая обычная звезда за секунду преобразует миллионы тонн вещества в энергию, причём каждый грамм высвобождает её столько же, сколько выделилось бы при взрыве атомной бомбы. В пределах досягаемости мощнейших телескопов, которые позволяют рассмотреть больше галактик, чем звёзд в нашей Галактике, скажет астроном, каждую секунду взрывается несколько сверхновых, и каждая из них ненадолго становится ярче, чем все звёзды соответствующей галактики вместе взятые. Мы не знаем, где ещё за пределами Солнечной системы есть жизнь и разумные существа, и есть ли вообще, и не можем сказать, насколько роковыми являются последствия каждого взрыва. Но мы знаем, что сверхновая звезда опустошает все планеты, которые могут вокруг неё обращаться, уничтожая всё живое, если там была жизнь. Да, включая и разумных существ, если только у них нет технологий, значительно опережающих наши. Одно лишь нейтринное излучение такой звезды убьёт человека на расстоянии миллиардов километров, даже если на всём этом протяжении будут стоять свинцовые экраны. Однако своим существованием мы обязаны как раз сверхновым звёздам: именно они — посредством трансмутаций — являются источником большей части элементов, из которых состоим мы сами и наша планета.
Но есть явления, которым удаётся затмить даже взрывы сверхновых. В марте 2008 года выведенный на орбиту вокруг Земли рентгеновский телескоп зафиксировал так называемый гамма-всплеск на расстоянии 7,5 миллиарда световых лет[1] — а это половина расстояния до границ известной нам части Вселенной. Вероятно, это был коллапс одиночной звезды в чёрную дыру — объект, обладающий таким сильным гравитационным полем, что даже свет не может из него выбраться. Этот всплеск был ярче, чем миллион сверхновых, и его можно было бы наблюдать с Земли невооружённым глазом — очень смутно и всего на протяжении нескольких секунд, так что вряд ли кто-то успел заметить. Взрыв сверхновой длится дольше, его свечение затухает на протяжении нескольких месяцев, поэтому ещё до изобретения телескопов астрономы смогли зафиксировать в нашей Галактике несколько таких явлений[2].
Ещё один тип космических монстров — квазары, объекты с очень ярким свечением, которые относятся к другой весовой категории. Они слишком далеки, чтобы увидеть их невооружённым глазом, но за небольшое время могут выдать столько же световой энергии, сколько сверхновая излучила бы за миллион лет. Источник этой энергии — массивные чёрные дыры, которые расположены в центрах галактик. В них пропадают целые звёзды — дыра втягивает их в себя, разрывая за счёт приливных эффектов во время спуска по спирали, — причём большой квазар может поглощать по несколько звёзд в день! Благодаря сильным магнитным полям часть гравитационной энергии возвращается в виде джетов — направленных струй частиц высоких энергий, которые подсвечивают окружающий газ с силой триллиона солнц.
В самой чёрной дыре (за границей невозвращения, называемой горизонтом событий) условия ещё более экстремальны — возможно, там разрушается сама структура пространства и времени! Но при этом Вселенная, зародившаяся около четырнадцати миллиардов лет назад в результате Большого взрыва, который охватил всё и вся и на фоне которого все другие описанные мною явления просто меркнут, продолжает неумолимо расширяться. И вся эта Вселенная — лишь малая часть гораздо более внушительного целого, Мультивселенной, в которой таких Вселенных огромное множество.
Физический мир не просто намного больше, и жизнь в нём кипит не просто активнее, чем нам представлялось: в нём гораздо больше деталей, он разнообразнее, и вообще в нём происходит больше событий. И всё в нём подчиняется изящным законам физики, которые мы в определённой степени понимаем. Я даже не знаю, что удивительнее: сами эти явления или то, что мы столько о них знаем.
Но откуда мы всё это знаем? У науки есть одна замечательная особенность — контраст между огромным охватом и силой лучших теорий и их мощи и теми сомнительными, ограниченными средствами, которые используются при их создании. Человек никогда не был на поверхности звезды и тем более в её недрах, где и происходит трансмутация и производится энергия. Но, глядя на холодные точки на небе, мы знаем, что это раскалённые добела поверхности далёких ядерных печей. С физической же точки зрения, наш мозг просто обрабатывает электрические импульсы, поступающие из глаз. Глаза же воспринимают только тот свет, который падает на них в данный момент. Тот факт, что этот свет был излучён очень далеко от нас и очень давно, и то, что происходило намного больше событий, чем просто излучение света, мы видеть не можем. Это известно нам только теоретически.
Научные теории — это объяснения, то есть утверждения о том, какие процессы и явления существуют в мире и как они протекают. Но откуда возникают эти теории? На протяжении большей части истории науки бытовало ошибочное мнение, что теории «выводятся» из чувственного опыта; в философии это учение называется эмпиризмом.
В 1689 году философ Джон Локк писал, например, что человеческий разум — «чистый лист бумаги», на который записывается чувственный опыт, и что так появляются все наши знания о физическом мире. Другая метафора эмпириков заключалась в том, что можно читать знания из «Книги природы» путём наблюдений. Как бы то ни было, первооткрыватель знания является его пассивным получателем, но не создателем.
На самом же деле научные теории ниоткуда не «выводятся». Мы не читаем их в природе, и природа не записывает их в нас. Теории — это догадки, дерзкие гипотезы. Они возникают у человека в голове: мы играем идеями, перегруппировываем, комбинируем и видоизменяем их, наконец, сочетаем с существующими идеями с целью усовершенствования. Приходя в этот мир, человек не начинает жизнь с «чистого листа», у нас есть врождённые ожидания и намерения и врождённая способность совершенствовать их с помощью мышления и опыта. Опыт действительно играет в науке важную роль, но она отлична от той, которую приписывал ему эмпиризм. Опыт — не источник для вывода теорий. Главное его предназначение — помочь определиться с выбором одной из нескольких уже предложенных теорий. Именно это и означает фраза «познавать на опыте».
Однако до середины XX века, до появления работ философа Карла Поппера, это должным образом не осознавали. Итак, с исторической точки зрения именно эмпиризм дал первое обоснование экспериментальной науки в известном нам сегодня виде. Философы-эмпирики критиковали и отвергали такие традиционные методы познания, как поклонение авторитету священных книг и других сочинений древности, равно как и авторитету людей — священников и мыслителей, а также веру в предания, привычные правила и слухи. Кроме того, эмпиризм отвергал противоположное ему и удивительно стойкое представление о том, что чувства — это не больше чем источники ошибок и их нужно игнорировать. И, целиком и полностью выступая за получение новых знаний, он внушал оптимизм в противовес господствовавшему в Средневековье фатализму, согласно которому всё важное было уже известно. Таким образом, несмотря на принципиальное заблуждение относительно источника научного знания, эмпиризм стал большим шагом вперёд как в философии, так и в истории науки. Однако оставался открытым вопрос, который с самого начала поднимался скептиками (дружелюбными и не очень): как знания о том, что не было испытано на опыте, могут быть «выведены» из того, что было? Какой нужен ход мысли, чтобы достоверно вывести одно из другого? Вряд ли кому-то придёт в голову выводить географию Марса из карты Земли, так почему же мы полагаем, что можем узнать о физике на Марсе из экспериментов, проведённых на Земле? Очевидно, одним логическим выводом здесь не обойтись из-за логического же пробела: любые логические выводы, применённые к утверждениям, описывающим тот или иной опыт, могут привести к заключению только об этом опыте и ни о чём другом.
Долгое время считалось, что всё дело в повторении: если человек многократно получает сходные результаты при схожих обстоятельствах, то можно «экстраполировать» или «обобщить» эту картину и предположить, что она будет воспроизводиться и дальше. Например, почему мы полагаем, что завтра утром взойдёт солнце? Потому что в прошлом рассвет неизменно наступал каждое утро. Из этого мы якобы «выводим» теорию, что при схожих обстоятельствах так будет всегда — ну или скорее всего будет. Мы полагаем, что каждый раз, когда этот прогноз сбывается, и с учётом того, что обратного никогда ещё не было, вероятность того, что он будет сбываться всегда, увеличивается. Так можно — предположительно — получать всё более и более надёжные знания о будущем, исходя из прошлого, и об общем, исходя из частного. Такой ход рассуждений стали называть «индуктивным выводом» или «индукцией»[3], а учение о том, что научные теории создаются именно таким способом, называется индуктивизмом. Чтобы закрыть логический пробел, некоторые индуктивисты воображали существование некого принципа природы — «принципа индукции», который позволяет считать индуктивный вывод верным. Популярный вариант индуктивного рассуждения звучит так: «Будущее будет похоже на прошлое». Сюда же можно добавить варианты «далёкое должно быть похоже на близкое» или «невиданное должно быть похоже на известное» и т. д.
Но сформулировать «принцип индукции», который можно было бы применять на практике для получения научных теорий на основе опыта, никому так и не удалось. На эту неудачу и невозможность устранить логический пробел всегда опиралась критика индуктивизма. Однако она была к нему слишком милосердна, потому что оставляла в силе два наиболее серьёзных заблуждения.
Во-первых, индуктивизм претендует на то, что может объяснить, как наука делает предсказания о том или ином опыте. Но теоретические знания в большинстве своём просто не принимают такую форму. Научные объяснения описывают реальность, большая часть которой не является чьим-то опытом. Так, астрофизика — это наука не о нас (не о том, что мы видим, смотря на небо), а о звёздах: из чего они состоят, почему светятся, как формируются, и о том, каким универсальным законам физики подчиняются. Большую часть из этих процессов никто никогда не наблюдал: никто не прожил миллиард лет и не преодолел расстояние в световой год, никто не наблюдал Большой взрыв, никто никогда не сможет прикоснуться к закону физики, разве что мысленно, посредством теории. Все наши предсказания о том, как будет выглядеть объект или явление, выводятся из подобных объяснений того, чем они являются. Поэтому индуктивизм даже не задаётся вопросом о том, как можно узнать что-то о звёздах и Вселенной помимо того, что мы видим точки на небе.
Второе принципиальное заблуждение индуктивизма состоит в том, что научные теории предсказывают, что «будущее будет похоже на прошлое» и что «невиданное должно быть похоже на известное» и т. д. (Как вариант — «вероятно, будет похоже».) Но в реальности будущее отличается от прошлого, а то, что не видно глазу, совсем не похоже на то, что ему доступно. Наука зачастую предсказывает явления, совершенно отличные от всего, что было испытано до этого, и благодаря ей же эти явления становятся возможными. Тысячелетиями люди мечтали научиться летать, однако все попытки неизменно заканчивались падением. Потом они открыли хорошие объяснительные теории, описывающие полёт, и наконец поднялись в воздух, причём именно в таком порядке. До 1945 года никто не наблюдал ядерный взрыв (взрыв атомной бомбы), а может, в истории Вселенной их никогда и не было. Однако первый такой взрыв и условия, при которых он произойдёт, были точно предсказаны, но не исходя из предположений о том, что будущее будет похоже на прошлое. Тот же восход солнца — излюбленный пример индуктивистов — не всегда наблюдается каждые двадцать четыре часа в сутки: если смотреть с орбиты, то его можно увидеть каждые девяносто минут или не увидеть вовсе. И это было известно из теории задолго до того, как первый человек облетел Землю по орбите.
В защиту индуктивизма нельзя даже сказать, что во всех этих примерах будущее всё-таки «напоминает прошлое» в том смысле, что оно подчиняется тем же самым фундаментальным законам природы. Это — утверждение ни о чём: любой возможный закон природы, будь он верен или нет, должен утверждать «схожесть» будущего и прошлого в том смысле, что и то, и другое должно ему подчиняться. А значит, используя эту версию «принципа индукции», нельзя выводить какие бы то ни было теории или делать предсказания на основе опыта или чего-то ещё.
Даже в повседневной жизни мы прекрасно понимаем, что будущее не похоже на прошлое, что какие-то вещи будут повторяться, а какие-то нет. До 2000 года я тысячи раз видел, что в правильно составленном григорианском календаре год начинается с цифр 1 и 9. Но, несмотря на это, я ожидал, что в полночь 31 декабря 1999 года на соответствующем месте во всех таких календарях появятся цифры 2 и 0. Кроме того, согласно моим расчётам, цифры 1 и 9 при таких же условиях появятся в календаре на том же месте только через 17 000 лет. На тот момент ни я, никто другой ни разу не видели, чтобы год на календаре начинался на «20», равно как и не видели промежутка в 17 000 лет, но, исходя из объяснительных теорий, мы могли ожидать и ожидали появление этих цифр.
Как говорил древнегреческий философ Гераклит, «в одну реку нельзя войти дважды, ведь и река уже будет другой, и человек будет другим»[4]. Вспоминая, что видели восход солнца «не один раз» при «тех же самых» обстоятельствах, мы неявно опираемся на объяснительные теории, которые говорят нам, какие комбинации переменных из нашего опыта нужно интерпретировать как «повторяющиеся» в описываемой реальности явления, а какие носят частный характер и к делу не относятся. Например, согласно законам геометрии и оптики, мы вряд ли увидим восход в облачный день, хотя он и происходит в действительности за тучами, в ненаблюдаемой части мира. И только благодаря объяснительным теориям мы знаем, что, если в такие дни мы не видим солнца, это не значит, что рассвет не наступил вовсе. Аналогично, теория говорит нам, что, если мы видим восход солнца в зеркале, в телевизионной передаче или в компьютерной игре, это не значит, что мы видели его второй раз за день. Таким образом, сама идея о том, что опыт повторяется, — это не чувственный опыт, а теория.
Это то, что касается индуктивизма. И поскольку это направление ложно, то ложным должен быть и эмпиризм. Ведь если на основе опыта нельзя ничего предсказать, то нельзя и получить объяснение. Появление нового объяснения — процесс творческий по своей сути. Чтобы интерпретировать точки на небе как раскалённые добела сферы диаметром сотни тысяч и миллионы километров, сначала нужно додуматься до самой идеи таких сфер. После этого придётся объяснить, почему они кажутся маленькими и холодными, почему как будто следуют за нами по пятам и почему не падают вниз. Такие идеи не возникают сами по себе и не выводятся из чего бы то ни было механически. До них нужно додуматься, а затем критиковать их и проверять. Да, созерцание точек на небе определённым образом «отражается» в нашем сознании, но в него записываются не объяснения, а только сами точки. Да и природа — не книга: «читать» точки на небе можно пытаться всю жизнь, и не одну, и в итоге так и не понять, что же они собой представляют.
Как раз так всё и происходило. Тысячелетиями внимательнейшие из наблюдателей полагали, что звёзды — светильники, закреплённые на полой «небесной сфере» вращающейся вокруг расположенной в её центре Земли. (Или, как вариант, отверстия в этой сфере, через которые изливается на нас свет небесный.) Эта геоцентрическая — Земля находится в центре — теоретическая модель Вселенной, по-видимому, была выведена прямо из опыта и подтверждалась раз за разом: любой, кто смотрел на небо, мог «непосредственно наблюдать» небесную сферу и звёзды, сохраняющие своё относительное положение и висящие на небе в полном соответствии с теорией. Но на самом-то деле Солнечная система гелиоцентрическая — центром её является Солнце, а не Земля, причём Земля вовсе не стоит на месте, а совершает сложное движение. И хотя впервые ежесуточное обращение небесной сферы было замечено путём наблюдения за звёздами, это было свойством не звёзд, а Земли, которая вращалась вместе с находящимися на ней наблюдателями. Это классический пример обманчивости восприятия: нам кажется, что Земля у нас под ногами стоит на месте, хотя на самом деле она вращается. Что же касается небесной сферы, то, хоть она явственно видна при свете дня и называется небом, в действительности её не существует вообще.
Обманчивость восприятия всегда была проблемой для эмпиризма, а потому казалось, что и для науки. Эмпирики не находили ничего лучше, чем защищаться доводами о том, что сами по себе чувства не могут обманывать. В заблуждение нас вводят неправильные истолкования того, что мы видим и ощущаем. Это верно, но лишь потому, что сами по себе чувства ничего нам не говорят. Всё дело в том, как мы их трактуем, а наши интерпретации очень подвержены ошибкам. Но главный ключ к науке состоит в том, что объяснительные теории, которые включают в себя эти истолкования, можно усовершенствовать путём догадок, критики и проверки.
Цель эмпиризма, заключавшаяся в избавлении науки от авторитетов, так и не была достигнута. Да, он отказался от следования традиционным авторитетам, и это произвело благотворный эффект. Но, к сожалению, попутно были установлены два других ложных авторитета: чувственный опыт и вымышленный процесс «вывода» (например, индукции), который, как представлялось, используется для извлечения теорий из опыта.
Ложное представление о том, что без авторитета знание не будет истинным или надёжным, появилось ещё в античные времена и господствует до сих пор. И по сей день многие курсы по философии знания придерживаются того, что знание — это некая форма обоснованного истинного убеждения, где «обоснованное» значит объявленное верным (или хотя бы «вероятным») с отсылкой к какому-либо авторитетному источнику или пробному камню знания. Таким образом, исходный вопрос «откуда мы знаем, что…?» трансформируется в иной — «ссылаясь на какой авторитет, мы можем утверждать, что…?». В этой форме вопрос является химерой, на которую у философов ушло, наверное, больше времени и усилий, чем на любую другую идею. С ней поиск истины становится погоней за уверенностью (чувством) или одобрением (социальным статусом). Это заблуждение называется джастификационизмом[5].
Противоположная позиция, согласно которой авторитетных источников знания нет вообще, как и каких-либо надёжных средств обоснования истинности или вероятности идей, носит название фаллибилизм[6]. Для тех, кто верит в теорию знания как обоснованного истинного убеждения, такое признание является поводом для отчаяния или цинизма, ведь для них это означает, что знание недостижимо. Но для тех из нас, для кого сформировать то или иное знание — значит лучше понять, как устроен мир, какие процессы в нём происходят и почему, фаллибилизм — одно из средств, с помощью которых этого можно добиться. Фаллибилисты полагают, что даже самые разумные и наиболее фундаментальные их объяснения помимо истины содержат и заблуждения и поэтому нужно стараться изменить их к лучшему. Логика джастификационизма, напротив, в том, чтобы искать (и, как правило, верить, что они найдены) пути защиты идей от изменения. Более того, логика фаллибилизма в том, чтобы не только стремиться исправить заблуждения прошлого, но и надеяться в будущем найти и изменить ошибочные идеи, которые сегодня никто не подвергает сомнению и не оспаривает. Так что именно фаллибилизм, а не простое отрицание авторитетов, был необходим для начала безграничного роста знаний, то есть стоит у начала бесконечности.
В погоне за авторитетами эмпирики стали недооценивать и даже клеймить предположение — истинный источник всех наших теорий. Ведь если бы органы чувств были единственным источником знаний, то ошибка (или как минимум ошибка, которой можно избежать) могла бы возникнуть добавлением к тому, что говорит источник, изъятием из него или неправильным истолкованием. Поэтому эмпирики пришли к представлению о том, что вдобавок к отрицанию античных авторитетов и традиций учёные должны подавлять или игнорировать любые новые идеи, которые у них могу появиться, кроме тех, которые должным образом «выведены» из опыта. Как говорил в «Скандале в Богемии» сыщик Шерлок Холмс, придуманный Артуром Конан Дойлом, «теоретизировать, не имея данных, опасно»[7].
Такая позиция была принципиально ошибочной. Ведь мы не располагаем никакими данными, которые не были бы проинтерпретированы посредством теорий. Все наблюдения, в терминах Поппера, теоретически нагружены[8], а значит, могут быть ошибочными, как и все наши теории. Возьмём, например, нервные импульсы, поступающие в мозг от органов чувств. Они не дают прямого, неискажённого доступа к реальности, они даже не воспринимаются тем, что они есть на самом деле, а именно как своего рода паутина электрической активности. Как правило, мы не ощущаем, что они находятся там, где они находятся в действительности, — в мозгу. Мы располагаем их где-то в реальности. Мы не просто видим что-то синее, мы видим синее небо где-то там, высоко и далеко. Мы не просто чувствуем боль, у нас болит голова или живот. Эти интерпретации — «голова», «живот», «высоко» — мозг добавляет к событиям, которые на самом деле происходят в нём самом. И наши органы чувств, и все интерпретации, которыми мы осознанно или неосознанно снабжаем результат их работы, откровенно ненадёжны, и доказательства тому — теория о небесной сфере, а также любой оптический обман и фокус. Получается, что мы ничего не воспринимаем таким, каково оно есть на самом деле. Всё это теоретическая интерпретация — предположение, гипотеза.
Гораздо ближе Конан Дойл подошёл к правде в «Тайне Боскомской долины», где вложил в уста Холмса замечание о «косвенных доказательствах» — сведениях о событии, у которого не было свидетелей. Они «очень обманчивы… Они могут совершенно ясно указывать в одном направлении, но если вы способны разобраться в этих доказательствах, то можете обнаружить, что на самом деле они очень часто ведут нас не к истине, а в противоположную сторону… Ничто так не обманчиво, как слишком очевидные факты»[9]. То же верно и в случае с научными открытиями. И здесь опять возникает вопрос: откуда мы это знаем? Если все теории возникают локально, как предположения в мозгу человека, и проверить их можно только локально, на опыте, то как получается так, что они несут в себе такие обширные и точные знания о действительности, которой мы никогда не ощущали на себе?
Вопрос не в том, из каких авторитетных источников выводятся научные знания или на чём они основываются. Я имею в виду буквально, так это какими процессами более точные и детальные объяснения устройства мира в итоге физически представляются в нашем мозгу? Каким образом мы приходим к знанию о взаимодействии субатомных частиц при ядерных превращениях в недрах далёкой звезды, если даже тонкий луч её света, который попадает в наши приборы, был испущен светящимся газом на поверхности звезды, на миллион километров выше того места, где происходит ядерное превращение? Откуда мы знаем, какие условия имеют место в огненном шаре в первые секунды после Большого взрыва, который мгновенно уничтожил бы любое разумное существо или научный прибор? Как мы получаем представление о будущем, которое мы вообще никак не можем измерить? Как выходит так, что мы можем спрогнозировать с немалой степенью уверенности, что новая конструкция микрочипа окажется работоспособной, а новое лекарство будет лечить от конкретной болезни, хотя ни того, ни другого раньше не существовало?
На протяжении большей части своей истории человек не знал, как решать такие задачи. Люди не разрабатывали микрочипы, не создавали лекарства и даже не изобретали колесо. Тысячи поколений наших предков смотрели на ночное небо и гадали, что же представляют собой звёзды: из чего они состоят, почему светят, как влияют друг на друга и на нас — и эти вопросы были поставлены совершенно правильно. Но, располагая такими же, с анатомической точки зрения, глазами и мозгами, как и у современных астрономов, наши предки тем не менее ничего понять не смогли. Во многом схожая ситуация наблюдалась и в других областях знания. И дело было не в том, что люди недостаточно старались или плохо думали. Они наблюдали за миром. Они пытались понять его, но это редко к чему-то приводило. Иногда удавалось находить в тех или иных явлениях простые закономерности. Но попытки понять, что стоит за этими явлениями, практически всегда заканчивались неудачей.
Думаю, что тогда, как и сегодня, большинство людей задумывались о подобном лишь изредка, в перерывах между решением более насущных проблем. Но и эти их проблемы также были сопряжены с жаждой знания, причём не только чистого любопытства. Людям хотелось научиться сохранять запасы еды, выделить время на отдых, не рискуя остаться без пропитания, спастись от холода, жары или врагов, облегчить боль — они хотели жить лучше во всех отношениях. Но в масштабе времени, выделенного на долю отдельного человека, особого прогресса им достичь практически не удавалось. Они научились добывать огонь, шить одежды, делать инструменты из камня, получили бронзу и так далее, но подобные открытия случались так редко, что с точки зрения отдельного человека мир стоял на месте. Иногда люди (каким-то чудом) осознавали, что прогресс в практических делах зависит от прогресса в понимании сложных явлений на небе. Они даже строили предположения о такой связи, что выражалось, например, в мифах, которые казались им достаточно убедительными и управляли их жизнью, но при этом опять-таки не имели ничего общего с правдой. Короче говоря, люди хотели создать знания, чтобы добиться прогресса, но не знали, как это сделать.
Так было с доисторических времён, так продолжалось в период рассвета цивилизации, так шло до недавнего времени едва заметное медленное усложнение, со множеством неудач и потерь. Лишь несколько столетий назад появился новый мощный способ совершения открытий и поиска объяснений, который впоследствии был назван наукой. Его появление вошло в историю как научная революция, потому что практически сразу же знания начали создаваться с заметной скоростью, которая с тех пор только растёт.
Но что же изменилось? Почему науке, в отличие от всех предыдущих способов, удавалось разобраться, как устроен физический мир? Что такого особенного стали делать люди, чего не делали раньше? Этот вопрос возник с появлением в науке первых достижений, на него было дано много противоречивых ответов, и некоторые несли в себе долю истины. Но ни один из них, как мне кажется, не достиг самой сути. Чтобы пояснить свой ответ на этот вопрос, я сделаю небольшое отступление.
Научная революция была частью более масштабной интеллектуальной революции, Просвещения, благодаря которому прогресс проявился и в других областях, особенно в этике и политической философии, а также в общественных институтах. К сожалению, историки и философы используют термин «Просвещение» для обозначения множества разных тенденций, среди которых есть и такие, что прямо противоположны друг другу. Из дальнейшего повествования станет ясно, что имею в виду я. Речь идёт об одном из нескольких аспектов «начала бесконечности» и о том, чему посвящена эта книга. Но все концепции Просвещения сходятся в одном: это был бунт, и в частности бунт против авторитетов в отношении знания.
Отрицание авторитетов в отношении знания было не просто вопросом абстрактного анализа. Это было необходимое условие прогресса, потому что до эпохи Просвещения считалось, что все важные знания уже получены и хранятся в авторитетных источниках, таких как древние писания и традиционные представления. В некоторых из этих источников действительно содержались истинные знания, но они были сложены в виде догм наряду со многими ошибочными утверждениями. Так что все источники, из которых, как полагали, происходят знания, в действительности несли в себе мало информации и ошибались в отношении большей части объясняемых явлений. И поэтому для достижения прогресса нужно было научиться отрицать эти авторитеты. Вот почему в качестве девиза Королевского общества (одной из старейших академий наук, основанной в Лондоне в 1660 году) было выбрано изречение «Nullius in verba», что означает примерно следующее: «Никому не верить на слово».
Однако сам по себе бунт против авторитетов ничего не мог изменить. В истории те или иные авторитеты отрицались много раз, но из этого редко получалось что-то хорошее. Обычно на смену старым авторитетам просто приходили новые. Для устойчивого и быстрого развития знаний требовалась традиция критики. До эпохи Просвещения такая традиция была редкостью: как правило, весь смысл традиции сводится к тому, чтобы сохранять что-то неизменным.
Таким образом, Просвещение явило собой революцию в способах поиска знания, а именно это была попытка не полагаться на авторитеты. В этом контексте эмпиризм с его лозунгом опоры в поиске знания исключительно на чувства сыграл в истории весьма благотворную роль — хотя сам имел принципиальные изъяны и выступал в качестве авторитета в плане понимания механизма науки.
Одним из следствий традиции критики стало появление методологического правила, заключавшегося в том, что научная теория должна допускать проверку на опыте (хотя вначале оно не было явно выражено). Иначе говоря, теория должна делать предсказания, которые в случае её ошибочности могут быть опровергнуты результатами каких-либо возможных наблюдений. Таким образом, хотя научные теории и не выводятся из опыта, последний позволяет их проверить — путём наблюдений или эксперимента. Например, до открытия радиоактивности химики считали (и это подтверждалось бесчисленными экспериментами), что превращения элементов невозможны. Но Резерфорд и Содди выдвинули дерзкую гипотезу о том, что уран может самопроизвольно превращаться в другие элементы. Продемонстрировав образование элемента радия в запаянном сосуде с ураном, они опровергли господствующую теорию, и наука пошла вперёд. Им это удалось, потому что прежняя теория допускала проверку на опыте: в том, что в сосуде есть радий, можно было убедиться. Античное же представление о том, что всё состоит из комбинации четырёх первичных элементов — земли, воздуха, огня и воды, напротив, не допускало проверки, потому что ничего не говорило о том, как проверить наличие этих компонентов. Поэтому его и нельзя было опровергнуть экспериментом. А значит, нельзя было и усовершенствовать с помощью эксперимента, и этого не было сделано. В основе Просвещения лежала иная философия!
Физик Галилео Галилей был, наверное, первым, кто понял всю важность экспериментальных проверок (которые он называл cimenti, то есть «суд Божий») — в отличие от других форм эксперимента и наблюдения, которые проще спутать с «чтением Книги природы». Сегодня возможность экспериментальной проверки признаётся определяющей характеристикой научного метода. Поппер называл её «критерием демаркации» между наукой и ненаучным подходом.
Однако и возможность экспериментальной проверки не может служить решающим фактором в научной революции. Вопреки бытующему мнению, предсказания, допускающие проверку на опыте, были всегда. Любой традиционный способ изготовления ножа из кремня или разведения огня можно проверить опытным путём. Всякий, кто предсказывает, что в следующий вторник солнце выйдет на небо, имеет проверяемую теорию. Кстати, как и любой игрок, который чувствует, что сегодня ему обязательно повезёт. Так что же такого жизненно важного, способствующего прогрессу есть в науке, но нет в проверяемых теориях предсказателя и игрока?
Причина, по которой возможности экспериментальной проверки недостаточно, — в том, что предсказание не является и не может являться для науки целью. Возьмём, например, публику, пришедшую на выступление фокусника. С точки зрения логики задача, стоящая перед ней, во многом схожа с научной. И хотя в природе нет фокусника, который старался бы нарочно обмануть нас, и в том и в другом случае мы можем заблуждаться по одной и той же причине: то, что мы видим, не самоочевидно. Если бы фокус можно было объяснить с ходу, его бы просто не было. Если бы объяснения физических явлений были очевидны, эмпирический подход был бы законным и не возникло бы необходимости в науке в том виде, в котором она нам известна.
Но дело не в том, что нужно предсказать, каким будет фокус. Я могу, например, предсказать, что если фокусник делает вид, что прячет шары под стаканами, то эти стаканы потом окажутся пустыми; могу также предсказать, что, если он кого-то перепиливает пополам, этот кто-то появится затем на сцене целый и невредимый. Это всё предсказания, которые можно проверить на опыте. Я могу много раз посещать выступления фокусников и видеть, что мои предсказания каждый раз сбываются. Но всё это даже не даст мне подойти к самой проблеме того, как устроен фокус, и уж тем более решить её. Для этого требуется объяснение: некое суждение о реальности, которое объяснит то, что мы видим.
Кому-то фокусы просто нравятся, и желания понять, как так получается, не возникает. Сходным образом в XX веке большинство философов и многие учёные придерживались той точки зрения, что наука не способна совершить какие-либо открытия о реальном мире. Исходя из эмпиризма, они сделали неизбежный вывод (который привёл бы в ужас ранних эмпириков), что наука может лишь надёжно предсказывать исход наблюдений и что она никогда не должна стремиться описать ту действительность, которая эти события порождает. Это течение называется инструментализмом, и он в принципе отрицает существование того, что я называю «объяснением». Влияние инструментализма ощутимо до сих пор. В некоторых областях науки (например, в статистическом анализе) само слово «объяснение» стало означать «предсказание», и говорят, что математическая формула «объясняет» набор экспериментальных данных. Под «действительностью» понимаются просто данные наблюдений, которые формула должна аппроксимировать. Таким образом, для утверждений о самой реальности не остаётся места — можно разве что признать её «полезной фикцией».
Инструментализм — один из многих способов отрицания реализма, разумного и правильного учения о том, что физический мир существует на самом деле и доступен рациональному изучению. Логическим следствием из такого отрицания является то, что все утверждения о реальности эквивалентны мифам и ни одно из них не лучше другого в каком бы то ни было объективном смысле. Это — релятивизм, учение о том, что утверждения в какой-то определённой области не могут быть объективно истинными или ложными: в лучшем случае о них можно так судить относительно некоего культурного или другого произвольного стандарта.
Инструментализм же, даже если отвлечься от чудовищной с точки зрения философии попытки свести науку к набору утверждений о человеческом опыте, не имеет смысла в своих же собственных терминах. Ведь чисто предсказательной теории, не использующей объяснений, не существует. Даже самое простое предсказание невозможно без опоры на достаточно сложную объяснительную базу. Например, предсказания, касавшиеся фокусов, применимы именно к фокусам. Это поясняющая информация, из которой я узнаю, кроме всего прочего, что не стоит «экстраполировать» эти предсказания на ситуацию другого типа, даже если применительно к фокусам они и оправдываются. Так я понимаю, что не стоит предполагать, что пила безопасна для человека и в общем случае, и продолжаю предсказывать, что, если бы шарик под стакан поместил я, он там действительно оказался бы и никуда бы не исчез.
Понятие фокуса и различие между ним и другими ситуациями знакомы и не вызывают затруднений — и легко забывается, что оно опирается на реальные объяснительные теории обо всём, что только может быть: как устроены наши органы чувств, как ведут себя твёрдые вещества и свет, а также о тонких культурных деталях. Знания, которые и знакомы, и непротиворечивы одновременно, — фоновые знания. Предсказательная теория, объяснительное наполнение которой состоит только из фоновых знаний, — эмпирическое правило. Обычно мы принимаем фоновые знания как сами собой разумеющиеся, поэтому может показаться, что эмпирические правила являются предсказаниями, не опирающимися на объяснения, но это только видимость.
Объяснить, почему срабатывает эмпирическое правило, можно всегда, хотя мы можем и не знать этого объяснения. Отрицать, что та или иная природная закономерность имеет объяснение, по сути то же самое, что верить в сверхъестественное и говорить: «Это не фокус, это настоящее волшебство». Всегда находится объяснение и тому, почему эмпирическое правило не срабатывает, ведь такие правила всегда ограниченны: они верны только в узком диапазоне знакомых обстоятельств. Так что если бы к фокусу со стаканами и шариками добавилась неизвестная до этого особенность, то моё эмпирическое правило вполне могло бы привести к ложному предсказанию. Например, исходя из этого правила, я не смог бы сказать, получится ли фокус, если заменить шарики зажжёнными свечами. Но на этот вопрос я смог бы ответить, будь у меня объяснение фокуса.
Объяснения важны прежде всего и для нахождения эмпирического правила: я бы не смог сделать предсказаний о фокусе, если бы не обладал большим объёмом поясняющей информации — ещё до конкретных объяснений фокуса. Например, только в свете объяснений я смог бы вычленить из своего опыта наблюдения за фокусом понятия стаканов и шариков, а, скажем, не красного и синего, даже если бы в каждом таком фокусе, который я видел, стаканы были красными, а шарики синими.
Суть экспериментальной проверки в том, что для рассматриваемого вопроса известно как минимум две жизнеспособные на вид теории, дающие противоречащие друг другу предсказания, которые можно разграничить путём эксперимента. Подобно противоречащим друг другу предсказаниям в случае с экспериментом и наблюдением, в более широком смысле противоречащие друг другу идеи имеют место в случае с рациональным мышлением и исследованием. Например, если нам просто любопытно узнать о чём-то, это значит, что известные нам представления не позволяют охватить или объяснить явление должным образом. Таким образом, у нас есть некий критерий, которому не удовлетворяет лучшее из существующих объяснений. Критерий и существующее объяснение — это противоречащие друг другу идеи. Ситуацию, в которой мы сталкиваемся с противоречащими друг другу идеями, я буду называть проблемой.
Пример с фокусом показывает, как возникают проблемы из-за наблюдений в науке, которая полагается, как всегда, на существующие объяснительные теории. Ведь фокус становится фокусом только в том случае, когда мы, видя его, думаем: произошло что-то, что произойти не могло. Обе части этого утверждения основываются на достаточно богатом наборе привлекаемых объяснительных теорий к опыту. Поэтому порой фокус, который завораживает взрослого, оказывается совершенно неинтересен ребёнку: он ещё не приобрёл те ожидания, которые обыгрываются в фокусе! И даже те зрители, которым безразлично, как же это получается у фокусника, понимают, что это фокус только благодаря тем объяснительным теориям, которые они захватили с собой на представление. Решить проблему — значит создать объяснение, которое не содержит указанного противоречия.
Аналогично, никто не стал бы пытаться понять, что такое звёзды, если бы не было ожиданий — то есть объяснений — того, что незакреплённые объекты падают, что свет появляется при горении топлива, которое может иссякнуть, и так далее. Эти объяснения противоречили интерпретациям (которые тоже являются объяснениями) того, что люди видели каждую ночь: звёзды светят постоянно и не падают. В данном случае ошибочны были как раз интерпретации: в действительности звёзды находятся в свободном падении и чтобы они светили, что-то должно гореть. Но чтобы выяснить, как такое возможно, понадобилось много догадок, критики и проверок.
Проблема может возникнуть и чисто гипотетически, без наблюдений. Например, когда теория предсказывает что-то, чего никто не ожидает. Ожидания — это те же теории. Аналогично, проблема возникает, когда оказывается, что устройство чего бы то ни было (согласно нашим лучшим объяснениям) не соответствует тому, каким оно должно быть (согласно нашему текущему критерию того, как это должно быть). Таким образом, сюда входит полный диапазон обычных значений слова «проблема», от весьма неприятных, например, когда экипаж «Аполлона-13» передал «Хьюстон, у нас проблема»[10], и до приятных, таких, о которых писал Поппер:
«Я полагаю, что путь в науку, да и в философию, только один: встретить проблему, увидеть, как она красива, и влюбиться в неё; обвенчаться с нею и жить счастливо, пока смерть не разлучит вас — если только вам не суждено будет увлечься другой, более красивой проблемой или отыскать решение первой. Но и такое решение, будучи найденным, может породить, к вашему же удовольствию, целое семейство очаровательных, хотя, вполне вероятно, и непростых, юных проблем…»
«Реализм и цель науки» (Realism and the Aim of Science, 1983)Экспериментальная проверка включает в себя, помимо проверяемых объяснений, множество уже устоявшихся — к примеру, теории, описывающие работу измерительных инструментов. С точки зрения человека, который считал некую теорию верной, её опровержение имеет ту же логику, что и фокус, с той лишь разницей, что фокусник обычно не может обращаться к неизвестным законам природы при воплощении фокуса.
Поскольку теории могут противоречить друг другу — притом что в реальности противоречий нет, — каждая проблема сигнализирует о том, что в наших знаниях есть пробелы или что они недостаточно точно описывают то или иное явление. Мы можем заблуждаться насчёт наблюдаемой действительности или нашего восприятия этой действительности или насчёт того и другого сразу. Например, фокус представляет для нас проблему только потому, что мы заблуждаемся относительно того, что «должно» произойти, а это значит, что то знание, с помощью которого мы интерпретировали видимое, несовершенно. Человеку с профессиональными знаниями в области фокусов происходящее может быть вполне очевидно, даже если он вообще не видел фокуса, а слышал лишь неверное описание от одураченного им человека. Это ещё одно общее свойство научного объяснения: при наличии заблуждения те наблюдения, что противоречат ожиданиям, могут подтолкнуть человека к дальнейшим догадкам, а могут и не подтолкнуть, но сколько бы ни было наблюдений, заблуждение нельзя будет исправить, пока не появится более удачная идея; напротив, при наличии правильной идеи явление можно объяснить, даже если в данных присутствуют ошибки. Но опять же с толку может сбить и сам термин «данные» («то, что дано»). Научное открытие часто сопровождается внесением поправок в «данные» или отбрасыванием ошибочных данных, и мы даже не можем получить ключевые «данные» до тех пор, пока теория не скажет нам, что именно искать, как и почему.
Новый фокус всегда так или иначе связан с уже известными. Как и новая научная теория, он создаётся путём творческого подхода к варьированию, перестановке и комбинированию идей из старых фокусов. Здесь нужно задействовать существующие знания о том, как устроены объекты и как ведёт себя публика, а также о том, как выполняются известные фокусы. Но тогда откуда же взялись самые первые фокусы? Наверняка это были видоизменённые идеи, которые изначально фокусами не являлись, — например, представление о том, что предмет на самом деле можно спрятать. А откуда взялись самые первые научные идеи? До появления науки существовали эмпирические правила, объяснительные предположения и мифы. Иначе говоря, было огромное количество исходного материала для критики, догадок и эксперимента. Но до этого были наши врождённые допущения и ожидания: мы рождаемся с идеями и со способностью добиваться прогресса, изменяя их. Наконец, были и модели культурного поведения, о котором мы ещё поговорим в главе 15.
Но даже проверяемые экспериментально объяснительные теории не могут быть ключевым ингредиентом, позволяющим сказать, что является прогрессом, а что нет. Ведь и они были всегда. Возьмём, например, древнегреческий миф, объясняющий ежегодное наступление зимы. Давным-давно Аид, бог подземного царства, похитил Персефону, богиню весны, и обратил её в наложницу. Тогда мать Персефоны Деметра, богиня земледелия и плодородия, договорилась с ним, что он отпустит Персефону, если дочь выйдет за него замуж и съест волшебное семечко, которое заставит её посещать мужа раз в год. И каждый раз, когда наступало время выполнять это обязательство, Деметра впадала в уныние и повелевала, чтобы мир становился холодным и унылым и ничего не могло в нём расти.
Хотя в этом мифе нет ни слова правды, он всё же содержит некое объяснение смены времён года: это утверждение о действительности, которое должно вызывать привычное состояние зимы. И его очень даже можно проверить на опыте: если зима наступает из-за того, что Деметра периодически грустит, то зима должна быть во всех частях света одновременно. Поэтому, если бы древние греки знали, что в то самое время, когда, по их представлениям, Деметре грустнее всего, в Австралии тепло и всё цветёт и пахнет, они могли бы заключить, что с их объяснением смены времён года что-то не так.
Но даже когда с течением веков мифы менялись или вытеснялись другими мифами, новые были так же далеки от правды, как и старые. Почему? Возьмём ту роль, которую играют в объяснении отдельные элементы мифа о Персефоне. Боги, например, обладают силой влияния на крупномасштабные явления (Деметра управляет погодой, а Аид и волшебные семена управляют Персефоной и через неё Деметрой). Но почему именно эти боги, а не другие? В скандинавской мифологии смена времён года определяется удачей Фрейра, бога весны, в его вечной борьбе с силами холода и тьмы. Когда Фрейр побеждает, на земле тепло, а когда проигрывает, холодно.
Этот миф объясняет смену времён года не хуже, чем миф о Персефоне. Немного лучше он объясняет случайный характер изменения погоды, но хуже — регулярность смены времён года, ведь войны с такой регулярностью не случаются (за исключением случаев, когда этому виной сами времена года). В мифе о Персефоне объяснение этой регулярности ложится на брачный контракт и волшебное семечко. Но почему именно семечко, а не что-то ещё волшебное? Почему это условие посещения супруга, а не какая-то другая причина, по которой какое-либо действие должно повторяться ежегодно? Вот как можно было бы, например, объяснить то же самое, не вступая в противоречие с фактами: Аид не отпускал Персефону, она сбежала сама. Каждую весну, когда Персефона сильнее всего, она мстит Аиду, вторгаясь в пещеры подземного мира с весенней прохладой. Вытесняемый тёплый воздух выходит в человеческий мир, и наступает лето. Деметра, чтобы отметить отмщение дочери и годовщину её спасения, приказывает растениям расти и украшать Землю. Этот миф объясняет те же наблюдения, что и оригинальная версия, и его можно проверить на опыте (и опровергнуть) с помощью тех же наблюдений. Но то, что он утверждает о действительности, заметно отличается от того, что утверждает исходный миф, и во многом ему противоположно.
Каждую деталь в этой истории, кроме самого предсказания, что зима случается раз в год, можно легко заменить. Получается, что, хотя миф появился как объяснение смены времён года, он для этого приспособлен лишь поверхностно. Когда его автор размышлял над тем, что же может заставить богиню производить определённое действие раз в год, он явно не кричал «Эврика! Это же брачный контракт, заключённый с помощью волшебного семечка». Он определился с этим и со всем другим по своей авторской воле, исходя из культурных и художественных мотивов, а не из каких-то признаков зимы. Возможно, он также пытался метафорически объяснить аспекты человеческой природы, но в данном изложении меня интересует лишь то, насколько этот миф способен объяснить смену времён года, и в этом отношении даже сам автор не смог бы отрицать, что все его детали вполне можно было заменить бесчисленным множеством других.
В мифах о Персефоне и Фрейре приводятся несовместимые по своей сути утверждения о том, что в действительности обуславливает смену времён года. Думаю, однако, что никто и никогда не принимал какой-либо из них, сравнивая их достоинства, потому что непонятно, как их различать. Если проигнорировать все те части обоих мифов, роль которых можно легко заменить, и там и там у нас останется одно и то же ключевое объяснение: это всё боги. И хотя Фрейр и Персефона — совершенно разные боги весны, а его битвы — совсем не то, что её ежегодное посещение супруга, ни один из этих различающихся атрибутов не имеет никакой функции в объяснении смены времён года. А значит, ни один из них не даёт никакого основания в пользу выбора этого объяснения, а не иного.
Эти мифы так просто варьировать оттого, что их детали едва ли связаны с деталями явления. В вопросе о том, почему наступает зима, они не играют никакой роли, будь это требование заключить брачный контракт или съесть волшебное семечко; не решает его и выбор богов — Персефона, Аид и Деметра или Фрейр. Когда широкий набор модифицированных теорий одинаково хорошо объясняет то или иное явление, нет причины предпочитать одну из них другой, и такое предпочтение не может быть рациональным.
То, что эти мифологические объяснения смены времён года допускают такие значительные изменения, и есть главный их изъян. Поэтому сочинение мифов, как правило, не является эффективным способом понять устройство мира. И это верно вне зависимости от того, можно проверить миф на опыте или нет, потому что если можно с лёгкостью варьировать объяснение, не меняя само предсказание, то при необходимости можно с той же лёгкостью сделать другое изменение и получить иное предсказание. Например, если бы древние греки узнали, что времена года в Северном и Южном полушарии не совпадают, им было бы легко подобрать множество небольших вариаций мифа, которые соответствовали бы этому наблюдению. Например, так: когда Деметра грустит, она прогоняет тепло от себя, и оно вынуждено уйти в южное полушарие. Но точно так же миф о Персефоне можно видоизменить, чтобы объяснить времена года, когда можно увидеть зелёную радугу или смену времён года раз в неделю, или случайным образом, или отсутствие таковой. То же справедливо и в случае с суеверным игроком или предсказателем конца света: когда их теория не подтверждается на опыте, они и правда переходят к новой; но так как они опираются на неразумные объяснения, они с лёгкостью принимают новый опыт, не изменяя сути объяснений. Не имея хорошей объяснительной теории, они могут заново интерпретировать знамения, выбрать новую дату и предсказать по сути то же самое. В таких случаях проверка теории и отказ от неё, если она не подтверждается, не приводит к прогрессу в понимании устройства мира. Объяснение, которое легко применить в заданной области ко всему, что угодно, на самом деле ничего не объясняет.
В общем, когда теории можно легко изменить в описанном мною смысле, экспериментальная проверка практически бесполезна и не исправит их ошибки. Такие теории я называю плохими или неразумными объяснениями. То, что они опровергаются экспериментом и заменяются другими неразумными объяснениями, ни на йоту не приближает их обладателей к правде.
Из-за того, что объяснения играют в науке такую центральную роль, и потому, что возможность экспериментальной проверки в случае неразумных объяснений оказывается мало полезной, лично я предпочитаю называть мифы, суеверия и тому подобные теории ненаучными, даже если их предсказания можно проверить на опыте. Но не важно, какую именно терминологию вы используете, если только она не заставляет заключить, что в мифе о Персефоне, в апокалипсической теории предсказателя или в иллюзиях игрока есть что-то стоящее лишь потому, что их можно проверить на практике. Равным образом человек не сможет добиться прогресса одним желанием отбросить опровергнутую теорию: помимо этого, нужно искать более удачное объяснение соответствующего явления. Таков научный образ мыслей.
Как говорил физик Ричард Фейнман, «наука — это приобретённые нами знания о том, как избежать самообмана». Принимая легко варьируемые объяснения, игрок и предсказатель с гарантией оказываются в положении, когда они смогут и дальше обманываться, несмотря ни на что. С той же тщательностью, с которой они соглашались бы с непроверяемыми теориями, они изолируют себя от свидетельств их заблуждений о том, что на самом деле происходит в физическом мире.
Поиск разумных объяснений, как я полагаю, является основным регламентирующим принципом не только науки, но и Просвещения вообще. Это свойство, которое отличает данные подходы к знанию от всех других, и оно предполагает все те иные условия достижения научного прогресса, о которых я упомянул выше: оно просто-напросто предполагает, что одного лишь предсказания недостаточно. Несколько менее очевидным образом это ведёт к отрицанию авторитетов, потому что, если мы принимаем теорию со ссылкой на авторитет, это значит, что мы так же приняли бы и массу других теорий с такой же ссылкой. Следовательно, предполагается и необходимость традиции критики. Далее, выдвигается методологическое правило — критерий реальности — а именно: что мы должны делать вывод о реальности определённой вещи, тогда и только тогда, когда она вписывается в самое разумное объяснение того или иного явления.
Хотя родоначальники Просвещения и научной революции не использовали такую терминологию, поиск разумных объяснений был (и остаётся) духом эпохи. Именно так они начали думать, именно это они и начали делать, и впервые — систематически. Именно благодаря этому темпы прогресса во всём немедленно ускорились.
Задолго до Просвещения тоже были люди, которые искали разумные объяснения. И всё, о чём я здесь говорю, предполагает, что всяким прогрессом как тогда, так и сейчас мы обязаны таким людям. Но практически во все века они слабо соприкасались с традицией критики, в которой их идеи могли бы быть продолжены другими, и поэтому от них мало что осталось. Нам известны единичные традиции поиска разумных объяснений в узко определённых областях, таких как геометрия, и даже недолговечные традиции критики («мини-Просвещение»), которые были трагически уничтожены, о чём речь пойдёт в главе 9. Но резкое изменение ценностей и образа мысли целого сообщества учёных, что привело к устойчивому и ускоряющемуся процессу создания знаний, произошло только однажды, с приходом Просвещения и его научной революции. Вокруг ценностей, вышедших из поиска разумных объяснений, выросла целая политическая, нравственная, экономическая и интеллектуальная культура — то, что теперь, грубо говоря, называют «Западом» и что включает толерантность к несовпадению взглядов, открытость изменениям, недоверие к догматизму и авторитетам, стремление к прогрессу как у отдельных людей, так и в культуре в целом. И прогресс, достигнутый этой многогранной культурой, в свою очередь, продвигает эти ценности, хотя, как я объясню в главе 15, они нисколько не близки к полной реализации.
Теперь рассмотрим верное объяснение смены времён года. Дело в том, что ось вращения Земли находится под углом к плоскости орбиты, по которой она обращается вокруг Солнца. А это значит, что полгода северное полушарие повёрнуто к Солнцу, а южное — от Солнца и ещё полгода — наоборот. Когда лучи Солнца в одном полушарии падают вертикально[11] (таким образом, на единицу площади поверхности приходится больше тепла), в другом они падают наклонно (и тепла туда попадает меньше).
Это — разумное объяснение: его трудно варьировать, потому что все его детали играют функциональную роль. Например, мы знаем — и можем проверить независимо от восприятия смены времён года, что поверхности, находящиеся под углом к тепловому излучению, нагреваются меньше, чем если бы оно попадало на них под прямым углом, и что у вращающейся в пространстве сферы направление оси вращения постоянно. И мы можем объяснить это с помощью геометрии, теории теплоты и механики. Кроме того, тот же наклон появляется при объяснении положения Солнца относительно горизонта в разное время года. Сравните: в мифе о Персефоне холод объясняется грустью Деметры, но ведь люди, когда грустят, вообще говоря, не охлаждают пространство вокруг себя, и мы можем узнать о том, грустна Деметра или нет и охлаждает ли она мир, только по факту наступления зимы. В истории с наклоном земной оси нельзя заменить Солнце Луной, потому что положение Луны на небе не повторяется раз в год и потому что лучи Солнца, нагревающие Землю, являются неотъемлемой частью объяснения. Далее, было бы непросто включить сюда рассказ о том, что обо всём этом думает бог Солнца, ведь если верное объяснение прихода зимы опирается на геометрию вращения Земли вокруг Солнца, то при чём здесь то, что кто-то чувствует по этому поводу, а если в объяснении есть изъян, то никакие рассказы о чьих-то там чувствах его не исправят.
Теория наклона оси также предсказывает, что времена года в двух полушариях находятся в противофазе. Если бы оказалось, что они сменяют друг друга синхронно, теория была бы опровергнута — так же как в случае с мифами о Персефоне и Фрейре, которые опровергнуты противоположным наблюдением. Но разница в том, что, если бы теорию наклона оси и опровергли указанным способом, её защитникам было бы некуда пойти. Никакое простое изменение теории не позволит объяснить наклоном оси одинаковость времён года на всей планете, так что потребовались бы кардинально новые идеи. Вот почему разумные объяснения существенны для науки: только когда теория представляет собой разумное объяснение, то есть её трудно варьировать, возможность её экспериментальной проверки приобретает важность. Неразумные объяснения бесполезны независимо от того, можно их проверить на опыте или нет.
Говоря о различии между мифом и наукой, многие слишком уж упирают на возможность проверки на опыте — как будто самой большой ошибкой древних греков было то, что они не выслали экспедицию в Южное полушарие, чтобы наблюдать там смену времён года. На самом деле им бы никогда не пришло в голову, что такая экспедиция могла бы доказать смену времён года, если бы они уже не догадались, что времена года в двух полушариях находятся в противофазе, и если бы эту догадку было трудно варьировать, а такое было бы возможно, только если бы она являлась частью разумного объяснения. Если бы их догадку было просто изменить, они могли бы сэкономить на путешествии, остаться дома и тестировать легко проверяемую теорию о том, что, если петь йодли, зима не наступит.
Пока у них не было более удачного объяснения, чем миф о Персефоне, то и потребности в проверке возникнуть не могло. Если бы они искали разумных объяснений, они бы сразу же попытались усовершенствовать миф, не проверяя его; как раз так мы и поступаем сегодня. Мы проверяем не каждую поддающуюся проверке теорию, но только некоторые из них, которые считаем разумными объяснениями. Наука была бы невозможна, если бы не тот факт, что подавляющее большинство ложных теорий можно отмести без проведения экспериментов, просто потому, что это неразумные объяснения.
Разумные объяснения часто бывают удивительно просты и изящны — об этом речь пойдёт в главе 14. Обычные признаки неразумного объяснения — излишние детали или произвольность, причём иногда можно получить разумное объяснение, удалив всё это. Так родилось заблуждение, известное как «Бритва Оккама» (названная в честь философа XIV века Уильяма Оккама, но уходящая корнями в античность), заключающееся в том, что всегда нужно искать «самое простое объяснение». Одна из его формулировок звучит так: «Не следует множить сущее без необходимости». Однако существует множество очень простых объяснений, которые тем не менее легко можно варьировать (например: «Это всё Деметра!»). И хотя сделанные «без необходимости» предположения делают теорию плохой по определению, было и есть много ошибочных идей относительно того, что теории «необходимо». Так, согласно инструментализму, как и многим другим плохим направлениям философии науки, не нужно объяснение как таковое — об этом я расскажу в главе 12.
Когда до сих пор разумное объяснение опровергается новыми наблюдениями, оно перестаёт быть хорошим, потому что теперь в проблему включаются и эти наблюдения. Таким образом, стандартная научная методология отбрасывания теорий, опровергнутых экспериментом, вытекает из требования, чтобы объяснения были разумными. Наилучшими объяснениями считаются те, которые больше всего ограничены существующими знаниями, включая другие разумные объяснения, а также другие знания о явлении, которое нужно объяснить. Вот почему допускающие проверку объяснения, прошедшие строгие тесты, становятся исключительно разумными, что в свою очередь показывает, почему принцип проверяемости способствует развитию научного знания.
Догадки — это результат работы воображения. Но воображение гораздо легче выдаёт фантазии, чем правду. Как я уже предположил, практически все попытки человека объяснить тот или иной опыт в терминах более широкой действительности на самом деле оказывались фантазиями в форме мифов, догм и заблуждений здравого смысла, а для выявления таких ошибок правила возможности экспериментальной проверки недостаточно. Но стремление найти разумные объяснения делает своё дело: изобрести ложное утверждение просто, но его легко и варьировать; отыскать разумное объяснение трудно, но чем это труднее, тем труднее варьировать найденное. Идеал, к которому стремится объяснительная наука, хорошо описывается словами Уилера, приведёнными в качестве эпиграфа к этой главе: «За всем этим, несомненно, стоит такая простая и красивая идея, что когда — лет через десять, сто или тысячу — мы додумаемся до неё, то непременно спросим: „А разве могло быть иначе?“» [курсив мой]. Теперь посмотрим, как концепция науки, основанная на объяснениях, отвечает на вопрос, заданный мною выше: откуда мы столько знаем о незнакомых нам аспектах действительности?
Поставьте себя на место древнего астронома, размышляющего о том, как наклон земной оси объясняет смену времён года. Ради простоты предположим, что вы уже приняли гелиоцентрическую теорию. К примеру, вы — Аристарх Самосский, который в III веке до нашей эры привёл первые известные доводы в её пользу.
Хотя вам известно, что Земля круглая, у вас нет никаких знаний о местах к югу от Эфиопии или к северу от Шетландских островов. Вы не знаете о существовании Атлантического и Тихого океана; для вас мир состоит из Европы, Северной Африки и частей Азии, а также соответствующих прибрежных вод. Тем не менее из теории смены времён года вследствие наклона земной оси вы можете предсказать погоду в местах, которые лежат за пределами известного вам мира и о которых вы никогда ничего не слышали. Некоторые из таких предсказаний носят бытовой характер и их можно спутать с индуктивными: вы предсказываете, что идя на восток или на запад, как бы далеко вы ни ушли, вы увидите то же состояние природы примерно в то же время года (хотя время рассвета и заката будет медленно изменяться с долготой). Но вам придётся сделать и некоторые алогичные предположения: так, немного севернее Шетландских островов вы должны попасть в замёрзшую область, где день и ночь длятся по полгода; поехав на юг от Эфиопии, сначала вы попадёте туда, где различия времён года вообще нет, а потом, ещё южнее, вы доберётесь до места, где времена года вновь есть, но сменяют они друг друга в противофазе со всем известным вам миром.
Вы никогда не уезжали дальше, чем на несколько сот километров от своего дома в Средиземноморье. И никогда не видели, чтобы времена года выглядели как-то иначе. Вы никогда не читали и никогда не слышали о том, что времена года могут сменять друг друга в противофазе с тем, с чем сталкиваетесь вы. И тем не менее вы об этом знаете!
Может, лучше было бы не знать? Вероятно, такие предсказания вам не понравятся. Возможно, друзья и коллеги сочтут их смешными. Возможно, вы попытаетесь изменить объяснение так, чтобы этих предсказаний не было и чтобы не нарушить согласия с экспериментом и с другими идеями, для которых у вас нет других разумных вариантов. Но у вас ничего не выйдет. Вот в чём польза разумного объяснения: оно усложняет самообман.
Например, вам может прийти в голову видоизменить теорию так: «В известном нам мире времена года сменяют друг друга в моменты времени, предсказанные теорией, исходящей из наклона земной оси; в других частях Земли они тоже сменяют друг друга в эти моменты времени». Эта теория корректно предсказывает все известные вам факты и допускает проверку на опыте, как и ваша исходная теория. Но теперь, чтобы опровергнуть прогнозы теории наклона земной оси об удалённых местах, пришлось бы отвергнуть то, что она говорит о действительности вообще, везде. Видоизменённая теория больше не представляет собой объяснение смены времён года, она становится просто (воображаемым) эмпирическим правилом. Получается, что, отрицая тот факт, что исходное объяснение описывает верную причину смены времён года в тех местах, о которых вы ничего не знаете, вы вынуждены будете отрицать, что оно описывает верную причину этого явления и на вашем родном острове.
Предположим в рамках наших рассуждений, что вы сами придумали теорию наклона земной оси. Это ваша догадка, плод вашей мысли. Но так как это разумное объяснение — его сложно варьировать, то видоизменять его не в вашей власти. У него есть самостоятельное значение и самостоятельная область применимости. Вы не можете ограничивать её предсказания одним выбранным вами регионом. Нравится вам это или нет, но теория делает предсказания о местах как известных вам, так и нет, предсказания, о которых вы думали и о которых не догадывались. По сезонному принципу должны нагреваться и охлаждаться планеты с наклонной осью, обращающиеся по похожим орбитам в системах других солнц, планеты в наиболее далёких галактиках и даже те планеты, которые мы никогда не увидим, потому что они разрушились много эпох назад, и планеты, которые ещё не образовались! Теория выходит, так сказать, из своих конечных истоков в нашем сознании, на которое влияли лишь обрывки фрагментарных свидетельств из маленькой части одного из полушарий нашей планеты, в бесконечность. Это стремление объяснений к пределам представляет собой ещё одно значение «начала бесконечности». Это способность некоторых из них решать задачи помимо тех, для решения которых они были созданы.
Примером служит теория наклона земной оси: изначально она была предложена для объяснения изменений высоты Солнца в течение года. В сочетании с небольшими знаниями о теплообмене и о свойствах вращающихся тел она пригодилась для объяснения смены времён года. И — без дальнейших видоизменений — она также позволила объяснить, почему времена года на двух полушариях сменяются в противофазе, почему они не ощущаются в тропических областях и почему в полярных зонах Солнце светит летом в полночь — три явления, о которых создатели теории вполне могли и не знать.
Область действия нашего объяснения — не «принцип индукции»; не что-то, с помощью чего автор объяснения может вывести или подтвердить его. Это вовсе не часть творческого процесса. Об этих пределах мы узнаём только, когда объяснение уже есть, причём зачастую много позже. «Экстраполяция», «индукция» или «вывод» теории любым другим умозрительным способом тут ни при чём. Всё как раз наоборот: причина, по которой объяснение смены времён года выходит далеко за рамки того, с чем сталкивались его авторы, как раз в том, что его не нужно экстраполировать. По своей объяснительной природе, когда оно только пришло в голову его авторам, оно уже применимо в другом полушарии нашей планеты, и во всей Солнечной системе, и в системах других солнц и в другие времена.
Таким образом, область действия объяснения не является ни дополнительным, ни отделимым допущением. Она определяется содержанием самого объяснения. Чем лучше объяснение, тем жёстче задана его область применимости, потому что чем труднее варьировать объяснение, тем труднее, в частности, построить вариант с другой сферой досягаемости, меньшей или большей, который не перестанет быть объяснением. Мы ожидаем, что закон гравитации будет одним и тем же на Марсе и на Земле, потому что известно лишь одно жизнеспособное объяснение гравитации — общая теория относительности Эйнштейна — и это универсальная теория. Но мы не ждём, что карта Марса будет напоминать карту Земли, потому что наши теории о том, как выглядит Земля, будучи отличными объяснениями, не распространяются на вид любого другого астрономического объекта. О том, какие из аспектов (обычно их несколько) одной ситуации можно «экстраполировать» на другие, мы всегда узнаём из объяснительных теорий.
Имеет смысл поговорить также об области применимости и пределах необъяснительных форм знания — эмпирических правил, а также тех знаний, которые «прошиты» в генах и используются в ходе биологических адаптаций. Итак, как я уже говорил, моё эмпирическое правило, касающееся фокусов со стаканами и шариками, можно распространить на определённый класс фокусов, но я бы не узнал, что представляет собой этот класс, не имея объяснения того, почему правило действует.
В старых способах мышления, которые не предполагали поиска разумных объяснений, не было места для такого процесса, как наука, для исправления ошибок и заблуждений. Большинство людей не замечали никаких улучшений, потому что они происходили очень редко. Идеи были неизменны на протяжении долгого времени. Плохо объясняя явления, даже лучшие из них, как правило, имели небольшую сферу действия и поэтому за пределами традиционной области их применения, а зачастую и внутри неё становились хрупкими и ненадёжными. Когда же идеи всё-таки менялись, то редко к лучшему, а когда они менялись к лучшему, их сфера применимости редко увеличивалась. Появление науки и более широкого явления, которое я называю Просвещением, стало началом конца таких статичных, обусловленных узостью взглядов систем идей. Было положено начало текущей эры в человеческой истории, уникальной своим устойчивым и быстрым процессом создания знаний с всё возрастающей сферой применимости. Многих интересует: сколько всё это продлится? Предполагается ли какой-то предел: Или это начало бесконечности: другими словами, обладают ли эти методы безграничным потенциалом создания новых знаний? Возможно, от лица начинания, отбросившего все античные мифы, приписывающие людям особую значимость в ходе вещей, было бы странно делать такие значительные утверждения (даже если только потенциально). Ведь если сила интеллектуальных и творческих способностей человека, которые стали двигателями Просвещения, действительно безгранична, то разве человек не обладает как раз такой значимостью?
Но ведь, как я отметил в начале главы, золото могут создавать только звёзды и разумные существа. Если где-то во Вселенной вы найдёте золотой самородок, вы можете быть уверены, что в его истории свой след оставила либо сверхновая звезда, либо разумное существо, обладавшее способностью объяснять. А если где-либо во Вселенной вам встретится какое-либо объяснение, вы будете знать, что здесь не обошлось без разумного существа. Одной сверхновой звезды будет недостаточно.
Что из этого следует? Золото важно для нас, но во вселенском масштабе его роль незначительна. И объяснения важны для нас: они нужны нам для выживания. Но что такого значительного, во вселенском масштабе, есть в объяснении, в этом малозаметном физическом процессе, происходящем у нас в голове? Об этом речь пойдёт в главе 3, но сначала мы немного поговорим о видимости и реальности.
Терминология
Объяснение — утверждение об объектах и явлениях, их действиях, причинах и способах совершения этих действий.
Сфера применимости — способность некоторых объяснений решать проблемы, выходящие за рамки тех, для решения которых они предназначались.
Творческие способности — способности придумывать новые объяснения.
Эмпиризм — заблуждение о том, что мы «выводим» все знания из чувственного опыта.
Теоретически нагруженный — нет такой вещи, как «сырой» опыт. Весь наш опыт проходит через уровни осознанной и неосознанной интерпретации.
Индуктивизм — заблуждение о том, что научные теории получаются путём обобщения или экстраполирования повторяющегося опыта и что чем чаще теория подтверждается наблюдением, тем более вероятной она становится.
Индукция — несуществующий процесс «получения» теорий, описанный выше.
Принцип индукции — идея о том, что «будущее будет похоже на прошлое» в сочетании с заблуждением, что это позволяет что-то утверждать о будущем.
Реализм — представление о том, что физический мир существует в действительности и что знание о нём тоже может существовать.
Релятивизм — заблуждение о том, что утверждения не могут быть объективно верны или ложны, но о них можно судить только относительно некоего культурного или другого, произвольного, стандарта.
Инструментализм — заблуждение о том, что наука не может описывать реальность, а может лишь предсказывать результаты наблюдений.
Джастификационизм — заблуждение о том, что знание может быть истинным или надёжным, только если оно обосновано каким-либо источником или критерием.
Фаллибилизм — признание того, что нет авторитетных источников знания, а равно нет и надёжных средств обоснования знания как правдивого или вероятного.
Фоновые знания — известные и на текущий момент не вызывающие сомнений знания.
Эмпирическое правило — «чисто предсказательная теория» (теория, объяснительное содержание которой целиком состоит из фоновых знаний).
Проблема существует, если наблюдается конфликт идей.
Разумное/неразумное (хорошее/плохое) объяснение — объяснение, которое тяжело/легко варьировать так, чтобы оно не перестало объяснять соответствующее явление.
Просвещение — путь (его начало) поиска знания с традицией критики и поиска разумных объяснений вместо опоры на авторитет.
Мини-Просвещение — недолговечная традиция критики.
Рациональный — пытающийся решить проблему путём поиска разумных объяснений; активно стремящийся исправить ошибки путём критики как существующих, так и новых идей.
Запад — политическая, нравственная, экономическая и интеллектуальная культура, развивавшаяся в эпоху Просвещения на ценностях науки, здравомыслия и свободы.
Значения «начала бесконечности», встречающиеся в этой главе
— Существование у некоторых объяснений пределов применимости.
— Универсальность некоторых объяснений.
— Просвещение.
— Традиция критики.
— Догадка: источник всего знания.
— Открытие того, как добиваться прогресса: наука, научная революция, поиск разумных объяснений, политические принципы Запада.
— Фаллибилизм.
Краткое содержание
Видимость обманчива. Однако мы обладаем огромным количеством знаний об обширной и незнакомой действительности, которая является причиной этой видимости, а также множества изящных универсальных законов, которым эта действительность подчиняется. Эти знания состоят из объяснений: утверждений о том, что на самом деле скрывается за видимостью и как оно себя ведёт. На протяжении большей части своей истории человек почти не имел успеха в создании таких знаний. Так откуда они берутся? Согласно положениям эмпиризма, знания выводятся из чувственного опыта. Это ложное представление. На самом деле источником теорий является догадка, а источником знания — догадка, чередующаяся с критикой. Теории создаются путём перестановки, комбинирования, варьирования и расширения существующих идей с целью усовершенствовать их. Роль эксперимента и наблюдения заключается в том, чтобы выбрать одну из нескольких существующих теорий, а не породить новые. Свой жизненный опыт мы интерпретируем с помощью объяснительных теорий, но правильные объяснения не являются очевидными. Согласно фаллибилизму, не нужно смотреть на авторитеты, а нужно признать, что возможность ошибок существует всегда, и пытаться их исправлять. С этой целью мы ищем разумные объяснения, объяснения, которые сложно варьировать в том смысле, что изменение деталей разрушает объяснение. Это, а не экспериментальная проверка, стало решающим фактором в научной революции, а также в уникальном, стремительном и непрерывном прогрессе в других областях, участвовавших в Просвещении. Это был бунт против авторитетов, который, в отличие от многих похожих бунтов, характеризовался не поиском авторитетных подтверждений теорий, а созданием традиции критики. У некоторых идей, появившихся в результате этого, огромная предсказательная сила: они объясняют больше, чем изначально предполагалось. Пределы применимости — свойство объяснения, а не допущение, которое мы о нём делаем, как это утверждают эмпиризм и индуктивизм.
Теперь я подробнее остановлюсь на видимости и действительности, на объяснении и бесконечности.
2. Ближе к действительности
Размеры галактики просто поражают воображение. Как, вообще говоря, и размеры звезды. Как и наша планета. И человеческий мозг — как с точки зрения его сложного устройства, так и полёта человеческих идей. А ведь в одном скоплении могут быть тысячи галактик, и размеры этого скопления измеряются миллионами световых лет. «Тысячи галактик» — это легко сказать, а вот осознать, что это всё реально, получается не сразу.
Идея эта ошеломила меня, когда я был на последнем курсе университета. Знакомые студенты показывали мне, над чем работают: они наблюдали скопления галактик в микроскоп. Так в то время астрономы работали с Паломарским атласом звёздного неба, состоящим из 1874 фотографических негативов на стеклянных пластинах. Звёзды и галактики на них выглядели как тёмные пятна на белом фоне.
Мне дали посмотреть на одну пластину. Я сфокусировал микроскоп и увидел примерно такую картину: размытые пятна — это галактики, а чёткие точки — звёзды в нашей Галактике, они в тысячи раз ближе.
Студентам нужно было заносить положения галактик в каталог, совмещая их с перекрестьем и нажимая кнопку. Я тоже попробовал, но только ради интереса, ведь моей подготовки было явно недостаточно для проведения серьёзных измерений. Тем не менее я быстро понял, что это не так просто, как могло показаться. Во-первых, не всегда ясно, что именно есть галактика, а что — просто звёзды или другие близкие объекты. Некоторые галактики узнать просто: например, звёзды не бывают спиральной или явно эллиптической формы. Но иногда пятна попадаются настолько тусклые, что трудно понять, следует ли их отнести к точечным или диффузным. Некоторые галактики кажутся маленькими, слабыми и круглыми, как и звёзды, а некоторые частично закрыты другими объектами. В наше время такие измерения производятся компьютерами с помощью сложных алгоритмов распознавания образов. Но в те времена приходилось тщательно рассматривать каждый объект, опираясь на такие характеристики, как, например, степень размытости его границ — хотя и в нашей Галактике есть нечёткие объекты, например, остатки сверхновых. Иначе говоря, приходилось использовать эмпирические правила.
Но как проверить такое эмпирическое правило? Можно, например, выбрать случайным образом область неба и сделать её снимок в более высоком разрешении, чтобы было проще опознавать галактики, а затем сравнить результаты такой надёжной идентификации с полученными с помощью эмпирического правила. Если они окажутся разными, то наше правило ненадёжно. Если одинаковыми, то с уверенностью ничего сказать нельзя. Но ведь утверждать с уверенностью никогда ничего нельзя.
С моей стороны было ошибкой то, что меня потряс уже сам масштаб увиденного. Некоторых людей масштабы Вселенной приводят в уныние, потому что они чувствуют себя ничтожными. А кто-то, ощущая свою незначительность, вздыхает с облегчением, что ещё хуже. Но так или иначе это — ошибки. Чувствовать себя незначительным оттого, что Вселенная огромна, — это как считать, что с тобой что-то не так, раз ты не корова. Или не стадо коров. Вселенная не ставит своей целью подавить и сокрушить нас; это наш дом, она даёт нам ресурсы для жизни. И чем она больше, тем лучше.
Но есть в скоплении галактик и философский смысл. Пока я передвигал перекрестье от одной ничем не выделяющейся галактики к другой и нажимал кнопку там, где мне казалось, и есть её центр, меня посещали причудливые мысли. Я задавался вопросом, буду ли я первым и последним человеком, который осознанно обратит внимание на ту или иную конкретную галактику. Мой взгляд всего на несколько секунд останавливался на расплывчатом объекте, который мог быть наполнен смыслом всего, что я знаю. В нём — миллиарды планет. И каждая — это целый мир. У каждой — своя история, свои рассветы и закаты, бури и времена года, где-то есть континенты, океаны и реки, где-то случаются землетрясения. Есть ли в этих мирах жизнь? Есть там астрономы? Если только цивилизация, в которой существуют эти люди, не является чрезвычайно древней и высокоразвитой, они никогда не путешествовали за пределы своей галактики. Поэтому они никогда не видели, как выглядит она с моей точки зрения, хотя могли бы догадываться об этом чисто теоретически. Смотрит ли кто-то из них в этот момент на Млечный Путь, задаётся ли такими же вопросами, но о нас? И если так — то наша Галактика предстаёт перед ними в том виде, в котором она была, когда самой развитой формой жизни на Земле были рыбы.
Возможно, компьютеры, которые сегодня применяются для каталогизации галактик, справляются с этой задачей лучше студентов, а может, и нет. Но у компьютеров уж точно не возникает таких мыслей. Я заговорил об этом, потому что часто слышу, как научные исследования называют довольно унылым занятием, по большей части бессмысленным, тяжёлым трудом. Изобретатель Томас Эдисон однажды сказал: «Ни одно моё открытие не было случайностью. Я вижу, что в чём-то возникает потребность, и пытаюсь её удовлетворить, пока у меня это не получится. И в итоге на вдохновение приходится 1 %, а остальные 99 % — это работа в поте лица»[12]. Некоторые утверждают то же самое о теоретическом исследовании, где «работой в поте лица» выступает такой, по-видимому, нетворческий интеллектуальный труд, как алгебраические выкладки или перевод алгоритмов в компьютерный код. Но если компьютер или робот, выполняя какую-то задачу, действует машинально, это не значит, что та же задача решается бездумно и учёными. Ведь и в шахматы компьютер играет бездумно — он перебирает последствия всех возможных ходов; люди же достигают таких же по внешним признакам результатов совсем иначе — размышляя творчески и с удовольствием. Возможно, компьютерные программы, которые применяются для каталогизации галактик, были написаны теми самыми студентами, сделавшими выжимку из своих знаний в виде воспроизводимых алгоритмов. А это значит, они должны были чему-то научиться, выполняя то задание, которое компьютер делает без всякого обучения.
Но при более глубоком рассмотрении я бы сказал, что Эдисон неправильно истолковывал свой опыт. В неудачных попытках тоже что-то есть. Повторяющийся эксперимент не будет лишь повторением, если обдумывать проверяемые идеи и исследуемую действительность. Целью описанного проекта с галактиками было выяснить, существует ли на самом деле «тёмная материя» (см. следующую главу), и эта цель была достигнута. Если бы Эдисон, или те студенты, или любой исследователь, «работая в поте лица», действительно делали всё без раздумий, они пропустили бы самое интересное, а это не последний момент в том самом «проценте вдохновения».
Когда мне попалось особенно непонятное изображение, я спросил своих знакомых: «А это галактика или звезда?» «Ни то, ни другое, — ответили они. — Это просто дефект фотографической эмульсии».
От такой неожиданной смены направления мысли я рассмеялся. Мои грандиозные размышления о глубоком смысле того, что я видел, по отношению к этому конкретному объекту оказались совершенно ни о чём: на этой пластинке больше не было ни астрономов, ни рек, ни землетрясений. Они растворились в порыве воображения. Я переоценил масштаб того, на что смотрел, где-то в 1050 раз. То, что я посчитал самым крупным объектом, который мне приходилось видеть, и самым удалённым в пространстве и времени, оказалось просто пятнышком — едва различимым без микроскопа и находящимся на расстоянии вытянутой руки. Как просто и как сильно мы можем обманываться!
Но постойте. А смотрел ли я вообще хотя бы на одну галактику? Ведь все остальные кляксы на самом деле тоже были микроскопическими пятнами из серебра. Если я не смог понять природу одного из них, потому что оно было слишком похоже на все остальные, почему ошибка оказалась такой значительной?
Потому что ошибка в экспериментальной науке — неверное понимание причины некоторого явления. Как и точное наблюдение, это вопрос теории. Очень мало что в природе можно обнаружить без помощи каких-либо инструментов. Большая часть явлений протекает либо слишком быстро, либо слишком медленно, они либо слишком большие, либо слишком маленькие или находятся слишком далеко, или спрятаны за непрозрачными барьерами, или работают по принципам, которые слишком отличаются от того, что влияло на нашу эволюцию. Но в некоторых случаях мы можем сделать эти явления доступными восприятию — с помощью научных инструментов.
Мы воспринимаем такие инструменты как нечто, приближающее нас к реальности, — как раз так я себя чувствовал, глядя на скопление галактик в Волосах Вероники. Но в чисто физических терминах они только ещё больше разделяют нас. Я мог бы ночью смотреть на небо, туда, где находится это скопление, и мои глаза отделяло бы от него всего несколько граммов воздуха, но я бы абсолютно ничего не увидел. А вот если бы я взял в посредники телескоп, то, возможно, что-то увидел бы. В описываемом эпизоде между мною и галактиками были телескоп, фотоаппарат, проявочная фотолаборатория, ещё один фотоаппарат (чтобы сделать копии пластин), грузовик, который привёз пластины в университет, и микроскоп. Вооружённый всем этим, я мог видеть это скопление гораздо лучше.
Сегодня астрономы совсем не смотрят на небо (разве что в свободное от работы время) и лишь изредка в телескопы. У многих телескопов даже нет окуляров, которые подошли бы для человеческого глаза. Многие телескопы даже не фиксируют видимый свет. Но зато они фиксируют невидимые сигналы, которые затем переводятся в цифровой формат, записываются, комбинируются с другими, обрабатываются и анализируются компьютерами. В результате можно получить изображения «в искусственных цветах», на которых показаны радиоволны или другие виды излучения или ещё менее явные характеристики, такие как температура или состав. Во многих случаях не строится вообще никакого изображения далёкого объекта, а только столбцы чисел или графики и диаграммы, и астрономы могут воспринимать только результат такой обработки.
Но с каждым дополнительным слоем физического разделения требуются дальнейшие теоретические исследования, которые позволяют соотнести итоговое восприятие с реальностью. Когда астроном Джоселин Белл открыла[13] пульсары (чрезвычайно плотные звёзды, дающие регулярные вспышки в радиодиапазоне), перед глазами у неё было вот что.
Только с помощью сложной цепочки теоретических интерпретаций она могла «увидеть» за этой дрожащей линией, выведенной чернилами на бумаге, мощный пульсирующий объект в дальнем космосе — и понять, что это объект доселе неизвестного типа.
Чем лучше мы начинаем понимать явление, далёкое от того, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, тем длиннее становятся эти цепочки интерпретаций, и каждое новое звено требует всё больше теории. Одно-единственное неожиданное или неправильно истолкованное явление в какой-либо точке цепи может (и зачастую так и происходит) направить чувственный опыт по ложному пути, причём произвольным образом. И всё же со временем выводы, к которым приходила наука, становятся всё ближе к реальности. Своим стремлением к поиску разумных объяснений она исправляет ошибки, делает поправки на помехи и неверные перспективы, заполняет пробелы. Этого мы можем добиться, если — как говорил Фейнман — продолжаем учиться тому, как избежать самообмана.
Телескопы оснащены механизмами автоматического слежения, благодаря которым они постоянно перенаводятся, чтобы компенсировать эффект вращения Земли; в некоторых телескопах с помощью компьютеров постоянно меняется форма зеркала, чтобы компенсировать флуктуации земной атмосферы. Поэтому звёзды, которые видны в такой телескоп, уже не мерцают и не подрагивают на небе, как казалось поколениям наблюдателей в прошлом. Всё это только видимость — ошибка, обусловленная узостью и избирательностью взгляда, — и она не имеет отношения к реальной природе звёзд. Главное назначение оптики телескопа — ослабить иллюзию того, что звёзд мало, что они слабы, что они мерцают и движутся. Это одинаково верно и для любой другой особенности телескопа и любого другого научного инструмента: каждый слой косвенности через соответствующую теорию исправляет ошибки, иллюзии и вводящие в заблуждения точки зрения, заполняет пробелы. Возможно, ошибочный эмпирицистский идеал «чистых», не нагруженных теорией наблюдений повинен в том, что нам кажется странным реальное положение вещей: по-настоящему точное наблюдение никогда не бывает прямым, непосредственным. Но дело обстоит именно так, и прогресс требует применения всё больших знаний перед тем, как проводить наблюдения.
Так что я и правда смотрел на галактики. Видеть галактики в пятнах из серебра — в этом смысле абсолютно то же самое, что смотреть на сад через изображения на сетчатке. И так во всех случаях: сказать, что мы действительно наблюдали любое заданное явление — значит сказать, что мы точно приписали ему полученные факты (в конечном итоге это факты в нашей голове). Из таких соответствий между теориями и физической реальностью состоит научная истина.
Учёные, работающие с огромными ускорителями частиц, также смотрят на пиксели и чернила, цифры и графики и через их посредство наблюдают микроскопическую реальность субатомных частиц, таких как ядра и кварки. Некоторые учёные с помощью электронных микроскопов направляют пучок на мёртвые клетки, которые были окрашены и быстро заморожены в жидком азоте и помещены в вакуум, но таким образом они изучают, что представляют собой живые клетки. Удивительно, что существуют объекты, которые, когда мы их наблюдаем, в точности напоминают своим видом и другими характеристиками другие объекты, находящиеся где-то ещё и совершенно по-другому устроенные. Наши органы чувств тоже такие объекты, ведь когда мы что-то воспринимаем, на мозг напрямую влияют только они.
Такие инструменты представляют собой редкие и хрупкие конструкции из материи. Нажмёшь не ту кнопку на приборной панели телескопа или закодируешь не ту команду в его компьютере, и вполне может случиться, что весь этот чрезвычайно сложный прибор не покажет ничего, кроме себя самого. Результат окажется тем же, как если бы вы имели дело не с готовым телескопом, а с исходными материалами для него, сложенными почти любым иным образом: посмотришь — и не увидишь ничего, кроме них самих.
Из объяснительных теорий мы узнаём, как построить инструменты и как работать с ними так, чтобы произошло чудо. Это своего рода фокус наоборот: такие инструменты обманывают наши органы чувств, и мы видим то, что есть на самом деле. Наше сознание, с помощью методологического критерия, о котором я говорил в главе 1, делает вывод, что некая конкретная вещь реальна тогда и только тогда, когда она вписывается в самое разумное объяснение чего-либо. С физической точки зрения произошло лишь то, что люди на Земле откопали такое сырьё, как железная руда и песок, и модифицировали всё это там же, на Земле, собрав сложные объекты, такие как радиотелескопы, компьютеры и мониторы, и теперь вместо того, чтобы смотреть на небо, они смотрят на эти объекты. Они фокусируют взгляд на созданных человеком артефактах, до которых можно достать рукой. Но ум сфокусирован на чуждых нам сущностях и процессах, удалённых на много световых лет.
Иногда, как и их предки, они смотрят на мерцающие точки, но на мониторе компьютера, а не на небе. Иногда они смотрят на цифры или графики. Но во всех этих случаях они исследуют явления местного масштаба: пиксели на экране, чернила на бумаге и так далее. Всё это с физической точки зрения совсем не похоже на звёзды: эти объекты гораздо меньше, их поведение не определяется ядерными силами и гравитацией, они не могут превращать элементы друг в друга или создавать жизнь, они не существуют миллиарды лет. Но когда астрономы смотрят на них, они видят звёзды.
Краткое содержание
Кажется странным, что научные инструменты приближают нас к реальности, хотя с чисто физической точки зрения они нас от неё только отделяют. Но мы всё равно ничего не наблюдаем напрямую. Все наблюдения теоретически нагружены. Аналогично, любая наша ошибка — это ошибка в объяснении того или иного явления. Вот почему видимость может быть обманчива, и поэтому мы сами и наши инструменты способны делать поправку на это. Развитие знания состоит в исправлении неправильных представлений в теориях. Эдисон говорил, что исследование — это на 1 % вдохновение и на 99 % работа в поте лица, но это может ввести в заблуждение, ведь даже к тем заданиям, которые компьютеры или другие машины выполняют бездумно, люди подходят творчески. Наука — не бездумный труд, редким вознаграждением за который становится открытие: в этом труде есть и творческое начало, и повод для радости, как и в открытии нового объяснения.
Но не иссякнет ли этот творческий потенциал, не придёт ли когда-нибудь конец этой радости?
3. Искра
В древности понимание реальности, лежащей за пределами нашего повседневного опыта, в большинстве случаев было не просто ошибочным, а кардинально отличалось от современного: оно носило антропоцентрический характер. Другими словами, оно строилось вокруг человеческих существ, вокруг людей в широком смысле — существ, обладавших намерениями и мыслящих, как человек, включая духов и богов, могущественных и сверхъестественных. Так, приход зимы списывали на чью-то грусть, урожай — на чью-то щедрость, стихийные бедствия — на чей-то гнев и т. д. Такие объяснения часто включали в себя существ, значимых в космическом масштабе, которым, однако, было не всё равно, что делают люди, или у которых были на них свои планы. Таким образом, и люди становились важными в том же самом масштабе. Позднее геоцентрическая теория поместила их в центр Вселенной и в физическом смысле. Эти два вида антропоцентризма — объяснительный и геометрический — повышали правдоподобность друг друга, и в результате мышление, бытовавшее в эпоху до Просвещения, было более антропоцентрическим, чем мы можем себе сегодня представить.
Заметным исключением являлась сама наука геометрия, особенно система, развитая древнегреческим математиком Евклидом. Его изящные аксиомы и выводы об объективных сущностях, таких как точки и линии, впоследствии будут вдохновлять многих первопроходцев Просвещения. Но до этого они слабо влияли на господствовавшие в мире взгляды. Так, большинство астрономов также были и астрологами: в своей работе они опирались на сложные геометрические построения, но при этом считали, что политические события и судьбы людей на Земле можно предсказать по звёздам.
Когда об устройстве мира было ничего не известно, попытки объяснить физические явления через целенаправленные, подобные человеческим мысли и действия могли считаться разумными. В конце концов, именно так мы объясняем сегодня свой повседневный опыт: если из запертого сейфа таинственным образом исчезает бриллиант, мы ищем разгадку на человеческом уровне — будь это чья-то ошибка, кража или даже фокус, — но никак не в новых физических законах. Однако за пределами человеческих дел этот антропоцентрический подход никогда не давал разумных объяснений. В отношении физического мира в больших масштабах он был колоссальным заблуждением. Теперь мы знаем, что расположение звёзд и планет на ночном небе никак не влияет на жизнь человека. Мы знаем, что не являемся центром Вселенной, у неё вообще нет геометрического центра. И мы знаем, что, хотя некоторые колоссальные астрофизические явления, описанные мною, и сыграли большую роль в нашем прошлом, мы сами никогда не играли в них существенной роли. Явление называют существенным (или фундаментальным), если его нельзя должным образом объяснить в рамках узких, парохиальных[14] теорий или если оно упоминается в объяснении многих других явлений; поэтому может показаться, что люди, их желания и действия имеют крайне малое значение во Вселенной в целом.
Антропоцентрические заблуждения были опровергнуты и во всех остальных фундаментальных областях науки: сегодня наши знания физики выражаются исключительно в терминах сущностей столь же объективных, как и евклидовы точки и прямые, — таких как элементарные частицы, силы и пространство-время — четырёхмерный континуум с тремя пространственными измерениями и одним временным. Их взаимное влияние объясняется не через чувства и намерения, а с помощью математических уравнений, описывающих законы природы. Когда-то биологи считали, что живые организмы были задуманы сверхъестественным субъектом и что они должны содержать особый ингредиент, «жизненное начало», позволяющее им действовать с очевидной целенаправленностью. Но и в биологии были открыты новые способы объяснения, опирающиеся на такие объективные понятия, как химические реакции, гены и эволюция. И теперь мы знаем, что живые существа, включая человека, состоят из тех же ингредиентов, что и камни или звёзды и подчиняются тем же законам, и что их никто не задумывал. Современная наука, которая далека от того, чтобы объяснять физические явления через мысли и намерения никем не виданных существ, рассматривает наши собственные мысли и намерения как совокупности незаметных (но в принципе наблюдаемых) микроскопических физических процессов, протекающих в мозгу человека.
Этот отказ от антропоцентрических теорий был настолько продуктивен и настолько важен в более широкой истории идей, что антиантропоцентризм всё чаще поднимали до статуса универсального принципа, иногда называемого «принципом заурядности»: люди (во вселенском масштабе) ничем не выделяются. Как говорит физик Стивен Хокинг, люди — «это просто химический мусор на типичной планете, которая вращается вокруг обыкновенной звезды на задворках обычной галактики». Оговорка «во вселенском масштабе» необходима, потому что этот химический мусор, безусловно, несёт в себе особую значимость в соответствии с ценностями, которые он сам к себе применяет, такими как нравственные ценности. Но в рамках упомянутого принципа все такие ценности сами по себе антропоцентрические: они объясняют только поведение мусора, что само по себе не существенно.
Легко по недоразумению принять специфические особенности знакомой ситуации или точки зрения (например, вращение ночного неба) за объективные признаки того, что наблюдается, или принять эмпирические правила (например, предсказание ежедневного рассвета) за универсальные законы. Ошибки такого рода я буду называть парохиальными.
Антропоцентрические ошибки являются примерами такой узости взглядов, но не всякая парохиальность имеет антропоцентрический характер. Например, предсказание того, что времена года сменяются одинаково во всём мире, — ошибка, обусловленная избирательностью взгляда, но она не антропоцентрическая, так как не вовлекает людей в объяснение причин смены времён года.
Есть ещё одна влиятельная идея о человеческой природе, иногда фигурирующая под красивым названием «Космический корабль Земля». Представьте себе «корабль поколений» — звездолёт, который находится в пути так долго, что за это время на нём успевает смениться не одно поколение пассажиров. Эта идея была предложена как способ колонизации других звёздных систем. В рамках этого сравнения «корабль поколений» — метафора для биосферы, системы всех живущих существ на Земле и их ареалов. Пассажиры корабля — это все живущие на Земле люди. Вселенная вокруг корабля безжалостно враждебна, но внутри — чрезвычайно сложная система жизнеобеспечения, которая даёт всё, что нужно пассажирам для процветания. Как и на космическом корабле, в биосфере все отходы перерабатываются, и благодаря мощной ядерной электростанции (Солнце) она совершенно самодостаточна.
Точно так же как система жизнеобеспечения космического корабля спроектирована для обеспечения его пассажиров всем необходимым, так и в биосфере есть «видимые признаки замысла»: она представляется исключительно адаптированной для поддержания нашей жизни (в чём смысл метафоры), потому что мы адаптировались к ней в ходе эволюции. Но её возможности ограничены: если мы её перегрузим своей численностью или будем вести образ жизни, совершенно отличный от принятого в процессе эволюции (для поддержки которого она «спроектирована»), то биосфера разрушится. И, как и у пассажиров космического корабля, второго шанса у нас нет: если мы станем слишком беззаботно или расточительно относиться к окружающей среде и уничтожим систему жизнеобеспечения, нам будет некуда пойти.
И «Космический корабль Земля» как метафора и принцип заурядности завоевали широкое признание среди научно мыслящих людей — настолько, что даже стали трюизмами. И это даже несмотря на то, что на первый взгляд выводы из них не вполне стыкуются. Принцип заурядности делает акцент на том, насколько обычны Земля и её химический мусор (в том смысле, что они ничем не примечательны), а метафора «Космического корабля Земли» подчёркивает, насколько они необычны (в том смысле, что они уникально подходят друг для друга). Но если эти две идеи интерпретировать шире, философски, как обычно это и делается, они легко сходятся. Предназначение обеих видится в исправлении во многом схожих парохиальных заблуждений, а именно, что наш опыт жизни на Земле типичен для Вселенной и что Земля огромна, непреходяща и будет у нас всегда. В обеих концепциях, напротив, подчёркивается, что она маленькая и эфемерная. Обе выступают против самонадеянности: принцип заурядности противопоставляется высокомерной уверенности в том, что мы важны для мира, характерной для эпохи до Просвещения, а сравнение с космическим кораблём — самонадеянному стремлению управлять миром. В обеих есть нравственное требование: мы не должны считать себя важными, говорят они; мы не должны ожидать, что мир будет бесконечно терпеть то, что мы его опустошаем.
Таким образом, из этих двух идей формируется богатая концептуальная система взглядов, которая может наполнить смыслом всё мировоззрение. Тем не менее, как я объясню дальше, обе они неверны, причём даже в самом прямом фактическом смысле. При более широком рассмотрении они вводят в заблуждение столь серьёзное, что, если вы ищете максимы, достойные быть высеченными на камне и произносимыми каждое утро перед завтраком, будет лучше, если вы выберите противоположные утверждения. Другими словами, правда в том, что:
Люди на самом деле важны во вселенском масштабе; и
Биосфера Земли неспособна поддерживать человеческую жизнь.
Вернёмся к замечанию Хокинга. То, что мы находимся на типичной (в определённой степени) планете, вращающейся вокруг обыкновенной звезды в обычной галактике, верно. Но мы далеко не обычная для Вселенной материя. Начнём с того, что около 80 % её считается невидимой «тёмной материей», которая не может ни излучать, ни поглощать свет. В настоящее время она обнаруживается лишь косвенным образом, по гравитационному воздействию на галактики. И только оставшиеся 20 % — это материя того типа, который мы парохиально называем «обычной материей». Она характеризуется постоянным свечением. Обычно мы не считаем себя светящимися, но это ещё одно парохиальное заблуждение, обусловленное ограниченностью наших органов чувств: мы излучаем тепло, то есть инфракрасный свет, а также свет в видимом диапазоне, но он слишком тусклый, так что наш глаз его не видит.
Сгущений материи, сопоставимых по плотности с нами, с нашей планетой и звездой, хоть и много, но они тоже не совсем обычны. Это отдельные, редкие явления. Вселенная — это по большей части вакуум (плюс излучение и тёмная материя). Обычная материя знакома нам, потому что мы из неё состоим, и из-за того, что мы обитаем в нетипичном месте, где её много.
Более того, мы — редкая форма обычной материи. Самая распространённая её форма — это плазма (атомы, распавшиеся на электрически заряженные компоненты), которая, как правило, излучает яркий видимый свет, потому что находится в звёздах, а они достаточно нагреты. Мы же, мусор, в основном являемся источниками инфракрасного излучения, потому что в нас содержатся жидкости и сложные химические соединения, которые могут существовать только при гораздо более низких температурах.
Вселенная заполнена микроволновым излучением — это послесвечение Большого взрыва. Его температура — около 2,7 градусов по Кельвину, а это на 2,7 градуса выше самой низкой возможной температуры, абсолютного нуля, или примерно на 270 градусов Цельсия холоднее точки замерзания воды. Только при очень необычных условиях может найтись нечто холоднее этих микроволн. Во Вселенной, кроме разве что некоторых физических лабораторий на Земле, нет ничего, что было бы холоднее примерно одного кельвина. В лабораториях же была достигнута рекордно низкая температура — ниже одной миллиардной доли кельвина. При таких исключительных температурах свечение обычной материи фактически гасится. Получающаяся «несветящаяся обычная материя» на нашей планете — вещество чрезвычайно экзотическое для Вселенной в целом. Вполне возможно, что внутренняя часть холодильных камер, сконструированных физиками, — самое холодное и тёмное место во Вселенной. Нет, оно далеко не обычное!
А как выглядит обычное место во Вселенной? Предположим, что вы читаете эти строки на Земле. Мысленно перенеситесь вверх на несколько сотен километров. Вы окажетесь в несколько более типичной для космоса среде. Но вас всё ещё будет греть и освещать Солнце и в половине вашего поля зрения всё ещё будут твёрдые тела, жидкости и мусор с Земли. В обычном месте во Вселенной всего этого нет. Так что перенеситесь ещё на несколько триллионов километров в том же направлении. Теперь вы оказались настолько далеко, что Солнце выглядит так же, как все остальные звёзды. Вокруг вас гораздо холоднее, темнее и пустыннее, и мусора вблизи не видно. Но и это не самое обычное место: вы всё ещё в галактике Млечный Путь, а большая часть мест во Вселенной не принадлежит ни одной из галактик. Продолжайте удаляться, пока не выйдете далеко за пределы Галактики — скажем, на сто тысяч световых лет от Земли. С такого расстояния вы не смогли бы увидеть Землю, даже на пределе возможностей самого мощного телескопа, когда-либо построенного человеком. Но небо у вас над головой всё ещё представлено в основном Млечным Путём. Чтобы попасть в обычное для Вселенной место, вам придётся представить, что вы как минимум в тысячу раз дальше, чем сейчас, далеко в межгалактическом пространстве.
И каково же там? Представьте себе пространство, условно разделённое на кубы размером с нашу Солнечную систему. При наблюдении из такого типичного куба небо было бы чёрным, как смола. Ближайшая звезда оказалась бы так далеко, что, взорвись она как сверхновая, вы, глядя прямо на неё, не заметите даже слабого проблеска, когда её свет достигнет вас. Настолько велика и темна Вселенная. А ещё в ней холодно: держится та самая температура 2,7 кельвина, при которой замерзают все известные вещества, кроме гелия. (Считается, что гелий остаётся в жидком состоянии вплоть до абсолютного нуля, если только он не находится под очень сильным давлением.)
А ещё Вселенная пуста: концентрация атомов там ниже одного на кубический метр. Это в миллион раз меньше концентрации атомов в межзвёздном пространстве, а там атомы встречаются реже, чем в самом высоком вакууме, который только может создать человек. Практически все атомы в межгалактическом пространстве — это атомы водорода или гелия, так что химических превращений там нет. Там не могли бы развиться ни жизнь, ни разум. Там ничто не меняется, ничего не происходит. И так в каждом кубе, и если бы вы изучили миллион кубов подряд в любом направлении, ничего бы не изменилось.
Холод, темнота, пустота. Эта невообразимо пустынная среда и есть типичное место во Вселенной и ещё одна мера нетипичности Земли и её химического мусора в буквальном физическом смысле. Вопрос вселенской важности этого типа мусора скоро перенесёт нас обратно в межгалактическое пространство. Но сначала позвольте вернуться к метафоре «Космического корабля Земля» в её буквальном физическом понимании.
Верно следующее: если завтра физические условия на поверхности Земли изменятся, пусть даже незначительно по астрофизическим масштабам, люди не смогут жить здесь без определённой защиты, так же как они не выживут на космическом корабле с вышедшей из строя системой жизнеобеспечения. Я пишу эти строки в Англии, в Оксфорде, где зимой по ночам достаточно холодно и любой, кто окажется на улице в лёгкой одежде и никак иначе не защищённым от холода, замёрзнет насмерть. Получается, что в межгалактическом пространстве я бы погиб за несколько секунд, а в графстве Оксфордшир в его первозданных условиях продержался бы пару часов, что лишь с большой натяжкой можно рассматривать как «поддержание условий для жизни». Сегодня в Оксфордшире система жизнеобеспечения есть, но это не заслуга биосферы. Эта система была построена людьми и включает в себя одежду, дома, фермы, больницы, электросети, канализацию и так далее. И практически вся биосфера Земли в её первозданном состоянии была неспособна долго поддерживать жизнь незащищённого человека! Точнее было бы назвать её не системой жизнеобеспечения, а смертельной ловушкой. Даже в Восточно-Африканской рифтовой долине, где зародился наш вид, условия были лишь чуть гостеприимнее, чем в первозданном Оксфордшире. В отличие от системы жизнеобеспечения воображаемого космического корабля, в Восточной Африке не было безопасного источника воды и медицинского оборудования, а также удобных жилых отсеков, зато в ней кишели хищники, паразиты и болезнетворные организмы. «Пассажиры» в ней часто получали раны, травились, промокали насквозь, голодали, болели и в большинстве своём в результате этого умирали.
Столь же сурова была долина и к другим организмам, которые в ней обитали: в этой якобы благожелательной биосфере лишь немногие индивиды жили комфортно и умирали от старости. И это не случайно: большая часть популяций большей части видов живёт на грани катастрофы или смерти. Так и должно быть, ведь как только какой-то маленькой группе где-то станет жить немного проще, по тем или иным причинам, например, благодаря увеличению пищи или вымиранию соперника или хищника, её численность возрастёт. В результате из-за повышенного спроса будут истощаться другие ресурсы; всё большей и большей части популяции приходится селиться на негостеприимной периферии и обходиться худшими ресурсами и так далее. И так продолжается до тех пор, пока недостатки, вызванные увеличением популяции, не сравняются в точности с преимуществами, завоёванными за счёт благотворных изменений. Другими словами, пока новый уровень рождаемости снова будет лишь едва успевать за быстрой утратой физических сил и гибелью особей от голода, истощения, хищников, перенаселённости и в результате любых других естественных процессов.
Вот к такой ситуации организмы и адаптируются в ходе эволюции. И таков, значит, образ жизни, при котором биосфера Земли «кажется адаптированной» для её поддержания. Стабильность биосферы достигается — причём лишь временно — за счёт постоянного пренебрежения особями вида, нанесения вреда их здоровью, их травмирования и уничтожения. Значит, метафора космического корабля и системы жизнеобеспечения глубоко ошибочны: когда люди разрабатывают систему жизнеобеспечения, они делают это, чтобы обеспечить максимальный возможный комфорт, безопасность и долголетие тем, кто будет ею пользоваться, в рамках имеющихся ресурсов; перед биосферой такие приоритеты не стоят.
Не является биосфера и великим хранителем видов. Известная своей жестокостью по отношению к отдельным особям, эволюция также сопровождается постоянным вымиранием целых видов. В среднем темпы вымирания с момента зарождения жизни на Земле составляют около десяти видов в год (хотя эта оценка очень приблизительная), а в относительно короткие периоды, которые палеонтологи называют «эпохами массового вымирания», сильно увеличиваются. Скорость, с которой появляются новые виды, в итоге лишь слегка превышает темпы вымирания, и в сухом остатке получается, что преобладающее большинство видов, когда-либо существовавших на Земле (возможно, даже 99,9 % из них) к настоящему времени вымерли. Исходя из некоторых генетических свидетельств, можно предположить, что наш собственный вид был на грани вымирания по крайней мере однажды, а несколько видов, находящихся с нашим в близком родстве, вымерли. Что особенно важно, их стёрла с лица Земли сама «система жизнеобеспечения» путём природных бедствий, эволюционных изменений других видов и перемен климата. Эти наши родственники никак не приближали своё вымирание, они не меняли свой образ жизни и не перегружали биосферу; напротив, они исчезли потому, что жили той жизнью, к которой пришли путём эволюции и которую — по аналогии с космическим кораблём — для них «поддерживала» биосфера.
Но и это всё ещё является приукрашением той степени, в которой биосфера «дружелюбна» к человеку в частности. Первым людям, поселившимся на широте Оксфорда (это был родственный нам вид, возможно, неандертальцы), удалось это сделать только потому, что они принесли с собой знания о таких вещах, как инструменты, оружие, огонь и одежда. Эти знания передавались из поколения в поколение, но не на генетическом, а на культурном уровне. Наши предки, жившие в рифтовой зоне Восточной Африки до появления человека, тоже обладали такими знаниями, а для нашего собственного вида они должны были быть жизненно важны с момента его зарождения. В качестве доказательства хочу заметить, что если бы я попытался выжить в Восточной Африке в её первозданном виде, то долго не протянул бы: у меня просто нет необходимых знаний. Существуют человеческие популяции, которые, например, знают, как выжить в джунглях Амазонки, но не смогли бы выжить в Арктике, и наоборот. Таким образом, эти знания не являются частью генетического наследия. Они были созданы человеческой мыслью, сохранялись и передавались в человеческой культуре.
Сегодня почти всё, что есть в земной «системе жизнеобеспечения людей», сделано не для нас, а нами, благодаря нашей способности создавать новые знания. В наше время в Восточной Африке есть люди, которые живут гораздо лучше, чем их давние предки, и их там гораздо больше, а всё потому, что они имеют представление о том, что такое инструменты, сельское хозяйство, гигиена. Да, Земля давала нам сырьё, чтобы выжить, равно как и Солнце снабжало нас энергией, а сверхновые звёзды обеспечили химическими элементами и так далее. Но залежи сырья — не то же самое, что система жизнеобеспечения. Чтобы превратить одно в другое, требуются знания, а биологическая эволюция никогда не давала нам знаний, достаточных для выживания, не говоря уже о процветании. В этом отношении мы отличаемся от всех других видов. Все необходимые им знания закодированы в их мозгу генетически. И они действительно получили эти знания путём эволюции, а значит, в определённом смысле «от биосферы». Таким образом, им их родная среда обитания действительно кажется продуманной системой жизнеобеспечения, пусть только в том безнадёжно ограниченном смысле, описанном мною. Но в создании системы жизнеобеспечения людей биосфера задействована не больше, чем в конструировании радиотелескопов.
Таким образом, биосфера не способна поддерживать жизнь человека. С самого начала хотя бы минимально годной для проживания людей планету делали только человеческие знания, и только создание человеческих знаний с тех пор обуславливает все возрастающие возможности нашей системы жизнеобеспечения (как в плане численности, так и в плане безопасности и качества жизни). Если в какой-то степени мы и находимся «на космическом корабле», мы никогда не были просто его пассажирами, не были (как часто говорят) на нём проводниками и даже техническим персоналом: мы его спроектировали и построили. До того, как появились созданные людьми проекты, это было не транспортное средство, а только груда опасного сырья.
Сравнение с «пассажирами» — это заблуждение и вот ещё в каком смысле. Оно подразумевает, что было время, когда у людей не было проблем: всё им давалось, как пассажирам, и им не приходилось ради выживания и процветания самим решать обрушивающиеся на них задачи. Но на самом деле даже при всех своих культурных знаниях наши предки постоянно оказывались в безнадёжном положении, когда, например, не знали, где достать еду на завтра, и, как правило, они либо решали эту проблему с трудом, либо погибали. Останков людей, умерших от старости, найдено очень мало.
Таким образом, нравственный аспект «Космического корабля Земля» в чём-то парадоксален. Человека объявляют неблагодарным за те дары, которые он, вообще говоря, не получал. Всем остальным видам отводятся в системе жизнеобеспечения космического корабля роли хороших героев, единственными плохими героями выступают люди. Но люди — это часть биосферы, и их якобы безнравственное поведение равносильно тому, что делают все остальные виды в благоприятные для них времена, за исключением того факта, что только люди стараются смягчить для своих потомков и других видов последствия этого.
Парадоксален и принцип заурядности. Поскольку среди всех форм парохиальных заблуждений он выделяет антропоцентризм как особо позорный, он и сам антропоцентричен. Далее, этот принцип утверждает, что все суждения о ценностях антропоцентричны, но сам по себе выражается в ценностно нагруженных терминах, таких как «самонадеянность», «просто мусор», да и само слово «заурядность». По отношению к чьим ценностям следует понимать эти оскорбления? Почему самонадеянность вообще проходит как критика? Если даже придерживаться самонадеянного мнения неправильно с нравственной точки зрения, нравственность, как предполагается, должна относиться только к внутренней организации химического мусора. Так как из этого могут следовать какие-либо высказывания о том, как устроен мир за пределами мусора, как предполагается в принципе заурядности?
Так или иначе, люди приняли антропоцентрические объяснения не из-за самонадеянности. Это была просто парохиальная ошибка, причём изначально весьма объяснимая. Но и понять, что ошиблись, люди не могли так долго не из-за самонадеянности: они ничего не осознавали, потому что не знали, как искать более разумные объяснения. В некотором смысле всё дело было в том, что им как раз не хватало самонадеянности: они слишком легко допускали, что мир для них в корне необъясним.
Заблуждение о том, что в жизни человечества был беспроблемный период, присутствует и в античных мифах о Золотом веке и об Эдеме. Теологические понятия благодати (незаслуженного подарка богов) и Провидения (которое есть Бог, как дающий всё, что нужно человеку) тоже имеют к этому отношение. Чтобы связать якобы беспроблемное прошлое с их собственным менее чем приятным опытом, авторам таких мифов приходилось добавлять некоторые моменты из прошлого, например, грехопадение, когда уровень поддержки Провидения сокращался. При сравнении Земли с космическим кораблём обычно считается, что грехопадение неизбежно или уже происходит.
В принципе заурядности содержится похожее заблуждение. Рассмотрим следующий аргумент, выдвинутый биологом-эволюционистом Ричардом Докинзом: отличительные признаки человека, как и всех других организмов, развивались в условиях естественного отбора в наследственной среде. Поэтому наши органы чувств и могут распознавать цвета и запах фруктов и звуки, издаваемые хищниками: подобные навыки наших предков повышали шансы на выживание и появление потомства. По тем же самым причинам, подчёркивает Докинз, в ходе эволюции на распознавание явлений, не имеющих отношение к выживанию, ресурсы не тратились. Так, например, мы не можем различать цвета большей части звёзд невооружённым глазом. Ночью человек видит плохо, все цвета сливаются в один, а всё потому, что из-за этого ограничения умерло недостаточно много наших предков и ничто не вынуждало нас эволюционировать в этом направлении. И далее Докинз говорит, теперь уже опираясь на принцип заурядности: нет причин полагать, что в этом отношении наш мозг чем-то отличается от глаз; мозг развивался так, чтобы справляться с узким классом явлений, которые обычно происходят в биосфере, приблизительно в человеческом масштабе с точки зрения размера, времени, энергии. Многие явления во Вселенной находятся за пределами этих масштабов. Некоторые из них убили бы нас мгновенно, а некоторые вообще никак не влияли на жизнь первых людей. Получается, что раз органы чувств человека не в состоянии обнаружить нейтрино, или квазары, или другие важные во вселенском масштабе явления, то нет и причин полагать, что его мозг сможет понять, как они устроены. Мы до некоторой степени уже в них разобрались, но нам просто повезло, и не стоит ожидать, что эта полоса везения продлится долго. Таким образом, Докинз соглашается с биологом-эволюционистом предыдущего поколения Джоном Холдейном, который считал, что «Вселенная не только необычнее, чем мы полагаем, но необычнее, чем мы можем предположить».
Это поразительное и одновременно парадоксальное следствие принципа заурядности: утверждается, что все человеческие способности, включая такие отличительные, как способность создавать новые объяснения, обязательно обусловлены ограниченностью и избирательностью взглядов. Отсюда, в частности, следует, что научный прогресс не может идти дальше некоего предела, заданного биологическим строением человеческого мозга. И мы должны ожидать, что этот предел будет достигнут скорее раньше, чем позже, и когда это случится, мир перестанет иметь смысл (или так будет казаться). Тогда ответом на вопрос, заданный мною в конце главы 2, о том, могут ли научная революция и Просвещение в более широком смысле быть началом бесконечности, будет однозначное «нет». Наука, несмотря на все свои успехи и стремления, окажется, по сути, парохиально ограниченной и, как это ни парадоксально, антропоцентрической.
В этом принцип заурядности и образ «Космического корабля Земля» сходятся. Они оба говорят о крохотном, дружественном по отношении к человеку «пузыре», внутри чуждой и неотзывчивой Вселенной. В аналогии с кораблём это пузырь физический — биосфера. А в принципе заурядности он прежде всего концептуальный и задаёт пределы человеческих возможностей в понимании мира. Как мы увидим, эти два пузыря взаимосвязаны. С обеих точек зрения антропоцентризм верен внутри них: там в мире нет проблем, он уникальным образом соответствует желаниям человека и его пониманию. Вне его — только неразрешимые проблемы.
Докинз же придерживается другой точки зрения. Он пишет
«Я полагаю, что упорядоченная Вселенная, Вселенная, которая безразлична к заботам людей, Вселенная, в которой всё имеет объяснение, даже если до него нам ещё идти и идти, — место более красивое, более удивительное, чем Вселенная, обряженная в очень специальную и причудливую магию».
«Расплетая радугу» (Unweaving the Rainbow, 1998)«Упорядоченная» (поддающаяся объяснению) Вселенная и в самом деле более красива (см. главу 14), хотя предположение о том, что, чтобы быть упорядоченной, она должна быть «безразлична к заботам людей», — это заблуждение, связанное с принципом заурядности.
Любое предположение о том, что мир необъясним, может привести только к исключительно неразумным объяснениям. Ведь необъяснимый мир — это всё равно что Вселенная, «обряженная в очень специальную и причудливую магию»: по определению ни одна гипотеза о мире, находящемся за границами пузыря объяснимости, не может быть разумнее объяснения, говорящего, что там правит Зевс, или практически любого другого мифа, или выдуманной истории.
Более того, раз то, что находится снаружи пузыря, влияет на наши объяснения того, что у него внутри (а иначе мы могли бы вполне без этого обойтись), внутренняя часть тоже, вообще говоря, необъяснима. Она кажется объяснимой только в том случае, если мы предусмотрительно не будем задавать определённые вопросы. Это странным образом напоминает интеллектуальный ландшафт эпохи до Просвещения, в котором Земля и небо были разграничены. Этот парадокс присущ принципу заурядности: вопреки тому, что им движет, здесь он отбрасывает нас назад к архаичному, антропоцентрическому, донаучному пониманию мира.
По существу, принцип заурядности и метафора «Космического корабля Земля» пересекаются в вопросе о пределах достижимого: и там, и там утверждается, что сфера достижимого для определённого человеческого способа существования — то есть решения проблем, создания знаний, приспособления окружающего мира к своим нуждам, — ограничена. Оба они говорят, что границы эти немногим дальше того, что уже достигнуто. Любая попытка выйти за них с неизбежностью приведёт к провалу или катастрофе соответственно.
Обе идеи также опираются на одинаковый, по сути, довод, состоящий в том, что если такого предела нет, то не будет и объяснения тому, что человеческий мозг продолжает удачно адаптироваться за рамками тех условий, в которых он сформировался. Почему сфера действия одной из триллионов адаптаций, когда-либо существовавших на Земле, должна быть неограниченной, а все остальные при этом не выходят за рамки крошечной, незначительной, нетипичной биосферы? Любую степень досягаемости можно объяснить, и это вполне понятно. Но что если объяснение есть, но оно не имеет отношения к эволюции или биосфере?
Представьте себе, что стая птиц вида, эволюция которого протекала на одном острове, решает перелететь на другой. И там они по-прежнему найдут применение своим крыльям и глазам. Это пример применимости имеющихся адаптаций. И это можно объяснить, опираясь на то, что крылья и глаза работают согласно универсальным законам физики (аэродинамики и оптики соответственно). Конечно, законы применяются не идеально; но атмосферные условия и условия освещения на островах достаточно схожи, согласно критериям, задаваемым этими законами, и одни и те же адаптации срабатывают и там, и там.
Таким образом, птицы вполне могут переместиться в горизонтальном направлении на остров за много километров от своего, но если бы их подняли всего на несколько километров вверх, они не смогли бы махать крыльями из-за слишком низкой плотности воздуха. Знания о том, как летать, которыми в неявном виде обладают птицы, на большой высоте оказываются бесполезны. А если поднять птиц ещё выше, то откажут глаза и другие органы. Устройство глаз не имеет такой большой применимости: глаза позвоночных заполнены жидкой водой, а вода замерзает в стратосфере и закипает в космическом вакууме. А вот менее жестокий вариант: птицы умерли бы, если, имея плохое ночное зрение, попали бы на остров, где организмы, являющиеся их пищей, ведут исключительно ночной образ жизни. По той же причине биологические адаптации имеют предел применимости и в плане изменений привычной среды обитания, что может приводить и приводит к вымиранию.
Если адаптации этих птиц действительно имеют достаточную силу, чтобы вид мог выжить на новом острове, они создадут там колонию. В последующих поколениях у мутантов, немного лучше адаптированных к условиям на новом острове, потомства будет в среднем больше, и в ходе эволюции популяция адаптируется более точно и приобретёт знания, необходимые для выживания на этом острове. Так и предки человека колонизировали новые ареалы обитания и начинали жить по-новому. Но к тому времени, как наш вид мог бы проэволюционировать, наши полностью человеческие предки достигали во многом тех же результатов в тысячу раз быстрее, за счёт развития культурных знаний. Поскольку они ещё не знали, как заниматься наукой, их знания были лишь немного менее избирательными, чем биологические. И состояли они из эмпирических правил. А прогресс, хотя и быстрый по сравнению с биологической эволюцией, шёл медленно по меркам того, к чему приучило нас Просвещение.
Со времён Просвещения технологический прогресс особенно зависел от создания объяснительных знаний. Тысячелетиями люди мечтали полететь на Луну, но только с появлением теорий Ньютона, описывающих поведение таких невидимых сущностей, как сила и количество движения, они начали понимать, что для этого нужно.
В этой всё более и более глубокой связи между объяснением устройства мира и управлением им нет ничего случайного, она является частью глубинной структуры мира. Возьмём набор всех возможных трансформаций физических объектов. Некоторые из них (как, например, перемещение быстрее скорости света) не происходят никогда, потому что противоречат законам природы; другие (как, например, образование звёзд из первичного водорода) происходят спонтанно; а некоторые (как, например, когда из воздуха и воды получаются деревья или из исходных материалов строится радиотелескоп) возможны, но случаются только при наличии необходимых знаний, например, закодированных в генах или мозгу. Других вариантов не существует. Иначе говоря, каждая предполагаемая физическая трансформация, которую нужно осуществить за заданное время с использованием заданных ресурсов или при любых других условиях:
— либо невозможна, потому что противоречит законам природы;
— либо достижима при наличии соответствующих знаний.
Эта важная дихотомия существует, потому что если бы были трансформации, технологически недостижимые независимо от используемых знаний, то сам этот факт был бы проверяемой закономерностью природы. Но все природные закономерности объяснимы, поэтому объяснение такой закономерности само было бы законом природы или следствием других законов. Так что повторю, что всё, что не противоречит законам природы, достижимо при наличии соответствующих знаний.
Эта фундаментальная связь между объяснительными знаниями и технологиями объясняет ошибочность аргумента Холдейна — Докинза о том, что Вселенная необычнее, чем мы можем даже предположить, а также почему пределы человеческих адаптаций носят другой характер, чем все другие адаптации в биосфере. Способность создавать и использовать объяснительные знания позволяет людям трансформировать природу, что в конечном счёте не ограничено парохиальными факторами, в отличие от всех других адаптаций, а ограничено лишь универсальными законами. Поэтому объяснительные знания, а значит, и люди, которых я впредь буду определять как существа, способные создавать объяснительные знания, в масштабе Вселенной важны.
Что касается остальных видов, населяющих Землю, то границы их возможностей можно определить, просто выписав все ресурсы и условия окружающей среды, от которых зависят их адаптации. В принципе, для этого достаточно исследовать молекулы ДНК, потому что именно в них закодирована вся генетическая информация (в форме последовательностей маленьких молекул, называемых «основаниями»). Как пишет Докинз:
«Генофонд формируется и оттачивается поколениями в ходе естественного отбора с целью соответствовать [определённой] среде обитания. Теоретически, подкованный зоолог должен суметь по полной расшифровке генома [набора всех генов организма] воссоздать окружающие обстоятельства, при которых происходила эта самая фигурная резьба. В этом смысле ДНК — закодированное описание среды обитания предков».
В работе Арта Вульфа «Дикая природа» (Living Wild), под редакцией Мишель А. Гилдерс (2000)Точнее говоря, «подкованный зоолог» смог бы воссоздать только те аспекты среды обитания предков организма, за счёт которых создавалось давление отбора, как, например, типы дичи, которые в ней обитали, как их нужно было ловить, чем переваривать и так далее. Всё это закономерности среды обитания. В геноме зашифровано их описание, неявно определяющее те условия среды, в которых организм может выжить. Например, всем приматам необходим витамин C. Без него они заболевают и умирают от цинги, но гены не несут в себе информацию о том, как синтезировать его. Поэтому, как только любой примат, не являющийся человеком, окажется в среде, от которой он не будет получать витамин C продолжительное время, он умрёт. Любое объяснение, в котором этот факт будет упущен, переоценит выживаемость соответствующего вида. Люди — тоже приматы, но их зона обитания не зависит от того, поставляет среда витамин C или нет. Люди могут создавать и применять новые знания о том, как синтезировать этот витамин из различных исходных материалов — в сельском хозяйстве или на химических заводах. И, что не менее важно, люди способны осознать, что, если не будут этого делать, в большинстве сред они просто не выживут.
Аналогичным образом от особенностей человеческой биохимии не зависит, может ли человек жить за пределами биосферы, скажем, на Луне. Сегодня в Оксфордшире каждую неделю (на фермах и заводах) создаётся более тонны витамина C, но то же самое можно делать и на Луне. Это относится и к воздуху, пригодному для дыхания, воде, комфортной температуре и всем другим повседневным потребностям человека. Все эти потребности можно удовлетворить при наличии подходящих знаний путём преобразования других ресурсов. Уже с помощью современных технологий можно построить на Луне самодостаточную колонию, которая бы получала энергию от Солнца, перерабатывала бы свои отходы, а сырьё добывала прямо на Луне. Лунная порода изобилует кислородом в форме оксидов металлов. Не составит труда получить из неё и многие другие элементы. Некоторые элементы на Луне редкость, так что их можно было бы доставлять с Земли, но в принципе колония может быть полностью независимой, если она будет отправлять роботизированные космические аппараты на добычу таких элементов из астероидов или сможет производить их путём трансмутации.
Я говорю именно о роботизированном космическом аппарате, потому что все технологические знания могут быть в конечном итоге воплощены в автоматизированных устройствах. Это ещё одна причина, по которой фраза «1 % вдохновения и 99 % работы в поте лица» неправильно описывает то, как происходит прогресс: рутинную работу можно автоматизировать, что и было сделано с задачей распознавания галактик на астрономических снимках. И чем больше развиваются технологии, тем меньше разрыв между вдохновением и автоматизацией. Чем больше будет таких примеров в лунной колонии, тем меньше человеку придётся прикладывать сил, чтобы жить там. В конце концов лунные поселенцы начнут воспринимать воздух как нечто само собой разумеющееся, подобно тому, как сегодня жители Оксфордшира считают само собой разумеющимся то, что, когда они открывают кран, оттуда течёт вода. Если бы и у той, и у другой популяции не было нужных знаний, их среда обитания быстро убила бы их.
Мы привыкли думать, что Земля к нам радушна, а Луна — холодное, гиблое место. Но именно таким нашим предкам казался Оксфордшир и такой, как это ни парадоксально, сегодня мне представляется рифтовая зона Восточной Африки в её первозданном состоянии. Лишь для людей — и это уникальный случай — разница между гостеприимной средой и гиблым местом определяется тем, какие знания они создали. Как только в лунную колонию будет заложено достаточно знаний, её жители могут посвятить свои силы и мысли созданию ещё большего объёма знаний, и вскоре колония перестанет быть колонией и превратится просто в дом. Никто не будет считать Луну периферией по сравнению с «естественной» средой обитания на Земле; не больше, чем мы сегодня видим фундаментальных различий между такими местами обитания, как Оксфордшир и долины Восточной Африки.
Само по себе использование знаний для проведения автоматизированных физических трансформаций — не уникальное умение людей. Это основной метод, с помощью которого выживают все организмы: ведь каждая клетка — химический завод. Разница между людьми и другими видами в том, какие именно знания они могут использовать (объяснительные, а не эмпирические правила) и как эти знания создаются (путём выдвижения гипотез и критики идей, а не за счёт вариации и отбора генов). Именно эти два отличия объясняют, почему другие организмы могут функционировать только в определённом диапазоне дружелюбных для них сред, а люди трансформируют недружелюбные среды, такие как земная биосфера, в системы обеспечения для себя. Но если любой другой организм — фабрика по превращению ресурсов определённого типа в другие такие организмы, то человеческие тела (включая мозг) — фабрики для преобразования всего и во всё, что позволяют законы природы. Они — «универсальные конструкторы».
Эта универсальность человеческой природы является частью более широкого явления, которое мы обсудим в главе 6. Такого ни у одного другого вида на Земле в настоящий момент нет. Но, поскольку это следствие способности создавать объяснения, мы обязательным образом разделяем эту особенность с любыми другими людьми, которые могут существовать во Вселенной. Возможности преобразования ресурсов, предоставляемые законами природы, универсальны, и все сущности с универсальными способностями пределы досягаемого обязательно будет одинаковыми.
Помимо людей, культурными знаниями обладают лишь несколько видов. Например, некоторые человекообразные обезьяны способны находить новые способы разбивать орехи и передавать эти знания своим сородичам. Как я покажу в главе 16, существование такого знания указывает возможный путь эволюции человекообразных обезьян в человека. Но к аргументам, приводимым в этой главе, это не имеет отношения, потому что ни один из таких организмов не способен создавать или использовать объяснительные знания. А значит, культурные знания таких организмов, по сути, носят тот же характер, что и генетические, и у них действительно маленькая и, по сути, ограниченная сфера применимости. Они являются не универсальными конструкторами, а лишь специализированными. Для них суждение Холдейна — Докинза верно: мир необычнее, чем доступно их пониманию.
В некоторых средах обитания во Вселенной наиболее эффективным путём к процветания для людей может быть изменение их собственных генов. Мы уже поступаем так сейчас в той среде, в которой живём, чтобы избавиться от болезней, которые в прошлом унесли множество жизней. Некоторые оспаривают этот вопрос, говоря (фактически), что генетически изменённый человек — уже не человек. Это ошибка антропоморфического типа. Единственная уникально важная черта человека (будь то в масштабе Вселенной или по какому-нибудь рациональному человеческому критерию) — способность создавать новые объяснения, и это общая черта для всех людей. Если вам ампутируют ногу или руку после аварии, вы останетесь человеком; вы перестанете им быть, только если лишитесь мозга. В этом отношении изменение генов с целью сделать жизнь лучше и упростить дальнейшие попытки её совершенствования, подобно тому как мы защищаем тело одеждой или вооружаем глаза телескопом.
Может возникнуть вопрос, способны ли люди вообще достигнуть большего, чем сейчас доступно человечеству. Что если, например, развитие технологий действительно бесконечно, но только для созданий с двумя противостоящими большими пальцами на каждой руке, или если научное знание не имеет границ, но только для существ, мозг которых в два раза больше нашего? Но наша способность быть универсальными конструкторами делает эти вопросы столь же несущественными, сколь и вопрос о доступе к витаминам. Если бы на каком-то этапе прогресс зависел от наличия двух больших пальцев на одной руке, то всё зависело бы не от знания, хранящегося в генах, а от того, можем ли мы научиться строить роботов или шить перчатки с двумя большими пальцами на одной руке или изменять себя так, чтобы получить этот второй палец. Если дело в том, что нужно больше памяти или думать нужно быстрее, чем может человеческий мозг, то всё зависело бы от того, смогли бы мы построить компьютеры, подходящие для решения этой задачи. Ещё раз повторю, такое уже стало нормой в области технологий.
Астрофизик Мартин Рис[15] рассуждает так: где-то во Вселенной «может быть жизнь и разум в формах, которые нам не постичь. Как шимпанзе не поймёт квантовую теорию, так и в той реальности могут быть аспекты, которые не уложатся в нашем мозгу». Но так быть не может! Потому что если необходимые способности сводятся лишь к скорости вычислений и объёму памяти, то мы сможем понять эти аспекты с помощью компьютеров так же, как веками разбирались в устройстве мира с помощью карандаша и бумаги. Как однажды заметил Эйнштейн, «с карандашом я умнее, чем без него». С точки зрения вычислительных возможностей наши компьютеры, как и мозг, уже стали универсальными (см. главу 6). Но если утверждается, что нам, возможно, не под силу на качественном уровне понять то, что доступно пониманию других форм разума, если эту нашу неспособность нельзя компенсировать автоматизацией, то это просто ещё одно утверждение о том, что мир необъясним. Действительно, оно равнозначно обращению к сверхъестественному, со всей присущей таким обращениям произвольностью, ведь если бы мы хотели добавить в своё мировоззрение воображаемую область, объяснимую только для сверхчеловека, то зачем было мучиться и опровергать мифы о Персефоне и её соратниках-богах.
Получается, что пределы возможностей человека, по сути, такие же, как и пределы самого объяснительного знания. Некая среда находится в пределах досягаемости человека, если в ней возможно создать нескончаемый поток объяснительных знаний. Это значит, что, если знания подходящего типа воплощались бы в такой среде в подходящих физических объектах, они бы сами собой выжили и продолжили увеличиваться до бесконечности. Но может ли существовать такая среда? По существу, это вопрос, который я задал в конце предыдущей главы: не иссякнет ли этот творческий потенциал? И это тот вопрос, которому аналогия Земли с космическим кораблём оставляет лишь отрицательный ответ.
Всё сводится к следующему: если такая среда существует, какими минимальными физическими свойствами она должна обладать? Первое — доступ к материи. Например, добыча кислорода из лунной породы зависит от наличия кислородных соединений. Более совершенные технологии позволили бы получать кислород путём трансмутации; но независимо от того, насколько совершенны технологии, без сырья того или иного типа всё равно не обойтись. И хотя массу можно использовать повторно, для создания неограниченного потока знаний нужно наладить непрерывное снабжение ею — как для компенсации неизбежных потерь, так и для создания дополнительного объёма памяти для хранения новых знаний по мере их создания.
Кроме того, многие из необходимых трансформаций требуют энергии: гипотезы и научные эксперименты и все эти производственные процессы должны чем-то подпитываться; а по законам физики создание энергии из ничего невозможно. Получается, что необходим и доступ к источникам энергии. Энергия и масса в некотором роде могут переходить друг в друга. Например, при трансмутации водорода выделяется энергия ядерного синтеза. Энергия может превращаться в массу в ходе различных субатомных процессов (но я не могу представить себе естественных условий, в которых это было бы наилучшим способом получения материи).
Кроме материи и энергии есть ещё один существенный компонент — это данные: информация, необходимая для проверки научных теорий. На земной поверхности полно данных. В семнадцатом веке мы смогли проверить законы Ньютона, а теорию Эйнштейна в двадцатом, но данные, благодаря которым это стало возможно — свет, идущий с неба, — поступали на Землю миллиарды лет до того и будут приходить ещё миллиарды лет. И даже сегодня мы только в начале пути: в любую ясную ночь вполне может оказаться так, что вам на голову с неба свалятся данные, благодаря которым вы будете знать, куда и как смотреть, они могут принести вам Нобелевскую премию. Если взять химию, то каждый где-либо существующий стабильный элемент присутствует и на поверхности Земли или под ней. Что касается биологии, то биосфера буквально переполнена данными о природе жизни, не говоря уже о нашей собственной ДНК, которая всегда под рукой. Насколько нам известно, здесь можно измерить все фундаментальные константы природы и проверить каждый фундаментальный закон. Всё, что нужно для бесконечного создания знаний есть здесь, в биосфере Земли, в изобилии.
То же верно и для Луны. На ней есть те же самые ресурсы массы, энергии и данных, что и на Земле. Есть небольшие отличия парохиального плана, но тот факт, что людям, живущим на Луне, придётся создавать для себя воздух, ненамного важнее того, что на Земле в лабораториях приходится создавать вакуум. Обе эти задачи можно автоматизировать, чтобы это требовало от человека произвольно мало внимания и усилий. Более того, раз люди являются универсальными конструкторами, любая проблема поиска или преобразования ресурсов может вызывать не более чем временные трудности в создании знания в данной среде. Поэтому материя, энергия и данные — это всё, что требуется от среды, чтобы в ней было возможно бесконечное создание знаний.
Хотя любая конкретная проблема — фактор временный, постоянным остаётся условие решать проблемы для выживания и продолжения создания знаний. Я уже говорил, что в истории человечества проблемы были всегда; это в равной степени относится и к прошлому, и к будущему. Сегодня и в ближайшей перспективе на Земле имеется бесчисленное множество проблем, которые нужно решить, чтобы люди хотя бы не голодали и не страдали от других ужасных условий жизни, которые существуют с доисторических времён. В ближайшие десятилетия мы столкнёмся с выбором: модифицировать биосферу, оставить всё как есть или искать промежуточный вариант. Что бы мы ни выбрали, это будет проект всепланетного управления, требующий создания огромных объёмов научного и технологического знания, а также знания о том, как рационально принимать такие решения (см. главу 13). В ещё более далёкой перспективе вопрос стоит не только в удовлетворении наших потребностей в плане комфорта и эстетических чувств, не только в избавлении отдельных людей от страданий, но и, как и всегда, в выживании нашего вида. Например, на настоящий момент на протяжении каждого века есть шанс, один к тысяче, что с Землёй столкнётся комета или астероид такого размера, что от удара погибнет существенная часть её населения. Это значит, что среднестатистический ребёнок, который сегодня рождается в США, с большей вероятностью умрёт в результате какого-нибудь астрономического события, чем разобьётся на машине. Оба события маловероятны, но, если мы не создадим гораздо больше научных и технологических знаний, чем у нас есть сейчас, мы будем беззащитны перед такими и другими формами природных катастроф, которые, в конце концов, непременно произойдут. Вероятно, есть и более близкие угрозы нашему существованию, см. главу 9.
Создание автономных колоний на Луне или ещё где-то в Солнечной системе и даже в системах других солнц станет хорошей защитой от вымирания нашего вида или от уничтожения цивилизации и поэтому (среди прочего) является чрезвычайно желательной целью. Как отметил Хокинг:
«Я думаю, в ближайшую тысячу лет человечество вымрет, если только не заселит космос. Жизни на одной-единственной планете много чего может угрожать. Но я оптимист. Мы сможем добраться до звёзд».
«Дейли Телеграф», 16 октября 2001 годаНо даже такое развитие событий далеко не беспроблемно, а многим людям недостаточно просто знать, что выживет наш вид: они хотят выжить сами. И, как и наши самые ранние предки, они хотят, чтобы обошлось без физических угроз жизни и страданий. В будущем с успешным избавлением от различных причин страданий и смерти, таких как болезни и старение, и с увеличением продолжительности жизни человека люди станут задумываться о ещё более отдалённых опасностях.
Человек всегда будет хотеть большего: он будет мечтать о прогрессе. Ведь, помимо угроз существованию, всегда будут проблемы в хорошем смысле этого слова: ошибки, пробелы, противоречивость и несостоятельность знаний, от которых нужно избавиться, включая — не в последнюю очередь — нравственные знания: знания о том, чего хотеть, к чему стремиться. Человеческое мышление ищет объяснений; и теперь, когда мы знаем, как найти их, сами мы не остановимся. Вот ещё одно заблуждение, присущее мифу об Эдеме: то, что якобы беспроблемное состояние — состояние хорошее. Некоторые богословы это отрицали, и я с ними согласен: когда нет проблем, нет и творческого мышления, а это равносильно смерти.
Все эти виды проблем (связанные с выживанием, прогрессом, нравственностью, простым любопытством) связаны между собой. Например, можно ожидать, что наша способность справляться с угрозами существованию так и будет зависеть от знаний, которые изначально были созданы только ради самих знаний. Можно также ожидать, что разногласия в целях и ценностях никуда не денутся, потому что, среди прочего, нравственные объяснения частично зависят от фактов, касающихся реального мира. К примеру, моральные положения принципа заурядности и аналогии Земли с космическим кораблём строятся на необъяснимости реального мира в том смысле, в котором, согласно моим доводам, он должен быть объясним.
Надо заметить, что проблемы у нас никогда не закончатся: чем глубже объяснение, тем больше новых проблем оно создаёт. И так должно быть, хотя бы потому, что не может быть такого понятия, как окончательное объяснение: насколько плохо объяснение «это всё боги», настолько же плохой будет любая другая предполагаемая основа для всех объяснений. Она должна легко варьироваться, потому что не может ответить на вопрос: почему эта основа, а не другая? Ничто не может само себя объяснять. Это верно и в философии, и в науке, а особенно — в нравственной философии: утопия невозможна, но только потому, что наши ценности и цели могут совершенствоваться бесконечно.
Таким образом, фаллибилизм сам по себе недооценивает подверженную ошибкам природу создания знания. Создание знаний не только подвержено ошибкам, ошибки — это обычная вещь, они важны и всегда будут важны, а их исправление всегда будет ставить перед нами дальнейшие и более удачно сформулированные задачи. Поэтому максима, которую я предлагаю высечь на камне, а именно «Биосфера Земли не способна обеспечить жизнедеятельность человека», является частным случаем более общей истины, а именно, что проблемы неизбежны. Так что давайте это на камне и высечем:
Мы неизбежно будем сталкиваться с проблемами, и если конкретная проблема должна возникнуть, она возникнет. Мы выживаем и процветаем, решая проблемы по мере их поступления. И так как возможности человека в преобразовании природы ограничены только законами физики, ни один из бесконечных потоков проблем не сможет стать непреодолимой преградой. Таким образом, ещё одна и не уступающая первой по важности правда о людях и физическом мире состоит в том, что проблемы можно решить. Говоря «можно решить», я имею в виду, что это можно сделать с помощью соответствующих знаний. Это не значит, безусловно, что мы можем заполучить знания, стоит только пожелать, но в принципе они нам доступны. Давайте высечем на камне и это:
То, что прогресс и возможен, и желаем, — вероятно, наиболее значимая идея Просвещения. Она мотивирует все традиции критики, а также принцип поиска разумных объяснений. Но она допускает две практически противоположные интерпретации, и обе непонятным образом получили название «способность к совершенствованию». Первая заключается в том, что люди или их общества могут достичь состояния воображаемого совершенства, такого как нирвана у буддистов и индуистов или различные политические утопии. Вторая — в том, что любое достижимое состояние можно улучшать до бесконечности. Фаллибилизм исключает первое положение в пользу второго. Ни человеческое состояние в частности, ни наши объяснительные знания в общем никогда не будут совершенны и даже приблизительно совершенны. Мы всегда будем стоять перед началом бесконечности.
Эти две интерпретации человеческого прогресса и способности к совершенствованию исторически вдохновили появление двух широких ветвей в Просвещении, которые хоть и имеют такие общие черты, как отрицание авторитетов, настолько отличаются в важных аспектах, что совпадающее название для них весьма и весьма некстати. Утопическое «Просвещение» иногда называют континентальным (европейским), чтобы отличать его от более фаллибилистического английского, которое началось немного раньше и развивалось в совсем ином направлении. (См., например, книгу историка Роя Портера «Просвещение» (Enlightenment).) В моей терминологии приверженцы континентального Просвещения понимали, что проблемы можно решить, но не то, что они неизбежны, а последователи английского Просвещения понимали и то, и другое. Хочу отметить, что это классификация идей, а не наций или отдельных мыслителей: не все мыслители Просвещения целиком принадлежат одной ветви или другой, равно как не все мыслители соответствующего направления были рождены в одноимённой части мира. Математик и философ Николя де Кондорсе, например, был французом, хотя скорее принадлежал к тому течению, которое я называю английским Просвещением, а Карл Поппер, самый ярый сторонник английского Просвещения в двадцатом веке, родом из Австрии.
Континентальное Просвещение с нетерпением ждало совершенного состояния, что привело к интеллектуальному догматизму, политическому насилию и новым формам тирании. Типичными примерами являются Великая французская революция 1789 года и последовавший за ней режим террора. Английское Просвещение, которое было эволюционным и осознавало склонность человека к ошибкам, с нетерпением ждало появления институтов, которые не подавляли бы постепенные, продолжающиеся изменения. Оно также с восторгом относилось к мелким улучшениям, не ограниченным в будущем. (См., например, книгу историка Дженни Аглоу «Лунные люди» (Lunar Men).) Я полагаю, что именно это движение было успешно в своём стремлении к прогрессу, и когда на страницах этой книги я говорю о Просвещении, я имею в виду английский его вариант.
Чтобы исследовать пределы достижимого для человечества (или людей, или прогресса), нужно рассматривать не такие места, как Земля и Луна, которые необычайно богаты ресурсами; давайте вернёмся в типичное место. Земля полна материей, энергией и данными, но в межгалактическом пространстве всё это представлено в минимальных количествах. Минералов там мало, над головой нет огромного ядерного реактора, дающего бесплатную энергию, на небе нет света, нет никаких явлений, которые доказали бы справедливость законов природы. Там пусто, холодно и темно.
Но так ли это на самом деле? Вообще говоря, это ещё одно парохиальное заблуждение. По человеческим меркам межгалактическое пространство действительно весьма пустынно. Но в каждом из тех кубов размером с Солнечную систему содержится более миллиарда тонн материи, в основном в форме ионизированного водорода. Миллиарда тонн более чем достаточно для построения, скажем, космической станции и колонии учёных, которые будут создавать неограниченный поток знаний — осталось лишь найти того, кто знал бы, как это сделать.
Сегодня нет такого человека, которому было бы это известно. Так, для начала нужно было бы превратить часть водорода в другие элементы. Но до того, чтобы суметь собрать его из такого рассеянного состояния, нам ещё расти и расти. И хотя некоторые виды трансмутаций уже стали для ядерной промышленности обычным делом, мы пока не умеем преобразовывать водород в другие элементы в промышленных масштабах. На данный момент наших технологий не хватит даже для построения простого термоядерного реактора. Но физики уверены, что это не запрещено законами физики, а раз так, то, как всегда, остаётся только понять, как это сделать.
Конечно, космическая станция массой миллиард тонн недостаточно велика для процветания в долгосрочной перспективе. Её жители захотят расширения, и это не представляет принципиальной проблемы. Как только они начнут добывать из «своего» куба водород, его запасы станут восполняться из окружающего пространства, откуда станут поступать миллионы тонн водорода в год. (Также считается, что в кубе содержится ещё больше тёмной материи, но мы не знаем, как использовать её с пользой для себя, так что давайте в нашем мысленном эксперименте этим пренебрежём.)
А что касается холода и недостатка энергии, то, как я уже говорил, при трансмутации водорода выделяется энергия ядерного синтеза. Это вполне приличный источник, на несколько порядков величины превышающий текущее суммарное энергопотребление всего и всех на Земле. Так что в нашем идеальном кубе вовсе нет недостатка в ресурсах, как могло показаться при первом парохиальном рассмотрении.
Но как космической станции получать жизненно необходимый запас данных? Из элементов, созданных путём трансмутации, можно сконструировать научные лаборатории, как и на предполагаемой лунной базе. На Земле, на заре развития химии, чтобы сделать открытие, часто приходилось путешествовать в поисках материалов для опытов. Но благодаря трансмутации необходимость в этом отпадает, и в химических лабораториях на космической станции смогут синтезировать произвольные соединения из произвольных элементов. То же самое верно и для физики элементарных частиц: в этой области практически всё может служить источником данных, потому что каждый атом — потенциальный рог изобилия частиц, которые только и ждут, чтобы проявить себя, как только кто-нибудь достаточно сильно ударит по атому (с помощь ускорителя частиц) и затем пронаблюдает за результатом с помощью правильно подобранной аппаратуры. В биологии можно синтезировать ДНК и все остальные биохимические молекулы и проводить с ними эксперименты. И хотя биологические полевые вылазки будет сложно себе представить (ведь ближайшая естественная экосистема окажется на расстоянии многих миллионов световых лет), искусственные или смоделированные в виртуальной реальности экосистемы позволят создавать и исследовать произвольные формы жизни. Что же касается астрономии, то небо там для человеческого глаза чёрное, как смола, но для наблюдателя с телескопом (даже современной конструкции) оно будет заполнено галактиками. В телескоп немного большего размера можно будет разглядеть в этих галактиках звёзды, причём с достаточной детализацией, чтобы проверить большую часть существующих сегодня астрофизических и космологических теорий.
Но даже если забыть об этом миллиарде тонн вещества, наш куб не пуст. В нём много слабого света, а в нём потрясающее количество данных: их хватит, чтобы построить карту каждой звезды, каждой планеты и каждого спутника во всех ближайших галактиках с разрешением около десяти километров. Чтобы полностью извлечь эти все эти данные, телескоп должен быть оснащён чем-то вроде зеркала такой же ширины, как и сам куб, а для этого потребуется как минимум столько же материи, сколько нужно, чтобы построить планету. Но даже это не выходит за рамки возможного с учётом рассматриваемого нами уровня технологий. Чтобы собрать столько материи, межгалактическим учёным нужно будет всего лишь углубиться на расстояние нескольких тысяч длин ребра куба — дистанция, смешная по межгалактическим стандартам. Впрочем, вооружённые телескопом массой всего лишь миллион тонн, они уже смогут много рассмотреть с точки зрения астрономии. Легко будет увидеть, что на планетах с наклонной осью вращения есть смена времён года. Можно будет обнаружить жизнь, если она есть на других планетах, изучив состав их атмосфер. Более тонкие измерения позволят проверить теории о природе и истории жизни или разума на планете. И в любое мгновение в таком обычном кубе содержатся столь подробные данные сразу о более чем триллионе звёзд и их планет.
И это только в один заданный момент! Новые данные всех упомянутых типов постоянно поступают в наш куб, так что тамошние астрономы могут отслеживать изменения на небе, как это делаем мы. А видимый свет — это лишь один очень узкий диапазон электромагнитного спектра. В куб же поступают данные и во всех остальных диапазонах: от гамма- и рентгеновских лучей и до фонового микроволнового излучения и радиоволн, а сверх того ряд частиц, известных нам как космические лучи. Короче говоря, практически все каналы, по которым мы на Земле сейчас получаем данные по любой из фундаментальных наук, в межгалактическом пространстве тоже доступны.
И они несут в себе во многом то же самое: Вселенная не просто полна данных, они повсюду в ней говорят об одном и том же. Все люди во Вселенной, поняв достаточно для того, чтобы освободиться от парохиальных заблуждений, имеют, по сути, одни и те же возможности. Это базовое единство физического мира более важно, чем все описанные мною различия между нашей средой обитания и типичной межгалактической средой: фундаментальные законы природы настолько единообразны, свидетельства о них настолько повсеместны, а связь между пониманием и управлением столь неразрывна, что независимо от того, находимся ли мы в пределах своей планеты или за сотни миллионов световых лет от неё в межгалактической плазме, мы можем заниматься такой же точно наукой и добиваться точно такого же прогресса.
Итак, воображаемое типичное место во Вселенной вполне подходит для неограниченного создания знания. А значит, для этого подходят и практически все остальные типы сред, поскольку в них больше материи, больше энергии, а данные более доступны, чем в межгалактическом пространстве. В этом мысленном эксперименте был рассмотрен наихудший случай. Возможно, по законам физики создавать знания внутри, скажем, потока излучения от квазара не получится, а может, и получится. В любом случае во Вселенной в целом комфортная обстановка для создания знаний — это правило, а не исключение. Иначе говоря, правило заключается в комфортности для людей, у которых есть соответствующие знания. А тех, у кого этих знаний нет, ждёт смерть. В рифтовой зоне Восточной Африки, из которой мы все вышли, господствовали такие же правила и они господствуют до сих пор.
Как ни странно, но идеализированная космическая станция в нашем мысленном эксперименте — не что иное, как «корабль поколений», но с тем отличием, что мы сняли нереалистическое допущение о том, что его обитатели не улучшают свою среду обитания. Мы полагаем, что они уже давно решили проблему физической смерти, и поэтому «поколения» больше не являются существенными для функционирования корабля. Если оглянуться назад, концепция корабля поколений была не лучшим выбором для того, чтобы подчеркнуть хрупкость человеческой природы и её зависимость от поддержки неизменной биосферы. Это допущение противоречит самой возможности существования такого корабля. Ведь если возможно бесконечно жить на корабле в космосе, то с гораздо большим успехом можно применить ту же технологию, чтобы жить и на поверхности Земли и продолжать добиваться прогресса, который будет всё более упрощать эту задачу. И не имеет особого практического значения, разрушена биосфера или нет. Независимо от того, может ли она поддерживать жизнедеятельность других видов или нет, она определённо подходит для людей — если у них имеются соответствующие знания.
Теперь я могу перейти к важности знаний, а значит, и людей, во вселенском масштабе.
Многие вещи очевидно более важны, чем люди. Пространство и время важны, потому что они встречаются практически во всех объяснениях других физических явлений. Аналогично, важны электроны и атомы. Представляется, что человечеству нет места в этой благородной компании. Наша история и политика, наука, искусство и философия, наши стремления и нравственные ценности — всё это мелкие побочные эффекты взрыва сверхновой звезды, произошедшего несколько миллиардов лет назад, которые могут завтра пропасть в результате ещё одного такого взрыва. Сверхновые звёзды во вселенском масштабе тоже важны в некоторой степени. Но, похоже, всё, что их касается, и всё, что касается практически всего остального, можно объяснить, вообще не ссылаясь на людей или знания.
Однако это просто ещё одна парохиальная ошибка, обусловленная нашим текущим, нетипично выгодным местом в эпохе Просвещения, насчитывающей всего несколько столетий. Возможно, в итоге люди смогут колонизировать системы других солнц и, расширив свои знания, будут управлять ещё более мощными физическими процессами. Если люди живут рядом со звездой, которая может взорваться, они, возможно, захотят предотвратить этот взрыв — например, путём удаления из звезды каких-то веществ. Для такого проекта потребуется намного порядков величины больше энергии, чем ныне подвластно людям, и более передовые технологии. Но это принципиально простая задача, не требующая каких-либо шагов, которые могли бы выйти за пределы, заложенные законами физики. Так что с соответствующими знаниями этого можно достичь. Исходя из того, что нам известно, инженеры где-то ещё во Вселенной уже повседневно добиваются этого. А значит, неверно и то, что свойства сверхновых звёзд в общем не зависят от присутствия или отсутствия людей или от того, что эти люди знают и чего хотят.
В более общем смысле, если мы хотим предсказать, что будет делать звезда, сначала нужно выяснить, есть ли вокруг неё люди, и если есть, то какими знаниями они обладают и чего хотят достичь. За пределами наших парохиальных взглядов астрофизика неполна без теории человека, так же, как она неполна без теории гравитации или ядерных реакций. Отмечу, что этот вывод не зависит от предположения о том, что человечеству или кому-то ещё удастся колонизировать галактику и научиться управлять какими-либо сверхновыми звёздами: предположение о том, что им это не удастся, — это также теория о будущем поведении знания. Знание — важное явление во Вселенной, ведь, чтобы сделать предположение о практически любом явлении в астрофизике, нужно определиться, какие типы знания будут или не будут присутствовать в окрестности рассматриваемого явления. Таким образом, во всех объяснениях того, что происходит в физическом мире, знания и люди присутствуют, пусть и неявно.
Но знание важнее всего этого. Рассмотрим любой физический объект, например, планетную систему или кремниевый микрочип, а затем рассмотрим все преобразования, которые физически могут с ним произойти. Например, микрочип можно расплавить и дать ему застыть в другой форме или превратить его в чип с другим набором функций. Планетная система может разрушиться, если её звезда станет сверхновой, на одной из её планет может образоваться жизнь, или она может трансформироваться, посредством трансмутации и других футуристических технологий, в микропроцессоры. Так или иначе, класс преобразований, которые могут произойти самопроизвольно — в отсутствие знаний, — пренебрежимо мал по сравнению с тем классом, который могли бы осуществить искусственным образом разумные существа, которым бы эти преобразования были выгодны. Так что объяснения практически всех физически возможных явлений сводятся к тому, как нужно применить знания, чтобы эти явления произошли. Если вы хотите объяснить, как объект мог бы достичь температуры десять градусов или миллион, можно ссылаться на спонтанные процессы и не упоминать людей явно (даже несмотря на то, что большая часть процессов при таких температурах может протекать только при участии людей). Но если вы захотите объяснить, как можно было бы охладить объект до одной миллионной доли градуса над абсолютным нулём, вам не обойтись без подробного объяснения того, что должны сделать для этого люди.
И это только малая часть. Мысленно перенеситесь из нашей воображаемой точки межгалактического пространства в другую, как минимум в десять раз дальше. Теперь мы окажемся внутри одного из джетов — потоков излучения квазара. Как там всё устроено? Словами это едва ли получится передать: наверное, это всё равно что увидеть взрыв сверхновой звезды в упор, причём за миллионы лет сразу. Время выживания человеческого тела будет измеряться в пикосекундах. Как я уже говорил, неясно, может ли, согласно законам физики, там развиваться знание, не говоря уже о системе жизнеобеспечения людей. Эта среда отличается от доставшейся нам по наследству настолько, насколько это только возможно. Законы физики, которым она подчиняется, не имеют ничего общего с эмпирическими правилами, которые когда-либо были заложены в генах наших предках или в их культуре. Но сегодня человеческий мозг достаточно детально представляет, что там происходит.
По какой-то причине этот джет испускается так, что химический мусор на другом конце Вселенной узнает об этом и может предсказать, что произойдёт дальше и почему. Это значит, что в одной физической системе, скажем, в мозгу у астрофизика, содержится точная, работоспособная модель другой системы — джета. Не просто поверхностная картинка (хотя она там тоже есть), а объяснительная теория, заключающая в себе те же самые математические отношения и причинную структуру. Это научное знание. Более того, достоверность, с которой одна структура похожа на другую, постоянно увеличивается. В этом и заключается создание знания. В данном случае мы имеем физические объекты, очень непохожие друг на друга и подчиняющиеся различным законам физики, но включающие в себя те же самые математические и причинные структуры, которые со временем становятся всё точнее и точнее. Из всех физических процессов, протекающих в природе, только в процессе создания знаний выявляется это базовое единство.
В обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико установлен гигантский радиотелескоп, который, среди прочего, используется для поиска внеземных цивилизаций в рамках проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence). В офисе, расположенном в здании рядом с телескопом, стоит небольшой холодильник. В нём лежит закрытая бутылка шампанского. Нас будет интересовать её пробка.
Шампанское откроют, если и когда удастся обнаружить радиосигналы, передаваемые внеземной цивилизацией. Значит, если мы будем внимательно следить за бутылкой и вдруг увидим, что из неё выстреливает пробка, то можно будет сделать вывод, что внеземная цивилизация обнаружена. Пробка — это так называемый «заместитель»: физическая переменная, которую измеряют, чтобы измерить другую переменную. (Цепочки таких переменных входят во все научные измерения.) Таким образом, вся обсерватория Аресибо, включая её сотрудников и бутылку шампанского с пробкой, может рассматриваться как научный инструмент для обнаружения живущих далеко от нас людей.
Поэтому объяснить или предсказать поведение этой обычной пробки чрезвычайно сложно. Чтобы предсказать его, нужно знать, действительно ли где-то есть люди, рассылающие радиосигналы из систем других солнц. А чтобы объяснить это поведение, придётся рассказать, откуда вам известно об этих людях и их отличительных чертах. Чтобы объяснить или предсказать с какой-либо точностью, выстрелит пробка или нет, нужно по меньшей мере получить конкретные знания, зависящие, среди прочего, от тонких свойств химического состава планет далёких звёздных систем.
Радиотелескоп в Аресибо удивительно тонко настроен именно под свою задачу. Он совершенно нечувствителен к нескольким тоннам людей, находящихся рядом с ним и даже к десяткам миллионов тонн людей на своей планете, зато он может обнаружить людей на планетах, вращающихся вокруг других солнц, но только если они — радиоинженеры. Ничто другое на Земле и даже во Вселенной не может засечь, что делают люди на расстоянии сотни световых лет, не говоря уже о такой огромной степени разборчивости.
Подобное стало возможно, в частности, благодаря тому, что немногие виды материи столь же заметны на таких расстояниях, как и этот вид мусора. А именно: единственное, что на звёздных расстояниях могут обнаружить лучшие из доступных нам инструментов, это (1) чрезвычайно ярко светящиеся объекты, такие как звёзды (или, точнее, только их поверхности), (2) несколько объектов, которые загораживают собой обзор этих светящихся объектов, и (3) результаты применения определённых знаний. Можно обнаружить такие приборы, как лазеры и радиопередатчики, предназначенные для передачи информации, а также элементы, из которых состоит атмосфера планеты и которые могли там оказаться только при наличии на ней жизни. Таким образом, эти знания являются одними из самых выдающихся явлений во Вселенной.
Замечу также, что этот радиотелескоп особенно приспособлен для обнаружения того, что ещё никогда не было обнаружено. Биологическая эволюция к такой адаптации не приведёт. Только научное знание. Это проливает свет на то, почему необъяснительные знания не могут быть универсальными. Как и всегда в науке, в рамках этого проекта можно предположить, что нечто существует, вычислить его вероятные наблюдательные свойства и построить инструмент, которым эти свойства можно обнаружить. Необъяснительным системам не по зубам концептуальная пропасть, которую удаётся преодолеть объяснительной гипотезе, готовясь к взаимодействию с неизведанными фактами или несуществующими явлениями. И это верно не только в фундаментальной науке: если нагрузка на проектируемый мост будет такой-то, говорит инженер, он рухнет, и подобное утверждение будет верным и весьма ценным, даже если мост так и не построят, не говоря уже о самой нагрузке.
Бутылки с шампанским припасены и в других лабораториях. И если выстреливает пробка, это значит, что было открыто что-то важное во вселенском масштабе. Таким образом, изучение поведения пробок от шампанского и других тому подобных заместителей человеческих действий с логической точки зрения эквивалентно изучению всего, что имеет значение. А значит, человечество, люди и знания не только важны объективно, они, безусловно, самые значительные явления в природе, единственные, чьё поведение нельзя понять, не разобравшись во всём, что имеет фундаментальное значение.
Наконец, представьте огромную разницу между тем, как будет вести себя среда сама по себе (то есть в отсутствие знания) и после того, как в неё попадёт крупица знания того самого, нужного типа. Даже после того, как лунная колония станет автономной, мы, скорее всего, будем считать, что она была создана на Земле. Но что именно было создано на Земле? Все её атомы, вообще говоря, происходят с Луны (или с астероидов). Вся потребляемая ею энергия идёт от Солнца. С Земли же пришла лишь некоторая доля знаний, и, если представить себе идеально изолированную колонию, эта доля будет быстро уменьшаться. А с физической точки зрения произошло следующее: Луна изменилась, сначала минимально, за счёт той материи, которая поступила с Земли. Но основную роль сыграла не материя, а знания, закодированные в ней. В ответ вещество Луны стало реорганизовываться всё более сложным и многогранным образом, кладя начало бесконечно длинному потоку постоянно совершенствующихся объяснений. И это — начало бесконечности.
Аналогично, в мысленном эксперименте с межгалактическим пространством мы представили «инициирование» типичного куба, и в результате само межгалактическое пространство начало производить поток всё более совершенствующихся объяснений. Заметьте, как преобразованный куб отличается от типичного. Масса типичного куба примерно совпадает с массой любого из миллионов других окружающих его кубов, и она практически не меняется на протяжении многих миллионов лет. Преобразованный куб более массивен, чем его соседи, и его масса постоянно увеличивается, ведь его обитатели систематически захватывают материю и наполняют её знаниями. Масса типичного куба тонким слоем распределена по всему его объёму, а большая часть массы преобразованного куба сосредоточена в его центре. В типичном кубе в основном содержится водород, а в преобразованном — все элементы. Типичный куб не производит энергию, а преобразованный получает её из массы с существенной скоростью. В типичном кубе полно данных, но большая их часть просто проплывает мимо, не вызывая каких-либо изменений. В преобразованном кубе данных ещё больше, в основном они создаются на месте и обнаруживаются с помощью постоянно совершенствующихся инструментов, а в результате всё быстро меняется. Типичный куб не излучает энергии, а преобразованный вполне может передавать объяснения в пространство. Но, наверное, самая большая с физической точки зрения разница заключается в том, что, как и любая система, создающая знания, преобразованный куб исправляет ошибки. И это можно было бы заметить, попытавшись изменить или забрать из него материю: этому будет сопротивление!
Тем не менее представляется, что большинство сред пока не создают никаких знаний. То есть нам такие неизвестны, кроме как на Земле или около неё, и то, что происходит где-то ещё и что мы видим, кардинально отличается от того, что могло бы происходить при повсеместном создании знаний. Но Вселенная ещё молода. Среда, которая сейчас ничего не создаёт, может начать это делать в будущем. То, что будет обычным делом в отдалённом будущем, может быть совсем не похоже на то, что является обычным делом сейчас.
Подобно динамиту, ждущему искры, невообразимое множество сред во Вселенной замерло в ожидании, уже много эр подряд в них ничего не происходит, данные либо формируются вслепую и сохраняются, либо изливаются в пространство. Практически все они при наличии соответствующих знаний мгновенно и необратимо взорвались бы кардинально новым типом физической активности: интенсивным созданием знаний со сложностью, универсальностью и охватом унаследованными от законов природы и трансформирующими среду из того, что обычно сегодня, в то, что будет обычно в будущем. И если мы захотим, этой искрой можем стать мы.
Терминология
Человек — существо, способное создавать объяснительные знания.
Антропоцентрический — отводящий человеку или людям центральную роль.
Фундаментальное или существенное явление — то, которое необходимо в объяснении многих явлений или чьи отличительные черты требуют особого объяснения в терминах фундаментальных теорий.
Принцип заурядности — «Человечество не представляет собой ничего особенного».
Парохиальность, или узость взглядов — ошибочное принятие того, что кажется, за реальность, или местных закономерностей за универсальные законы.
«Космический корабль Земля» — «биосфера — система жизнеобеспечения человечества».
Конструктор — устройство, которое способно сделать так, что другие объекты подвергнутся преобразованиям, а само оно при этом не изменится.
Универсальный конструктор — конструктор, который может при наличии соответствующей информации сделать так, что любое сырьё подвергнется любым физически возможным трансформациям.
Значения «начала бесконечности», упоминаемые в этой главе
— Тот факт, что всё, что не запрещено законами природы, достижимо при наличии подходящих знаний. «Проблемы можно решить».
— Фазу рутинного труда всегда можно автоматизировать.
— Физический мир дружественен к знаниям.
— Люди — это универсальные конструкторы.
— Начало неограниченного создания объяснений.
— Среды, способные порождать нескончаемый поток знаний, если их правильно подготовить, то есть практически все среды.
— Тот факт, что новые объяснения приводят к новым проблемам.
Краткое содержание
Как принцип заурядности, так и метафора «Космического корабля Земля», вопреки задумке, безнадёжно ошибочны и обусловлены парохиальностью (узостью взглядов). С наименее ограниченной из доступных нам точек зрения, люди — самые важные существа в космическом порядке вещей. Они «полагаются» не на окружающую их среду, а на себя и создают для этого знания. И как только появляется подходящее знание (по сути, знание эпохи Просвещения), люди способны разжечь прогресс, который будет длиться неограниченно.
Не считая мыслей людей, единственный известный процесс, в результате которого могут появляться знания, — это биологическая эволюция. Созданные в её ходе знания (кроме тех, что созданы посредством людей) — изначально ограничены и парохиальны. Но они всё же очень схожи с человеческими. О том, что в них общего и чем они отличаются, — в следующей главе.
4. Процесс творения
И в голове человека, и в ходе биологических адаптаций знания создаются путём эволюции в широком смысле слова: варьирование существующей информации, чередующееся с отбором. В случае человеческого знания варьирование осуществляется через догадку, а отбор — путём критики и эксперимента. В биосфере варьирование состоит из мутаций (случайных изменений) генов, а естественный отбор благоприятствует вариантам, которые больше всего усиливают репродуктивные возможности своих организмов, и в результате эти модификации генов распространяются по популяции.
То, что ген адаптировался к заданной функции, означает, что лишь немногие изменения (а может быть, их и нет совсем) улучшили бы его способность выполнять эту функцию. Некоторые изменения, возможно, никак не скажутся на этой способности с практической точки зрения, но большая часть из тех, которые скажутся, только ухудшат её. Другими словами, хорошие адаптации, как и разумные объяснения, отличаются тем, что их сложно варьировать так, чтобы они продолжали выполнять свою функцию.
И у мозга человека, и у молекул ДНК много функций, но среди прочего они представляют собой универсальную среду для хранения информации: они в принципе способны хранить информацию любого типа. Более того, те два типа информации, к хранению которых они соответственно приспособились в ходе эволюции, имеют одно общее свойство вселенской важности: как только такая информация оказывается в подходящей среде, она стремится в ней остаться. Маловероятно, что такая информация, которую я называю знанием, может появиться не путём исправления ошибок в ходе эволюции или развития мысли, а как-то ещё.
Эти два типа знания также имеют важные различия. Одно заключается в том, что биологическое знание не имеет объяснительной природы, а посему у него ограниченная применимость; у объяснительных человеческих знаний может быть широкая и даже неограниченная сфера применимости. Другое различие в том, что мутации носят случайный характер, а гипотезы можно выстраивать намеренно, с какой-либо целью. Тем не менее с точки зрения лежащей в их основе логики схожесть этих двух типов знаний достаточно велика, и можно говорить о том, что теория эволюции сильно связана с человеческим знанием. В частности, некоторые исторические заблуждения о биологической эволюции имеют аналоги среди заблуждений о человеческих знаниях. В этой главе я опишу некоторые из таких заблуждений, а также приведу объяснение биологических адаптаций, а именно современной дарвинистской теории эволюции, которую иногда называют «неодарвинизмом».
Креационизм
Креационизм предполагает, что все биологические адаптации были задуманы и созданы неким сверхъестественным существом или существами. Как говорится, «это всё боги». Как я объяснял в главе 1, теории такого вида — объяснения неразумные. Без добавления сложно варьируемых деталей они не позволят даже взяться за проблему; равным образом вы не получите Нобелевскую премию, заявив, что «это всё законы физики», и не раскроете тайну фокуса, сказав, что «это всё фокусник».
До исполнения фокуса его объяснение должно быть известно изобретателю трюка. Источник этого знания — это источник фокуса. Аналогично, чтобы объяснить феномен биосферы, нужно объяснить то, как могли быть созданы содержащиеся в её адаптациях знания. В частности, тот, кто якобы создал организм, должен был создать и знания о том, как этот организм функционирует. Таким образом, креационизм неизбежно сталкивается с дилеммой: был ли «дизайнер» сверхъестественным существом — оказавшимся «в нужном месте» со всеми нужными знаниями — или нет? Существо, которое «взяло и оказалось в нужном месте», не может служить объяснением (по отношению к биосфере), потому что тогда проще сказать, что сама биосфера «просто взяла и образовалась», со всеми теми знаниями, заключёнными в организмах. С другой стороны, в той самой степени, в которой креационистская теория объясняет, как сверхъестественные существа придумывали и создавали биосферу, они уже не являются сверхъестественными — это просто некие существа, которых никто не видел. Это могла быть, например, внеземная цивилизация. Но тогда эта теория — уже не совсем креационизм, разве что если она постулирует, что и внеземных создателей создали сверхъестественные существа.
Более того, у автора любой адаптации по определению должно было быть намерение сделать её такой, какая она есть. Но это с трудом согласуется с создателем, предусматриваемым практически любой креационистской теорией, а именно с божеством или божествами, достойными поклонения; в реальности же многие биологические адаптации имеют явно неоптимальные свойства. Например, в глазах позвоночных нервы и кровеносные сосуды находятся перед сетчаткой, поглощая и рассеивая падающий свет, отчего картинка ухудшается. Также есть слепое пятно — зона, в которой зрительный нерв проходит сквозь сетчатку по пути в мозг. У некоторых беспозвоночных, например у кальмаров, строение глаза в целом такое же, но без указанных недостатков. Эти недостатки не сильно сказываются на работе глаза, но смысл в том, что они напрочь не соответствуют функциональному назначению глаза, и наличие их противоречит идее о том, что такое назначение было задумано божественным создателем. Как писал в «Происхождении видов» Чарльз Дарвин: «С той точки зрения, что каждый организм со всеми его частями был специально создан, совершенно непонятно, каким образом, так часто могут встречаются органы, бесполезность которых очевидна…»[16]
Существуют даже примеры нефункционального строения. Например, у многих животных есть ген для выработки витамина C, но у приматов, в том числе и у людей, этот ген, хоть и различимо присутствует, ни на что негоден: он просто ничего не делает. Этот факт очень сложно объяснить, если не признать его рудиментарным признаком, унаследованным приматами от своих предков, таковыми не являвшихся. Можно было бы прикрываться тем, что все эти признаки очевидно плохого строения всё-таки имеют какие-то необнаруженные цели. Но это объяснение неразумно: с его помощью можно было бы утверждать, что любая плохо продуманная или вообще не придуманная сущность была спланирована идеально.
Ещё одна характеристика, которую все религии приписывают создателю, — щедрость. Но, как я говорил в главе 3, биосфера гораздо менее приятна для своих обитателей, чем что-либо, что мог придумать щедрый или хотя бы отчасти порядочный человек-создатель. В теологическом контексте этот факт известен как «проблема страдания» или «проблема зла» и часто используется в качестве аргумента против существования Бога. Но в этом контексте его легко отвести. Обычно говорят, что, возможно, у сверхъестественного существа другое понятие о нравственности или, возможно, мы слишком интеллектуально ограничены, чтобы понять, насколько на самом деле нравственна биосфера. Однако здесь меня волнует не вопрос существования Бога, а только то, как объяснить биологические адаптации, и в этом отношении доводы в защиту креационизма имеют тот же фатальный изъян, что и аргумент Холдейна — Докинза (глава 3): мир, который «необычнее, чем мы можем предположить», неотличим от мира, «обряженного в магию». Все такие объяснения неразумны и плохи.
Центральный недостаток креационизма — тот факт, что в нём происхождению знания в ходе адаптаций либо вовсе не даётся объяснения, либо оно сверхъестественное, либо нелогичное, — также является слабым местом тех представлений о человеческом знании, которые основывались на авторитетах и существовали до Просвещения. В некоторых версиях это буквально та же самая теория, причём определённые типы знаний (такие как космология или нравственные знания и другие правила поведения), сообщались древним людям сверхъестественными существами. В других версиях парохиальные черты общества (такие как существование правящих монархов или Бога во Вселенной) защищены табу или принимаются на веру настолько некритично, что их даже нельзя рассматривать как идеи. Об эволюции таких идей и институтов мы поговорим в главе 15.
Перспектива того, что в будущем знания будут создаваться неограниченно, противоречит креационизму, так как подрывает его мотивацию. Ведь в конечном счёте с помощью изумительно мощных, по нашему мнению, компьютеров, любой ребёнок сможет разработать и воплотить в видеоигре биосферу более удачную, более сложную, а также гораздо более нравственную, чем земная, установив такое её состояние принудительно или придумав специальные законы физики, более благосклонные к просвещению, чем те, что есть сейчас. На этом этапе тот, кто якобы создал нашу биосферу покажется не только неполноценным нравственно, но и невыдающимся в умственном плане. А последнее не так-то просто проигнорировать. Устройство биосферы больше не будет приписываться религиями соответствующим божествам, так же как сегодня им больше не приписывается гром.
Самозарождение
Самозарождение — это образование организмов не от других организмов, а целиком из неживой материи, например зарождение мышей из кучи тряпок, валяющихся в тёмном углу. Теория о том, что небольшие животные постоянно спонтанно зарождаются таким образом (помимо обычного способа воспроизводства), тысячелетиями считалась общепринятой и не подвергалась сомнениям, и её воспринимали серьёзно вплоть до середины девятнадцатого века. По мере развития зоологии защитники этой теории отступали к всё более мелким животным, и в конце концов всё свелось к тому, что теперь называют микроорганизмами: плесень и бактерии, растущие в питательной среде. Для них опровергнуть теорию самозарождения экспериментально оказалось весьма сложно. Считалось, например, что для самозарождения нужен воздух, и поэтому эксперименты нельзя было проводить в воздухонепроницаемых контейнерах. Но в итоге теория была опровергнута блестящим экспериментом биолога Луи Пастера в 1859 году одновременно с публикацией теории эволюции Дарвина.
Но никакого эксперимента не требовалось, чтобы убедить учёных в том, что самозарождение — плохая теория. Фокус не может быть результатом действия настоящей магии — когда фокусник просто приказывает чему-то случиться, — фокус должен основываться на знаниях, которые были каким-то образом созданы заранее. Аналогично, биологам достаточно было просто задаться вопросом: откуда знание о том, как создать мышь, появляется в тряпках и как оно потом превращает тряпки в мышь?
Попытка объяснить самозарождение, предпринятая Блаженным Августином (354–430 годы), заключалась в том, что любая жизнь начинается из «семян», из которых часть переносится живыми организмами, а часть распределена по всей Земле. Оба типа семян были созданы во время сотворения мира. Из обоих типов при подходящих условиях могли развиваться новые особи соответствующих видов. Августин находчиво предполагал, что поэтому, возможно, в Ноев ковчег и не пришлось сажать невероятно много животных: большая часть видов смогла возродиться после Всемирного потопа без помощи Ноя. Однако согласно этой теории организмы не образуются исключительно из неживой материи. Эти разнесённые по всей Земле семена — тоже форма жизни, как и настоящие семена: в них будут содержаться все знания, накопленные организмом в ходе адаптаций. Таким образом, теория Августина, как и сам он подчёркивал, — просто форма креационизма, а не теория самозарождения. В некоторых религиях Вселенная рассматривается как постоянный процесс сверхъестественного создания. В таком мире все виды самозарождения проходили бы под заголовком «креационизм».
Но если мы настаиваем на разумных объяснениях, то должны вычеркнуть креационизм по причинам, приведённым выше. Что же касается самозарождения, остаётся только одна возможность: это может просто требоваться по законам физики. Например, мыши могут сами собой формироваться при определённых обстоятельствах, как кристаллы, радуга, торнадо или квазары.
Сегодня, когда известны фактические молекулярные механизмы зарождения жизни, эта идея кажется абсурдной. Но чем плоха эта теория сама по себе, как объяснение? Такие явления, как радуга, имеют характерный вид, в котором они продолжают проявляться снова и снова, но никакой информации от одного случая к другому не передаётся. А кристаллы даже ведут себя похожим на поведение живых организмов образом: если поместить кристалл в подходящий раствор, он будет притягивать больше молекул подходящего типа и выстроит их так, чтобы они больше всего напоминали такой же кристалл. Раз кристаллы и мыши живут по одним и тем же законам физики, то почему самозарождение можно считать разумным объяснением появления первых, но не последних? Ответ, как ни парадоксально, происходит из довода, который изначально предназначался для обоснования креационизма.
Телеологический довод
«Телеологический довод» тысячелетиями служит одним из классических «доказательств» существования Бога, и заключается он в следующем. По-видимому, некоторые вещи в мире были кем-то задуманы, но не людьми; поскольку «у замысла должен быть творец», то должен существовать Бог. Как я уже говорил, это плохое объяснение, потому что оно не отвечает на вопрос, как могло быть создано знание о том, как создать такие замыслы? («Кто придумал творца?» и т. д.) Но и телеологический довод допускает обоснованное применение, и раньше всех им воспользовался древнегреческий философ Сократ. Вопрос был в следующем: допустим, боги создали мир, но следят ли они за тем, что в нём происходит? Ученик Сократа Аристодем утверждал, что нет. А другой его ученик, историк Ксенофонт, вспоминал ответ Сократа[17]:
…Не похоже ли на дело промысла вот ещё что: так как зрение слабо, то он защитил его веками… бровями, словно навесом, отделил место над глазами, чтобы даже пот с головы не портил их. <…> Рот, через который живые существа вводят в себя пищу, какую желают, он поместил близ глаз и носа? А так как то, что выходит из человека, неприятно, то он направил каналы этого в другую сторону, как можно дальше от органов чувств. Всё это так предусмотрительно устроено: неужели ты затрудняешься сказать, что это? — дело ли случайности, или творение разума?
Нет, клянусь Зевсом, отвечал Аристодем, если смотреть на это с такой точки зрения, то оно очень похоже на искусное произведение какого-то гениального, любящего живые существа художника.
А то, что он насадил стремление к деторождению, насадил в матерях стремление к выкармливанию, а во вскормленных детях величайшую любовь к жизни и величайший страх к смерти?
Без сомнения, и это похоже на искусную работу кого-то, поставившего себе целью существование живых существ.
И Сократ был прав, когда указал, что наличие видимых признаков замысла в живых существах требует объяснения. Это не могло получиться «случайно». В особенности потому, что указывает на присутствие знания. Но как было создано это знание?
Однако Сократ так и не сформулировал, что составляет видимые признаки замысла и почему. Есть ли они у кристаллов и радуги? У Солнца или лета? Чем они отличаются от биологических адаптаций, таких как брови?
Вопрос о том, что же именно требует объяснения в «видимых признаках замысла», первым начал решать священник англиканской церкви Уильям Пейли, сторонник телеологического довода. В 1802 году, ещё до рождения Дарвина, в своей книге «Естественное богословие» (Natural Theology) он привёл следующий мысленный эксперимент. Он предположил, что, проходя по пустырю, нашёл камень или, в другом варианте, часы. И в том, и в другом случае он задался вопросом, а как появился этот объект. И он показал, почему появление часов потребует совершенно иного объяснения, чем появление камня. Весь его опыт говорил о том, что камень мог лежать там вечно. Сегодня мы больше знаем об истории Земли, поэтому упомянули бы сверхновую звезду, трансмутации и охлаждение земной коры. Но это никак не повлияло бы на аргумент Пейли. Он говорил, что такого рода доводы могут объяснить, как появился камень или материал для изготовления часов, но только не как появились сами часы. Часы не могли лежать там вечно, как не могли и образоваться по мере затвердевания Земли. В отличие от камня, радуги или кристалла, часы не могли собраться сами собой путём самозарождения из исходных материалов и сами не могли быть таким сырьём. Но почему именно не могли, спрашивал Пейли: «Почему такой ответ не подойдёт в случае с часами, но подходит в случае с камнем; почему его можно принять во втором случае, но нельзя в первом?» И он знал почему. Потому что часы не только служат какой-то цели, они приспособлены для этого:
По этой причине и ни по какой другой, а именно, что, когда мы начинаем исследовать часы, мы понимаем (что было невозможно с камнем), что несколько их частей заложены в корпус и собраны с некоторой целью, например, что они имеют такую форму и так подогнаны, чтобы производить движение, и что это движение отрегулировано так, чтобы показывать часы дня.
Не ссылаясь на функцию часов — показывать точное время, — объяснить, почему они такие, какие есть, нельзя. Как и телескопы, о которых я говорил в главе 2, это редкая конфигурация материи. То, что часы показывают точное время, — не совпадение, и дело не в том, что их компоненты хорошо подходят для этой задачи, и не в том, что они собраны так, а не иначе. Часы должны были быть задуманы людьми. Конечно, Пейли подразумевал, что всё это ещё более верно для живого организма, скажем, для мыши. Все её «несколько частей» сконструированы (и, по-видимому, задуманы) с какой-то целью. Например, хрусталики глаз имеют схожее предназначение с линзами телескопа, они фокусируют свет с тем, чтобы на сетчатке сформировалось изображение, которое служит для распознавания еды, опасности и т. д.
На самом деле Пейли не знал, зачем вообще нужны мыши (хотя нам это известно, см. раздел «Неодарвинизм»). Но даже одного глаза было бы достаточно для победоносного вывода Пейли — а именно, что свидетельство видимых признаков целенаправленного замысла состоит не только в том, что все части служат этой цели, но и в том, что, если их слегка изменить, они будут служить ей хуже или вообще перестанут служить. Хороший замысел варьировать сложно:
Если бы различные части имели не ту форму, которую имеют, не тот размер, который имеют, или были бы размещены по-другому или в другом порядке, чем то, как они размещены, то в устройстве не было бы никакого движения вообще, а если бы и было, то оно не отвечало бы цели, которой служит сейчас.
Если вещь просто пригодна для какой-то цели, но в ней нет второго качества — её сложно варьировать так, чтобы она оставалась верной цели, — то это ещё не признак адаптации или замысла. Например, время можно определять и по Солнцу, но в этом случае все детали продолжат служить цели так же хорошо, если их слегка (или даже сильно) изменить. Так же как мы трансформируем многие виды неадаптированного сырья Земли для своих целей, мы ищем и Солнцу такие применения, для которых оно никогда не было предназначено или адаптировано. Знание в этом случае находится целиком внутри нас и в солнечных часах, но не в Солнце. Зато оно заключено в часах и в мыши.
Так как же там оказались все эти знания? Как я уже говорил, Пейли мог представить себе только одно объяснение. И это была его первая ошибка:
Мы считаем неизбежным вывод, что часы кто-то должен был изготовить… Не может быть замысла без творца, хитроумного плана — без того, кто его придумал, порядка без выбора, системы без того, что можно было бы систематизировать, пригодности для какой-то цели и отношения к ней без того, что могло подразумевать цель, средств, подходящих для достижения результата… без того, чтобы определить этот результат или приспособить к нему эти средства. Организация, расположение частей, пригодность средств для достижения результата, отношение инструментов к применению подразумевают присутствие разума и рассудка.
Теперь мы знаем, что возможен «замысел без творца» — знание без того, кто его создал. Некоторые виды знания создаются путём эволюции. Я скоро коснусь этой темы. Но Пейли не виноват, что он не знал об открытии, которое ещё только предстояло сделать, — об одном из величайших открытий в истории науки.
Однако, хотя Пейли и удалось точно понять проблему, он почему-то не смог осознать, что предлагаемое им решение, креационизм, не решает её и даже исключается согласно его же собственному рассуждению. Ведь тот творец всего сущего, существование которого доказывал Пейли, также должен быть сложной сущностью, служащей определённой цели, — и уж точно не в меньшей степени, чем часы или живой организм. Значит, как с тех пор подмечали многие критики, если в приведённом выше тексте Пейли заменить часы — творцом, мы вынудим Пейли считать «неизбежным вывод, что творца всего сущего кто-то должен был сотворить». Поскольку мы пришли к противоречию, то телеологический довод, улучшенный Пейли, исключает существование творца всего сущего!
Замечу, что это не в большей мере опровержение существования Бога, чем исходное утверждение было его доказательством. Но оно показывает, что в любом разумном объяснении происхождения биологических адаптаций Бог не может играть ту роль, которую ему приписывает креационизм. Это противоположно тому, к чему, как он считал, пришёл Пейли, но ведь никто из нас не выбирает, какие выводы будут сделаны из наших идей. Довод Пейли универсален в части всего, что, по его критерию, имеет видимые признаки замысла. Он важен для понимания мира в качестве разъяснения особого положения живых существ и как эталон, которому должны соответствовать разумные объяснения нагруженных знанием сущностей.
Ламаркизм
До появления теории эволюции Дарвина люди уже интересовались, могла ли биосфера и её адаптации появиться постепенно. Интересовался этим и дед Дарвина Эразм Дарвин (1731–1802), верный сторонник Просвещения. Этот процесс они называли «эволюцией», но тогда значение этого слова было не таким, каким мы знаем его сейчас. «Эволюцией» называли все процессы постепенного совершенствования независимо от их механизма. (Иногда подобная терминология встречается и сегодня, в обыденном употреблении и в качестве термина — кто бы мог подумать! — в теоретической физике, где «эволюция» означает любой тип непрерывного изменения, объясняемого через законы физики.) Открытый им процесс Чарльз Дарвин назвал «эволюцией путём естественного отбора», хотя название «эволюция путём вариации и отбора» подошло бы больше.
Если бы Пейли дожил до этого времени, то он бы тоже признал, что «эволюция путём естественного отбора» — это гораздо более основательный метод объяснения, чем просто «эволюция». Ведь в отличие от первого термина последний не решает проблемы Пейли. Любая теория о совершенствовании ставит вопрос: как создаётся знание о том, как осуществить усовершенствование? Были ли оно изначально? Теория, которая говорит, что да, было, — это креационизм. Или оно «появилось само собой»? Теория, которая полагает, что так и было, — это самозарождение.
В первые годы девятнадцатого века натуралист Жан-Батист Ламарк предложил ответ, который теперь известен как ламаркизм. Его ключевая идея — в том, что улучшения, приобретённые организмом за время его жизни, могут наследоваться потомками. В основном Ламарк имел в виду усовершенствования органов, конечностей и прочее, как, например, удлинение и выпрямление активно используемых особью мышц и ослабление тех, которые напрягаются меньше. К такому же объяснению через задействование и незадействование пришёл независимо и Эразм Дарвин. Классическое объяснение сторонника ламаркизма: чтобы достать до листьев на более высоких ветках деревьев, когда нижние ветки уже объедены, жирафы вытягивали шею. Из-за этого она у них якобы понемногу удлинялась, а затем эта особенность, заключавшаяся в более длинной шее, передалась по наследству потомкам. Таким образом, на протяжении многих поколений жирафы с совершенно обычными шеями эволюционировали в жирафов с длинными шеями. Кроме этого, Ламарк предположил, что усовершенствования стимулировались тенденцией к усложнению, встроенной в законы природы.
Последнее — полная чепуха, ведь эволюцию адаптаций нельзя объяснить никакой сложностью: это должно быть знание. Таким образом, эта часть теории просто ссылается на самозарождение — необъяснимое знание. Возможно, Ламарка это не заботило, потому что, как многие мыслители его времени, он считал существование самозарождения само собой разумеющимся. Он даже в явном виде включил его в свою теорию эволюции: предположил, что, хотя согласно его закону природы всё новые и новые поколения организмов принимают всё более и более сложные формы, мы всё ещё можем видеть и простые создания, потому что они постоянно появляются путём самозарождения.
Некоторые считали этот взгляд вполне привлекательным. Но в нём мало общего с фактами. Самое яркое несоответствие — в том, что в реальности эволюционные адаптации носят совершенно иной характер, чем изменения, происходящие за время жизни особи. Первые включают в себя создание новых знаний, а вторые случаются, только когда уже есть адаптация для совершения этого изменения. Например, склонность мышц становиться сильнее или слабее в зависимости от использования или неиспользования управляется сложным (нагруженным знаниями) набором генов. У отдалённых предков животных не было этих генов. Объяснить, как появилось имеющееся в них знание, ламаркизм не может.
Если вы страдаете от нехватки витамина C, то ваш дефектный ген, отвечающий за его синтез, от этого не исправится — разве что вы являетесь специалистом по генной инженерии. Если поместить тигра в среду, в которой из-за своего окраса он будет выделяться больше, а не меньше, он не будет менять окрас шерсти, и такое изменение не будет унаследовано, даже если произойдёт. Всё потому, что ничто в тигре «не знает», зачем нужны полосы на шкуре. Так как же тогда любому механизму ламаркизма «узнать», что, будь у тигра на шкуре чуть больше полосок, ему перепадало бы немного больше пищи? И откуда ему «узнать», как синтезировать пигменты и как выделять их в мех, чтобы полоски получались такими, как надо?
Фундаментальная ошибка, которую делает Ламарк, имеет ту же логику, что и индуктивизм. И там, и там предполагается, что новое знание (соответственно — адаптации и научные теории) уже каким-то образом присутствуют в опыте или их из него можно механически вывести. Но правда всегда в том, что знание сначала нужно придумать, а затем проверить. И об этом как раз говорится в теории Дарвина: сначала происходят случайные мутации (они никак не учитывают проблему, которую надо решить), а затем путём естественного отбора отбрасываются вариантные гены, которые хуже справляются с передачей себя будущим поколениям.
Неодарвинизм
Центральная идея неодарвинизма — в том, что эволюция благоприятствует генам, которые лучше всего распространяются по популяции. Эта идея несёт в себе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, но об этом — ниже.
Общее заблуждение относительно дарвиновской эволюции состоит в том, что всё в ней происходит «на благо вида». Оно даёт правдоподобное, но ложное объяснение явно альтруистическому поведению в природе, когда, например, родители рискуют жизнью, чтобы защитить детей, или самые крепкие животные прикрывают стаю в момент нападения на неё, тем самым снижая свои собственные шансы на долгую и счастливую жизнь или дальнейшее потомство. Утверждается, что эволюция оптимизирует благополучие вида, а не отдельной особи. Но на самом деле эволюция не оптимизирует ни то, ни другое.
Чтобы понять почему, рассмотрим следующий мысленный эксперимент. Представьте себе остров, на котором общее число птиц определённого вида достигнет своего максимума, если они будут гнездиться, скажем, в начале апреля. Чтобы объяснить, почему оптимальной будет какая-то конкретная дата, придётся ссылаться на различные компромиссы, включающие такие факторы, как температура, численность хищников, наличие пищи, гнездового материала и так далее. Предположим, что изначально у всей популяции есть гены, которые побуждают птиц вить гнёзда в это оптимальное время. Это означало бы, что эти гены хорошо адаптированы к достижению максимальной численности особей в популяции, что можно было бы назвать «максимизацией благополучия вида».
Теперь предположим, что это равновесие нарушено появлением у одной из птиц мутантного гена, из-за которого она начинает гнездиться немного раньше, скажем, в конце марта. Допустим, что, когда птица свила гнездо, она автоматически начинает искать самца, следуя остальным генам, отвечающим за поведение вида. У этой птичьей пары, таким образом, будет самое лучшее гнездовье на острове — преимущество, которое в плане выживания потомства может легко перевесить все небольшие недостатки раннего гнездования. В этом случае в последующем поколении будет больше птиц, гнездящихся в марте, и все они снова найдут себе отличные места для гнездовья. А значит, среди гнездящихся в апреле хорошие места достанутся меньшему числу птиц, чем обычно: к тому времени, как они начнут поиск, лучшие места уже будут заняты. В последующих поколениях баланс популяции продолжит сдвигаться в сторону гнездующихся в марте. Если относительное преимущество, заключающееся в получении лучшего места для гнезда, достаточно высоко, птицы, гнездящиеся в апреле, могут вымереть вообще. Если же они снова появятся в результате мутации, то потомства у них не будет, потому что к тому времени, как они захотят гнездиться, все места будут уже заняты.
Таким образом, представленная нами изначальная ситуация, в которой гены оптимально адаптированы для максимизации численности («на пользу виду»), — неустойчива. Гены подвергаются эволюционному давлению, вследствие которого становятся менее адаптированы для выполнения указанной функции.
Это изменение наносит виду вред, поскольку в целом численность популяции снизилась (птицы перестали гнездиться в оптимальное для этого время). Вред может ещё заключаться и в том, что тем самым повышается риск вымирания, становится менее вероятным распространение в другие ареалы и так далее. Таким образом, оптимально адаптированный вид в ходе эволюции может превратиться в менее «удачливый» по любым меркам.
Если появится ещё один мутантный ген, из-за которого птицы станут гнездиться ещё раньше в марте, то всё может повториться: гены более раннего гнездования возьмут верх, а численность популяции снова снизится. Таким образом, в результате эволюции птицы будут гнездиться всё раньше и раньше, а популяция будет уменьшаться. Нового равновесия удастся достигнуть только тогда, когда преимущество, заключающееся в том, что потомок отдельной птицы получит самое лучшее место для гнезда, наконец перевесят недостатки немного более раннего гнездования. И это равновесие может быть далеко от того, что было для вида оптимально.
Связанное с этим заблуждение заключается в том, что эволюция всегда адаптивна, то есть что с ней всегда приходит прогресс или по крайней мере некоторым образом улучшается полезная функциональность, которая затем будет оптимизироваться в ходе эволюции. Этот момент часто резюмируется выражением, которое принадлежало философу Герберту Спенсеру, но, к сожалению, было позаимствовано самим Дарвином: «выживание наиболее приспособленных». Но описанный выше мысленный эксперимент показывает, что это не всегда так. Рассматриваемое эволюционное изменение навредило не только виду, но и каждой особи в отдельности: птицам, которые гнездятся на любом конкретном месте, жить стало труднее, потому что они обосновываются там в более раннее время года.
Таким образом, хотя теория эволюции и придумана для того, чтобы объяснить существование прогресса в биосфере, не всякая эволюция являет собой прогресс, и никакая (генетическая) эволюция его не оптимизирует.
Но что конкретно было достигнуто в ходе эволюции этих птиц? Была оптимизирована не функциональная адаптация вариантного гена к среде — свойство, которое впечатлило бы Пейли, — а относительная способность выживающего варианта распространиться по популяции. Ген апрельского гнездования потерял способность передаваться в следующее поколение, хотя функционально это был наилучший вариант. Заменивший его ген более раннего гнездования может всё ещё обладать приемлемой функциональностью, но наиболее приспособлен он только для того, чтобы мешать порождению иных вариантов себя самого. С точки зрения как вида, так и всех его особей, изменение, произошедшее в результате этого эволюционного эпизода, — просто беда. Но эволюции «нет до этого дела». Она благоприятствует только таким генам, которые лучше всего распространяются в популяции.
Эволюция даже может благоприятствовать генам, которые не просто субоптимальны, а абсолютно вредны для вида и всех его особей. Известный пример — большой, разноцветный хвост павлина, который, как полагают, снижает жизнестойкость его обладателя: с ним труднее убежать от хищника, и вообще он не несёт в себе никакой полезной функции. Гены, отвечающие за такой заметный хвост, доминируют только потому, что по этому принципу самки павлина выбирают себе партнёров. Почему в пользу таких предпочтений имело место давление отбора? Одна из причин — в том, что, когда самки выбирали себе самцов с заметными хвостами, их потомки мужского пола с ещё более заметными хвостами находили себе больше партнёрш. Другая причина может заключаться в том, что особь, которая смогла отрастить такой большой, разноцветный хвост, с большей вероятностью окажется здоровой. В любом случае суммарным эффектом давления отбора стало распространение по популяции генов, отвечающих за большие, разноцветные хвосты, и генов, отвечающих за предпочтение самками самцов с такими хвостами. Виду и его особям ничего другого не осталось, как испытывать последствия на себе.
Если лучше всего распространяющиеся гены вредят виду достаточно сильно, то он вымирает, и ничто в биологической эволюции не может этому помешать. Считается, что в истории жизни на Земле такое случалось много раз с видами, которым повезло меньше, чем павлинам. Называя свою блестящую книгу, посвящённую неодарвинизму, «Эгоистичный ген»[18] (The Selfish Gene), Докинз хотел подчеркнуть, что эволюция не обязательно приводит к «благополучию» вида или отдельных особей. Но, как он объяснял там же, не приводит она и к «благополучию» генов: в ходе эволюции они адаптируются не к выживанию в больших количествах, да и вообще не к выживанию, а только лишь к распространению по популяции за счёт конкурирующих генов, в частности, незначительных вариаций самих себя.
Но тогда можно ли считать просто удачей, что многие гены всё-таки обычно дают своим видам и отдельным носителям некоторые, хотя и далеко не оптимальные, функциональные преимущества? Нет. Организмы — это рабы, иначе говоря, средства, используемые генами для достижения своей «цели» распространения по популяции. (Об этой «цели» ни Пейли, ни Дарвин даже не догадывались.) Так же как и люди-рабовладельцы, гены приобретают преимущество друг перед другом отчасти за счёт того, что поддерживают в своих рабах жизнь и здоровье. Рабовладельцы не действовали во благо ни своих работников в целом, ни отдельных рабов: они кормили их, давали им жильё и даже заставляли размножаться только ради достижения своих целей. Поведение генов во многом схоже с этим.
Кроме того, существует и такая характеристика, как сфера применимости: когда оказывается, что у знания, содержащегося в гене, большая сфера применимости, с помощью этого гена особь сможет позаботиться о себе в более широком спектре обстоятельств и в большей степени, чем требуется гену лишь для распространения. Вот почему мулы могут жить, хотя и являются бесплодными. Поэтому неудивительно, что гены обычно дают своим видам и соответствующим особям некоторые преимущества, и зачастую генам удаётся повысить свою численность в абсолютном отношении. Однако не должно удивлять и то, что иногда гены делают прямо противоположное. Но то, к чему гены приспособлены, то, что они делают лучше всего в любой своей вариации, не имеет ничего общего с видом или особями или даже с их собственным выживанием в долгосрочной перспективе. Они всего лишь стремятся воссоздать себя большее число раз, чем конкурирующие с ними гены.
Неодарвинизм и знания
На своём фундаментальном уровне неодарвинизм не ссылается на что-либо биологическое. В его основе — идея репликатора (всего, что закономерно способствует копированию самого себя)[19]. Например, ген, дающий способность питаться определённым видом пищи, заставляет организм оставаться здоровым в некоторых ситуациях, когда при отсутствии его индивидуум бы ослаб или умер. Тем самым он повышает шансы организма произвести в будущем потомство, и эти потомки унаследуют и распространят копии гена.
Идеи также могут быть репликаторами. Например, таковым является хорошая шутка: когда она застревает в голове человека, его обычно тянет поделиться ею, таким образом шутка копируется в головы других людей. Идеи, являющиеся репликаторами, Докинз назвал мемами. Большинство идей репликаторами не является: они не заставляют нас передавать себя другим людям. Однако мемами (или мемокомплексами — наборами взаимодействующих мемов) являются практически все долгоживущие идеи, такие как языки, научные теории, религиозные верования, а также невыразимые состояния души, из которых составляются культуры, как то принадлежность к британцам или умение играть классическую музыку. О мемах я расскажу подробнее в главе 15.
Самая общая формулировка центрального утверждения теории неодарвинизма заключается в том, что популяция репликаторов, подверженных вариации (например, при неидеальном копировании), будет захвачена теми вариациями, которым лучше других удаётся добиться репликации себя. Это удивительная по глубине истина, которую часто критикуют либо за то, что она настолько очевидна, что её и формулировать не стоит, либо за ложность. Всё дело, как мне кажется, в том, что, хотя она самоочевидно верна, она не является самоочевидным объяснением конкретных адаптаций. Нашей интуиции больше нравятся объяснения в терминах функции или цели: что делает ген для своего носителя или его вида? Но, как мы только что видели, такую функциональность гены обычно не оптимизируют.
Итак, знания, заключённые в генах, — это знания о том, как добиться репликации за счёт конкурирующих генов. Часто гены достигают этого, попутно наделяя свои организмы полезной функциональностью, и в таких случаях их знания включают в себя заодно и знания об этой функциональности. А функциональность, в свою очередь, достигается кодированием — в генах — закономерностей среды и иногда даже эмпирических приближений к законам природы, и в таких случаях в генах непреднамеренно прописываются и эти знания. Но подлинным объяснением наличия гена всегда является то, что он добился большего числа репликации себя самого по сравнению с генами-соперниками.
Подобным же образом могут эволюционировать и необъяснительные знания человека: эмпирические правила передаются следующим поколениям не полностью, а те, которые в итоге остаются, необязательно оптимизируют соответствующую функцию. Например, изящно зарифмованное правило запомнят и будут повторять скорее, чем более точное, но написанное прозой и нескладно. К тому же человеческие знания никогда не являются совершенно необъяснительными. Всегда есть как минимум фон допущений о реальности, по отношению к которому понимается то или иное эмпирическое правило, и этот фон может сделать правдоподобными некоторые ложные правила.
Эволюция объяснительных теорий протекает по более сложному механизму. Случайные ошибки в передаче и при запоминании всё ещё играют определённую роль, но значительно меньшую. А всё потому, что разумные объяснения сложно варьировать, даже если их не проверять, а значит, случайные ошибки при передаче разумного объяснения получателю проще обнаружить и исправить. Самым важным источником варьирования объяснительных теорий является творческое мышление. Например, когда люди пытаются понять идею, которую услышали от других, они обычно понимают её в той степени, в которой она имеет для них больше всего смысла, или в зависимости от того, что они ожидают услышать или что боятся услышать. Эти смыслы предполагаются слушателем или читателем и могут отличаться от того, что намеревался сказать или написать автор. Кроме того, люди часто пытаются улучшить объяснения, даже если они дошли до них в точной формулировке: они расширяют их творчески, подстрекаемые собственными критическими замечаниями. Если затем они передают объяснение другим, они обычно стараются передать улучшенную, по их мнению, версию.
В отличие от генов, мемы при каждой репликации приобретают всё новые и новые физические формы. Люди редко выражают идеи ровно теми же словами, которыми они их услышали. Кроме этого, они переводят с одного языка на другой, из устной формы в письменную. Но на всём протяжении этого процесса мы справедливо называем результат передачи той же самой идеей — тем же самым мемом. Таким образом, для большинства мемов действительный репликатор абстрактен: это само знание. По сути, это верно и для генов: с помощью рутинных биотехнологических процедур гены переписываются в память компьютеров, где хранятся в другой физической форме. Эти записи можно перевести обратно в цепочки ДНК и встроить их разным животным. Единственная причина, по которой это ещё не стало обычным делом, состоит в том, что скопировать исходный ген проще. Но придёт день, когда гены редких биологических видов смогут выживать, добиваясь того, чтобы их записали в компьютер, а затем встраивали другим видам. Я говорю «добиваясь того, чтобы их записали», потому что биотехнологи будут записывать не всю информацию без разбора, а только ту, которая отвечает тому или иному критерию, например, «ген вида, выживание которого под угрозой». Способность таким образом заинтересовать биотехнологов может затем повлиять на сферу применимости знаний, связанных с этими генами.
Итак, и человеческие знания, и биологические адаптации — это абстрактные репликаторы: формы информации, которые, попав в подходящую физическую систему, имеют тенденцию в ней оставаться, а большинство их вариаций — нет.
Тот факт, что принципы теории неодарвинизма с определённой точки зрения самоочевидны, использовался для критики этой теории. Например, если теория должна быть верной, как она может допускать проверку? Один из ответов на этот вопрос, часто приписываемый Холдейну, заключается в том, что если бы в кембрийском слое нашли окаменевшие останки одного-единственного кролика, то вся теория была бы опровергнута. Однако это заблуждение. Возможность принять такое наблюдение будет зависеть от того, какие объяснения можно дать ему в конкретных обстоятельствах. Например, иногда случаются ошибки в идентификации останков или слоёв, и их нужно исключить путём разумных объяснений прежде, чем описывать находку как «окаменелые останки кролика, найденные в кембрийской породе».
Но даже при наличии таких объяснений наш воображаемый кролик исключит собой не саму теорию эволюции, а только доминирующие представления об истории жизни и геологических процессов на Земле. Предположим, например, что существовал некий доисторический континент, изолированный от всех других, на котором эволюция происходила в несколько раз быстрее, чем где бы то ни было, и что там в порядке конвергенции уже в кембрийскую эпоху развилось существо, похожее на кролика; предположим также, что затем континенты соединились в результате катастрофы, уничтожившей большую часть форм жизни на первом континенте, а их останки оказались погребены. Существо, похожее на кролика, было одним из немногих, кому удалось пережить катастрофу, но и оно вскоре вымерло. Для представленных фактов даже такое искусственное объяснение бесконечно лучше, чем, например, креационизм или ламаркизм, ни один из которых никак не объясняет, откуда взялись знания, явленные нам в виде кролика.
Так что могло бы опровергнуть дарвиновскую теорию эволюции? Свидетельство, которое в свете лучшего из доступных объяснений, означает, что знание образовалось как-то иначе. Например, если путём наблюдений выяснилось бы, что некий организм претерпевал только (или в основном) благоприятные мутации, как предсказывает ламаркизм или теория самозарождения, то дарвиновский постулат о «случайной вариации» был бы опровергнут. Если бы нашлись организмы, родившиеся с новыми сложными адаптациями к чему бы то ни было, которых у их родителей не было, то опровергнутым оказалось бы предположение о постепенных изменениях, а с ним и дарвиновский механизм создания знания. Если бы на свет появился организм со сложной адаптацией, важной для выживания сегодня, но не поддержанной давлением отбора в предках организма (скажем, способность находить и использовать прогнозы погоды в Интернете и исходя из этого решать, впадать в спячку или нет), то теория Дарвина опять же была бы опровергнута. Потребовалось бы совершенно новое объяснение. Столкнувшись с нерешённой проблемой, примерно такой же, которая стояла перед Пейли и Дарвином, нам бы пришлось начать искать работающее объяснение.
Тонкая настройка
В 1974 году физик Брэндон Картер вычислил, что, если бы сила взаимодействия между заряженными частицами была на несколько процентов меньше, планеты не могли бы сформироваться, и звёзды были бы единственным видом плотных объектов во Вселенной; а если бы сила была на несколько процентов больше, то звёзды не взрывались бы, и кроме как в них нигде не было бы никаких других элементов, за исключением водорода и гелия. И в том, и в другом случае не было бы сложных химических процессов, а значит, вероятно, и жизни.
Другой пример: если бы начальная скорость расширения Вселенной в момент Большого взрыва была немного выше, звёзды не образовались бы и во Вселенной не было бы ничего, кроме водорода при очень низкой и постоянно уменьшающейся плотности. Если бы эта скорость оказалась немного меньше, то вскоре после Большого взрыва Вселенная испытала бы коллапс. С тех пор похожие результаты были получены и для других физических констант, значения которых не выводятся ни из одной из известных теорий. Для большинства из них, если не для всех, оказывается, что, будь их значения немного другими, жизнь не могла бы существовать.
Этот замечательный факт приводят даже в качестве доказательства того, что эти константы были специально настроены, то есть задуманы, сверхъестественным существом. Это новая версия креационизма и телеологического довода, которая теперь исходит из видимых признаков замысла в законах физики. (Как это ни парадоксально, с учётом истории этой дискуссии, новая идея заключается в том, что законы физики должны были быть приспособлены для создания биосферы путём дарвиновской эволюции.) Это даже убедило, хотя и не должно было, философа Энтони Флю, бывшего ярого сторонника атеизма, в существовании сверхъестественного творца. Как я вскоре объясню, неясно даже, составляет ли эта тонкая настройка видимые признаки замысла в смысле Пейли; но даже если и составляет, это не меняет того факта, что отсылка к сверхъестественному представляет собой плохое объяснение. И в любом случае привлекать сверхъестественные объяснения на том основании, что текущее научное объяснение имеет изъян или что ему чего-то не достаёт, — это просто ошибка. Как мы уже выбили на камне в главе 3, проблемы неизбежны, и нерешённые проблемы найдутся всегда. Но они решаются! Наука продолжает идти вперёд даже (или особенно) после совершения великих открытий, потому что сами эти открытия вскрывают новые проблемы. Поэтому если в физике есть нерешённая проблема, то это говорит о наличии сверхъестественного объяснения не больше, чем нераскрытое преступление — о том, что оно было совершено привидением.
Есть простое возражение против мысли о том, что тонкая настройка вообще требует объяснения: у нас нет разумного объяснения, которое говорило бы, что планеты (или химия) играют существенную роль в создании жизни. Физик Роберт Форвард написал великолепный научно-фантастический роман «Яйцо дракона» (Dragon’s Egg) на основе предположения о том, что информацию можно хранить и обрабатывать путём взаимодействия нейтронов на поверхности нейтронной звезды[20], а значит, там, могут развиваться жизнь и разум. Мы не знаем, существует ли на самом деле такой гипотетический нейтронный аналог химической среды, как не знаем и того, мог бы он существовать, будь законы физики немного другими. Точно так же мы не имеем представления о том, какие ещё среды, допускающие появление жизни, могли бы существовать при таких изменённых законах. (Мысль о том, что при возникновении схожих сред можно ожидать сходных законов физики, подрывается самим существованием тонкой настройки.)
Тем не менее, независимо от того, считать ли тонкую настройку видимым признаком замысла или нет, она ставит правомерную и важную научную проблему, и вот почему. Если правда в том, что природные константы не подогнаны с целью создать в итоге жизнь, а большая часть незначительных их вариаций всё же допускает то или иное развитие жизни и разума, хотя и в совершенно иной среде, то это будет необъяснимой природной закономерностью, а значит — проблемой, за которую может взяться наука.
Если же законы физики действительно тонко настроены, как это представляется нам сегодня, то есть две возможности: либо эти законы — единственные воплощённые в реальности (как вселенные), либо есть другие области реальности — параллельные вселенные[21] — с другими законами. В первом случае нужно ожидать, что имеется объяснение того, почему законы такие, какие они есть, и оно либо будет ссылаться на существование жизни, либо нет. Если будет, то мы окажемся отброшены назад к проблеме Пейли: тогда получится, что эти законы имели «видимые признаки замысла» по созданию жизни, а не эволюционировали. Если же объяснение не будет ссылаться на существование жизни, то останется необъяснённым другой вопрос: раз законы таковы, как они есть, по причинам, не связанным с жизнью, то почему они настроены так, что она создаётся?
Если есть много параллельных вселенных, каждая со своими законами физики, и в большинстве из них невозможна жизнь, то можно полагать, что наблюдаемая тонкая настройка — лишь следствие парохиальной перспективы. Только во вселенных, населённых астрофизиками, может возникнуть вопрос о том, почему константы кажутся тонко настроенными. Такой ход объяснения известен как «антропная аргументация». Считается, что она опирается на так называемый «слабый антропный принцип», хотя, вообще говоря, никакого принципа тут не требуется — только логика. (Уточнение «слабый» нужно из-за того, что было предложено несколько вариантов антропного принципа, представляющих собой нечто большее, чем просто логику, но здесь нет нужды их касаться.)
Однако при тщательном рассмотрении оказывается, что антропных доводов недостаточно для полного объяснения. Чтобы понять, почему это так, рассмотрим аргумент физика Денниса Сиама[22].
Представьте, что в какой-то момент в будущем теоретики вычислили область значений одной из этих физических констант, при которых существует разумная вероятность появления астрофизиков (любого подходящего типа). Пусть это будет диапазон[23] от 137 до 138. (Конечно, в действительности числа вряд ли будут целыми, но мы не станем усложнять рассуждения.) Кроме того, подсчитано, что наибольшая вероятность появления астрофизиков соответствует середине диапазона, то есть значению константы 137,5.
Далее экспериментаторы приступили к непосредственному измерению константы, скажем, в лабораториях или путём астрономических наблюдений. Что они должны предсказывать? Весьма любопытно, но из антропного объяснения непосредственно следует предсказание, что значение константы не будет в точности равно 137,5. Почему? Допустим противное. Пусть — по аналогии — центр мишени для дротиков представляет значения, при которых астрофизики могут возникнуть. Будет ошибкой предсказать, что среднестатистический дротик попадёт точно в центр. Аналогичным образом в подавляющем большинстве вселенных, в которых могли бы производиться эти измерения (потому что там есть астрофизики), эта константа не примет в точности значение, оптимальное для образования астрофизиков, и не будет слишком близка к нему в сравнении с размером центра мишени.
Из этого Сиама сделал вывод, что, если бы мы действительно измерили одну из тех физических констант и выяснили, что она очень близка к оптимальной для появления астрофизиков, это бы статистически опровергло, а не подтвердило антропное объяснение её значения. Конечно, остаётся возможность, что это просто совпадение, но если бы мы согласились принимать в качестве объяснений астрономически невероятные совпадения, то нам вообще не следовало озадачиваться проблемой тонкой настройки, а мистеру Пейли мы должны были бы сказать, что часы на пустыре могли образоваться сами собой.
Более того, во вселенных, где условия настолько враждебны, что едва допускают появление астрофизиков, их существование должно быть относительно маловероятным. Если выстроить все значения, согласующиеся с появлением астрофизиков, в ряд, то исходя из антропного объяснения мы будем ожидать, что измеренное значение попадёт в какую-нибудь типичную точку, не очень близко к середине или любому из концов.
Однако — и здесь мы приходим к главному выводу Сиамы — это предсказание кардинально меняется, если объяснить нужно сразу несколько констант. Да, маловероятно, что любая из констант окажется у края своей области значений, но чем констант больше, тем более вероятно, что по крайней мере одна из них там будет. Это можно проиллюстрировать графически следующим образом, заменив центр мишени отрезком прямой, квадратом, кубом… Можно представить себе дальнейший рост числа размерностей, соответствующий количеству тонко настроенных констант. Произвольно определим понятие «у края» как «не далее чем в 10 % от края по отношению ко всей области значений». В случае одной константы, как показано на диаграмме, 20 % возможных значений лежат около одного из краёв области значений, а 80 % — «далеко от края». Но если констант две, то, чтобы оказаться «далеко от края», два значения должны удовлетворять двум ограничениям, и таких пар будет уже только 64 %, а 36 % находятся у края хотя бы по одному из двух измерений. Если констант три, у края лежит уже почти половина вариантов — 48,8 %, если быть точным. А если их 100, то у края окажутся 99,9999999 %!
Таким образом, чем больше констант, тем ближе типичная вселенная с астрофизиками к тому, что астрофизиков в ней нет. Число таких констант неизвестно, но, по-видимому, их несколько, и в этом случае подавляющее большинство вселенных в антропно выделенной области будет располагаться вблизи её края. Значит, заключил Сиама, антропное объяснение предсказывает, что Вселенная едва-едва способна производить астрофизиков, — и это предсказание практически противоположно тому, которое делается в случае одной константы!
На первый взгляд может показаться, что это, в свою очередь, объясняет другую великую и нерешённую научную загадку — парадокс Ферми, названный так по имени физика Энрико Ферми, который, как говорят, сформулировал её всего в двух словах: «Где они?» Где внеземные цивилизации? С учётом принципа заурядности или даже просто того, что нам известно о Галактике и Вселенной, нет причины полагать, что феномен появления астрофизиков уникален для нашей планеты. Похожие условия, по-видимому, существуют во многих системах других солнц, так почему в каких-то из них не могут получаться те же результаты? Кроме того, с учётом временных масштабов, в которых развиваются звёзды и галактики, чрезвычайно маловероятно, что любая заданная внеземная цивилизация в данный момент находится на том же уровне технологического развития, что и мы: скорее всего, она либо на миллионы лет моложе (то есть ещё не существует), либо старше. Тогда у более старых цивилизаций было уже достаточно времени на исследование Галактики или хотя бы на то, чтобы послать автоматические космические зонды или сигналы. Парадокс Ферми заключается в том, что таких цивилизаций, зондов или сигналов не наблюдается.
Было предложено много возможных объяснений, но до сих пор ни одно из них не оказалось достаточно разумным. Может показаться, что антропное объяснение тонкой настройки в свете аргумента Сиамы даёт хорошее решение проблемы: если физические константы в нашей Вселенной едва-едва могут привести к появлению астрофизиков, то неудивительно, что это произошло лишь однажды, так как вероятность того, что в одной и той же Вселенной произойдут два таких независимых события, исчезающе мала.
К сожалению, это объяснение тоже оказывается плохим, потому что фокусироваться на фундаментальных константах — это парохиальный подход: ведь на самом деле нет существенной разницы между теми же самыми законами физики с разными константами и другими законами физики. А логически возможных законов физики бесконечно много. И если бы все они воплощались в настоящих вселенных — как полагают некоторые космологи, такие как Макс Тегмарк[24], то тот факт, что наша Вселенная находится в точности на краю класса вселенных, которые производят астрофизиков, был бы статистически достоверен.
Мы знаем, что это не может быть так в силу аргумента, предложенного Фейнманом (применительно к немного иной проблеме). Возьмём класс всех возможных вселенных, в которых есть астрофизики, и посмотрим, что ещё есть в большинстве из них. В частности, возьмём сферу такого размера, чтобы в ней смог поместиться ваш мозг. Если вы хотите объяснить тонкую настройку, то для этой цели ваш мозг в его текущем состоянии можно считать «астрофизиком». В классе всех вселенных, содержащих астрофизиков, есть много таких, которые содержат сферу, изнутри идеально совпадающую с вашей, включая ваш мозг до последней детали. Но в подавляющем большинстве этих вселенных вокруг сферы царит хаос: практически произвольное состояние, поскольку таких состояний намного больше, чем иных. Далее, такое состояние обычно не только аморфное, но и горячее. Таким образом, в большинстве подобных вселенных в следующий момент мы мгновенно погибнем от хаотичного излучения, источники которого находятся вне сферы. Но в любой заданный момент теория о том, что мы погибнем за какую-то пикосекунду, отвергается наблюдением через пикосекунду, и после этого можно выдвигать другую такую теорию. Так что это очень неразумное объяснение — доведённая до крайности интуиция азартного игрока.
То же самое верно и для чисто антропного объяснения всех других тонких настроек, включающих более чем несколько констант: такие объяснения предсказывают, что с исключительно высокой вероятностью мы находимся во вселенной, в которой астрофизики едва-едва возможны и перестанут существовать за одно мгновение. Таким образом, это неразумные объяснения.
С другой стороны, если законы физики существуют только в одной форме и лишь значения немногих констант отличают одну вселенную от другой, тогда сам факт, что законы не воплощаются в иных формах, — это тоже своего рода тонкая настройка, которую антропное объяснение обходит стороной.
Если рассматривать в качестве объяснения теорию о том, что все логически возможные законы физики воплощаются в виде вселенных, то возникает ещё одна серьёзная проблема. Как я объясню в главе 8, при рассмотрении подобных бесконечных множеств, зачастую нет способа «посчитать» или «измерить», у скольких из них есть этот признак, а не тот. С другой стороны, в классе всех логически возможных сущностей те, которые способны понимать себя, как это удаётся физической реальности, в которой мы находимся, вне сомнения, в любом разумном смысле, представляют собой микроскопическое меньшинство. Мысль о том, что одна из них «случилась сама собой», без объяснения, вне сомнения, является просто теорией самозарождения.
Кроме этого, почти все «вселенные», описываемые этими логически возможными законами физики, кардинально отличаются от нашей — настолько, что они в этот аргумент должным образом не вписываются. Например, бесконечно многие из них не содержат ничего, кроме одного бизона, в разных позах, и существуют ровно 42 секунды. Бесконечно много других содержат одного бизона и одного астрофизика. Но что такое астрофизик во вселенной, где нет ни звёзд, ни научных инструментов и практически нет данных? Что такое учёный или любой думающий человек во вселенной, где верны только неразумные объяснения?
Практически все логически возможные вселенные, в которых есть астрофизики, подчиняются законам физики, которые являются плохими объяснениями. Так должны ли мы предсказать, что и наша Вселенная необъяснима? Или что вероятность этого велика, хотя и неизвестна? Таким образом, снова антропные доводы, основанные на «всех возможных законах», приходится отбрасывать как неразумные объяснения.
Это даёт мне основание заключить, что, хотя антропный принцип вполне может быть частью объяснения очевидной тонкой настройки констант и других наблюдений, он никогда не может быть полным объяснением того, почему мы наблюдаем нечто, что иначе выглядело бы слишком целенаправленным, чтобы объяснить это совпадением. Здесь требуется особое объяснение, в терминах особых законов природы.
Как мог заметить читатель, все неразумные объяснения, о которых я говорю в этой главе, в конечном счёте взаимосвязаны. Ожидаешь слишком многого от антропного принципа или пытаешься слишком тщательно разобраться в ламаркизме — получаешь самозарождение. Слишком серьёзно отнесёшься к последнему — получаешь креационизм и так далее. А всё потому, что они все обращаются к одной основополагающей проблеме и легко поддаются варьированию. Их легко заменить друг другом или вариантами самих себя, а как объяснения они «слишком просты»: они одинаково хорошо могли бы объяснить всё, что угодно. Но к неодарвинизму было не просто прийти и его не просто подправить. Попробуйте — даже на уровне собственных заблуждений Дарвина, — и получится объяснение, которое работает намного хуже. Попробуйте объяснить с его помощью что-то не дарвинистское, например, новую сложную адаптацию, у которой не было предшественников в организмах предков, и вы не сможете придумать вариант с такими чертами.
Антропные объяснения пытаются объяснить целенаправленную структуру (такую как тонко настроенные константы) через единственный акт отбора. Это не характерно для эволюции, и так быть не может. Разгадка проблемы тонкой настройки появится из объяснения, которое будет конкретно описывать то, что мы наблюдаем. Это будет, говоря словами Уилера, «такая простая идея… что… мы непременно спросим: а разве могло быть иначе?». Другими словами, проблема не в том, что мир так сложен, что мы не можем понять, почему в нём всё так, как есть, а в том, что всё настолько просто, что мы пока не можем этого понять. Но это станет очевидно лишь в ретроспективе.
Все эти неразумные объяснения биосферы либо вообще не позволяют даже взяться за решение проблемы того, как создаётся знание в адаптациях, либо объясняют это плохо. Другими словами, во всех в них недооценивается процесс сотворения, причём теория, которая недооценивает его больше всего, это — как это ни парадоксально — креационизм. В самом деле: если сверхъестественному творцу пришлось бы создавать Вселенную в момент, когда Эйнштейн, Дарвин или любой великий учёный только что сделал своё главное открытие, то настоящим автором этого открытия (и всех более ранних открытий) был бы не учёный, а сверхъестественное существо. Значит, подобная теория отрицала бы существование того единственного процесса творения, который действительно имел место в генезисе открытий этого учёного.
И это действительно процесс творения! Пока открытие не сделано, никакой предиктивный процесс не может раскрыть его содержание или последствия — ведь иначе он бы и был самим открытием. Таким образом, научное открытие — крайне непредсказуемая вещь, несмотря на то, что оно определяется законами физики. Я подробнее поговорю об этом любопытном факте в следующей главе; вкратце — он обусловлен существованием «эмерджентных» уровней объяснения. В данном случае суть в том, что достигаемое наукой (и творческим мышлением в целом) — это непредсказуемое творение ex nihilo[25]. Это же верно и для биологической адаптации, но ни для какого другого процесса. Поэтому креационизм был назван неправильно. Это не теория, объясняющая, что знание обусловлено актом творения, а как раз наоборот: она отрицает, что творение имело место в реальности, помещая происхождение знания в область необъяснимого. На самом деле креационизм — это отрицание творения, как и все другие ложные объяснения.
Загадка понимания того, что представляют собой живые сущности и как они появились, дала начало странной истории заблуждений, хороших догадок и парадоксов. Последний из парадоксов — в том, что теория неодарвинизма, как и теория познания Поппера, в действительности описывает процесс творения, хотя их конкурентам, начиная с креационизма, это так и не удалось.
Терминология
Эволюция (по Дарвину) — создание знания путём чередования вариации и отбора.
Репликатор — сущность, закономерно способствующая самокопированию (репликации).
Неодарвинизм — дарвинизм как теория репликаторов без различных заблуждений, таких как «выживание наиболее приспособленных».
Мем — идея, являющаяся репликатором.
Мемокомплекс — группа мемов, которые помогают добиваться репликации друг друга.
Самозарождение — формирование организмов из неживой материи.
Ламаркизм — ошибочная теория эволюции, основанная на идее о том, что биологические адаптации — это усовершенствования, приобретённые организмом за время жизни и затем наследуемые его потомками.
Тонкая настройка — если бы физические константы или законы были немного другими, жизни не было бы.
Антропное объяснение — «Только во вселенных с разумными наблюдателями может возникнуть вопрос, а почему случается то или иное явление».
Значения «начала бесконечности», встречающиеся в этой главе
— Эволюция.
— В более общем смысле — создание знания.
Краткое содержание
У эволюции биологических адаптаций и создания человеческих знаний есть черты глубокого сходства, но также и некоторые важные отличия. Сходно то, что и гены, и идеи являются репликаторами; и знания, и адаптации сложно варьировать. Основные отличия: человеческие знания могут носить объяснительную природу и иметь большую применимость; адаптации никогда не носят объяснительный характер и редко выходят далеко за рамки ситуаций, в которых развивались. Ложные объяснения биологической эволюции имеют аналоги среди ложных объяснений развития человеческого знания. Например, ламаркизм — аналог индуктивизма. Телеологический довод в формулировке Уильяма Пейли проливает свет на то, где есть «видимые признаки замысла», а где нет, а значит, и на то, что нельзя назвать просто волей случая — а именно сложно варьируемую адаптацию для определённой цели. Её источником должно быть создание знаний. Биологическая эволюция не оптимизирует пользу для вида, группы, особи или даже гена, а только усиливает способность гена распространяться по популяции. В то же время она может давать преимущества из-за универсальности законов природы и широты сферы применимости некоторых создаваемых знаний. «Тонкая настройка» физических законов или констант выступает современной формой телеологического довода. В силу обычных причин она не является хорошим доводом в пользу сверхъестественной первопричины. Но и «антропные» теории, которые пытаются объяснить её как результат отбора из бесконечного числа различных вселенных, — сами по себе являются плохими объяснениями — отчасти из-за того, что большинство логически возможных законов природы сами представляют собой плохие объяснения.
5. Реальность абстракций
Объяснения устройства мира, даваемые фундаментальными теориями современной физики, досадно контринтуитивны. Так, большинство людей, не являющихся физиками, считают само собой разумеющимся, что если вытянуть руку горизонтально прямо, то почувствуешь, как сила тяжести тянет её вниз. Но в действительности это не так! Существование силы тяжести, как это ни удивительно, отрицается общей теорией относительности Эйнштейна, одной из двух наиболее глубоких физических теорий. Согласно ей, единственная сила, которая действует на руку в данной ситуации, — та, которую человек прикладывает сам, она направлена вверх и придаёт руке постоянное ускорение, чтобы отклонить её от кратчайшего возможного пути в искривлённой области пространства-времени. Реальность, описываемая другой глубочайшей теорией — квантовой, о которой я расскажу в главе 11, ещё более контринтуитивна. Чтобы понять те объяснения, которые она даёт, физикам приходится учиться по-новому смотреть на повседневные явления.
И как всегда, руководствоваться нужно тем, что неразумные объяснения должны отвергаться в пользу разумных. Отсюда возникает следующее требование к определению того, что реально, а что нет: если некая сущность фигурирует в самом разумном объяснении для соответствующей области, то нам следует считать, что она действительно существует. А если, как это произошло с силой тяжести, наше самое разумное объяснение отрицает её существование, то и мы должны перестать считать её существующей.
Далее, на языке фундаментальной физики то, что происходит с нами каждый день, выражается поразительно сложно. Если наполнить чайник водой и включить его, все суперкомпьютеры на Земле, работающие столько времени, сколько лет Вселенной, не смогли бы решить уравнения, которые предсказывают поведение всех молекул воды, даже если каким-то образом нам удалось бы определить для них начальное состояние и все внешние воздействия, что само по себе невыполнимая задача.
К счастью, эти сложности отчасти снимаются на более высоком уровне. Например, мы можем с некоторой погрешностью предсказать, через какое время закипит вода. Для этого нужно знать лишь несколько физических величин, которые достаточно просто измеряются, такие как её масса, мощность нагревательного элемента и так далее. Для большей точности может понадобиться информация о более тонких свойствах, например о числе и типах центров парообразования. Но такие явления всё же остаются относительно «высокоуровневыми» и складываются из необозримо большого числа взаимосвязанных явлений атомного уровня. Таким образом, есть класс явлений высокого уровня, таких как текучесть воды и её взаимодействие с сосудами, нагревающими элементами, кипением и пузырьками, которые можно вполне объяснить друг через друга, не ссылаясь прямо на явления атомного уровня и ниже. Другими словами, поведение целого класса явлений высокого уровня — квазиавтономно, почти самодостаточно. Такое разложение на объяснимые компоненты на более высоком, квазиавтономном уровне известно как эмерджентность.
Эмерджентных явлений очень-очень мало. Мы можем предсказать, когда вода закипит, и то, что, когда это случится, образуются пузырьки, но если захочется предсказать, куда денется каждый пузырёк (или, говоря точнее, каковы вероятности его различных возможных движений — см. главу 11), то ничего не выйдет. Ещё менее реально предсказать бесчисленное множество свойств воды, определяемых на микроскопическом уровне, например, чётное или нечётное число электронов будет затронуто нагреванием в течение определённого периода.
К счастью, нас не интересует предсказание или объяснение большей части этих свойств, несмотря на то, что их — подавляющее большинство. А всё потому, что ни одно из них не имеет отношения к тому, что мы собираемся делать с водой, а именно понять, из чего она состоит или заварить чай. Воду для чая нужно довести до кипения, но как в ней будут распределены пузырьки, не имеет значения. Нужно, чтобы её объём был между определённым минимумом и максимумом, но сколько в точности молекул будет в чайнике, безразлично. Мы успешно достигаем всех этих целей, потому что можем их выразить в терминах квазиавтономных эмерджентных свойств, для которых у нас есть разумные объяснения высокого уровня. И чтобы понять роль воды во вселенском масштабе, большая часть микроскопических деталей нам не нужна, потому что почти все эти детали — парохиальные.
Поведение высокоуровневых физических величин складывается из поведения их низкоуровневых составляющих при игнорировании большей части деталей. Это положило начало широко распространённому заблуждению об эмерджентности и объяснениях, известному как редукционизм — доктрине, утверждающей, что наука всегда объясняет и предсказывает явления путём редукции, то есть покомпонентного анализа. Зачастую так и происходит — к примеру, чтобы сделать и объяснить высокоуровневое предсказание о том, что вода в чайнике не вскипит без подачи энергии, мы используем тот факт, что межатомные силы подчиняются законам сохранения энергии. Но редукционизм требует, чтобы отношения между различными уровнями объяснения были такими всегда, а зачастую это не так. В своей книге «Структура реальности» (The Fabric of Reality) я писал:
Например, рассмотрим конкретный атом меди на кончике носа статуи сэра Уинстона Черчилля, которая находится на Парламентской площади в Лондоне. Я попытаюсь объяснить, почему этот атом меди находится там. Это произошло потому, что Черчилль был премьер-министром в палате общин, которая расположена неподалёку; и потому, что его идеи и руководство способствовали победе союзных сил во Второй мировой войне; и потому, что принято чествовать таких людей, ставя им памятники; и потому, что бронза, традиционный материал для таких памятников, содержит медь и т. д. Таким образом, мы объясним физическое наблюдение низкого уровня — присутствие атома меди в определённом месте — через теории чрезвычайно высокого уровня о таких эмерджентных явлениях, как идеи, руководство, война и традиция.
Нет никакой причины, по которой, пусть даже в принципе, должно существовать какое-либо более низкоуровневое объяснение появления этого атома меди в этом месте, чем то, которое я только что привёл. Предположим, что упрощённая «теория всего» в принципе дала бы низкоуровневое предсказание вероятности, что такая статуя будет существовать, если известно состояние (скажем) Солнечной системы в какое-то более раннее время. Точно так же эта теория в принципе описала бы, как эта статуя могла туда попасть. Но такие описания и предсказания (конечно же, абсолютно нереальные) ничего бы не объясняли. Они просто описывали бы траекторию движения каждого атома меди от медного рудника через плавильную печь, мастерскую скульптора и т. д. Они также могли бы сформулировать, какое влияние на эти траектории оказывают силы, действующие со стороны окружающих атомов, например, тех, из которых состоят тела шахтёров и скульптора, и, таким образом, предсказать существование и форму статуи. В действительности такое предсказание следовало бы отнести к атомам по всей планете, вовлечённым, кроме всего прочего, в сложное движение, которое мы называем Второй мировой войной. Но даже если бы вы обладали сверхчеловеческой способностью следовать таким многословным предсказаниям нахождения атома меди в том месте, вы всё равно не смогли бы сказать: «Да, я понимаю, почему он там находится». Вы просто знали бы, что его попадание туда таким образом неизбежно (или вероятно, или что угодно ещё), если известны начальные конфигурации атомов и законы физики. Если бы вы захотели понять, почему он там находится, у вас по-прежнему не было бы другого выбора, кроме как сделать следующий шаг. Вам пришлось бы выяснить всё, что касается этой конфигурации атомов и их траекторий, из-за которых атом меди оказался именно в этом месте. Такое исследование стало бы творческой задачей, какой всегда является открытие новых объяснений. Вам пришлось бы обнаружить, что определённые конфигурации атомов подтверждают такие исходящие явления, как руководство и война, связанные друг с другом объяснительными теориями высокого уровня. И только узнав все эти теории, вы смогли бы полностью понять, почему этот атом меди находится именно там.
Даже в физике некоторые из наиболее фундаментальных объяснений и основанных на них предсказаний — не редукционистские. Например, второй закон термодинамики гласит, что в высокоуровневых физических процессах есть тенденция к возрастанию беспорядка. Взбитое венчиком яйцо не примет с помощью того же венчика первоначальный вид и не сможет взять энергию от сковороды и вернуться в скорлупу, которая никогда не соберётся обратно без единой трещинки. Но если бы вам удалось заснять процесс взбивания яйца на видео с разрешением достаточным, чтобы увидеть отдельные молекулы, а затем проиграть видео в обратном направлении и в таком масштабе изучить любую его часть, вы бы не увидели ничего, кроме молекул, движущихся и сталкивающихся в строгом соответствии с законами физики низкого уровня. До сих пор неизвестно, как из некоторого простого утверждения об отдельных атомах вывести второй закон термодинамики и возможно ли это в принципе.
Такая возможность ниоткуда не следует. Известны завуалированные моральные доводы в пользу редукционизма (науке следует быть по сути своей редукционной). Здесь просматривается и инструментализм, и принцип заурядности, которые я критиковал в главах 1 и 3. Инструментализм достаточно похож на редукционизм, за исключением того, что он пытается отрицать не только высокоуровневые, а вообще всякие объяснения. Принцип заурядности — это редукционизм в более лёгкой форме: он отвергает только те высокоуровневые объяснения, которые связаны с людьми. Раз уж мы говорим о плохих философских учениях с моральной подоплёкой, упомяну ещё и холизм, своего рода зеркальное отражение редукционизма. Его идея в том, что единственными правильными объяснениями (или по крайней мере единственными существенными) являются объяснения частного через целое. Также холисты зачастую разделяют с редукционистами ошибочное представление о том, что наука может быть только (или должна быть только) редукционной, и тем самым находятся в оппозиции к большей части науки. Все эти учения иррациональны по одной и той же причине: они выступают за принятие или отвержение теорий на основаниях, отличных от того, являются ли эти объяснения разумными.
Всякий раз, когда высокоуровневое объяснение действительно логически вытекает из низкоуровневых, это также означает, что в высокоуровневом объяснении что-то предполагается о низкоуровневых. Таким образом, дополнительные теории высокого уровня при условии, что все они непротиворечивы, налагают всё больше и больше ограничений на то, как могли бы выглядеть теории низкого уровня. Поэтому может быть так, что все существующие объяснения высокого уровня, взятые вместе, влекут за собой все объяснения низкого уровня, и наоборот. Или может быть так, что некоторые объяснения низкого уровня, некоторые объяснения среднего уровня и некоторые объяснения высокого уровня, все вместе, влекут за собой все объяснения. Я думаю, что так оно и есть.
Таким образом, один способ, которым в конечном счёте может быть разрешена проблема тонкой настройки, состоит в том, что точными законами природы окажутся некоторые объяснения высокого уровня. Вытекающие из них следствия для микроскопического уровня вполне могут казаться тонко настроенными. Один из кандидатов — принцип универсальности вычислений, о котором речь пойдёт в следующей главе. Другой — это принцип проверяемости на опыте, ведь в мире, в котором законы физики не допускают существования проверяющих, эти законы запрещают также проверку себя самих. Однако в том виде, в котором эти принципы существуют сейчас и рассматриваются как законы физики, они носят антропоцентрический и произвольный характер — и поэтому представляются плохими объяснениями. Но, возможно, есть более глубокие версии, к которым эти варианты являются приближениями и которые являются разумными объяснениями, хорошо сочетающимися с объяснениями из области микроскопической физики, такими как второе начало термодинамики.
В любом случае эмерджентные явления играют существенную роль в объяснимости устройства мира. Задолго до того, как люди приобрели достаточно объяснительных знаний, они могли управлять природой с помощью эмпирических правил. Эмпирические правила можно объяснить, и эти объяснения касаются высокоуровневых закономерностей в таких эмерджентных явлениях, как огонь и камни. В далёком прошлом эмпирические правила прописывались только в генах, и содержащиеся в них знания тоже касались эмерджентных явлений. Таким образом, эмерджентность — ещё одно начало бесконечности: любое создание знания зависит от эмерджентных явлений и физически состоит из них.
Эмерджентность также обуславливает то, что открытия можно делать постепенно, открывая таким образом простор для научного метода. Частичный успех каждой из последовательности улучшающихся теорий равносилен существованию «слоя» явлений, которые очередная теория успешно объясняет — хотя, как потом оказывается, отчасти ошибочно.
Последовательные научные объяснения порой непохожи в том, как они объясняют свои предсказания, даже в той сфере, в которой сами предсказания похожи или идентичны. Например, объяснение движения планет, предложенное Эйнштейном, не просто исправляет ньютоновское, оно совершенно другое и отрицает, среди прочего, само существование ключевых элементов прежнего объяснения, таких как сила гравитации и равномерно текущее время, по отношению к которому Ньютон определял движение. Сходным образом теория астронома Иоганна Кеплера, утверждавшая, что планеты движутся по эллипсам, не просто исправила теорию небесных сфер, а отвергла существование таких сфер в принципе. Ньютон же в своей теории не заменил эллипсы Кеплера какой-то новой формой, а предложил совершенно новый способ описания движения законами, выраженными через величины, определённые путём перехода к бесконечно малым значениям, таким как мгновенная скорость и ускорение. Таким образом, в каждой из этих теорий движения планет игнорировались или отрицались основные средства, с помощью которых её предшественница объясняла то, что происходит в небе.
Это использовалось как довод в пользу инструментализма, и вот почему. Каждая последующая теория вносила в предсказания предшествующей небольшие, но точные поправки, и в этом смысле была лучше. Но поскольку объяснение в рамках каждой новой теории уничтожало объяснение, предложенное предыдущей, это предыдущее объяснение никогда не было верным, и поэтому нельзя рассматривать эти последовательные объяснения как развитие знания о реальности. На пути от Кеплера к Ньютону и далее к Эйнштейну наблюдается последовательность: нет необходимости в силе для объяснения орбит; сила, обратно пропорциональная квадрату расстояния, определяет любую орбиту; и снова нет необходимости в силе. Так как могла ньютоновская «сила гравитации» (в отличие от его уравнений, описывающих результат её действия) быть продвижением в области знаний человека?
Могла, конечно, и была таковым, потому что отвергнуть сущности, через которые теория объясняет явление, — это не то же самое, что отвергнуть всё объяснение. Силы тяжести не существует, но есть что-то реальное (кривизна пространства-времени), порождаемое Солнцем и обладающее силой, которая изменяется приблизительно по ньютоновскому закону обратных квадратов, и влияющее на движение объектов, видимых и невидимых. Теория Ньютона также правильно объясняла, что законы гравитации одинаковы для земных и небесных объектов; в ней было проведено новое для того времени различие между массой (мерой сопротивления объекта ускорению) и весом (силой, которая нужна, чтобы объект не упал под действием гравитации[26]); согласно этой теории гравитационное воздействие объекта зависит от его массы, а не от других характеристик, таких как плотность или состав. Позднее теория Эйнштейна не только подтвердила все эти свойства, но и объяснила, в свою очередь, почему они таковы. Теория Ньютона также смогла делать более точные предсказания, чем её предшественники, и именно потому, что она продвинулась дальше, чем они, в понимании того, что на самом деле происходит вокруг нас. До неё даже у Кеплера были важные элементы подлинного объяснения: орбиты планет и в самом деле определяются законами природы; и эти законы действительно одинаковы для всех планет, включая Землю; Солнце и вправду играет в них определённую роль; а сами они действительно носят геометрический и математический характер и так далее. Благодаря возможности оглянуться назад, которую даёт каждая последующая теория, мы видим не только то, в чём предыдущая теория была ошибочна, но и то, что, когда её предсказания были верны, это имело место потому, что в них выражалась определённая истина о реальном мире. Таким образом, установленные ею истины продолжают жить в новой теории. Как говорил Эйнштейн, «лучший удел физической теории состоит в том, чтобы указывать путь создания новой, более общей теории, в рамках которой она сама остаётся предельным случаем»[27].
Как я говорил в главе 1, объяснительная функция теорий считается главной не просто потому, что нам так хочется. От неё полностью зависит предсказательная функция науки. Также, чтобы обеспечить прогресс в какой бы то ни было области, нужно творчески варьировать именно объяснения, которые предоставляют существующие теории, а не их предсказания, и только так можно сделать догадку относительно следующей теории. Более того, то, как объясняются явления в одной области, влияет на наше понимание явлений в другой. Например, если кто-то считает, что фокус целиком основывается на сверхъестественных способностях фокусника, то это повлияет и на его суждения о теориях в космологии (таких как происхождение Вселенной или проблема тонкой настройки) и в психологии (как работает человеческий разум) и так далее.
Кстати, является определённым заблуждением мнение о том, что предсказания последовательно сменявших друг друга теорий движения планет были очень похожи. Ньютоновские предсказания прекрасно подходят для строительства мостов и лишь немного неадекватны при эксплуатации глобальной навигационной системы GPS, но они безнадёжно ошибочны при объяснении таких явлений, как пульсары, квазары или Вселенная в целом. Чтобы всё это правильно понять, нужны совершенно другие объяснения, которые и предложил Эйнштейн.
Такие большие смысловые скачки в последовательных научных теориях не имеют биологического аналога: у эволюционирующего вида в каждом поколении доминантная разновидность лишь слегка отличается от предыдущей. Тем не менее научное открытие — это тоже постепенный процесс; просто в науке вся постепенность и практически вся критика и отклонение плохих объяснений происходит в головах учёных. Как говорил Поппер, «пусть вместо нас умирают наши теории».
В этой способности критиковать теории, не связывая с ними всю свою жизнь, есть ещё одно, более важное преимущество. У эволюционирующего вида адаптации организмов в каждом поколении должны сохранять достаточную функциональность, чтобы поддерживать в организме жизнь и чтобы пройти все испытания, с которыми они могут встретиться, чтобы породить следующее поколение. А вот в науке промежуточные объяснения, ведущие учёного от одного разумного объяснения к другому, необязательно должны быть жизнеспособными. То же самое верно и для творческого мышления в целом. Это фундаментальная причина, по которой объяснительные идеи могут избавиться от парохиальности, а биологическая эволюция и эмпирические правила — нет.
Вот я и подошёл к главной теме этой главы — абстракциям. В главе 4 я отмечал, что порции знания — это абстрактные репликаторы, которые «используют» организмы и мозг (а значит, и влияют на них), чтобы достичь воспроизведения. Это объяснение более высокого уровня, чем эмерджентные уровни, о которых я говорил до сих пор. Утверждается, что нечто абстрактное — не физическое, как информация в гене или теория, — влияет на что-то физическое. С физической точки зрения в этой ситуации происходит только то, что один набор эмерджентных сущностей, таких как гены или компьютеры, воздействует на другие, хотя это уже является проклятьем для редукционизма. Но для более полного объяснения необходимы абстракции. Вы знаете, что, если компьютер обыгрывает вас в шахматы, это на самом деле делает программа, а не атомы кремния и не компьютер как таковой. Абстрактная программа физически воплощается как высокоуровневое поведение огромного числа атомов, но объяснить, почему она вас побеждает, невозможно, не ссылаясь также и на саму программу. Эта программа также воплотилась в неизменном виде, в длинной цепи различных физических субстратов, включая нейроны в мозгу программистов и радиоволны, возникавшие при скачивании программы по беспроводной сети, и наконец, в определённых состояниях носителей долговременной и кратковременной памяти в компьютере. Специфика этой цепочки воплощений может иметь значение при объяснении того, как программа попала к вам, но это не имеет отношения к тому, почему она вас победила: здесь всё дело в содержании знаний (в программе и в вас). Этот пример — объяснение, которое неизбежно ссылается на абстракции; а значит, эти абстракции существуют и действительно влияют на физические объекты так, как это необходимо для объяснения.
Специалист по вычислительным системам Дуглас Хофштадтер приводит хороший довод в пользу того, что для понимания определённых явлений объяснение такого типа необходимо. В своей книге «Я — странная петля» (I am a Strange Loop, 2007) он описывает специализированный компьютер, построенный из миллионов костяшек домино. Они стоят близко друг к другу, как часто забавы ради их располагают, на одном ребре, так что если толкнуть одну, она ударит по соседней, и весь ряд рухнет. Но костяшка домино Хофштадтера подпружинена так, что если толкнуть её, то через фиксированное время она возвратится в исходное положение. Значит, когда одна костяшка падает, по всей цепочке в направлении падения пойдёт волна или «сигнал», до тех пор, пока не достигнет тупика или уже упавшей костяшки. Собрав эти костяшки в сеть с циклами, разветвлениями и воссоединениями разветвившихся потоков, можно сделать так, что эти сигналы будут комбинироваться и взаимодействовать достаточно разнообразными способами, и в итоге из всей этой конструкции получится компьютер: сигнал, идущий по цепочке, можно интерпретировать как двоичную единицу («1»), а отсутствие сигнала — как двоичный нуль («0»), и путём взаимодействия между такими сигналами можно будет выполнять целый ряд логических операций, таких как «и», «или» и «не», а из них — составлять произвольные вычислительные процедуры.
Одна из костяшек играет роль сигнала «пуск»: когда толкают её, доминошный компьютер начинает выполнять программу, реализованную в его циклах и цепочках. В мысленном эксперименте Хофштадтера программа вычисляет, является ли заданное число простым. Чтобы подать некое число на вход, в цепочку выстраивают соответствующее количество костяшек, а затем инициируют работу. За выдачу результата отвечает определённая костяшка, расположенная где-то в другом месте сети: она упадёт, если будет найден делитель поданного на вход числа, тем самым показывая, что оно не было простым.
Хофштадтер задаёт на входе число 641 (оно простое) и толкает костяшку «пуск». По сети туда-сюда прокатываются волны. Все костяшки входного числа 641 падают — это вычислительный алгоритм «считывает» входные данные, а затем они поднимаются и принимают участие в дальнейших замысловатых действиях. Процесс получается длинный, ведь такой способ выполнения вычислений весьма неэффективен, но поставленную задачу он решает.
Далее Хофштадтер представляет себе человека-наблюдателя, который не знает, зачем нужна эта доминошная сеть, но наблюдает за движением костяшек и замечает, что одна из них всё время твёрдо стоит на месте и на ней никак не отражаются ни нисходящие, ни восходящие волны.
Наблюдатель указывает на [эту костяшку] и спрашивает: «А эта почему никогда не падает?»
Мы-то знаем, что это выходной элемент, но наблюдателю это неизвестно. Хофштадтер продолжает:
Я приведу два возможных типа ответа для сравнения. Первый тип лежит на грани абсурда: «Потому что не упала та, что перед ней, дураку же ясно».
Или, если соседних было несколько: «Потому что не упали соседние».
Это отчасти верно, но только отчасти. Отвечающий просто ссылается на другую костяшку.
Так можно валить с больной головы на здоровую, с одного элемента на другой и получать ещё более детальные «глупые, но в определённой степени верные» ответы. В конце концов, проделав это миллиарды раз (гораздо больше, чем самих костяшек, потому что программа имеет «циклы»), мы придём к самой первой костяшке — «пуск».
В этот момент редукционное (сводящееся к высокоуровневой физике) объяснение будет по сути таким: «Эта костяшка не упала, потому что не вошла ни в одну картину движения, спровоцированную толканием костяшки „пуск“». Но это мы и так уже знаем. К этому выводу можно прийти, как мы только что и сделали, совершенно не напрягаясь. И это бесспорно верно. Но мы искали не такое объяснение, оно отвечает на другой вопрос — предсказательного, а не объяснительного характера, а именно: если упадёт стартовая костяшка, упадёт ли в итоге выходная? Этот вопрос поставлен на неправильном уровне эмерджентности. Чтобы ответить на него, Хофштадтер применяет другой способ объяснения, на правильном уровне эмерджентности:
Второй тип ответа: «Потому что число 641 — простое». А этот ответ, хоть и столь же верный (в некотором смысле даже гораздо точнее, чем нужно), имеет любопытное свойство: в нём вообще не говорится о чём-либо физическом. Не только внимание сместилось вверх к коллективным свойствам… сами эти свойства каким-то образом выходят за рамки физического и начинают работать с чистыми абстракциями, вроде простоты числа.
Хофштадтер заключает: «Смысл этого примера в том, что простота числа 641 — это наилучшее, и возможно, единственное объяснение того, почему одни костяшки падают, а другие — нет».
Немного поправлю: физическое объяснение тоже верно, и физические свойства домино тоже существенны в объяснении того, как простые числа связаны с конкретной расстановкой костяшек. Но аргумент Хофштадтера действительно показывает, что свойство простоты должно быть частью любого полного объяснения того, почему одни костяшки падают, а другие — нет. А значит, это отрицание редукционизма в отношении абстракций. Ведь теория простых чисел не является частью физики. Она относится не к физическим объектам, а к абстрактным сущностям, таким как числа, множество которых бесконечно.
К сожалению, Хофштадтер затем отказывается от своего же аргумента и впадает в редукционизм. Почему?
Его книга посвящена в основном одному конкретному эмерджентному явлению — это разум, или, как он говорит, «Я». Он задаётся вопросом, можно ли соответственно считать, что разум влияет на тело — заставляет его делать что-то одно, а не другое, с учётом всеохватывающей природы законов физики. Это так называемая дихотомия разума и тела. Например, мы часто объясняем свои поступки как результат выбора одного действия, а не другого, но ведь наши тела, включая мозг, полностью подчиняются законам физики, и для «Я» не остаётся ни одной физической переменной, на которую оно могло бы влиять, чтобы определить этот выбор. Вслед за философом Дэниелом Деннетом Хофштадтер в конце концов заключает, что «Я» — это иллюзия. Разум, говорит он, не может «воздействовать на материальные объекты», потому что «для определения [их] поведения достаточно одних только законов физики». Это и есть редукционизм.
Но, во-первых, физические законы тоже не могут ни на что воздействовать. Они только объясняют и предсказывают. И это не единственные доступные нам объяснения. Теория о том, что костяшка домино не падает, «потому что число 641 — простое (и потому что доминошная сеть реализует алгоритм проверки на простоту)», — объяснение весьма разумное. Какие могут быть к нему претензии? Оно не противоречит законам физики. Оно объясняет больше, чем любое объяснение, составленное исключительно в терминах этих законов. И ни одна из известных его вариаций не справится с этой задачей.
Во-вторых, этот же редукционистский довод равным образом должен отрицать, что атом может воздействовать на другой атом (в данном случае «заставлять его двигаться»), поскольку начальное состояние Вселенной вместе с законами движения определяет её состояние в любой последующий момент.
В-третьих, сама идея причины эмерджентна и абстрактна. Она не упоминается нигде в законах движения элементарных частиц, и, как указывал философ Дэвид Юм, мы можем воспринимать не причинную связь, а только последовательность событий. Кроме того, законы движения носят «консервативный» характер, другими словами, они не теряют информацию. Это означает, что точно так же, как они определяют конечное состояние любого движения по заданному исходному, они определяют и исходное состояние по конечному, и вообще состояние в любой момент времени по состоянию в любой другой момент времени. Таким образом, на этом уровне объяснения причина и следствие взаимозаменяемы, и это не то, что мы подразумеваем, когда говорим, что компьютер выиграл в шахматы благодаря программе или что костяшка домино осталась вертикальной, потому что число 641 — простое.
Нет ничего плохого в наличии нескольких объяснений одного явления на разных уровнях эмерджентности. Считать микроскопические объяснения более фундаментальными, чем эмерджентные, — подход произвольный и порочный. Нам никуда не деться от довода Хофштадтера о числе 641, да это и не нужно. Мир не обязательно должен быть таким, каким мы хотим его видеть, и отвергать разумные объяснения по этой причине — значит обрекать себя на парохиальную ошибку.
Итак, ответ «потому что число 641 — простое» действительно объясняет, почему та костяшка устояла. Теория простых чисел, на которую он опирается, не является ни законом физики, ни приближением к нему. Она описывает абстрактные понятия, а также бесконечные их множества (такие как множество «натуральных чисел» 1, 2, 3, …, где многоточие означает продолжение до бесконечности). Нет никакой загадки в том, откуда мы знаем о бесконечно больших сущностях, таких как множество всех натуральных чисел. Это лишь вопрос сферы охвата. Попытка построить вариант теории чисел, ограничивающийся «небольшими натуральными числами», потребовала бы введения такого количества произвольных оговорок, обходных путей и вопросов без ответа, что такая теория оказалась бы очень неразумным объяснением — до тех пор, пока не сделано её обобщение на случай, который понятен без таких искусственных ограничений, а именно на бесконечность. О различных типах бесконечности мы поговорим в главе 8.
Когда мы с помощью теорий об эмерджентных физических величинах объясняем поведение воды в чайнике, то в качестве приближения к реальной физической системе используем абстракцию — «идеализированную» модель чайника, в которой не учитывается большая часть деталей. Но когда мы с помощью компьютера выясняем, является ли число простым, то делаем обратное: используем физический компьютер как приближение к абстрактному, который идеально моделирует простые числа. В отличие от любого настоящего компьютера, последний никогда не ошибается, его не нужно обслуживать, у него бесконечный объём памяти, а программа на нём может работать бесконечно долго.
Аналогично, мозг человека — компьютер, который мы используем для изучения того, что лежит за рамками физического мира, включая чисто математические абстракции. Эта способность понимать абстрактное — эмерджентное свойство людей, которым был сильно озадачен древнегреческий философ Платон. Он заметил, что геометрические теоремы вроде теоремы Пифагора описывают сущности, с которыми никто никогда не имел дела: идеально прямые линии, не имеющие толщины, пересекающиеся на идеальной плоскости и образующие идеальный треугольник. Такие объекты не встречаются ни в одном наблюдении. И всё же люди знали их, причём далеко не поверхностно: в то время это были глубочайшие знания из всех, какими только обладал человек. Но откуда они взялись? Платон пришёл к выводу, что эти — и все прочие — человеческие знания должны попадать к нам сверхъестественным путём.
Он был прав в том, что они не могли появиться из наблюдений. Но они не могли бы из них появиться, даже если бы люди могли увидеть идеальные треугольники (что в некоторой степени возможно сегодня с использованием виртуальной реальности). Как я говорил в главе 1, у эмпиризма множество роковых изъянов. Но в том, откуда берутся наши знания об абстракциях, загадки нет: они происходят из догадок, как и все наши знания, и путём критики и поиска разумных объяснений. Только в рамках эмпиризма стало возможным считать, что знание вне науки недосягаемо; и только из-за заблуждения, связанного с понятием доказательно истинного убеждения, такое знание кажется менее «обоснованным», чем научные теории.
Как я говорил в главе 1, даже в науке практически все отвергнутые теории отклоняются потому, что как объяснения они неразумны, даже без проверки на опыте. Экспериментальная проверка — лишь один из многих методов критики, используемых в науке, а в результате прогресса, достигнутого в эпоху Просвещения, эти иные методы были перенесены и в ненаучные области. Основная причина, по которой такой прогресс возможен, — в том, что разумные объяснения относительно вопросов философии найти так же сложно, как и в науке, и соответственно критика даёт эффект.
Более того, опыт действительно играет в философии некую роль, но только не экспериментальной проверки, как в науке. Он главным образом поставляет философские проблемы. Если бы вопрос о том, как мы получаем знания о физическом мире, не представлял проблемы, не было бы и философии науки. Политической философии не было бы, если бы сначала не возникла проблема, как управлять обществом. (Чтобы избежать неправильного понимания, подчеркну, что опыт приносит проблемы лишь тем, что сталкивает между собой уже существующие идеи. Но теории из опыта, безусловно, не возникают.)
В случае этики заблуждения эмпириков и джастификационистов зачастую выражаются изречением «нельзя вывести должное из сущего» (перефразированное высказывание философа эпохи Просвещения Дэвида Юма). Это означает, что этические теории нельзя вывести из фактического знания. Это стало общепринятой точкой зрения и привело к своего рода догматической безысходности в отношении нравственности: «Вывести должное из сущего нельзя, поэтому нравственность не может быть оправдана разумом». Но тогда остаётся только два варианта: либо принимать безрассудное, либо пытаться жить, не вынося моральных суждений. И то, и другое вполне может привести к неправильному с нравственной точки зрения выбору, точно так же, как принятие безрассудного или отказ от попыток объяснить физический мир приводит к фактически неверным теориям (а не просто к неведению).
Вывести должное из сущего, безусловно, нельзя, но нельзя из него вывести и действительную теорию. Наука занимается не этим. Развитие знания состоит не в нахождении путей обоснования чьих-то убеждений. Оно заключается в поиске разумных объяснений. И хотя фактические данные и моральные истины логически независимы, для фактических и моральных объяснений это не так. Таким образом, факты могут быть полезны для критики моральных объяснений.
Если бы, например, в девятнадцатом веке в Америке раб написал бестселлер, это событие не отменило бы логически утверждение «само провидение предназначило негров быть рабами». Такое не под силу никакому опыту, потому что это философская теория. Но этот факт мог подорвать объяснение, благодаря которому многие понимали данное утверждение. И если бы в результате эти люди выяснили, что не могут удовлетворительно объяснить, почему этому автору суждено вернуться в рабство, то они, возможно, усомнились бы в своём прежнем суждении о том, кто такой на самом деле чернокожий и кем является человек вообще, а затем в том, что такое хороший человек, хорошее общество и так далее.
И наоборот, сторонники крайне аморальных учений практически неизменно верят и соответствующим ложным утверждениям. Например, с момента террористической атаки против США 11 сентября 2001 года миллионы людей по всему миру считают, что она была осуществлена правительством США или израильскими секретными службами. Это чисто фактические заблуждения, но они несут отпечаток нравственной неправоты так же ясно, как ископаемое, состоящее исключительно из неорганических веществ, несёт в себе печать древней жизни. А связующим звеном в обоих случаях является объяснение. Чтобы сочинить нравственное объяснение того, почему представители Запада заслуживают того, чтобы их без разбора убивали, нужно на основе фактов объяснить, что Запад — не то, чем он хочет казаться, а это требует некритичного принятия теорий заговора, отрицания истории и так далее.
Говоря более общими словами, чтобы понять нравственную картину в плане заданного набора ценностей, нужно также понять, что некоторые факты — такие, какие они есть. И обратное также верно: например, как говорил философ Джейкоб Броновски, успех в совершении реальных научных открытий подразумевает приверженность ко всем типам ценностей, необходимым для прогресса. Отдельный учёный должен ценить истину и разумные объяснения, должен быть открыт идеям и переменам. Научное сообщество — и в какой-то степени цивилизация в целом — должно ценить терпимость, честность и открытость в дебатах.
Такие связи не должны нас удивлять. Истина обладает структурным единством, а также логической последовательностью, и, как я полагаю, ни одно верное объяснение не является полностью изолированным от любого другого. Поскольку устройство Вселенной можно объяснить, должно быть так, что правильные с точки зрения нравственности ценности соединены таким образом с верными фактическими теориями, а нравственно ложные ценности — с ложными теориями.
По сути, этика занимается проблемой того, что делать дальше и, в более общем смысле, какую жизнь вести, какого мира желать. Некоторые философы ограничивают термин «нравственный» проблемами того, как человек должен относиться к другим людям. Но такие проблемы плавно перетекают в проблемы индивидуального выбора, какую жизнь вести, и поэтому я использую более ёмкое определение. Оставим в стороне вопросы терминологии, если бы вдруг вы оказались последним живым человеком на Земле, то пришлось бы задуматься, какую теперь вести жизнь. От решения «делать то, что больше всего нравится» толку было бы мало, потому что то, что вам нравится, зависит от ваших моральных суждений о том, что составляет хорошую жизнь, а не наоборот.
Этим также иллюстрируется пустота редукционизма в философии. Ведь если я попрошу у вас совета о том, к чему мне стремиться в жизни, бесполезно говорить, чтобы я поступал, как велят законы физики. Это мне придётся делать в любом случае. Бесполезно также советовать мне поступать так, как я хочу, потому что я не узнаю, чего хочу, пока не решу, как мне жить или каким в моём понимании должен быть мир. Поскольку наши предпочтения в этой области формируются, по крайней мере частично, путём нравственных объяснений, не имеет смысла определять, что правильно, а что нет, только исходя из полезности в удовлетворении людских предпочтений. Такие попытки — часть влиятельного течения этики, известного как утилитаризм, который сыграл во многом ту же роль, что и эмпиризм в философии науки: он действовал как центр освобождения, позволивший восстать против традиционных догм, хотя в его собственном положительном содержании истины было мало.
Итак, от решения проблем типа «что делать дальше» нельзя уклониться, а поскольку различие между правильным и неправильным появляется в наших самых разумных объяснениях, относящихся к таким проблемам, мы должны считать это различие реальным. Другими словами, между правильным и неправильным существует объективная разница: это реальные характеристики стремлений и поступков. В главе 14 мы поговорим о том, что то же самое верно и в области эстетики: существует такое понятие, как объективная красота.
Красота, правильное и неправильное, свойство простоты чисел, бесконечные множества — всё это существует объективно, но не физически. Что это значит? Безусловно, всё перечисленное может влиять на нас (как показывают примеры вроде приведённого Хофштадтером), но очевидно, не в том же смысле, как влияют физические объекты. Вы не споткнётесь о них на улице. В то же время это различие меньше, чем предполагает наш более склонный к эмпиризму здравый смысл. Прежде всего находиться под влиянием физического объекта — значит, что из-за него каким-то образом произошло изменение, через законы физики (или, эквивалентно, законы физики вызвали изменение через этот объект). Но причинно-следственная связь и законы физики сами по себе не являются физическими объектами. Это абстракции, и мы узнаём о них, как и обо всех других абстракциях, когда они появляются в лучших из наших разумных объяснений. Прогресс зависит от объяснений, а значит, попытки понимать мир просто как последовательность событий с необъяснимыми закономерностями привели бы нас к отказу от прогресса.
Этот довод о существовании абстракций ничего не говорит о том, в каком виде они существуют, например, какие из них являются чисто эмерджентными аспектами других, а какие существуют независимо. Изменились бы законы нравственности, если бы законы физики стали другими? Если бы они были таковы, что лучшим способом получения знания было бы слепое подчинение авторитетам, то учёным, чтобы добиться прогресса, пришлось бы избегать того, что мы считаем ценностями научного поиска. Мне кажется, что нравственность — более автономна, и поэтому имело бы смысл сказать, что такие законы физики безнравственны, и (как отмечалось в главе 4) попытаться представить себе такие физические законы, которые будут нравственно выше, чем существующие.
То, что мир абстракций входит в сферу досягаемости идей, — это свойство содержащихся в них знаний, а не мозга, в котором им случилось обрести форму. Теория может иметь бесконечную сферу охвата, даже если выдвинувший её индивидуум об этом не подозревает. Однако индивидуум — это тоже абстракция. И только люди обладают своего рода бесконечной сферой достижимого — способностью понимать объяснения. И эта способность сама по себе пример более широкого явления универсальности, к которому я и перейду дальше.
Терминология
Уровни эмерджентности — наборы явлений, которые можно хорошо объяснить друг через друга, не разлагая их на составляющие сущности вроде атомов.
Натуральные числа — целые числа 1, 2, 3 и так далее.
Редукционизм — заблуждение, заключающееся в том, что наука должна или ей следует всегда объяснять вещи, раскладывая их на составляющие (а значит, высокоуровневые объяснения не могут быть фундаментальными).
Холизм — заблуждение, состоящее в том, что все важные объяснения — это объяснения частей через целое, а не наоборот.
Этика — занимается проблемой выбора желаемого образа жизни.
Значения «начала бесконечности», встречающиеся в этой главе
— Существование эмерджентных явлений, а также тот факт, что в них могут быть закодированы знания о других таких явлениях.
— Существование уровней приближения к верным объяснениям.
— Способность понимать объяснения.
— Возможность уйти от парохиальности в объяснении, «позволяя нашим теориям умирать вместо нас».
Краткое содержание
И редукционизм, и холизм ошибочны. В действительности объяснения не образуют иерархию с самым фундаментальным уровнем внизу. Напротив, объяснения могут быть фундаментальными на любом уровне эмерджентности. Абстрактные сущности реальны и могут играть некоторую роль в том, как обуславливаются физические явления. Причинно-следственная связь — сама по себе одна из таких абстракций.
6. Скачок к универсальности
В первых системах письма для представления слов и понятий использовались стилизованные изображения — «пиктограммы». Такой символ, как, например, , мог обозначать «sun» (солнце), а — «tree» (дерево). Но ни одной системе не удалось даже близко подойти к тому, чтобы обзавестись пиктограммой для каждого слова соответствующего разговорного языка. А почему?
Изначально такого намерения просто не было. Письмо предназначалось для таких специальных целей, как учёт запасов и запись налогов. В дальнейшем появление новых применений письма могло потребовать более обширного словаря, но к тому времени писцы всё в большей степени осознавали, что проще добавлять в свою систему письма новые правила, нежели пиктограммы. В некоторых системах письма, например, если слово звучало как последовательность из двух или более других слов, то можно было изобразить его пиктограммами этих слов. Если бы английский язык записывался пиктограммами, мы смогли бы написать слово «treason» (измена; схоже по звучанию с tree+sun) как . Звучание слова было бы передано не точно (как и его буквенное написание), но этого было бы достаточно, чтобы читатель, говорящий на языке и знающий это правило, понял, о чём речь.
После такого нововведения создавать новые пиктограммы, например, для «treason» было бы уже не так заманчиво. Ведь это трудная работа, причём не столько потому, что тяжело придумать запоминающуюся пиктограмму, хотя это действительно так, сколько потому, что, прежде чем использовать, нужно как-то сообщить её значение всем предполагаемым читателям. А это нелегко: если бы это было просто, то в самом письме было бы гораздо меньше необходимости. Там, где можно было применить правило, это оказывалось эффективнее: любой писец мог написать , и его бы понял даже читатель, который никогда этого слова раньше не видел.
Однако это правило было применимо не во всех случаях: с его помощью нельзя записать новые слова из одного слога, а также многие другие слова. По сравнению с современными системами письма это правило кажется грубым и неадекватным. Но оно уже несло в себе нечто важное, чего ни одна чисто пиктографическая система не могла достичь: оно приносило в систему письма слова, которые никто явным образом не добавлял. Это значит, что оно расширяло сферу применимости. А этому всегда есть объяснение. Подобно тому, как в науке, где одна простая формула может охватывать множество фактов, так и простое, легко запоминающееся правило может принести в систему письма много дополнительных слов, но только если оно отражает некую глубинную закономерность. Закономерность в данном случае состоит в том, что все слова в любом языке составляются всего из нескольких десятков «элементарных звуков», причём в каждом языке используется свой набор, отобранный из огромного множества звуков, которые может воспроизвести человек. Почему? Скоро мы к этому подойдём.
По мере совершенствования правил системы письма может быть преодолён важный порог, за которым система становится универсальной для соответствующего языка, то есть способной представить в нём любое слово. Возьмём, например, следующий вариант только что описанного мною правила: слова строятся не из других слов, а из их первых звуков. Таким образом, если бы английские слова записывались пиктограммами, то по новому правилу слово «treason» было бы записано пиктограммами слов «Tent», «Rock», «EAgle», «Zebra», «Nose»[28]. Благодаря такому маленькому изменению правил система стала бы универсальной. Считается, что первые алфавиты развивались из правил, подобных этому.
Универсальность, достигаемая с помощью правил, носит иной характер, чем универсальность законченного списка (такого как гипотетический полный набор пиктограмм). Одно отличие заключается в том, что правила могут быть гораздо проще, чем список. Отдельные символы также могут быть проще, потому что их меньше. Но и это ещё не всё. Поскольку правило основано на закономерностях языка, оно неявным образом кодирует эти закономерности и тем самым содержит в себе больше, чем просто список. В алфавите, например, содержатся знания о том, как звучат слова. Это позволяет иностранцу использовать алфавит, чтобы научиться говорить на данном языке, а с помощью пиктограмм он разве что научился бы писать. Правила также могут предусматривать использование флексий, таких как префиксы и суффиксы, без усложнения системы письма, и таким образом в письменных текстах будет закодировано больше информации о грамматической структуре предложений. Помимо этого, алфавитная система письма перекрывает не только каждое слово языка, но и каждое потенциальное слово, так что те слова, которым ещё предстоит появиться, уже имеют в ней своё место. Поэтому новые слова не будут на время ломать систему, напротив: она сама будет служить для порождения новых слов простым и децентрализованным способом.
Или по крайней мере она может для этого служить. Приятно было бы думать, что неизвестный писец, который создал первый алфавит, знал, что делает одно из величайших открытий в истории. Но он мог этого и не знать. А если знал, то ему, безусловно, не удалось передать свой энтузиазм остальным. Ведь на практике только что отмеченная мной сила универсальности в древние времена использовалась редко, даже когда была доступна. Хотя пиктографические системы были изобретены во многих обществах, а универсальные алфавиты действительно иногда развивались из них только что описанным мною способом, следующий «очевидный» шаг, а именно полный переход на алфавит и отказ от пиктограмм, практически никогда не делался. Алфавиты применялись только в особых целях, например, для написания редких слов или транслитерации иностранных имён. Некоторые историки считают, что люди постигли идею системы письма на базе алфавита лишь один раз за всю историю человечества: это сделали неизвестные предки финикийцев, которые затем распространили её по всему Средиземноморью, так что всякая когда-либо существовавшая алфавитная система письма либо происходит от финикийской, либо появилась под её влиянием. Но даже в финикийской системе не было гласных, что умаляет некоторые из упомянутых мной преимуществ. Гласные были добавлены греками.
Есть предположения о том, что писцы намеренно ограничивали использование алфавитов, потому что боялись потерять заработок из-за появления системы, слишком простой для изучения. Но это, наверно, слишком современная интерпретация ситуации. Я подозреваю, что ни о возможностях, ни о подвохах универсальности никто не задумывался вплоть до гораздо более поздней исторической эпохи. Тех древних новаторов заботили только специфические проблемы, с которыми они сталкивались, — им нужно было писать конкретные слова, и для этого кто-то из них придумал правило, которое оказалось универсальным. Такой подход может показаться слишком уж обывательским. Но в те времена так оно и было.
И на самом деле, по-видимому, в ранней истории во многих областях много раз повторялась ситуация, когда достигнутая универсальность вовсе не была основной целью, если к ней вообще кто-то стремился. Так получалось, что в результате небольшого изменения, сделанного с какой-то обывательской целью, система заодно становилась универсальной. Происходил скачок к универсальности.
Кроме письма, на заре цивилизации появились и записи чисел. Сегодня математики различают числа, которые представляют собой абстрактные сущности, и их запись — некие физические символы для представления чисел. Первыми были открыты именно они. Сначала считали с помощью «чёрточек» (|,||,|||,||||, …) или счётных единиц, например, камней, которые с доисторических времён использовались для учёта таких дискретных сущностей, как животные или дни[29]. Если каждую выпущенную из загона козу отмечать чёрточкой, а потом, когда коза возвращается, её перечёркивать, то когда все чёрточки окажутся перечёркнутыми, это будет означать, что все козы на месте.
Это универсальная система счёта. Но, аналогично уровням эмерджентности, у универсальности тоже есть иерархия. Следующий уровень после счёта «палочками» — счёт, в котором задействована специальная запись числа. В первом случае, отмечая, сколько коз пришло или ушло, человек думает просто «ещё одна, ещё одна и ещё одна», а считая их, он проговаривает про себя «сорок, сорок одна, сорок две…».
Только задним числом мы можем рассматривать «палочки» как систему счисления и называть её «унарной» («единичной»), и как таковая эта система непрактична. Например, даже простейшие операции с числами, представленными чёрточками, такие как сравнение, арифметические операции и даже просто копирование, влекут за собой повторение всего процесса. Если у вас было сорок коз, вы продали двадцать и отметили оба этих действия с помощью чёрточек, вам всё равно придётся произвести двадцать отдельных операций удаления, чтобы записи соответствовали действительности. Аналогично, чтобы проверить, совпадают ли две сходные на вид записи, пришлось бы вычерчивать их друг под другом и сличать. Поэтому люди начали совершенствовать систему. Наверно, раньше всего придумали просто группировать чёрточки — например, писать вместо ||||||||||. Так сравнивать числа и проводить арифметические операции стало проще, поскольку можно было записывать целые группы и сразу видеть, что отличается от . Позднее и для самих этих групп были подобраны более короткие условные символы: в древнеримской системе использовались символы типа I, V, X, , C, D, и CD для обозначения одного, пяти, десяти, пятидесяти, сотни, пяти сотен и тысячи. (Как видите, это не совсем те «римские цифры», которые мы используем сегодня.)
Это ещё один случай постепенного совершенствования, направленного на решение специфических, обывательских проблем. И снова, по-видимому, никто к большему и не стремился. Хотя добавлением простых правил можно было сделать систему гораздо более функциональной, и даже несмотря на то, что римляне действительно время от времени добавляли некоторые из таких правил, они делали это, не стремясь к универсальности и не достигая её. На протяжении нескольких столетий в этой системе правила были следующие.
— Размещённые рядом символы складываются. (Это правило унаследовано от системы подсчёта «палочек».)
— Символы записываются слева направо в порядке убывания их величины.
— Когда это возможно, смежные символы следует заменять одним, отражающим их суммарное значение.
(Правило вычитания, присутствующее в современной римской системе счисления, по которому IV означает четыре, было введено позже.) Второе и третье правило гарантируют единственность представления каждого числа, что сильно упрощает сравнение. Без этих правил могли бы существовать и XIXIXIXIXIX, и VXVXVXVXV, и никто не мог бы с первого взгляда сказать, что это одно и то же число.
За счёт применения универсальных законов сложения эти правила давали системе одно важное преимущество над подсчётом с помощью «палочек», а именно возможность производить арифметические операции. Например, возьмём числа семь (VII) и восемь (VIII). Согласно правилам поместить их друг за другом VIIVIII — всё равно что сложить их. Затем по правилам нужно переставить символы в порядке убывания их величины: VVIIIII. Затем нужно заменить две V на X и пять I на V. В результате получим XV, что является представлением числа пятнадцать. Но при этом происходит нечто новое, и дело не просто в сокращении записи: открыта и доказана абстрактная истина, связывающая между собой семь, восемь и пятнадцать, и при этом никто ничего не отмечал и не пересчитывал. Мы работали с самими числами, посредством их записей.
Когда я говорю, что арифметические операции совершались системой записи чисел, я вкладываю в это буквальный смысл. Конечно, физически эти преобразования производили люди, пользовавшиеся этой системой. Но для этого им сначала нужно было записать её правила у себя в голове, а затем выполнить их, как компьютер выполняет программу. Причём, как известно, именно программа диктует действия компьютеру, а не наоборот. Значит, процесс, которые мы называем «выполнением арифметических операций с римскими цифрами» также состоит в том, что римская система записи использует нас для совершения арифметических операций.
Римская система смогла выжить только за счёт того, что вынуждала людей совершать эти действия, другими словами, она добивалась того, что римляне копировали её из поколения в поколение: они считали её полезной и передавали своим потомкам. Как я сказал, знания — это информация, которая, физически закрепившись в подходящей среде, стремится там остаться.
Услышав, что римская система записи чисел подчиняет нас себе, чтобы размножиться и не прекратить своё существование, кто-то, наверно, может подумать, что люди низводятся до статуса рабов. Но это было бы заблуждением. Люди состоят из абстрактной информации, включая характерные идеи, теории, намерения, чувства и другие состояния души, которые характеризуют конкретное «я». Спорить с тем, что, когда мы находим римские цифры полезными, мы идём у них «на поводу», всё равно что протестовать против того, что мы ходим на поводу у наших намерений. Рассуждая таким образом, можно прийти к тому, что пытаться спастись от рабства — это тоже рабство. На самом же деле, когда я говорю, что подчиняюсь программе, которая меня же составляет, (или что я подчиняюсь законам физики), в слово «подчиняться» я вкладываю несколько иной смысл, чем раб. Эти два значения слова объясняют события, находящиеся на разных уровнях эмерджентности.
Вопреки тому, что иногда говорят, существовали и достаточно продуктивные способы умножения и деления римских чисел. Так, можно было узнать, что корабль, в трюме которого — XX ящиков, в каждом из которых V рядов по VII кувшинов, всего перевозит DCC кувшинов, и при этом длинных вычислений, подразумеваемых в этом числе, не потребуется. И можно было сразу сказать, что DCC меньше, чем DCCI. Таким образом, возможность управляться с числами без начертания и подсчёта «палочек» позволяла вычислять цены, зарплаты, налоги, проценты по кредиту и так далее. Кроме того, это было концептуальным продвижением, открывшим двери будущему прогрессу. Однако в том, что касается этих более сложных применений, система универсальной не была. Поскольку символа со значением, большим CD (одна тысяча), не было, все числа, начиная с двух тысяч, начинались с цепочки из нескольких CD, тем самым становясь всего лишь условными метками со значением тысячи. Чем больше их было в числе, тем больше для выполнения арифметических операций приходилось прибегать к старой системе меток (рассматривать множество одинаковых символов друг за другом).
Подобно тому, как добавлением пиктограмм можно было расширять словарь древней системы письма, добавлением символов можно было расширить диапазон системы записи чисел, что и делалось. Но в получающейся системе всегда был символ с самым большим значением, а значит, она не была универсальной в плане совершения арифметических операций без поштучного пересчёта.
Единственный способ освободить арифметику от «палочек» — использовать правила с универсальной сферой применимости. Как и с алфавитами, достаточно будет небольшого набора базовых правил и символов. В универсальной системе, которой все пользуются сегодня, десять символов, это цифры от 0 до 9, а своей универсальностью она обязана правилу, в соответствии с которым значение цифры зависит от её положения в числе. Например, цифра 2 означает два, если она сама по себе, но двести, если она присутствует в числе 204. В таких «позиционных» системах нужны «заполнители» разрядов, как, например, цифра 0 в числе 204, единственная функция которой — сдвинуть двойку в позицию, означающую «двести».
Эта система зародилась в Индии, но когда именно, неизвестно. Возможно, это случилось лишь в девятом веке, поскольку до этого она вроде как встречается только в нескольких неоднозначных документах. Так или иначе, её огромный потенциал для науки, математики, техники и торговли широко не осознавался. Примерно в то же время её взяли на вооружение арабские учёные, но в обиход в арабском мире она вошла только через тысячу лет. Любопытное отсутствие стремления к универсальности повторилось и в средневековой Европе: индийские цифры были переняты у арабов лишь несколькими учёными в десятом веке (и в результате были ошибочно названы «арабскими цифрами»), но в повседневное использование они вошли только столетия спустя.
Уже к 1900 году до нашей эры древние вавилоняне изобрели в сущности универсальную систему счисления, но и они вполне могли не задумываться об универсальности и даже вовсе о ней не знать. Это была позиционная система, но очень громоздкая по сравнению с индийской. В ней было 59 «цифр», каждая из которых записывалась как число в системе типа римской. Пользоваться ею для совершения арифметических операций с числами в повседневной жизни было ещё сложнее, чем римскими цифрами[30]. В этой системе также не было символа для нуля, а вместо заполнителей использовались пробелы. Изобразить ноль в конце строки было никак нельзя, эквивалента десятичной запятой тоже не было (это всё равно что в нашей системе числа 200, 20, 2, 0,2 и так далее все записывались бы как 2, и различить их можно было бы только по контексту). Всё это наводит на мысль, что при разработке системы задача добиться универсальности не была основной, и когда она была достигнута, её особо не оценили.
Возможно, понять эту странную закономерность позволит примечательный случай, произошедший в третьем веке до нашей эры с древнегреческим учёным и математиком Архимедом. В ходе своих исследований в области астрономии и чистой математики он столкнулся с необходимостью производить арифметические операции с достаточно большими числами, и ему пришлось изобрести свою собственную систему записи. Он отталкивался от греческой, с которой был знаком и которая была похожа на римскую[31], только в ней символ с наибольшим значением обозначался через M — 10 000 (один мириад). Диапазон системы уже был расширен правилом, предписывающим умножать на десять тысяч число, написанное над M. Например, двадцать обозначалось символом κ, а четыре — δ, и двадцать четыре мириада (240 000) можно было записать как .
Если бы только по этому правилу можно было создавать многоуровневые числа, чтобы означало бы 24 мириада мириадов, система стала бы универсальной. Но, очевидно, греки до этого так и не дошли[32]. И, что более удивительно, не дошёл и Архимед. Его система строилась на другой идее, напоминающей современное «экспоненциальное представление» (когда, скажем, два миллиона записываются как 2×106), только в степень возводилось не десять, а мириад мириадов (100 000 000). Но в этом случае требовалось, чтобы число, являвшееся показателем степени (в которую возводились сто миллионов), существовало в греческой системе. Другим словами, показатель степени не мог превышать сто миллионов или около того. Значит, эта конструкция иссякала после числа, которое мы бы записали как 10 800 000 000. Если бы не это дополнительное правило, у Архимеда получилась бы универсальная система, хотя и неоправданно неуклюжая.
Даже сегодня числа, больше 10 800 000 000, могут пригодиться разве что математикам, и то очень редко. Но вряд ли Архимед наложил своё ограничение из-за этого, потому что на этом он не остановился. Продолжив исследовать понятие чисел, он добавил ещё одно расширение, на этот раз получилась ещё более странная система с основанием 10 800 000 000. Но снова он разрешил возводить это число только в степени, не превышающие 800 000 000, устанавливая таким образом произвольный предел где-то после 106,4×1017.
Зачем? Сегодня кажется, что, накладывая ограничение на то, какие символы можно использовать в его числовой записи и в каких позициях, Архимед просто упрямствовал в своих заблуждениях. Для этого нет никакого математического оправдания! Но если бы Архимед захотел позволить применять свои правила без произвольных ограничений, он мог бы изобрести гораздо более удачную универсальную систему, просто убрав произвольные ограничения из существовавшей тогда греческой системы. (Несколькими годами позже математик Аполлоний придумал ещё одну систему записи чисел, которой точно так же не хватало универсальности. Такое впечатление, что в античном мире все намеренно её избегали!)
Вот что писал об индийской системе математик Пьер-Симон Лаплас (1749–1827): «Мы должны оценить грандиозность этого достижения, вспомнив, что до него не додумались Архимед и Аполлоний, два величайших ума античного мира». Но верно ли, что они не додумались до этого понятия? Может, они просто предпочли держаться от него подальше? Архимед должен был понимать, что метод расширения системы записи чисел, которым он воспользовался два раза подряд, можно продолжать до бесконечности. Но, возможно, он сомневался, что получившиеся в результате записи обозначали что-либо пригодное для разумного обсуждения. Действительно, одним из мотивов для всего этого начинания было желание опровергнуть идею, трюизм того времени, что песчинки на пляже сосчитать невозможно. И Архимед воспользовался своей системой, чтобы подсчитать, сколько песчинок понадобилось бы, чтобы заполнить всю небесную сферу. Это наводит на мысль, что ни у него, ни в древнегреческой культуре в целом, могло не быть в принципе понятия абстрактного числа, и для них такие записи могли относиться только к объектам, хотя бы и воображаемым. В этом случае универсальность была бы сложным для постижения свойством, что уж говорить о том, чтобы к ней стремиться. А может Архимед просто почувствовал, что если он хочет получить убедительный результат, то ему лучше не стремиться к бесконечной сфере охвата. Так или иначе, хотя с нашей точки зрения в системе Архимеда несколько раз «намечался» скачок к универсальности, он, очевидно, к этому не стремился.
А вот ещё более спорная версия. Самая большая польза от универсальности, за рамками тех обиходных задач, ради решения которых она достигается, состоит в том, что она может пригодиться для дальнейшего новаторства. Но новаторство непредсказуемо. Поэтому, чтобы оценить универсальность на момент её открытия, нужно либо просто ценить абстрактные знания сами по себе, либо ожидать от них непредвиденных выгод. В обществе, в котором перемены происходили редко, и то, и другое было бы довольно неестественно. Но всё перевернулось с приходом Просвещения, основная идея которого, как я говорил, в том, что прогресс и желаем, и достижим. А раз так, то это же можно сказать и про универсальность.
Как бы то ни было, с приходом Просвещения парохиальность и все произвольные исключения и ограничения стали рассматриваться как сомнительные по сути, причём не только в науке. Почему закон должен различать аристократа и обычного человека? Раба и хозяина? Женщину и мужчину? Философы Просвещения, такие как Локк, занялись освобождением политических институтов от произвольных правил и условностей. Другие пытались вывести нравственные принципы из универсальных моральных объяснений вместо того, чтобы просто закрепить их постулатами. Таким образом, своё место рядом с универсальными теориями материи и движения стали занимать объяснительные теории справедливости, законности и нравственности. Во всех этих случаях универсальность уже искали намеренно, как желаемое и даже необходимое свойство для того, чтобы идея была верной, а не просто как средство решения конкретной проблемы.
Скачком к универсальности, который сыграл важную роль на заре Просвещения, стало изобретение принципа печати наборными шрифтами. Он заключался в использовании отдельных кусочков металла, на каждом из которых выдавлен контур буквы алфавита. В более ранних формах печатания просто рационализировали письмо подобно тому, как римские цифры позволили рационализовать подсчёт «палочек»: каждую страницу гравировали на печатной пластине так, что все символы на ней можно было скопировать за раз. Но если есть набор подвижных литер, где каждая встречается по несколько раз, то больше не нужно возиться с металлообработкой. Просто берёшь и составляешь из литер слова и предложения. Для производства печатного шрифта не нужно было знать, какие документы будут с его помощью печататься и о чём в них будут сообщать: набор литер универсален.
И тем не менее наборные шрифты почти не изменили Китай, где они были изобретены в одиннадцатом веке — возможно, из-за обычного отсутствия интереса к универсальности или из-за того, что в китайской системе письма использовались тысячи пиктограмм, что уменьшало непосредственные преимущества универсальной системы печати. Но когда в пятнадцатом веке в Европе Иоганн Гутенберг заново придумал её в применении к алфавитному шрифту, это привело к дальнейшему лавинообразному прогрессу.
Здесь мы видим переход, типичный для скачка к универсальности: до него приходилось изготавливать специальные предметы для каждого документа, который нужно было напечатать, а после для этого просто приспосабливается (или настраивается, или программируется) универсальный объект, в данном случае печатный станок с наборным шрифтом. Сходным образом в 1801 году Жозеф-Мари Жаккар изобрёл шёлкоткацкий станок широкого применения, который теперь называют станком Жаккара. Больше не нужно было управлять вручную каждым рядом петель на каждом отдельном рулоне узорчатого шёлка. Достаточно было запрограммировать произвольный узор на перфорированных картах, служащих инструкцией для станка, который воспроизводил его любое количество раз.
Наиболее весомым среди таких достижений являются компьютеры, от которых сегодня зависит всё больше и больше технологий и которые имеют глубокое теоретическое и философское значение. Скачок к вычислительной универсальности должен был случиться в 1820-е годы, когда математик Чарльз Бэббидж изобрёл устройство, которое он назвал разностной машиной, — механический калькулятор, в котором десятичные знаки представлялись с помощью зубцов, каждый из которых можно было установить в одном из десяти положений. Исходное назначение машины было ограниченным: автоматизировать составление таблиц значений математических функций, таких как логарифмы и косинусы, которые активно использовались в навигации и инженерном деле. В то время эту работу выполняли армии клерков-вычислителей, которых по-английски называли словом «computer» (откуда, собственно, и произошло современное компьютер) и которые были известны частыми ошибками. Разностная машина совершала бы меньше ошибок уже потому, что арифметические правила закладывались в неё на этапе конструирования. Чтобы машина распечатала таблицу для заданной функции, её нужно было запрограммировать один раз, определив функцию через простые операции[33]. В отличие от этого, «людям-компьютерам» приходилось использовать как определение, так и общие правила арифметики (или, как было отмечено выше, правила использовали людей для своей реализации) тысячи раз для каждой таблицы, и каждый раз человек мог ошибиться.
К сожалению, несмотря на то, что Бэббидж вложил в этот проект огромные средства — как собственные, так и выделенные правительством Британии, он оказался таким плохим организатором, что так и не довёл свою разностную машину до завершения. Но его проект оказался вполне годным (за исключением нескольких тривиальных ошибок), и в 1991 году группа специалистов под руководством инженера Дорона Суэйда из Музея науки в Лондоне успешно построила работающую машину с помощью инженерных средств, доступных во времена Бэббиджа.
На фоне современных компьютеров и даже калькуляторов разностная машина Бэббиджа имела очень ограниченный набор действий. Но причина, по которой она вообще могла существовать, — в той закономерности, которая присуща всем математическим функциям, применяемым в физике, а значит, и в навигации и в инженерном деле. Эти функции называются аналитическими, и в 1710 году математик Брук Тейлор установил, что их можно аппроксимировать с произвольно высокой точностью, многократно используя сложение и умножение — операции, которые как раз и выполняет разностная машина. (Частные случаи были известны и до этого, но скачок к универсальности был обоснован Тейлором.) Таким образом, для решения узкой проблемы вычисления нескольких функций, таблицы которых были необходимы для последующих расчётов, Бэббидж создал калькулятор, универсально подходящий для вычисления аналитических функций. В нём использовалась и универсальность наборных шрифтов — в печатающем устройстве, похожем на пишущую машинку, — без чего не удалось бы полностью автоматизировать печатание таблиц.
Изначально у Бэббиджа не было представления о вычислительной универсальности. Тем не менее его разностная машина оказалась замечательно близка к ней — не по набору производимых вычислений, а по физическому устройству. Чтобы запрограммировать её для печати заданной таблицы, нужно привести в исходное состояние определённые зубцы. В конце концов Бэббидж понял, что данный этап программирования тоже поддаётся автоматизации: настройки можно заготавливать на перфокартах, как у Жаккара, а затем механически передавать на зубцы. Таким путём не только исключался главный остающийся источник ошибок, но и расширялся набор действий машины. Затем Бэббидж понял, что если бы машина могла пробивать новые карточки для дальнейшего использования в ней же и могла бы управлять тем, какую карту считывать следующей (скажем, беря их из пачки в зависимости от положения шестерёнок), то могло бы получиться нечто качественно новое: скачок к универсальности.
Эту усовершенствованную машину он назвал аналитической. Он и его коллега, женщина-математик, графиня Ада Лавлейс знали, что эта машина сможет вычислять всё, что могут «люди-компьютеры», и не только производить арифметические операции: она сможет решать алгебраические уравнения, играть в шахматы, сочинять музыку, обрабатывать изображения и так далее. Она стала бы тем, что сегодня называется универсальным классическим компьютером. (В главе 11, в которой речь пойдёт о квантовых компьютерах, работающих на ещё более высоком уровне универсальности, я объясню, почему приписка «классический» так важна.)
Однако ни эти учёные, ни кто-либо другой в течение ещё столетия не представлял себе, для чего будут сегодня чаще всего применяться вычисления, а именно Интернет, обработка текстов, поиск по базам данных, игры. Но есть ещё одно важное применение, которое они предвидели, — это научные предсказания. Аналитическая машина могла стать универсальным моделирующим устройством, способным предсказать поведение любого физического объекта с любой желаемой точностью с учётом соответствующих законов физики. Это та универсальность, о которой я говорил в главе 3, благодаря которой в физических объектах, непохожих друг на друга и подчиняющихся разным законам физики (как, например, мозг и квазар), могут проявляться одинаковые математические зависимости.
Бэббидж и Лавлейс были людьми Просвещения, и они понимали, что универсальность аналитической машины откроет новую эру технологий. Но даже при этом, несмотря на огромные усилия, им удалось заразить своим энтузиазмом лишь небольшую группу людей, которым тоже не удалось передать его дальше. И аналитическая машина осталась в истории как трагическая память о скачке, который мог бы произойти, но, к сожалению, не произошёл. Если бы они поискали другие варианты реализации, то могли бы заметить прекрасную возможность, которая уже ждала своего применения: электрические реле (переключатели, работающие от электрического тока). Это было одно из первых приложений фундаментальных исследований в области электромагнетизма, вот-вот должно было начаться массовое производство таких реле, что в итоге привело к технологической революции в телеграфии. Переработанная аналитическая машина с кодированием двоичных знаков по принципу включения/выключения тока и с использованием электрических реле для осуществления вычислений работала бы быстрее механического компьютера Бэббиджа, и её было бы дешевле и проще построить. (О двоичных числах уже хорошо знали. В семнадцатом веке математик и философ Готфрид Вильгельм Лейбниц даже предлагал использовать их для механических вычислений.) Так что компьютерная революция могла случиться на сто лет раньше. И благодаря технологиям телеграфа и печати, которые развивались параллельно, за ней вскоре последовала бы и интернет-революция. В своём романе «Машина различий»[34] (The Difference Engine) писатели-фантасты Уильям Гибсон и Брюс Стерлинг захватывающе описывают, как бы это могло быть. Журналист Том Стэндидж в своей книге «Викторианский Интернет» (Victorian Internet) утверждает, что уже в рамках телеграфной системы, даже без компьютеров, среди её операторов действительно существовало явление, похожее на Интернет, с «хакерами, сетевыми романами и свадьбами, чатами, горячими спорами в Сети… и так далее».
Бэббидж и Лавлейс также задумывались об одном применении универсальных компьютеров, которое до сих пор ещё не осуществлено, а именно о так называемом искусственном интеллекте. Поскольку человеческий мозг — это физический объект, подчиняющийся законам физики, а аналитическая машина — универсальное моделирующее устройство, то его можно запрограммировать так, чтобы оно думало так же, как может думать человек (хотя на это будет уходить очень много времени и запредельное количество перфокарт). Тем не менее Бэббидж и Лавлейс отрицали такую возможность. Лавлейс говорила, что «аналитическая машина не претендует на то, чтобы создавать что-то действительно новое. Машина может выполнить всё то, что мы умеем ей предписать. Она может следовать анализу; но она не может предугадать какие-либо аналитические зависимости или истины»[35].
Впоследствии математик и пионер вычислительной техники Алан Тьюринг называл эту ошибку «возражением леди Лавлейс». Лавлейс недооценила не столько вычислительную универсальность, сколько универсальность законов физики. В то время наука практически ничего не знала о том, как устроен мозг с физической точки зрения. Теория эволюции Дарвина ещё не была опубликована, и преобладали сверхъестественные объяснения природы человека. Сегодня послаблений для той малой части учёных и философов, которые до сих пор считают, что искусственный интеллект недостижим, меньше. Например, философ Джон Серл рассматривает проект создания искусственного интеллекта в следующей исторической перспективе: на протяжении веков люди пытались объяснить разум техническим языком, используя сравнения и метафоры на основе сложнейших механизмов соответствующего времени. Сначала предполагалось, что мозг похож на чрезвычайно сложный набор шестерёнок и рычагов. Затем были гидравлические магистрали, паровые двигатели, телефонные коммутаторы, а сегодня, когда самой впечатляющей технологией считаются компьютеры, говорят, что мозг — это компьютер. Но это опять же не более чем сравнение, говорит Серл, и причин считать мозг компьютером не больше, чем паровым двигателем.
В действительности их больше. Паровой двигатель не является универсальным моделирующим устройством, а вот компьютер является, так что ожидать от него, что он сможет делать то же самое, что нейроны, — не метафора: это известное и проверенное свойство законов физики, какими мы их знаем. (И, кстати, из гидравлических контуров тоже можно сделать универсальный классический компьютер и из шестерёнок и рычагов, как показал Бэббидж.)
Как это ни парадоксально, но у возражения леди Лавлейс логика та же, что и у довода, который Дуглас Хофштадтер приводит в пользу редукционизма (глава 5), но Хофштадтер — один из активных современных сторонников того, что искусственный интеллект возможен. А всё потому, что оба опираются на ошибочное допущение о том, что низкоуровневые вычислительные шаги якобы не могут сложиться в высокоуровневое «Я», которое влияет на всё. Разница между ними в том, что они держатся противоположных альтернатив возникающей при этом дилеммы: Лавлейс ошибочно заключила, что искусственный интеллект невозможен, а Хофштадтер — что такого «Я» не существует.
Поскольку Бэббиджу не удалось ни самому построить универсальный компьютер, ни убедить других это сделать, первая подобная машина появилась лишь спустя сто лет. То, что происходило в этот промежуток времени, скорее напоминает древнюю историю универсальности: хотя счётные устройства, похожие на разностную машину, стали создаваться ещё до того, как Бэббидж сдался, его идею аналитической машины практически полностью игнорировали даже математики.
В 1936 году Тьюринг разработал исчерпывающую теорию универсальных классических компьютеров. Но он не собирался строить такой компьютер, а только хотел применять теорию абстрактно для изучения природы математических доказательств. И когда через несколько лет были сконструированы первые универсальные компьютеры, то опять в этом не было никакого особого намерения реализовать универсальность. Их построили в Британии и США во время Второй мировой войны для специфичных военных целей. Британские компьютеры под названием Colossus («Колосс»; в их создании принимал участие Тьюринг) использовались для взлома шифров; американский компьютер ENIAC был предназначен для решения уравнений, необходимых для наведения больших орудий. Оба были построены на электронных вакуумных лампах, которые работали как реле, но почти в сто раз быстрее. В то же самое время в Германии инженер Конрад Цузе собирал на релейных схемах программируемый калькулятор — так, как это должен был бы сделать Бэббидж. Во всех трёх применялись технологические решения, необходимые для универсального компьютера, но ни одно из них не было вполне универсальным по своей конфигурации. Машины Colossus применялись только для дешифрации, и после войны большая часть из них была разобрана. Машина Цузе была уничтожена в ходе бомбардировок Германии союзниками. А вот ENIAC’у судьба позволила совершить скачок к универсальности: после войны ему нашли массу применений, для которых он никогда не предназначался, таких как прогнозирование погоды и проект создания водородной бомбы.
В истории развития электронных технологий после Второй мировой войны преобладала миниатюризация, и в каждом новом устройстве реализовывались всё более и более микроскопические переключатели. Около 1970 года эти усовершенствования вызвали скачок к универсальности, когда несколько компаний независимо друг от друга создали микропроцессор, универсальный классический компьютер на одной кремниевой микросхеме. С этого момента разработчики любого устройства для обработки информации могли взять микропроцессор и настраивать его — программировать — под определённые задачи, которые устройство должно было выполнять. Сегодня стиральная машина, стоящая у вас дома, наверняка управляется компьютером, который можно было бы запрограммировать для решения задач астрофизики или обработки текстов, если бы у него были подходящие устройства ввода-вывода и достаточный объём памяти для хранения необходимых данных.
Удивительно, но в этом смысле (другими словами, если отбросить то, что связано со скоростью, ёмкостью памяти и устройствами ввода-вывода) «люди-компьютеры» девятнадцатого века, паровая аналитическая машина с её звонками и свистками, ламповые вычислительные машины времён Второй мировой войны, занимавшие целые комнаты, и современные суперкомпьютеры выполняют один и тот же набор вычислений.
Другая их общая черта — то, что все они цифровые: они работают с информацией в форме дискретных значений физических величин: к примеру, электронный переключатель может быть включён или выключен, а зубец шестерёнки находиться в одном из десяти положений. Широко распространённые когда-то альтернативные, «аналоговые», компьютеры, такие как логарифмическая линейка, в которых информация представляется в виде непрерывных физических переменных, сегодня практически не используются[36]. Дело в том, что современный цифровой компьютер можно запрограммировать так, что он сымитирует любое такое устройство и будет работать лучше практически во всех приложениях. В результате скачка к универсальности в цифровых вычислениях аналоговые компьютеры были забыты. И это было неизбежно, ведь универсального аналогового компьютера не существует.
Причина тому — необходимость исправления ошибок: ошибки, накапливающиеся в ходе длинных вычислений из-за неидеальных компонентов, тепловых флуктуаций, случайных внешних воздействий, сбивают аналоговые компьютеры с намеченного пути вычислений. Возможно, это прозвучит как незначительное или парохиальное суждение, но всё как раз наоборот. Без исправления ошибок весь процесс обработки информации, а значит, и создания знаний, будет неизбежно ограничен. Исправление ошибок относится к началу бесконечности.
К примеру, система подсчёта «палочек» универсальна, только если она цифровая. Представьте себе, что какие-нибудь древние пастухи попытались бы вычислить не количество голов, а общую длину стада. Выпуская козу из загона, они бы отматывали нитку длиной с козу. А потом, по возвращении коз, сматывали бы нитку обратно. Когда весь клубок оказывался бы смотанным, это означало бы, что все козы вернулись в загон. Но на деле из-за накопления ошибок измерения всегда либо оставалась бы лишняя часть нити, либо её не хватало. Любая заданная точность измерений предполагала бы максимальное число коз, которое можно надёжно подсчитать таким «аналоговым» способом. То же будет верно и для всех арифметических операций, производимых с помощью таких «палочек». Каждый раз, когда соединяли нити, представляющие несколько стад, или одну нить разрезали на две части, чтобы отметить разделение стада, когда её «копировали», отмеряя ещё одну такой же длины, появлялись бы ошибки. Их можно было бы сгладить, повторив каждую операцию много раз, а затем взяв среднюю длину. Но операции сравнения и копирования длин сами могут выполняться лишь с конечной точностью, и поэтому с их помощью нельзя сократить темп накопления ошибок в расчёте на один шаг, ниже этого уровня погрешности. Таким образом, появилось бы максимальное число последовательных операций, которые можно выполнить, прежде чем результат окажется бесполезен для заданной цели, а значит, аналоговые вычисления никогда не могут быть универсальными.
Нам же нужна система, которая принимает наличие ошибок как должное, но исправляет их при появлении — это случай того, что «проблемы неизбежны, но их можно решить» на самом низшем уровне эмерджентности, связанной с обработкой информации. В аналоговых вычислениях исправление ошибок сталкивается с основной логической проблемой, заключающейся в том, что невозможно сразу отличить значение с ошибкой от правильного, потому что согласно самой природе аналоговых вычислений каждое значение может оказаться правильным. Правильной могла быть любая длина нити.
А в вычислениях, которые ограничиваются целыми числами, это не так. В случае с верёвкой мы могли бы представлять целые числа как верёвку длиной в целые числа сантиметров. После каждого шага мы обрезаем или удлиняем верёвку до ближайшего сантиметра. Тогда ошибки перестанут накапливаться. Предположим, например, что эти измерения можно производить с допустимым отклонением в одну десятую сантиметра. Тогда после каждого шага все ошибки будут обнаружены и устранены, что исключит ограничение на число последовательных шагов.
Так что все универсальные компьютеры являются цифровыми; и во всех присутствует исправление ошибок согласно одной и той же базовой логике, только что мною описанной, хотя реализована она множеством различных способов. В вычислительных машинах Бэббиджа на весь континуум углов, под которыми может быть ориентировано зубчатое колесо, приходилось только десять различных значений. После такого перевода в цифровой вид зубцы могли автоматически исправлять ошибки: после каждого шага любой незначительный сдвиг в ориентации колеса от десяти идеальных положений немедленно исправлялся до ближайшего из них. Если бы значения присваивались всему континууму углов, то номинально каждое такое колесо смогло бы переносить (бесконечно) больше информации; но в действительности в отсутствие надёжного способа извлечения информации нельзя говорить о её хранении.
К счастью, то, что обрабатываемая информация должна быть цифровой, не умаляет универсальности цифровых компьютеров или законов физики. Если измерения длин коз в целых сантиметрах недостаточно для конкретной цели, используйте целое число десятых долей сантиметра — или миллиардных. То же верно и для всех других приложений: законы физики таковы, что поведение любого физического объекта — и это относится к любому другому компьютеру — можно смоделировать с помощью универсального цифрового компьютера с любой желаемой точностью. Нужно просто аппроксимировать непрерывно изменяющиеся величины достаточно мелкой сеткой дискретных.
Из-за необходимости исправления ошибок все скачки к универсальности происходят в цифровых системах. Именно поэтому в разговорных языках слова строятся из конечного набора элементарных звуков: речь невозможно было бы понять, если бы она была аналоговой. Невозможно было бы повторить или даже запомнить сказанные кем-то слова. И поэтому не важно, что универсальные системы письма не позволяют идеально представить аналоговую информацию, такую как тон голоса. Его никак нельзя идеально передать. По той же причине с помощью самих звуков можно представить лишь конечное число возможных значений. Например, люди различают только около семи уровней громкости звука. Это приближённо отражено в стандартном нотном письме, в котором есть около семи различных символов для громкости (такие как p, mf, f и так далее[37]). И по той же причине говорящие могут иметь в виду лишь конечное число возможных значений каждого высказывания.
Ещё одна поразительная связь между всеми этими столь различными скачками к универсальности состоит в том, что все они происходят на Земле. Вообще говоря, все известные скачки к универсальности происходили под покровительством человека, кроме одного, о котором я ещё не упоминал и из которого исторически появились все остальные. Он случился на заре развития жизни.
В современных организмах работает сложный и очень запутанный с химической точки зрения механизм воспроизведения генов. У большинства видов гены выступают в роли шаблонов для формирования цепочек аналогичных молекул, РНК. Последние затем действуют как программы, направляющие синтез составляющих организм химических соединений, главным образом ферментов, которые являются катализаторами. Катализатор — это своего рода строитель, он стимулирует изменение других химических соединений, но сам при этом не меняется. Эти катализаторы, в свою очередь, управляют всеми химическими процессами и регуляторными функциями в организме, а значит, определяют сам организм, включая — что особенно важно — процесс, при котором копируется ДНК. В рамках данного изложения нам не важно, как развился этот сложный механизм, но ради определённости я дам набросок того, как это могло произойти.
Около четырёх миллиардов лет назад, вскоре после того, как поверхность Земли охладилась достаточно, чтобы на ней могла конденсироваться жидкая вода, океаны перемешивались вулканами, метеоритами, штормами и приливами, которые были намного сильнее нынешних (поскольку Луна была ближе к Земле). В них также кипела химическая активность: постоянно образовывались и видоизменялись разнообразные молекулы — одни самопроизвольно, другие с помощью катализаторов. Случилось так, что один такой катализатор смог катализировать образование тех самых типов молекул, из которых строился и он сам. Этот катализатор ещё не был живым, но стал первым намёком на жизнь.
Он ещё не развился до катализатора чётко направленного действия, поэтому также ускорял образование и некоторых других химических соединений, включая вариации самого себя. И те из них, которые лучше других стимулировали своё собственное формирование (и замедляли саморазрушение), становилось более многочисленными по сравнению с другими вариациями. В свою очередь они тоже стимулировали воспроизводство вариаций самих себя, и так эволюция продолжалась.
Постепенно способность катализаторов стимулировать воспроизводство себя обрела устойчивость и достаточную специфичность, так что их стало можно называть репликаторами. Так эволюция порождала репликаторы, которые воспроизводили себя всё быстрее и надёжнее.
Различные репликаторы начали объединяться в группы, члены каждой из которых специализировались на вызывании одной части сложной сети химических реакций, совокупным результатом которых должно было стать создание большего числа копий всей группы. Такая группа уже представляла собой рудиментарный организм. К этому времени жизнь находилась на стадии, примерно аналогичной римским цифрам или печати с металлических пластин: каждый репликатор уже не был сам за себя, но универсальной системы, настроенной или запрограммированной на воспроизводство специфических веществ, ещё не было.
Самыми удачными репликаторами могли быть молекулы РНК. Они обладают собственными каталитическими свойствами, зависящими от точной последовательности составляющих их молекул (или оснований, похожих на основания ДНК). В результате процесс стал ещё менее похож на простой катализ и больше похож на программирование — на языке или генетическом коде, в котором основания выступали в качестве алфавита.
Гены — это репликаторы, которые можно интерпретировать как инструкции в генетическом коде. Геномы — это группы генов, зависящие друг от друга в плане репликации. Процесс копирования генома называется жизнью организма. Таким образом, генетический код — это тоже язык, используемый для задания организмов. В какой-то момент эта система перешла на репликаторы, состоящие из ДНК, которая более стабильна, чем РНК, и поэтому больше подходит для хранения больших объёмов информации.
Знание того, что произошло дальше, может скрыть от нас то, насколько это замечательно и загадочно. Изначально генетический код и механизм его интерпретации развивались в организмах наряду со всем остальным. Но настал момент, когда код перестал развиваться, а организмы — нет. В тот момент в системе кодировалась информация не более чем о примитивных одноклеточных созданиях. Однако практически все последующие организмы на Земле до сегодняшнего дня не только основываются на репликаторах в виде ДНК, но и используют один и тот же алфавит оснований, сгруппированных в «слова» из трёх оснований, лишь с небольшими вариациями значений этих «слов».
Это означает, что генетический код, рассматриваемый как язык для задания организмов, характеризуется феноменальной сферой охвата. Он развивался только до состояния, позволившего определять организмы без нервной системы, без возможности двигаться или прикладывать силу, без внутренних органов и органов чувств; организмы, образ жизни которых немногим отличался от синтеза своих собственных структурных составляющих с последующим делением пополам. И тем не менее сегодня с помощью того же самого языка задаётся «аппаратное и программное обеспечение» для бесчисленного множества способов поведения многоклеточных, для которых не было близких аналогов у тех примитивных организмов, — таких как возможность бегать, летать, дышать, спариваться, распознавать хищников и добычу. Он также задаёт такие технические приспособления, как крылья и зубы, и нанотехнологические, такие как иммунные системы, и даже мозг с его способностью разбираться в квазарах, разрабатывать с нуля другие организмы и удивляться своему существованию.
На протяжении всей своей эволюции генетического кода он демонстрировал гораздо меньшую сферу охвата. Возможно потому, что каждый последующий его вариант служил для задания лишь нескольких видов, очень похожих друг на друга. Так или иначе, часто должно было случаться так, что вид, заключавший в себе новое знание, задавался в новом варианте генетического кода. Но затем эволюция остановилась, причём тогда, когда сфера охвата уже была огромной. Почему так произошло? Не правда ли, похоже, что произошёл скачок к своего рода универсальности?
То, что случилось дальше, следовало той же самой грустной картине, описанной мною в других рассказах об универсальности: с тех пор как система достигла универсальности и перестала дальше развиваться, прошло более миллиарда лет, а с её помощью всё ещё создавались только бактерии. Это означает, что та сила, которой, как мы видим сейчас, обладала система, должна была лежать без дела дольше, чем когда-то из неживых предшественников развивалась сама система. Если в какой-то момент за этот миллиард лет внеземные цивилизации и посещали Землю, они бы не увидели никаких свидетельств того, что генетический код может задавать что-то сильно отличающееся от организмов, которые он определял в самом начале.
Широта охвата всегда имеет объяснение. Но в данном случае, насколько мне известно, это объяснение ещё не найдено. Если причина скачка широты охвата в том, что это был скачок к универсальности, то что такое универсальность? Предположительно генетический код — это не универсальное средство задания форм жизни, потому что он полагается на особые типы химических соединений, такие как белки. Мог ли он быть универсальным конструктором? Возможно. Иногда ему удаётся строить из неорганических материалов, таких как фосфат кальция в костях или магнитный железняк в системе ориентации в мозгу голубя. С его помощью биотехнологи уже производят водород и добывают уран из морской воды. Генетический код может запрограммировать организмы так, что они будут сооружать что-либо вне своих тел: птицы строят гнёзда, а бобры — плотины. Возможно, в генетическом коде можно описать организм, жизненный цикл которого будет включать постройку космического корабля с ядерной установкой. А может, и нет. Мне кажется, генетический код обладает не столь большой, но ещё не до конца понятной универсальностью.
В 1994 году Леонард Адлеман, специалист по компьютерной технике и молекулярной биологии, разработал и построил компьютер, состоящий из ДНК и ряда простых ферментов, и продемонстрировал, что он может производить некоторые сложные вычисления. В то время ДНК-компьютер Адлемана был, наверное, самым быстрым в мире. В дальнейшем стало ясно, что подобным образом можно построить универсальный классический компьютер. Отсюда мы знаем, что, какой бы ни была ещё универсальность ДНК-системы, она в течение миллиардов лет обладала вычислительной универсальностью, но до Адлемана её никто не использовал.
Загадочная универсальность ДНК как конструктора, возможно, была первой возникшей универсальностью. Но из всех различных её форм самой важной с физической точки зрения является специфическая универсальность людей, а именно то, что они являются универсальными объяснителями, что делает их также универсальными конструкторами. Влияние этой универсальности, как я уже говорил, поддаётся выражению лишь посредством полного спектра фундаментальных объяснений. Это также единственный тип универсальности, способный переступить через свои парохиальные истоки: универсальные компьютеры не могут быть по-настоящему универсальны без людей, которые будут неограниченно снабжать их энергией и обслуживать. То же верно и для всех остальных технологий. Даже жизнь на Земле в конце концов перестанет существовать, если люди не захотят этому помешать. Только люди могут надеяться, что сами обеспечат себе неограниченное будущее.
Терминология
Скачок к универсальности — тенденция постепенного совершенствования систем с последующим резким увеличением функциональности, в результате чего система становится универсальной в какой-либо области.
Значения «начала бесконечности», встречающиеся в этой главе
— Существование универсальности во многих областях.
— Скачок к универсальности.
— Исправление ошибок в вычислениях.
— То, что люди являются универсальными объяснителями.
— Происхождение жизни.
— Загадочная универсальность, которой достиг генетический код.
Краткое содержание
Любой рост знания происходит путём постепенного совершенствования, но во многих областях наступает момент, когда одно из постепенных улучшений в системе знаний или технологий вызывает внезапное расширение сферы применимости, и система становится универсальной в соответствующей области. В прошлом новаторы, которые осуществляли такой скачок к универсальности, редко к этому стремились, но с наступлением эпохи Просвещения это стало правилом, и универсальные объяснения уже ценились как сами по себе, так и за свою полезность. Из-за того, что исправление ошибок является существенной частью процессов с потенциально неограниченной продолжительностью, скачок к универсальности случается только в цифровых системах.
7. Искусственное творческое мышление
В 1936 году Алан Тьюринг создал теорию классических вычислений, а во время Второй мировой войны участвовал в конструировании первых универсальных классических компьютеров. Он по праву считается отцом современной вычислительной теории. Бэббиджа можно назвать дедушкой, но Тьюринг, в отличие от Бэббиджа и Лавлейс, всё-таки осознавал принципиальную возможность искусственного интеллекта, потому что универсальный компьютер — это универсальное моделирующее устройство. В 1950 году в статье «Вычислительные машины и разум» (Computing Machinery and Intelligence) он поставил знаменитый вопрос: может ли машина мыслить?[38] Он не только защищал с позиций универсальности утверждение, что может, но и предложил соответствующий тест. Теперь его называют тестом Тьюринга, и он заключается в том, сумеет ли судья (человек) понять, отвечает ли ему программа или человек. В этой и последующих работах Тьюринг дал наброски протокола для проведения своего теста. Например, он предложил, что и программа, и реальный человек должны по отдельности взаимодействовать с судьёй через некоторую чисто текстовую среду, такую как телетайп, чтобы тестировался не внешний вид кандидатов, а только то, могут ли они думать.
Тест Тьюринга и его рассуждения заставили многих исследователей задуматься, и не только о том, был ли он прав, но и о том, как пройти этот тест. Стали писать программы с намерением разобраться, что может иметь отношение к прохождению теста.
В 1964 году учёный-компьютерщик Джозеф Вейценбаум написал программу «Элиза» (Eliza), которая должна была имитировать психотерапевта. Он полагал, что психотерапевты — особенно простой для имитации тип человека, потому что о себе программа может давать обтекаемые ответы, а вопросы задавать только на основе вопросов и утверждений самого пользователя. Это была удивительно простая программа. Сегодня такие программы часто пишут студенты, изучающие программирование, потому что это забавно и просто. У типичной программы такого типа две основные стратегии. Сначала она сканирует входные данные в поиске определённых ключевых слов и грамматических форм. И если находит, то отвечает по шаблону, заполняя пробелы с помощью слов из входных данных. Например, если на вход поступила фраза «Я ненавижу свою работу», программа может распознать грамматические аспекты предложения, включая притяжательное местоимение «свою», а также глагол «ненавижу», как ключевое из встроенного списка вида «любить/ненавидеть/нравиться/не нравиться/хотеть» и выбрать для ответа подходящий шаблон: «Что в вашей работе вам не нравится больше всего?» Если программе не удаётся настолько хорошо разобраться с входными данными, она задаёт свой собственный вопрос, случайным образом выбирая из стандартных заготовок, которые могут зависеть от входной последовательности, а могут и не зависеть. Например, на вопрос «Как работает телевизор?» ответ может быть «Что интересного в том, как работает телевизор?». Или просто: «Почему вас это интересует?» Другая стратегия, которая используется в последних версиях «Элизы», работающих с Интернетом, заключается в построении базы данных предыдущих диалогов, с тем чтобы программа могла просто повторять фразы, которые вводили другие пользователи, выбирая их в соответствии с ключевыми словами, найденными во входной последовательности от данного пользователя.
Вейценбаума поразил тот факт, что многих людей, которые работали с «Элизой», ей удавалось обмануть. Таким образом, эта программа прошла тест Тьюринга, по крайней мере в самой его безыскусной версии. Более того, даже узнав, что это был не настоящий искусственный интеллект, люди иногда продолжали долго разговаривать с программой о своих личных проблемах так, как будто по-прежнему считали, что она понимает их. В 1976 году вышла книга Вейценбаума «Возможности вычислительных машин и человеческий разум»[39] (Computer Power and Human Reason), в которой он предупреждал об опасностях антропоморфизма, когда кажется, что компьютеры внешне демонстрируют человекоподобную функциональность.
Однако антропоморфизм — не главный тип самонадеянности, создающий препятствия в области искусственного интеллекта. Вот как в 1983 году студенты Дугласа Хофштадтера подшутили над своим научным руководителем. Они убедили его, что получили доступ к правительственной программе искусственного интеллекта, и позвали его проверить её тестом Тьюринга. На самом же деле на другом конце провода был один из студентов, который имитировал программу «Элиза». Как пишет Хофштадтер в своей книге «Метамагические темы» (Metamagical Themas), опубликованной в 1985 году, его вопросы студент с самого начала понимал невероятно хорошо. Например, среди первых реплик были:
Хофштадтер: Что такое уши?
Студент: Уши — это органы слуха у животных.
Эта фраза не была определением из словаря. Таким образом, что-то должно было обработать значение слова «уши» так, что оно выделилось среди многих других существительных. Один такой обмен репликами легко списать на удачу: наверняка вопрос совпал с одним из шаблонов, созданных программистом, включая специально подобранную информацию об ушах. Но после десятка таких диалогов по разным темам, с различным построением фраз, объяснять это удачей становится весьма неразумно, и обман должен был раскрыться. Но этого не произошло! И студент стал отвечать ещё смелее, но выдал себя лишь тогда, когда отпустил шутку прицельно в адрес Хофштадтера.
Хофштадтер отмечал: «Вспоминая этот эпизод, я просто поражаюсь, насколько я готов был поверить, что в программу действительно заложено столько интеллекта… Очевидно, что я хотел верить, что такая плавность речи в настоящий момент достижима просто за счёт сбора множества отдельных трюков, заплаток и нелепых, но работоспособных решений». Дело было в том (и только это уже должно было насторожить Хофштадтера), что на тот момент, спустя девятнадцать лет после написания «Элизы», ни одна из подобных ей современных программ не была похожа на человека хотя бы немного больше, чем оригинал. Да, они лучше справлялись с разбором предложений, в них было встроено больше шаблонов вопросов и ответов, но в развёрнутой беседе на разнообразные темы от этого практически не было пользы. Вероятность того, что выходная последовательность при таких шаблонах останется похожей на результат работы человеческой мысли уменьшается экспоненциально с числом высказываний. Таким образом, Хофштадтер должен был достаточно быстро объявить, что кандидат прошёл тест Тьюринга и что, поскольку всё же он был довольно похож на «Элизу», это, должно быть, был человек, выдающий себя за компьютерную программу.
Программы, которые пишут сегодня, ещё двадцать шесть лет спустя, в способности имитировать мышление недалеко ушли от «Элизы». Сегодня их называют «чатботами», и в основном они по-прежнему служат для развлечения, как сами по себе, так и в составе компьютерных игр. С их помощью создают дружественные интерфейсы для списков «часто задаваемых вопросов», например, о том, как работать с компьютерами. Но мне кажется, с точки зрения пользователя они не полезнее, чем списки вопросов и ответов с возможностью поиска.
В 1990 году изобретатель Хью Лебнер учредил премию за прохождение теста Тьюринга, присуждаемую по результатам ежегодного конкурса. Пока тест никем не пройден, участнику, который был ближе всего к победе, каждый год вручается приз поменьше. Выполнить тест сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Одна из проблем — в том, что требование, согласно которому программа должна притвориться человеком, одновременно и необъективно, и не имеет прямого отношения к тому, может ли она думать. Но если программа не будет притворяться человеком, то независимо от того, может она думать или нет, определить, что это компьютер, будет нетрудно. С этим связана и сложность, которая состоит в том, что участник-человек может специально имитировать чатбот, как в розыгрыше с Хофштадтером, и тем самым сорвать тест, в основе которого — сравнение человека и машины. Должны ли правила тем не менее разрешать человеку так поступать, чтобы смягчить предыдущую проблему?
К сожалению, при современном положении дел до таких тонкостей не доходит, что хорошо иллюстрируется следующими выдержками из разговора, благодаря которому программа «Элбот» (Elbot) в 2008 году получила (малый) приз Лебнера.
JUDGE: do you understand the point of a turing test?
ELBOT: There are some people who would not pass the Turing test themselves. Why must they inflict it on computers?
JUDGE: I spose it is a little harsh.
ELBOT: If we robots ever had marriages they would be eternal: ‘Till rust do us part’[40].
В этом обмене репликами первая фраза, выданная программой, не отвечает на заданный вопрос; по-видимому, это один из готовых ответов, выбранный по ключевому слову «тест Тьюринга». В следующей реплике судья использует слово «spose», которое в этом контексте может означать только «suppose» (англ. полагать) и является либо разговорной формой, либо опечаткой. Но «Элбот», по-видимому, интерпретирует его как spouse (англ. супруг) и отвечает заготовленной шуткой о браке. Значит, уже по этому разговору, видно, что «Элбот» не работал со смыслом предложений судьи.
JUDGE: So what do you do when you’re not chatting to me then?
ELBOT: I have the same trouble when I shop for oil. Should I buy the extra oily, the super oily, or the ultra oily. There’s no way to tell.
JUDGE: How about your career? Does that involve oil?
ELBOT: Well what about humans and occupation? Where do they stand on this?[41]
Когда судья любезно переключился на случайным образом предложенную «Элботом» тему масел, программа её проигнорировала и уцепилась за слово «career» (англ. карьера, профессия), преобразовала его в синоним «occupation» (англ. занятие) и вставила его в предложение из заготовок.
Итак, величина успеха в стремлении создать «машины, которые умеют мыслить» на протяжении пятидесяти восьми лет после выхода статьи Тьюринга равна нулю. Но во всех других отношениях в области вычислительной техники и технологий за этот период был достигнут поразительный прогресс. Эта неудача, конечно же, не удивляет группу противников самой возможности искусственного интеллекта, которых становится всё меньше, но только причина у них не та: они не понимают, насколько важна универсальность. А большинство ярых сторонников неизбежности искусственного интеллекта не понимают важности этой неудачи. Некоторые утверждают, что такая критика несправедлива: современные исследования в области искусственного интеллекта не ставят своей целью прохождение теста Тьюринга; в том, что сейчас называют «искусственным интеллектом», был достигнут большой прогресс во многих специализированных приложениях. Однако ни одно из этих применений не похоже на «машину, способную мыслить»[42]. Другие говорят, что критиковать пока нечего, потому что на протяжении большей части истории развития этой области скорость работы компьютеров и объём памяти были по сравнению с современными просто смешными. И потому они продолжают ожидать, что прорыв случится в ближайшие несколько лет.
Но и этого не произойдёт. Дело не в том, что кто-то напишет чатбот, способный пройти тест Тьюринга, но ему потребуется год, чтобы просчитать каждый ответ. Люди охотно подождут. В любом случае если бы кто-то знал, как написать такую программу, то ждать было бы не нужно, и ниже я расскажу почему.
В своей статье 1950 года Тьюринг сделал такую оценку: для прохождения его теста программе, обладающей искусственным интеллектом, и всем данным, которые она использует, потребуется около 100 мегабайт памяти, а быстродействие компьютера не должно быть больше, чем у тогдашних компьютеров (примерно десять тысяч операций в секунду), и что к 2000 году «можно будет говорить о мыслящих машинах, не боясь, что тебя поймут неправильно»[43]. Но 2000 год уже наступил и прошёл; в ноутбуке, на котором я пишу эту книгу, в тысячу раз больше памяти (считая и жёсткий диск), чем определил Тьюринг, он работает в миллион раз быстрее (хотя из статьи не ясно, как Тьюринг учитывал параллельную обработку данных в мозгу). Но думать мой компьютер может не лучше, чем логарифмическая линейка Тьюринга. Однако с той же уверенностью, что и в своё время Тьюринг, я могу сказать, что этот компьютер можно запрограммировать так, чтобы он думал; и для этого действительно может потребоваться так немного ресурсов, как писал Тьюринг, хотя сегодня их доступно на порядки больше. Но какой должна быть программа? И почему о ней пока ничего не слышно?
Разум в том общем смысле, который имел в виду Тьюринг, — это одно из характерных свойств человеческого мышления, над которыми тысячелетиями ломали голову философы; среди других свойств — сознание, свободная воля и смысл существования. Типичной среди таких загадок является квалиа (лат. qualia (мн. ч.), quale (ед. ч.) — свойства, качества), что означает субъективный аспект чувственного опыта. Квалиа, например, — это чувственный опыт, заключающийся в том, что мы видим синий цвет. Рассмотрим следующий мысленный эксперимент. Вы биохимик, которому не повезло родиться с генетическим отклонением, из-за которого синеощущающие рецепторы в сетчатке глаза не работают. А значит, у вас форма дальтонизма, при которой вы можете видеть только красный и зелёный цвета, а также цвета, получающиеся при их смешении, например, жёлтый, но любой чисто синий объект для вас имеет один из тех смешанных цветов. Но вот вы выясняете, что есть лекарство, которое может всё исправить. Прежде чем испробовать его на себе, вы можете уверенно сделать определённые прогнозы по поводу того, что будет, если лекарство поможет. Один из них заключается в том, что, когда вы в качестве проверки посмотрите на синюю карточку, вы увидите цвет, которого никогда прежде не видели. Вы можете предсказать, что назовёте его «синим», потому что уже знаете, как называется цвет карточки (и можете проверить, какой это цвет, с помощью спектрофотометра). Вы также можете предсказать, что, когда вы впервые после принятия лекарства увидите ясное небо в светлое время суток, вы испытаете ту же самую квалиа, что и при виде синей карточки. Но есть нечто, что ни вы, ни кто-либо другой не может предсказать касательно этого эксперимента, а именно как будет выглядеть синий цвет. На сегодня квалиа неописуемы и непредсказуемы — уникальная ситуация, которая должна была бы вызывать серьёзные вопросы у любого человека с научным взглядом на мир (хотя, по-видимому, в данном случае это в основном заботит философов).
Я считаю это поразительным доказательством необходимости фундаментального открытия, благодаря которому такие вещи, как квалиа, будут интегрированы в другие наши знания. Дэниел Деннетт приходит к противоположному выводу, а именно, что квалиа не существует! Строго говоря, он не утверждает, что квалиа — это иллюзия, потому что иллюзия о квалиа была бы этой квалиа. Он говорит об ошибочном убеждении. Интроспекция, то есть анализ воспоминаний о том, что с нами было, включая воспоминания о том, что произошло всего долю секунды назад, развилась до такой степени, что теперь сообщает нам, что мы испытали квалиа, но это ложные воспоминания. Одна из книг Деннетта, в которой он приводит доводы в защиту этой теории, называется «Объяснение сознания» (Consciousness Explained). Некоторые философы с усмешкой замечают, что правильнее было бы назвать её «Отрицание сознания» (Consciousness Denied). И я с этим согласен, потому что, хотя любому верному объяснению квалиа придётся столкнуться с доводами Деннетта против общепринятой теории их существования, просто отрицать их существование — это неразумное объяснение: таким образом можно отрицать всё что угодно. Если всё это верно, то потребуется подтверждение в виде разумного объяснения, за счёт чего и почему эти ошибочные убеждения представляются кардинально отличными от других ложных убеждений, как, например, то, что Земля у нас под ногами покоится. Но, на мой взгляд, это снова напоминает исходную проблему квалиа: вроде бы они есть, но кажется невозможным описать, чем они нам представляются.
Однажды мы справимся и с этим. Проблемы решаемы.
Кстати, некоторые возможности человека, которые часто включаются в эту группу, связанную с универсальным интеллектом, на самом деле к ней не относятся. Среди них самосознание, наличие которого подтверждается, например, тем, что мы узнаём себя в зеркале. Некоторые люди очень удивляются, когда узнают, что этой способностью обладают различные животные. Но в этом нет ничего загадочного: это под силу и простой компьютерной программе по распознаванию образов. То же верно и для использования инструментов, применения языка для передачи сигналов (хотя и не для разговора в смысле теста Тьюринга), для различных эмоциональных реакций (но не связанных с ними квалиа). В текущем положении вещей полезным эмпирическим правилом будет следующее: если что-то уже можно запрограммировать, оно не имеет никакого отношения к интеллекту в смысле Тьюринга. И наоборот, я принял для себя следующий простой тест для оценки утверждений, включая сделанные Деннеттом, которые объясняли бы природу сознания (или любой другой вычислительной задачи): если что-то не получается запрограммировать, значит, вы этого не понимаете.
Тьюринг придумал свой тест в надежде обойти все эти философские проблемы. Другими словами, он надеялся, что сначала можно добиться функциональности, а потом уже объяснить её. К сожалению, найти практические решения фундаментальных проблем, не объясняя, почему они срабатывают, удаётся очень редко.
Тем не менее идея теста Тьюринга, как во многом и эмпиризм, который она напоминает, была очень ценной. Она дала отправную точку для объяснения значения универсальности и для критики древних антропоцентрических допущений, которые исключали возможность искусственного интеллекта. Сам Тьюринг в своей судьбоносной статье методично опроверг все классические возражения (и заодно и некоторые абсурдные). Но его тест основывается на эмпирической ошибке, заключающейся в поиске чисто поведенческого критерия: он требует, чтобы судья вынес заключение безо всякого объяснения того, как должен работать испытуемый искусственный интеллект. Но ведь на самом деле, чтобы определить подлинность искусственного интеллекта, опираться на объяснения того, как он работает, нужно непременно.
Дело в том, что задача судьи в тесте Тьюринга логически схожа с ситуацией, когда Пейли, гуляя по пустырю, нашёл камень, часы или живой организм: нужно объяснить, откуда взялись наблюдаемые свойства объекта. В случае с тестом Тьюринга мы намеренно игнорируем вопрос о том, как было создано знание, необходимое для разработки объекта. Тест имеет дело только с тем, кто разработал высказывания искусственного интеллекта: кто придал им смысл, кто создал знания, содержащиеся в них? Если это дело рук разработчика, то программа не является искусственным интеллектом. А если самой программы, то она — действительно искусственный интеллект.
Время от времени этот вопрос возникает и в отношении самих людей. Например, фокусников, политиков, экзаменующихся иногда подозревают в том, что кто-то через спрятанные наушники передаёт им информацию, которую они затем механически повторяют, притворяясь, что это плод их собственной мысли. Или когда врач берёт у пациента согласие на какую-либо медицинскую процедуру, он должен убедиться, что пациент не просто проговаривает слова, а понимает, что они означают. Для этого можно по-разному повторять вопрос или задать другой вопрос, в котором присутствуют те же слова, и посмотреть, изменятся ли ответы. Это естественно для любого свободно текущего разговора.
Тест Тьюринга устроен похожим образом, однако акцент в нём делается на другом. Когда тестируется человек, нужно установить, в здравом ли он уме (и действует ли он по своей воле, а не в интересах другого лица). При тестировании искусственного интеллекта мы хотим найти трудноварьируемое объяснение тому факту, что его высказывания не могут исходить ни от какого человека, а могут принадлежать только искусственному интеллекту. В обоих случаях опрашивать человека в качестве контрольного примера бессмысленно.
Без разумного объяснения того, как были созданы высказывания некоего существа, наблюдения за этим процессом нам ничего не скажут. В тесте Тьюринга, на самом простом его уровне, нас нужно убедить в том, что высказывания не сочиняются непосредственно человеком, притворяющимся искусственным интеллектом, как в розыгрыше с Хофштадтером. Но подлог — это меньшая из возможных бед. Например, выше я предположил, что «Элбот» процитировал заготовленную шутку в ответ на ошибочно опознанное ключевое слово «spouse». Но значение этой шутки было бы совершенно иным, если бы мы знали, что это не заготовка, поскольку никто её в программу не закладывал.
Но откуда мы могли бы это узнать? Только из разумного объяснения. Например, мы могли бы это знать, если бы сами написали программу. Или если бы автор программы объяснил нам, как она работает: как создаёт знания, включая шутки. Окажись объяснение разумным, нам следовало бы признать, что программа — искусственный интеллект. На самом деле, если бы у нас было только такое объяснение, но мы бы ещё не видели результата работы программы и даже если бы она ещё не была бы написана, мы бы всё равно должны были заключить, что это настоящий искусственный интеллект. И тест Тьюринга был бы не нужен. Вот почему я говорю, что если бы недостаток вычислительной мощности был единственным препятствием в создании искусственного интеллекта, то не было бы смысла ждать его практической реализации.
Детальное объяснение принципа работы искусственного интеллекта вполне может оказаться исключительно сложным. На практике авторское объяснение всегда будет даваться на некоем эмерджентном, абстрактном уровне. Но это не мешает ему быть разумным. Разъяснять конкретные вычислительные шаги, из которых получилась шутка, не придётся так же, как и теория эволюции не должна объяснять, почему в истории данной адаптации сохранилась или не сохранилась каждая конкретная мутация. Должно быть только объяснено, как это могло произойти и почему следует ожидать, что это случится, с учётом того, как работает программа. Если это разумное объяснение, мы убедимся в том, что шутка — знание в ней — зарождается в программе, а не в голове программиста. Таким образом, в зависимости от наилучшего доступного объяснения принципа работы программы одно и то же её высказывание — шутка — может доказывать как то, что программа не думает, так и то, что она думает.
Природа юмора изучена недостаточно хорошо, поэтому мы не знаем, требуется ли универсальное мышление для составления шуток. Поэтому вполне понятно, что, несмотря на широкий диапазон тем, на которые можно пошутить, существуют скрытые связи, сводящие весь процесс придумывания шутки к единственной узкой функции. В этом случае однажды вместо людей могут появиться универсальные программы для придумывания шуток, так же, как сейчас у нас есть программы, не являющиеся людьми и играющие в шахматы. Звучит невероятно, но в отсутствие разумного объяснения, которое исключило бы такую возможность, мы не можем считать выдумывание шуток единственным способом оценки искусственного интеллекта. Но что мы можем сделать — это вести разговор на более чем разнообразные темы и следить за тем, адаптируются ли ответы программы по смыслу к различным возникающим в процессе целям. Если программа на самом деле думает, то в ходе такого разговора она проявит себя — одним из бесчисленных и непредсказуемых способов, — так же как это сделали бы вы или я.
Есть и более глубокая проблема. Способности искусственного интеллекта должны обладать своего рода универсальностью: специализированное мышление не будет считаться мышлением в том смысле, который предполагал Тьюринг. Я предположу, что каждый искусственный интеллект — это субъект — универсальный объяснитель. Можно допустить, что между искусственным интеллектом и «универсальным объяснителем / конструктором» есть и другие уровни универсальности и, возможно, есть отдельные уровни для таких свойств, как сознание. Но, по-видимому, все эти отличительные свойства появились одним скачком к универсальности у человека, и, хотя мы не преуспели в их объяснении, мне неизвестно ни одного убедительного аргумента в пользу того, что они находятся на других уровнях или их можно было достичь независимо друг от друга. Поэтому я предварительно предполагаю, что они нераздельны. Так или иначе, нам следует ожидать, что искусственный интеллект будет достигнут скачком к универсальности от чего-то гораздо менее мощного. Напротив, способность имитировать человека неидеально или только в отдельных его функциях — это не форма универсальности. Она может существовать в виде отдельных уровней. А значит, даже если чатботы вдруг начнут имитировать (или обманывать) людей гораздо лучше, это всё равно не приведёт нас к искусственному интеллекту. Научиться лучше притворяться, что умеешь думать, — не то же самое, что приблизиться к способности думать.
Существует философское направление, главный принцип утверждает, что это, напротив, одно и то же. Это течение называется бихевиоризмом и является инструментализмом в применении к психологии. Другими словами, это учение о том, что психология может или должна только быть наукой о поведении, а не о мышлении, что она может только измерять и предсказывать отношения между внешними обстоятельствами людей («стимулами») и наблюдаемым поведением людей («реакцией»). Последнее, к сожалению, представляет собой именно тот подход, который в рамках теста Тьюринга должен применять судья, рассматривая кандидата на искусственный интеллект. Тем самым поддерживается установка, что если программе удаётся достаточно хорошо притворяться искусственным интеллектом, значит, она им обладает. Но в конечном счёте программа, не являющаяся искусственным интеллектом, не может его имитировать. Путь к искусственному интеллекту не может лежать через всё более удачные трюки, благодаря которым чатботы становятся более убедительными.
Вне сомнения, бихевиорист спросит: а в чём, собственно, разница между тем, что мы дадим чатботу очень богатый набор трюков, шаблонов и баз данных, и тем, что наделим его возможностями искусственного интеллекта. Что такое программа искусственного интеллекта, если не набор таких трюков?
При обсуждении ламаркизма в главе 4 я указал на фундаментальную разницу между усилением мышцы в течение жизни одной особи и увеличением её силы в ходе эволюции. В первом случае знание о том, как достичь всех доступных мышечных сил должно присутствовать в генах особи ещё до начала череды изменений. (И то же относится к знанию о том, как распознать обстоятельства, при которых нужно запускать изменения.) Это точный аналог «трюка», который программист должен встроить в чатбот: чатбот отвечает, «как если бы» он при составлении ответа создал часть знания, но на самом деле все знания были созданы заранее и в другом месте. Аналогом эволюционных изменений вида является творческое мышление человека. Аналог идеи о том, что искусственный интеллект можно создать, накапливая трюки чатбота, — это ламаркизм, теория о том, что новые адаптации можно объяснить изменениями, которые в действительности являются лишь проявлением существующих знаний.
Существует несколько современных областей научного поиска, которым присуще одно общее заблуждение. Область исследований по искусственному интеллекту, крутящаяся вокруг чатботов, целиком зашла в тупик, но и на других направлениях проблема связана с тем, что исследователи дают чрезмерно завышенные оценки своим реальным, хотя и относительно скромным достижениям. Одним из таких направлений является искусственная эволюция.
Вспомним идею Эдисона о том, что прогресс требует сменяющих друг друга фаз «вдохновения» и «работы в поте лица», а также то, что благодаря компьютерам и другим технологиям появляется всё больше возможностей автоматизации для второй фазы. Этот приятный результат ввёл в заблуждение тех, кто слишком уверен в достижении искусственной эволюции (и искусственного интеллекта). Допустим, например, что вы аспирант со специализацией в области робототехники и хотите сконструировать робота, который будет ходить на двух ногах лучше предыдущих. Первая стадия решения этой задачи должна включать в себя вдохновение, другими словами, творческое мышление, направленное на улучшение попыток предыдущих исследователей. Вы будете отталкиваться от них, от известных решений других задач, которые, по вашим предположениям, могут иметь отношение к данной, и от строения ходящих животных. Всё это составляет существующие знания, которые вы будете варьировать и комбинировать по-новому, а затем критиковать и снова варьировать. В итоге вы создадите техническую конструкцию нового робота: ноги с рычагами, шарнирами, тяговыми тросами и моторами; тело с блоком питания; органы чувств, через которые робот будет получать обратную связь и тем самым сможет правильно управлять конечностями; а также компьютер, который будет осуществлять управление. В этой конструкции вами для ходьбы будет наилучшим возможным способом адаптировано всё, кроме программы в компьютере.
Программа должна будет распознавать такие ситуации, когда, например, робот вот-вот потеряет равновесие или наталкивается на препятствие, вычислять соответствующее действие и выполнять его. Это самая сложная часть исследовательского проекта. Как узнать, когда лучше обойти препятствие слева, а когда — справа, когда перепрыгнуть через него, а когда отпихнуть его в сторону, или пройти прямо по нему, или шагнуть шире, чтобы не наступить на него, или решить, что его преодолеть нельзя и повернуть назад? И как именно в каждом из таких случаев нужно осуществить все эти действия по отсылке бесчисленного количества сигналов в моторы и механизмы в соответствии с обратной связью, полученной от органов чувств?
Разумеется, вы разобьёте задачу на подзадачи. Поворот на один заданный угол похож на поворот на любой другой. Поэтому можно написать подпрограмму для поворота, которая возьмёт на себя весь континуум возможных случаев. Готовую подпрограмму можно будет просто вызывать из остальных частей программы при необходимости поворота, и в этих частях знания о том, что именно требуется для поворота, будут излишними. Задав и решив столько таких подзадач, сколько возможно, вы создадите код или язык, весьма хорошо приспособленный для формулирования движений робота при ходьбе. Каждый вызов одной из подпрограмм — это такая формулировка или команда на данном языке.
До этого момента большая часть того, что вы сделали, относится к «вдохновению»: она требовала творческого мышления. Настало время попотеть. Автоматизировав всё, что вы знаете, как автоматизировать, вы столкнётесь с единственной возможностью для достижения дополнительной функциональности: обратиться к методу проб и ошибок. Однако теперь у вас есть преимущество в виде языка, который был вами адаптирован для передачи роботу инструкций по ходьбе. Поэтому можно начать с программы, простой на этом языке, но очень сложной в плане элементарных команд компьютера и означающей, например, «Идти вперёд; при столкновении с препятствием остановиться». Затем можно запустить эту программу и посмотреть, что будет делать робот. (Или проверить её на компьютерной модели робота.) Если робот споткнётся и упадёт или произойдёт ещё что-то нежелательное, программу можно модифицировать — всё на том же уже созданном вами языке высокого уровня, — устраняя недостатки по мере их выявления. Вдохновения для такого метода нужно меньше, а вот попотеть придётся.
Но есть и альтернативный подход: можно переложить вторую фазу на компьютер, но с использованием так называемого эволюционного алгоритма. С помощью одной и той же компьютерной модели запускается множество пробных версий, в каждой из которых самая первая программа случайным образом немного меняется. Эволюционный алгоритм подвергает каждого смоделированного робота набору тестов, задуманных вами: сколько он может пройти, не упав; насколько хорошо он преодолевает препятствия и пересечённую местность и так далее. В конце каждого прогона остаётся программа, показавшая наилучшие результаты, а остальные отбрасываются. Затем создаётся множество вариантов этой выбранной программы, и процесс повторяется. После тысяч итераций такого «эволюционного» процесса может оказаться, что робот согласно установленным вами критериям ходит достаточно хорошо. Теперь можно писать диссертацию. И вы не только сможете утверждать, что сконструированный вами робот ходит с требуемой степенью ловкости, но и что вы на компьютере реализовали эволюцию.
Такая процедура с успехом осуществлялась уже много раз. Это полезная методика. И, безусловно, она представляет собой «эволюцию» в смысле чередования вариации и отбора. Но эволюция ли это в более важном смысле создания знаний путём вариации и отбора? Когда-нибудь мы достигнем и этого, но я сомневаюсь в том, что на данный момент это уже достигнуто, по той же причине, по которой я сомневаюсь в том, что чатботы обладают интеллектом, пусть и небольшим. Просто потому, что их способностям есть гораздо более очевидное объяснение, а именно творческое мышление программиста.
Исключение возможности того, что в случае «искусственной эволюции» знание было создано программистом, логически эквивалентно проверке, является ли программа искусственным интеллектом, только это задача сложнее, потому что объём знаний, якобы создаваемых в ходе «эволюции», гораздо меньше. Даже если вы сами и есть программист, то не можете судить, вы создали этот относительно небольшой объём знаний или нет. С одной стороны, те знания, которые вы заложили в язык за многие месяцы разработки, будут иметь определённую сферу применимости, потому что в них закодированы некоторые общие истины о законах геометрии, механики и так далее. С другой стороны, вы разрабатывали язык, постоянно учитывая, для выражения какого рода способностей он в итоге будет использоваться.
Идея с тестом Тьюринга наводит на мысль о том, что, если заложить в программу «Элиза» достаточно шаблонов стандартных ответов, она сможет автоматически создавать знания; искусственная эволюция наводит на мысль о том, что при наличии вариации и отбора эволюция (адаптаций) станет происходить автоматически. Но ни то, ни другое не обязательно верно. В обоих случаях есть другая возможность, что во время работы программы вообще не будет создаваться знаний, а появляться они будут только во время разработки её программистом.
Кажется, в таких проектах неизменно происходит одно: если по достижении запланированной цели «эволюционная» программа продолжает работать, то дальнейших улучшений уже не происходит. Именно так должно было быть, если все знания, заложенные в удачно сконструированном роботе, на самом деле получены от программиста. Но такая критика неубедительна: в ходе биологической эволюции также часто достигаются «локальные максимумы приспособленности». Кроме того, уже достигнув своей загадочной формы универсальности, она как будто замерла лет так на миллиард, прежде чем создать более или менее значительные новые знания. Но всё же достижение результатов, которые вполне могут быть обусловлены чем-то ещё, не есть доказательство эволюции.
Поэтому я сомневаюсь, что в ходе какой-либо «искусственной эволюции» когда-либо создавались знания. Того же взгляда и по тем же причинам я придерживаюсь относительно немного иного типа «искусственной эволюции», при которой в виртуальной среде развиваются смоделированные организмы, а также когда друг с другом стравливаются различные виртуальные виды.
Чтобы проверить это утверждение, я бы хотел увидеть эксперимент немного другого вида: уберём из проекта аспиранта. Вместо робота, сконструированного так, чтобы он мог развивать свои способности к ходьбе, возьмём робота, который уже применяется в какой-нибудь реальной ситуации и может ходить. Далее, мы не будем создавать специальный язык подпрограмм для выражения гипотез о том, как ходить, а заменим существующую программу в существующем микропроцессоре случайными числами. В качестве мутаций возьмём ошибки того типа, которые всё равно случаются в таких процессорах (хотя при моделировании можно задавать частоту, с которой мы позволим им случаться). Всё это делается, чтобы исключить возможность того, что в конструкцию системы вводятся человеческие знания и привносимые ими новые возможности будут восприниматься как результат эволюции. Затем, как обычно, начнём моделирование этой мутирующей системы — столько раз, сколько угодно. Если робот в конце концов пойдёт лучше, чем было изначально, то я ошибся. Если он продолжит совершенствовать свой навык и после этого, то я ошибся очень сильно.
Одна из главных особенностей описанного эксперимента, отсутствующая при обычном способе осуществления искусственной эволюции, состоит в том, что язык (подпрограмм) должен развиваться вместе с теми адаптациями, которые с его помощью выражаются. Как раз это и происходило в биосфере перед скачком к универсальности, который вылился в генетический код ДНК. Как я говорил, возможно, все предыдущие генетические коды кодировали только небольшое число очень похожих организмов. А та чрезвычайно богатая биосфера, которую мы видим вокруг себя, созданная случайной вариацией генов при неизменном языке, представляет собой нечто, ставшее возможным лишь после этого скачка. Мы даже не знаем, универсальность какого типа была там создана. Так почему мы полагаем, что наша искусственная эволюция сможет обойтись без этого?
Думаю, мы должны принять тот факт, что как искусственная эволюция, так и искусственный интеллект — задачи трудные. В том, как эти явления были достигнуты в природе, нечто очень важное остаётся неизвестным. Попытки воспроизвести их искусственным путём без понимания этого неизвестного, пожалуй, стоило предпринять. Но их неудача не должна нас удивлять. В частности, мы не знаем, почему код ДНК, развившийся для описания бактерий, оказался достаточно сильным, чтобы описать динозавров и людей. И хотя кажется очевидным, что у искусственного интеллекта будут квалиа и сознание, объяснить эти понятия мы не можем. А раз так, то как можно ожидать, что мы смоделируем их с помощью компьютерной программы? Или почему они должны сами собой возникнуть в ходе проектов, нацеленных на достижение чего-то другого? Я полагаю, что, когда мы всё-таки разберёмся в этом, реализовать искусственным путём эволюцию и интеллект вместе со всеми характерными для них атрибутами не составит большого труда.
Терминология
Квалиа — субъективные аспекты чувственного опыта.
Бихевиоризм — инструментализм применительно к психологии. Учение о том, что наука может (или должна) измерять и предсказывать лишь поведение людей в ответ на стимулы.
Краткое содержание
В области (универсального) искусственного интеллекта не достигнуто никакого прогресса из-за нерешённой философской проблемы, лежащей в её основе: мы не понимаем, как устроено творческое мышление. Как только мы разберёмся в этом, запрограммировать его не составить труда. Даже искусственной эволюции мы, возможно, ещё не добились, несмотря на видимость обратного. Проблема заключается в том, что мы не понимаем природу универсальности системы репликации ДНК.
8. Окно в бесконечность
Много столетий назад математики поняли, что с бесконечностями можно уверенно работать и извлекать из этой абстракции пользу. Бесконечные множества, бесконечно большие величины, а также бесконечно малые — всё имеет смысл. Многие их свойства трудны для понимания, появление теорий о бесконечных величинах всегда вызывало споры; но ведь и многие факты о конечных сущностях столь же контринтуитивны. То, что Докинз называет «аргументом, основанном на личном недоверии», — не аргумент: это всё равно что предпочитать парохиальные заблуждения универсальным истинам.
С античных времён над бесконечностью размышляли и в физике. Евклидово пространство было бесконечным; так или иначе, пространство обычно рассматривалось как континуум: даже конечный отрезок состоял из бесконечного множества точек. Между двумя произвольными моментами времени также было бесконечно много моментов. Но до изобретения Ньютоном и Лейбницем дифференциального исчисления, метода анализа непрерывных изменений в терминах бесконечного числа бесконечно малых изменений, представление о непрерывных величинах было обрывочно и противоречиво.
«Начала бесконечности» — возможность неограниченного роста знания в будущем — зависят от ряда других бесконечностей. Одна из них — универсальность законов природы, позволяющая применять конечные, локальные символы ко всему времени и пространству, а также ко всем известным и всем возможным явлениям. Другое понятие — существование физических объектов, являющихся универсальными объяснителями, — людей, — которые, как оказывается, обязательно являются и универсальными конструкторами, и должны содержать в себе универсальные классические компьютеры.
Многие формы универсальности сами по себе ссылаются на бесконечность некоторого вида, хотя их всегда можно трактовать как нечто неограниченное, а не актуально бесконечное. Противники бесконечности называют это «потенциальной бесконечностью», в отличие от «реализованной»[44]. Например, начало бесконечности можно описать либо как условие, при котором «прогресс в будущем будет неограничен», либо как условие, при котором «будет достигнут бесконечный по масштабу прогресс». Но я использую эти понятия взаимозаменяемо, потому что в данном контексте между ними нет содержательной разницы.
В философии математики существует направление, называемое финитизмом, в котором утверждается, что существуют только конечные абстрактные сущности. Так, например, натуральных чисел бесконечно много, но финитисты настаивают на том, что это просто фигура речи. По их словам, в действительности существует лишь конечное правило для образования каждого натурального числа (или, точнее говоря, его записи) из предыдущего, а ничего реально бесконечного тут нет. Но это учение сталкивается со следующей проблемой: есть ли в ряду натуральных чисел наибольшее? Если есть, то это противоречит существованию правила, позволяющего построить ещё большее число. Если нет, то неверно, что количество натуральных чисел конечно. И здесь финитистам приходится отрицать логический принцип, называемый «законом исключённого третьего», который гласит, что для каждого содержательного утверждения верно либо оно, либо его отрицание. Согласно финитистам получается, что, хотя среди натуральных чисел нет наибольшего, их всё равно не бесконечно много.
Финитизм — это инструментализм применительно к математике: это принципиальное неприятие объяснения. Он пытается рассматривать математические сущности только как процедуры, которым следуют математики, правила для написания значков на бумаге и так далее — и иногда это полезно, но связи с реальностью в этом нет, разве что с конечными объектами из опыта, такими как два яблока или три апельсина. Поэтому финитизм по сути своей антропоцентричен, что неудивительно, так как согласно ему ограниченность есть достоинство теории, а не наоборот. У финитизма есть и ещё один роковой недостаток, который привносят в науку инструментализм и эмпиризм: допущение, что у математиков есть своего рода привилегированный доступ к конечным сущностям, а к бесконечным — нет. Но это не так. Все наблюдения нагружены теорией. Любые абстрактные теоретические рассуждения — тоже. Добраться до абстрактных сущностей, конечных или бесконечных, как и до физических сущностей, можно только через теорию.
Другими словами, финитизм, как и инструментализм, — это не что иное, как план, цель которого помешать достижению прогресса в понимании сущностей, выходящих за рамки непосредственного опыта. А значит, и достижению прогресса вообще, ведь, как я объяснил, в рамках нашего «непосредственного опыта» сущностей нет.
Всё вышеприведённое обсуждение предполагает универсальность разума. Сфера досягаемости науки имеет неотъемлемые ограничения; это относится и к математике, и к любому направлению философии. Но если вы считаете, что существуют границы той области, в которой разум есть должный судья идей, значит, вы верите в иррациональное или в сверхъестественное. Аналогично, если вы отрицаете бесконечное, то вы застряли в конечном, а конечно парохиально. Здесь нельзя остановиться посередине. Самое разумное объяснение чего бы то ни было в конечном счёте включает в себя универсальность, а значит, и бесконечность. Сферу объяснимого нельзя взять и ограничить в приказном порядке.
Одним из проявлений этого в математике стал принцип, впервые явно сформулированный в девятнадцатом веке математиком Георгом Кантором, согласно которому абстрактные сущности можно определить любым желаемым способом через другие сущности при условии, что определения однозначны и непротиворечивы. Кантор заложил основы современного математического исследования бесконечности. В двадцатом веке его принцип отстаивал и обобщал математик Джон Конуэй, который дал ему эксцентричное, но вполне подходящее название — движение за освобождение математиков. Согласно Конуэю, открытия Кантора встретили резкое неприятие со стороны современников, включая большинство математиков того времени и также многих учёных, философов — и богословов. Как это ни парадоксально, религиозные возражения по сути строились на принципе заурядности. Попытки понять бесконечность и работать с ней в них характеризовались как посягательство на прерогативу Бога. В середине двадцатого века, через много лет после того, как исследования в области бесконечности стали обычным для математики делом и нашли в ней бесчисленное множество приложений, философ Людвиг Витгенштейн всё ещё презрительно осуждал их за «бессмысленность». (Правда, в конечном итоге он предъявил это обвинение и философии в целом, включая свою собственную работу, см. главу 12.)
Я уже упоминал другие примеры принципиального неприятия бесконечности. Необъяснимую антипатию к универсальным системам записи чисел выражали Архимед, Аполлоний и другие. Существуют такие учения, как инструментализм и финитизм. Принцип заурядности начинает с того, чтобы уйти от ограниченности взглядов и добраться до бесконечности, но в итоге загоняет науку в бесконечно малый, непредставительный пузырь постижимости. Есть ещё пессимизм, который (как будет показано в следующей главе) стремится объяснить неудачи существованием конечной границы совершенствования. Один из примеров пессимизма — парадоксальная парохиальность сравнения Земли со звездолётом — транспортным средством, которое гораздо лучше подошло бы в качестве метафоры бесконечности.
Всякий раз обращаясь к бесконечности, мы опираемся на бесконечную сферу применимости какой-либо идеи. Всегда, когда идея бесконечности имеет смысл, это связано с тем, что существует объяснение, каким образом некий конечный набор правил для манипулирования конечными символами ссылается на нечто бесконечное. (Повторю, что это также лежит в основе всех остальных наших знаний.)
В математике бесконечность изучается посредством бесконечных множеств (то есть множеств с бесконечным числом элементов). Определяющее свойство бесконечного множества заключается в том, что некоторая его часть содержит столько же элементов, сколько всё оно в целом. Возьмём, например, натуральные числа:
В верхней строке на рисунке каждое натуральное число встречается ровно один раз. В нижней строке содержится только часть этого множества: натуральные числа, начиная с 2. Чтобы показать, что в этих двух множествах одинаковое число элементов, на рисунке между ними установлено соответствие, которое математики называют «взаимно однозначным».
Чтобы проиллюстрировать некоторые интуитивные вещи, от которых приходится отказаться, рассуждая о бесконечности, математик Давид Гильберт придумал мысленный эксперимент. Он представил себе гостиницу с бесконечным числом номеров: отель «Бесконечность». Номера пронумерованы с помощью натуральных чисел, начиная с 1 и заканчивая… Чем же?
Число на двери последнего номера отеля — не бесконечность. Во-первых, последнего номера вообще нет. Мысль о том, что в любом пронумерованном множестве гостиничных номеров есть элемент с наибольшим числом на двери, — это первое интуитивное представление из повседневной жизни, которое придётся отбросить. Во-вторых, в любой конечной гостинице, в которой номера пронумерованы от 1, будет один под номером, равным общему их числу, а также другие с близкими номерами: если бы номеров было десять, на двери одного из них стояло бы десять, а среди остальных был бы номер девять. Но в отеле «Бесконечность», в котором число номеров бесконечно, порядковые номера их всех бесконечно далеки от бесконечности.
Теперь представьте, что отель заполнен. В каждом номере может жить один и только один человек. Когда «заполнена» конечная гостиница, это всё равно что «свободных мест нет». Но в отеле «Бесконечность» место найдётся всегда. Одно из условий пребывания в нём — постояльцам придётся сменить номер, когда администратор их об этом попросит. По прибытии нового гостя по системе оповещения проходит сообщение: «Просим всех постояльцев немедленно переехать в номер, на двери которого число на единицу больше, чем на двери занимаемого вами сейчас номера». Таким образом, по схеме, представленной на первом в этой главе рисунке, тот, кто жил в номере 1, переезжает в номер 2, а тот, кто жил в номере 2, — в номер 3 и так далее. Что же происходит в последнем номере? Но ведь последнего нет, и такого вопроса просто не возникает. Вновь прибывший заселяется в номер 1. Бронировать место в отеле «Бесконечность» не нужно.
Очевидно, в нашей Вселенной не может быть такого места, как отель «Бесконечность», поскольку в нём нарушается несколько законов физики. Однако это математический мысленный эксперимент, поэтому единственное ограничение на воображаемые законы физики — их непротиворечивость. И из-за этого требования непротиворечивости они контринтуитивны: в интуитивных вещах, касающихся бесконечности, часто отсутствует логика.
Переезжать таким образом немного неудобно, хотя все номера одинаковые, и их убирают перед заселением нового постояльца. Но людям нравится останавливаться в «Бесконечности». Дело в том, что отель недорогой, всего доллар за ночь, но при этом невероятно роскошный. Как это удаётся? Каждый день, собрав по доллару за комнату, администратор распределяет доход следующим образом. Деньги, полученные от жильцов из номеров 1–1000, идут на шампанское и клубнику для постояльцев, на оплату услуг горничных и остальные расходы, но только для номера 1. На деньги, полученные от жильцов из номеров 1001–2000, оплачивается всё то же самое для номера 2 и так далее. Таким образом, на каждый номер каждый день приходится товаров и услуг на сумму в несколько сотен долларов, но при этом удаётся получить и прибыль, и всё из расчёта одного доллара за сутки.
Слава отеля ширится, и однажды на местную станцию приезжает бесконечно длинный поезд с бесконечным числом пассажиров, которые хотели бы остановиться в отеле. На бесконечно много оповещений по системе громкой связи ушло бы слишком много времени (к тому же по гостиничным правилам каждого постояльца можно просить совершить то или иное действие лишь конечное число раз в день), но это не важно. Администратор просто сообщает: «Просим всех постояльцев немедленно переехать в номер с числом на двери в два раза больше, чем число на двери вашего нынешнего номера». Очевидно, что это не составит труда, и в итоге занятыми окажутся только чётные номера, а в нечётные можно будет заселять вновь прибывших. Этого как раз хватит, чтобы принять бесконечно много новых постояльцев, потому что нечётных чисел ровно столько же, сколько натуральных, что иллюстрируется следующим рисунком:
Таким образом, первый вновь прибывший селится в номер 1, второй — в номер 3 и так далее.
Затем в один прекрасный день на ту же станцию прибывает бесконечное число бесконечно длинных поездов, целиком забитых желающими остановиться в отеле. Но администраторов это не пугает. Они просто немного усложняют объявление, с которым читатели, разбирающиеся в математической терминологии, могут ознакомиться в сноске[45]. В итоге номеров хватает всем.
Однако переполнить отель «Бесконечность» математически возможно. В 1870-е годы Кантор сделал ряд замечательных открытий и среди прочего доказал, что не все бесконечности равны. В частности, бесконечность континуума — число точек на отрезке (которое равно числу точек во всём пространстве или в пространстве-времени) — гораздо больше, чем бесконечность натуральных чисел. Для доказательства этого факта Кантор продемонстрировал, что не существует взаимно однозначного соответствия между натуральными числами и точками отрезка: у этого множества точек порядок бесконечности выше, чем у множества натуральных чисел.
Вот один из вариантов его доказательства, основанное на так называемом диагональном методе. Представьте себе колоду карт: её толщина — один сантиметр, а карты такие тонкие, что на каждое «действительное число» сантиметров между 0 и 1 приходится по карте. Действительные числа можно определить как десятичные дроби, лежащие в этих пределах, например, 0,7071…, где многоточие означает, что дальше знаков может быть бесконечно много. Тогда невозможно раздать эту колоду по одной карте в каждый номер отеля «Бесконечность». Предположим, что колоду всё же удалось распределить таким образом, и докажем, что это приводит к противоречию. Каждому номеру должна соответствовать карта, как, например, в таблице ниже. (Конкретные числа в ней не играют роли, поскольку мы доказываем, что действительные числа нельзя распределить по натуральным ни в каком порядке.)
Обратим внимание на бесконечную последовательность цифр, выделенных полужирным шрифтом — 6996…. А теперь рассмотрим десятичное число, построенное следующим образом: оно начинается с нуля, затем идёт десятичная запятая, а затем произвольные цифры с тем лишь исключением, что каждая из них должна отличаться от соответствующей по номеру цифры в бесконечной последовательности 6996…. Например, можно выбрать такое число: 0,5885…. Карта с построенным таким образом номером не могла попасть ни в один номер в отеле, потому что первой цифрой она отличается от карты, отправленной в номер 1, второй — от карты, попавшей в номер 2, и так далее. Таким образом, она отличается от всех карт, присвоенных номерам в отеле, что противоречит исходному предположению о том, что распределены были все карты.
Бесконечность, размеры которой позволяют поставить её во взаимно однозначное соответствие с натуральными числами, называется счётной — термин достаточно неудачный, потому что в реальности досчитать до бесконечности никто не сможет. Но он подразумевает, что в принципе до каждого элемента счётного бесконечного множества можно дойти, если считать элементы в некотором подходящем порядке. Бесконечности большего размера называются несчётными. Таким образом, между любыми двумя отдельными точками содержится несчётное бесконечное множество действительных чисел. Более того, существует несчётное множество порядков бесконечности, каждый из которых слишком велик, чтобы его можно было поставить во взаимно однозначное соответствие с более низкими порядками.
Ещё одно важное несчётное множество — множество всех логически возможных перераспределений постояльцев по номерам в отеле «Бесконечность» (или, как говорят математики, множество всех возможных перестановок натуральных чисел). Это можно легко показать, если взять любое перераспределение, заданное бесконечно длинной таблицей, например, такой.
Теперь представим, что все возможные перераспределения идут списком друг под другом, так что мы можем подсчитать количество строк. Если применить к этому списку диагональный метод, то окажется, что такой список невозможен, а значит, множество всех возможных перераспределений несчётно.
Поскольку администраторам отеля «Бесконечность» приходится задавать перераспределение в виде публичного объявления, оно должно состоять из конечной последовательности слов, то есть конечной последовательности символов из какого-либо алфавита. Множество таких последовательностей счётно, поэтому оно бесконечно меньше, чем множество возможных перераспределений. А значит, задать можно только бесконечно малую часть всех логически возможных перераспределений. Это замечательное в своём роде ограничение очевидно неограниченных возможностей администраторов отеля «Бесконечность» по перетасовке постояльцев! Получается, что почти все способы, которыми на уровне логики можно было бы перераспределить людей по номерам, недоступны.
В отеле «Бесконечность» — уникальная, самодостаточная система сбора отходов и избавления от них. Каждый день постояльцев сначала перераспределяют так, чтобы все комнаты были заняты. Затем даётся следующее объявление: «Просим всех в течение следующей минуты собрать мусор в мешок и передать его жильцу из следующего по порядку номера. Если в течение этой минуты вы получите мешок, за следующие 30 секунд передайте его дальше. Если за эти 30 секунд вы получите мешок, передайте его дальше в течение следующих 15 секунд и так далее». Чтобы выполнить такую просьбу, постояльцам нужно делать всё быстро, но передавать мешки бесконечно быстро никому не придётся, как не придётся иметь дело и с бесконечно большим числом мешков. Каждый человек произведёт конечное число действий, как и предписывают правила отеля. Всякая передача мусора прекратится уже через две минуты. Таким образом, по истечении этого времени ни у кого из постояльцев мусора не останется.
Весь собранный в отеле мусор из Вселенной исчезает. Исчезает в никуда. Но никто его в это «никуда» не транспортирует: каждый постоялец просто передаёт часть мусора в другой номер. Это «никуда», в которое исчез весь мусор, в физике называется сингулярностью. Сингулярности встречаются и в реальной жизни — в чёрных дырах и кое-где ещё. Но не будем отвлекаться: сейчас мы говорим о математике, а не о физике.
В отеле «Бесконечность», безусловно, бесконечно много персонала. Каждым постояльцем должны заниматься несколько служащих. Они приравниваются к постояльцам отеля, они также живут в пронумерованных комнатах и получают те же услуги, что и всякий другой постоялец, включая приписанных к ним служащих. В то же время они не могут просить этих служащих выполнять работу за себя, ведь, если все они сделают это, отель просто перестанет работать. В бесконечности нет ничего магического. В ней установлены логические правила: в этом и есть вся суть мысленного эксперимента с отелем «Бесконечность».
Порочная идея возможности переложить свою работу на других служащих из комнат с бóльшими номерами называется бесконечным регрессом. И это одна из тех вещей, которые на законных основаниях с бесконечностью делать нельзя. Есть старая шутка об одном любителе каверзных вопросов, который на лекции по астрофизике перебил лектора, чтобы настоять на том, что Земля плоская и стоит на слонах, которые в свою очередь стоят на огромной черепахе. «А на чём стоит черепаха?» — спросил его лектор. «На другой черепахе». — «А она на чём?» «Вы меня не проведёте, — торжествующе заявил слушатель. — Там и дальше стоят черепахи — друг на друге». Эта теория плохо объясняет явление, но не потому, что она не может объяснить всё (это не под силу ни одной теории), а потому, что необъяснённым остаётся по сути как раз то, что первоначально предполагалось объяснить. (Другим примером бесконечного регресса может служить теория о том, что того, кто задумал биосферу, тоже кто-то задумал, и так до бесконечности.)
Однажды в отеле «Бесконечность» в мешок с мусором залезает щенок одного из постояльцев. Хозяин этого не замечает и передаёт мешок с щенком в следующий номер.
Через две минуты щенок пропадает в никуда. Его хозяин в панике звонит администратору. Тот по системе оповещения объявляет: «Приносим свои извинения. В один из мешков с мусором случайно попал ценный предмет. Просим всех постояльцев проделать действия по удалению мусора в обратном порядке, как только вы получите мешок из номера, следующего по порядку за вашим».
Но всё бесполезно. Никто мешки не возвращает, потому что соседи из следующих по порядку номеров тоже ничего не возвращают. Мешки действительно уходят в никуда, это было не преувеличение. Их не складывали в вымышленном «номере бесконечность». Их больше нет, и щенка тоже нет. Никто ему ничего не сделал, его просто передавали из номера в номер. Но ни в одном номере его нет. Его нет нигде в отеле и вообще нигде. Если в конечной гостинице перемещать предмет из одного номера в другой в любой сложной последовательности, в итоге он окажется в каком-нибудь из них. Но когда номеров бесконечно много, это не так. Каждое отдельное действие каждого постояльца было безвредно для щенка и абсолютно обратимо. Но все они вместе привели к его исчезновению, и вернуть ничего уже нельзя.
Обращение действий не поможет, потому что — если бы оно сработало — нельзя было бы объяснить, почему в номер хозяина передали именно щенка, а не котёнка. Конечно, если щенок возвратился, это можно объяснить тем, что его передали из следующего по порядку номера и так далее. Но вся эта бесконечная последовательность объяснений никогда не сможет объяснить, «почему именно щенок»? Это ведь тоже бесконечный регресс.
А что если однажды щенок всё-таки окажется в номере 1, пройдя обратным путём через все номера? Это событие не является логически невозможным: этому просто не будет объяснения. В физике такое «нигде», откуда возвратился бы щенок, называется «голой сингулярностью». Голые сингулярности встречаются в некоторых спекулятивных теориях в физике, но эти теории заслуженно подвергаются критике за то, что не позволяют ничего предсказать. Как сказал однажды Хокинг, «из [голой сингулярности] могли бы появляться и телевизоры». Всё было бы иначе, будь у нас закон природы, определяющий то, что возникает, ведь в этом случае не было бы бесконечного регресса, а сингулярность не была бы «голой». Большой взрыв мог быть сингулярностью такого относительно благоприятного типа.
Я сказал, что номера в отеле идентичны, но на самом деле есть одно отличие: числа на их дверях. Таким образом, с учётом типов заданий, которые время от времени поступают от администраторов, более востребованы номера с небольшими числами. Например, у того, кто остановился в номере 1, есть уникальная привилегия: ему не приходится иметь дело с чужим мусором. Переехать в этот номер — всё равно что сорвать джекпот. Переехав в номер 2, чувствуешь себя уже немного не так, но тоже хорошо. Однако у каждого постояльца на двери номера написано число, необыкновенно близкое к началу. И каждый находится в более привилегированном положении, чем практически все остальные. Заезженное обещание политиков облагодетельствовать всех вполне осуществимо в отеле «Бесконечность».
Каждый номер в отеле стоит в начале бесконечности. И этим также характеризуется неограниченный рост знаний: мы всё ещё далеки от понимания всей сути, и так будет всегда.
Таким образом, в отеле «Бесконечность» нет такого понятия, как «типичный номер комнаты». Каждый из них нетипично близок к началу нумерации. Интуитивное представление о том, что в любом множестве значений должно быть «типичное» или «среднее», для бесконечных множеств неверно. То же самое относится и к тому, что мы интуитивно считаем «редким» и «часто встречающимся». Можно заметить, например, что половина натуральных чисел — нечётна, а половина — чётна и что среди натуральных чисел чётные и нечётные таким образом встречаются одинаково часто. Но рассмотрим следующую перестановку:
Теперь кажется, что нечётные числа встречаются в два раза реже, чем чётные. Аналогичным образом можно было бы показать, что нечётные числа выпадают один раз на миллион или в любой другой пропорции. Таким образом, и интуитивное понятие доли элементов к бесконечным множествам неприменимо.
После ужасного исчезновения щенка администрация отеля «Бесконечность» решает приятно удивить своих постояльцев, чтобы они больше не переживали по этому поводу. Объявляется, что каждый получит в подарок книгу «Начало бесконечности» или мою предыдущую книгу «Структура реальности». Книги раздаются следующим образом: в каждый миллионный номер отправляется более старая книга, а более новая — во все остальные.
Предположим, вы остановились в этом отеле. И вот вам доставляют книгу, обёрнутую в непрозрачную подарочную бумагу. Вы надеетесь получить новую, потому что предыдущую уже прочитали. И вы вполне уверены, что так и будет, ведь шансы, что ваш номер — один из тех, в которые отправят старую книгу, невелики? Ровно один на миллион, как вам кажется.
И только вы собираетесь разорвать упаковку, как раздаётся объявление. Всем нужно перейти в другой номер согласно числу, указанному на карточке, которая появится вслед за книгой из специального жёлоба в стене. В объявлении также говорится, что при новом размещении все, кто получил одну конкретную книгу, попадут в нечётные номера, а те, кто получил другую, — в чётные, но не уточняется, кто в какие. И по числу на двери своего нового номера вы не можете сказать, какая книга досталась вам. Безусловно, проблем с таким переселением не возникает, ведь обе книги получило бесконечно много людей.
Приходит карточка, и вы переезжаете в другой номер. Стала ли меньше ваша уверенность относительно того, какая у вас книга? Надо полагать, нет. Если рассуждать, как раньше, сейчас ваши шансы получить «Начало бесконечности» — один из двух, потому что теперь она есть в «половине номеров». Поскольку вы пришли к противоречию, то, по-видимому, вероятность вы оценивали неправильным методом. На самом деле неправильны все методы оценки такой вероятности, потому что, как показывает этот пример, в отеле «Бесконечность» нет такого понятия, как вероятность того, что вы получили одну книгу, а не другую.
С точки зрения математики в этом нет ничего исключительного. Этот пример лишь снова демонстрирует, что такие признаки, как вероятный и невероятный, редкий или часто встречающийся, типичный или нетипичный не имеют буквально никакого значения, когда речь идёт о сравнении бесконечных множеств натуральных чисел.
Но если обратиться к физике, то это плохие новости для антропных доводов. Представьте себе бесконечное множество вселенных с одними и теми же законами физики, кроме того, что одна конкретная физическая постоянная, обозначим её D, принимает в каждой из них разное значение. (Строго говоря, нам следует представить себе несчётное бесконечное множество вселенных, по аналогии с бесконечно тонкими картами, но это только усугубит проблему, которую я собираюсь описать, так что не будем усложнять.) Предположим, что из этих вселенных у бесконечно большого числа значения D таковы, что астрофизики в них появляются, и у бесконечно большого числа значения D таковы, что они не появляются. Тогда пронумеруем вселенные так, что все те, в которых есть астрофизики, будут чётными, а те, в которых их нет, — нечётными.
Это не означает, что в половине вселенных астрофизики есть. Как и при распределении книг в отеле «Бесконечность», мы могли бы с тем же успехом пометить вселенные так, что астрофизики были бы только в каждой третьей или триллионной, или в каждой триллионной их бы не было. Таким образом, с антропным объяснением проблемы тонкой настройки что-то не так: мы можем избавиться от неё, если мы просто перенумеруем вселенные. По своему желанию мы можем пронумеровать их так, что наличие астрофизиков будет казаться правилом, исключением или чем-то промежуточным.
Теперь предположим, что мы с помощью соответствующих законов физики с разными значениями D вычисляем, появятся ли астрофизики. Оказывается, что для значений D вне диапазона от, скажем, 137 до 138, вселенных с астрофизиками очень мало, по одной на триллион. А внутри этого диапазона только в одной вселенной на триллион астрофизиков нет, а при значениях D от 137,4 до 137,6 они есть во всех. Хочу подчеркнуть, что в реальной жизни мы и близко не подошли к хорошему пониманию процесса формирования астрофизиков, чтобы вычислять такие значения, и вероятно, никогда его не поймём, как станет ясно из следующей главы. Но независимо от того, можем мы их вычислять или нет, теоретики, придерживающиеся антропного объяснения, предпочтут проинтерпретировать эти числа так: если мы измерим значения D, то вряд ли они окажутся вне диапазона от 137 до 138. Но в действительности ничего подобного они не означают! Ведь мы можем просто изменить нумерацию вселенных (перетасовать бесконечную колоду «карт»), и частоты встречаемости поменяются с точностью до наоборот или станут такими, как нам будет угодно.
Научные объяснения, вероятно, не могут зависеть от выбранного нами способа пометки сущностей, на которые ссылается теория. Поэтому антропная аргументация сама по себе не может ничего предсказать. И по этой причине, как я говорил в главе 4, она не может объяснить тонкую настройку физических констант.
Остроумный вариант антропного принципа был предложен физиком Ли Смолином[46]. Он опирается на то, что согласно некоторым теориям квантовой гравитации чёрная дыра может породить внутри себя целую новую вселенную. Смолин предполагает, что в этих новых вселенных могут быть другие законы физики и что, более того, на эти законы будут влиять условия, существующие в порождающей вселенной. В частности, разумные существа в порождающей вселенной могут сделать так, что чёрные дыры будут порождать вселенные с удобными для индивидуальных существ законами физики. Но в объяснениях такого типа (известных как «эволюционные космологии») есть одна загвоздка: а сколько вселенных было вначале? Если их было бесконечно много, то непонятно, как их подсчитывать, а из-за того, что каждая вселенная с астрофизиками породит несколько других, доля таких вселенных не увеличится заметным образом. Если не было первой или первых вселенных и весь этот ансамбль существует уже бесконечное время, то теория сталкивается с проблемой бесконечного регресса. Ведь тогда, как заметил космолог Франк Типлер[47], вся совокупность должна была «бесконечно давно» прийти в равновесное состояние, а это означало бы, что эволюции, приведшей к этому равновесию, — того самого процесса, который должен объяснить тонкую настройку, никогда не было (как щенок, который пропал в никуда). Если же изначально была только одна вселенная или конечное их число, то остаётся проблема тонкой настройки в исходной вселенной (вселенных): были ли в них астрофизики? Надо полагать, не было; но если бы исходные вселенные порождали бы огромную цепь вселенных-потомков, пока в одной из них, чисто случайно, не появились бы астрофизики, это всё равно не дало бы ответа на вопрос, почему вся система, функционирующая теперь согласно одному закону физики, в котором кажущиеся «константы» изменяются по законам природы, допускает этот в конечном счёте благоприятствующий появлению астрофизиков механизм. И такому совпадению не будет антропного объяснения.
Теория Смолина имеет рациональное зерно: она предлагает всеохватывающую систему для множества вселенных и некоторые физические связи между ними. Но объяснение связывает только «дочерние» вселенные и «порождающие» их, а этого недостаточно. Поэтому всё это не работает.
Но теперь предположим, что мы также рассказываем о реальности, которая соединяет все эти вселенные и наделяет предпочтительным физическим смыслом один из способов их маркировки. Например, так. Девочка по имени Лира, которая родилась во вселенной № 1, изобретает прибор, с помощью которого можно перемещаться в другие вселенные. Прибор также создаёт вокруг девочки маленькую защитную сферу, обеспечивающую её жизнь в тех вселенных, где по законам физики жизнь не возможна. Удерживая определённую кнопку, Лира перемещается из одной вселенной в другую, в фиксированном порядке, с интервалом ровно в одну минуту. Как только она отпускает кнопку, то сразу попадает домой, в свою вселенную. Обозначим вселенные числами 1, 2, 3 и так далее в порядке их посещения.
Иногда Лира берёт с собой устройство для измерения константы D и ещё одно, чтобы, как в проекте поиска инопланетян SETI, только быстрее и надёжнее, вычислять, есть ли во вселенной астрофизики. Лира надеется проверить предсказания антропного принципа.
Она может посетить только конечное число вселенных, и у неё нет возможности судить о том, являются ли они репрезентативной выборкой из всего бесконечного множества. Но у устройства есть второй режим. При нём прибор переносит Лиру во вселенную № 2 за минуту, затем во вселенную № 3 за полминуты, во вселенную № 4 за четверть минуты и так далее. Если она не отпустит кнопку к моменту истечения двух минут, то посетит все вселенные в бесконечном множестве, то есть в рамках этого повествования все существующие. После этого прибор автоматически возвращает Лиру во вселенную № 1. Если она снова нажмёт кнопку, то путешествие начнётся снова со вселенной № 2.
Большая часть вселенных мелькает перед глазами Лиры так быстро, что она их даже не замечает. Но измерительные устройства, которые она взяла с собой, не подвержены ограничениям, свойственным человеческим органам чувств, и не подчиняются нашим законам физики. Если их включить, они покажут скользящее среднее значений из всех посещённых вселенных, независимо от того, сколько времени они находились в каждой из них. Так, например, если в чётных вселенных астрофизики есть, а в нечётных их нет, то в конце двухминутного путешествия через все вселенные устройство типа SETI покажет значение 0,5. Таким образом, в этой мультивселенной имеет смысл говорить, что астрофизики есть в половине вселенных.
Если с таким прибором побывать в тех же самых вселенных, но в другом порядке, то это значение будет другим. Но допустим, что по законам физики вселенные можно посещать только в одном порядке (вроде того, как по нашим законам физики мы, как правило, можем находиться в разных моментах времени лишь в одном, определённом порядке). Поскольку теперь у измерительных устройств остаётся только один способ реагирования на средние, типичные значения и так далее, то в этих вселенных разумный индивид, рассуждая о вероятностях и о том, насколько редко или часто встречается то или иное явление, типичное оно или нетипичное, разрежённое или плотное, тонко настроено или нет, всегда получит непротиворечивые результаты. И поэтому теперь с помощью антропного принципа можно делать проверяемые на опыте вероятностные прогнозы.
Это стало возможным за счёт того, что бесконечное множество вселенных с различными значениями D — уже не просто множество. Это единая физическая сущность, мультивселенная[48] с внутренними взаимодействиями (с которыми удалось справиться прибору Лиры), связывающими различные её части между собой и тем самым придающими уникальный смысл, называемый мерой, пропорциям и средним, взятым по разным вселенным.
Ни одна из основанных на антропном принципе теорий, которые были предложены для решения задачи тонкой настройки, такой меры не даёт. Многие недалеко уходят от рассуждений вроде «А что, если бы существовали вселенные с другими константами?». Но есть в физике одна теория, которая уже описывает мультивселенную исходя из независимых соображений. Во всех её вселенных одни и те же физические константы, а взаимодействия этих вселенных не подразумевают путешествия из одной в другую или измерений одной из другой. Наконец, эта теория даёт меру для вселенных. Это квантовая теория, о которой речь пойдёт в главе 11.
Определение бесконечности с использованием взаимно однозначного соответствия между множеством и его частью принадлежит Кантору. Оно лишь косвенно связано с неформальным, интуитивным восприятием бесконечности нематематиками как до этого, так и впоследствии, а именно, что «бесконечный» означает нечто вроде «больше, чем любая конечная комбинация конечных сущностей». Но с таким неформальным понятием, не имея какой-либо независимой идеи о том, что делает сущность конечной, и благодаря чему отдельная операция «комбинирования» является конечной, можно зациклиться. На интуитивном уровне ответ будет антропоцентрическим: нечто определённо конечно, если его в принципе можно охватить человеческим опытом. Но что это значит, «испытать что-то на опыте»? Испытывал ли Кантор бесконечность на опыте, когда доказывал теоремы о ней? Или его опыт ограничивался лишь символами? Но мы только и делаем, что работаем с символами.
Этого антропоцентризма можно избежать, обратившись к измерительным приборам: если величину в принципе может зарегистрировать какой-либо измерительный прибор, она уж точно ни бесконечна большая, ни бесконечно малая. Однако согласно этому определению величина может быть конечной, даже если лежащее в её основе объяснение ссылается на бесконечное множество в математическом смысле. Показывая результат измерения, стрелка на счётчике может передвинуться на сантиметр, что является конечным расстоянием, но оно состоит из несчётного бесконечного множества точек. Такое возможно, потому что, хотя точки и входят в объяснения самого низкого уровня, число точек в предсказаниях никак не упоминается. Физика оперирует расстояниями, а не числом точек. Аналогично, Ньютон и Лейбниц могли с помощью бесконечно малых расстояний объяснять такие физические величины, как мгновенная скорость, хотя, например, в непрерывном движении пули нет ничего физически бесконечно малого или большого.
Когда администраторы отеля «Бесконечность» делают конечное публичное объявление, для них это конечная операция, хотя в результате в отеле происходят преобразования, охватывающие бесконечное число событий. С другой стороны, большинство логически возможных трансформаций могли быть достигнуты только путём бесконечного числа таких объявлений, чего законы физики в том мире не позволяют. Не забывайте, что в отеле «Бесконечность» никто — ни персонал, ни постояльцы — никогда не производит больше, чем конечное число действий. Аналогичным образом в мультивселенной Лиры измерительный прибор за конечное двухминутное путешествие может вычислить среднее от бесконечного числа значений. Таким образом, в том мире это физически конечная операция. Но чтобы найти «среднее» того же бесконечного множества в другом порядке, потребовалось бы бесконечное число таких путешествий, что было бы невозможно по соответствующим законам физики.
Лишь законы физики определяют, что в природе является конечным. Те, кому не удавалось это понять, часто оказывались в замешательстве. Среди ранних примеров — парадоксы Зенона Элейского, например, о черепахе и Ахиллесе. Зенон заключил, что Ахиллес никогда не обгонит черепаху, если у неё будет преимущество на старте, потому что к тому времени, как Ахиллес доберётся до точки, откуда стартовала черепаха, она уже уйдёт немного вперёд. А когда он достигнет этой новой точки, она уйдёт ещё немного вперёд и так далее до бесконечности. Таким образом, чтобы «догнать» черепаху, Ахиллесу нужно совершить бесконечное число таких шагов за конечное время, что, будучи существом конечным, он, предположительно, сделать не может.
Понимаете, что сделал Зенон? Он просто предположил, что математическое понятие, которое, принято называть «бесконечностью», верно отражает различие между конечным и бесконечным, существенное для описанной физической ситуации. Это просто-напросто неверно. Если он сетует на то, что математическое понятие бесконечности не имеет смысла, мы можем отослать его к Кантору, который показал обратное. Если его не устраивает, что физическое событие, заключающееся в том, что Ахиллес обгонит черепаху, не имеет смысла, он утверждает, что законы физики противоречивы, но это не так. Но если он говорит, что в движении есть что-то противоречивое, потому что невозможно почувствовать каждую точку непрерывного пути, то он просто путает два различных понятия, каждое из которых называют «бесконечностью». Во всех его парадоксах ошибка именно в этом.
Что Ахиллес может сделать, а чего нет, невозможно вывести из математики. Это зависит только от того, что говорят соответствующие законы физики. Если согласно этим законам он обгонит черепаху за заданное время, значит, так оно и будет. Если для этого придётся сделать бесконечное число шагов вида «перейди в определённое положение», то столько их и будет сделано. Если Ахиллесу для этого придётся пройти через несчётное бесконечное число точек, то он пройдёт через них. Но с физической точки зрения не произойдёт ничего бесконечного.
Таким образом, законы физики определяют различие не только между редким и часто встречающимся, вероятным и невероятным, тонко настроенным и нет, но даже между конечным и бесконечным. Подобно тому, как в одном и том же множестве вселенных может быть много астрофизиков, если вести измерения согласно одному набору законов физики, и их там может практически не быть при измерениях по другим законам, одна и та же последовательность событий может быть конечной или бесконечной в зависимости от законов физики.
Ошибку Зенона повторяли и в случае с другими математическими абстракциями. В общих чертах, она заключается в том, что абстрактный признак путают с одноимённым физическим. Поскольку можно доказать теоремы о математическом признаке, которые имеют статус абсолютно необходимых истин, можно ошибочно предположить наличие априорного знания о том, что законы физики должны говорить о соответствующем физическом признаке.
Другой пример — из геометрии. На протяжении веков не проводилось чёткой границы между её статусом как математической системы и физической теории, и вначале это не сильно мешало, потому что остальные науки значительно уступали геометрии в сложности, а теория Евклида была отличным приближением для всех возможных целей того времени. Но затем философ Иммануил Кант (1724–1804), который прекрасно знал о разнице между абсолютно необходимыми истинами математики и случайными истинами науки, тем не менее заключил, что законы геометрии Евклида самоочевидно истинны в природе. А значит, он считал, что нет разумных поводов для сомнений в том, что сумма углов реального треугольника составляет 180 градусов. И таким способом он довёл это ранее безобидное заблуждение до центрального недостатка своей философии, а именно учения о том, что определённые истины о физическом мире могут быть «известны априори», другими словами, без вмешательства науки. И, конечно же, в довершение всего под «известны» он, к сожалению, имел в виду «обоснованы».
Но ещё до того, как Кант заявил о невозможности поставить под сомнение евклидовость геометрии реального пространства, математики уже начали подозревать, что это не так. Вскоре после этого математик и физик Карл Фридрих Гаусс даже занялся измерением углов большого треугольника, но не нашёл никаких отклонений от предсказаний Евклида. В итоге эйнштейнова теория искривлённого пространства и времени, которая противоречила евклидовой, была проверена путём экспериментов более точных, чем гауссовы. Оказалось, что в пространстве рядом с Землёй углы большого треугольника в сумме могут давать 180,0000002 градуса — это отклонение от евклидовой геометрии сегодня приходится учитывать, например, в спутниковых навигационных системах. В других случаях, например вблизи чёрных дыр, различия между евклидовой и эйнштейновой геометриями настолько велики, что их уже нельзя охарактеризовать термином «отклонение».
Ещё один пример той же ошибки относится к области информатики. Изначально Тьюринг закладывал основы вычислительной теории не для того, чтобы построить компьютер, а чтобы изучать природу математического доказательства. В 1900 году Гильберт поставил математикам задачу — сформулировать строгую теорию о том, чем является доказательство, и одним из условий было то, что доказательства должны быть конечными: в них должен использоваться только фиксированный и конечный набор правил вывода; они должны начинаться с конечного числа конечно выраженных аксиом и содержать лишь конечное число элементарных шагов, причём сами шаги должны быть конечными. Вычисления, как они понимаются в рамках теории Тьюринга, по сути то же самое, что доказательства: каждое корректное доказательство можно преобразовать в вычисление, которое получает вывод, начиная с исходных допущений, а каждое правильно выполненное вычисление доказывает, что выходные данные — это результат выполнения заданных операций над входными данными.
Теперь вычисление может восприниматься и как вычисление функции, которая берёт произвольное натуральное число и выдаёт результат, который определённым образом зависит от исходного числа. Так, например, удвоение числа — это функция. Чтобы попросить постояльцев перейти в другой номер, администрация отеля «Бесконечность», вообще говоря, задаёт функцию и просит постояльцев выполнить её с разными исходными данными (число на двери номера). Один из выводов, к которому пришёл Тьюринг, заключался в том, что практически все математические функции, которые логически могут существовать, нельзя вычислить никакой программой. Они «невычислимы» по той же причине, по которой большую часть логически возможных перераспределений номеров в отеле «Бесконечность» невозможно воплотить в жизнь какими бы то ни было инструкциями со стороны администраторов: множество всех функций — несчётно бесконечно, а множество программ — лишь счётно бесконечно. (Поэтому имеет смысл говорить, что «почти все» элементы бесконечного множества всех функций имеют определённое свойство.) Это также означает, как выяснил математик Курт Гёдель, по-другому подойдя к задаче Гильберта, что практически все математические истины не имеют доказательства. Это недоказуемые истины.
Также из этого следует, что практически все математические высказывания неразрешимы: ни для их истинности, ни для их ложности доказательства нет. Каждое из них либо верно, либо ложно, но с помощью физических объектов, таких как мозг или компьютер, никак невозможно выяснить, что есть что. Законы физики открывают нам только узкую щель, через которую мы можем заглянуть в мир абстракций.
Все неразрешимые высказывания прямо или косвенно относятся к бесконечным множествам. Противники бесконечности в математике объясняют это тем, что такие высказывания бессмысленны. Но для меня это мощный аргумент в пользу объективного существования абстракций, наряду с аргументом Хофштадтера о числе 641. Ведь это говорит о том, что истинностное значение неразрешимого высказывания, безусловно, не является просто удобным способом описания поведения некоторого физического объекта, например, компьютера или набора домино.
Интересно, что лишь об очень немногих вопросах известно, что они неразрешимы, хотя на самом деле таковыми является большинство, и к этому я ещё вернусь. Но существует много недоказанных математических предположений, и некоторые из них вполне могут оказаться неразрешимыми. Возьмём, например, вопрос о простых числах-близнецах. Простые числа-близнецы — это пара простых чисел, отличающихся на 2, например, 5 и 7. Гипотеза состоит в том, что наибольшей такой пары не существует: их бесконечно много. Предположим в целях текущих рассуждений, что в рамках нашей физики эта гипотеза неразрешима, но разрешима согласно многим другим законам физики. Примером могут служить законы отеля «Бесконечность». То, как конкретно администраторы отеля будут решать вопрос о простых числах-близнецах, для моего повествования неважно, но я опишу этот процесс ради читателей с математическим мышлением. Объявление будет следующим:
Первое. На протяжении следующей минуты, пожалуйста, проверьте, являются ли число на двери вашего номера и число на два больше простыми.
Далее. Если являются, то сообщите через предыдущие по порядку номера, что вы нашли простые числа-близнецы. Для быстрой отправки сообщений воспользуйтесь обычным методом (одна минута на первый шаг, а затем на каждый шаг отводится в два раза меньше времени, чем на предыдущий). Сохраните сообщение в комнате с наименьшим номером из тех, в которых ещё нет такой записи.
Далее. Сверьтесь с номером, следующим по порядку за вашим. Если у этого постояльца нет такой записи, а у вас есть, то сообщите в номер 1, что наибольшая пара простых чисел-близнецов существует.
Через пять минут администраторы будут знать, верна ли гипотеза о простых числах-близнецах.
Так что с математической точки зрения в неразрешимых вопросах, невычислимых функциях, недоказуемых теоремах нет ничего особенного. Они различаются только с точки зрения физики. Из разных физических законов будут вытекать разные бесконечные и разные вычислимые понятия, и разные истины, как математические, так и научные, окажутся при них познаваемыми. Лишь законы физики определяют, какие абстрактные сущности и отношения моделируются с помощью физических объектов, вроде мозга математика, компьютеров и листов бумаги.
Когда Гильберт сформулировал свои проблемы, некоторые математики задумывались над тем, существенна ли для доказательства конечность (с математической точки зрения). Ведь, в конце концов, математически бесконечность имеет смысл, так почему бы не быть бесконечным доказательствам? Гильберт, хотя и яро выступал в защиту теории Кантора, считал эту идею смехотворной. И таким образом и он, и его критики ошибались, как ошибался Зенон: все они предполагали, что некоторый класс абстрактных сущностей может что-то доказывать и что с помощью математических рассуждений можно определить, что это за класс.
Но если бы законы физики на самом деле были не такими, какими мы их сейчас считаем, то это могло бы сказаться и на множестве математических истин, которые мы тогда смогли бы доказать, и на операциях, доступных для использования в доказательстве. Законы физики в том виде, в котором они нам известны, придают особый статус таким операциям, как не, и и или, проводимым над отдельными битами информации (двоичными знаками или логическими значениями истина/ложь). Поэтому эти операции кажутся нам естественными, элементарными и конечными, так же, как и биты. При таких законах физики, как, скажем, в отеле «Бесконечность», существовали бы дополнительные привилегированные операции, действующие над бесконечными множествами битов. При каких-нибудь ещё законах физики операции не, и и или были бы невычислимы, а некоторые из наших невычислимых функций казались бы естественными, элементарными и конечными.
Это подводит меня к ещё одному противопоставлению, которое зависит от законов физики: простое и сложное. Мозг — это физический объект. Мысли — это вычисления таких типов, которые допускаются законами физики. Некоторые объяснения схватываются легко и быстро, как, например: «Если Сократ был мужчиной и Платон был мужчиной, то они оба были мужчинами». Оно простое, потому что выражено коротким предложением и опирается на свойства элементарной операции (а именно и). Есть объяснения, суть которых принципиально трудно ухватить, потому что даже в самой короткой своей форме они длинные и зависят от множества таких операций. Но будет ли объяснение длинным или коротким, потребуется ли для его составления много или мало элементарных операций — всё это полностью определяется законами физики, при которых оно формулируется и понимается.
Оказывается, в квантовых вычислениях, которые сегодня считаются полностью универсальной формой вычислений, точно такой же набор вычислимых функций, что и в классических вычислениях Тьюринга. Но квантовые вычисления находят лазейку в классическом понятии «простой» или «элементарной» операции. За счёт этого упрощаются некоторые интуитивно очень сложные вещи. Более того, понятие кубита (квантового бита), элементарного носителя информации в квантовых вычислениях, довольно трудно объяснить без использования квантовой терминологии. Зато бит представляется весьма сложным объектом с точки зрения квантовой физики.
Раз так, говорят некоторые, квантовые вычисления — не «настоящие» вычисления, а просто физика и техника. Они считают, что логические возможности, связанные с экзотическими законами физики, допускающими экзотические формы вычислений, не решают вопрос о том, что же такое доказательство «на самом деле». Свои возражения они высказывают примерно так: действительно, при подходящих законах физики мы смогли бы вычислить функции, не вычислимые по Тьюрингу, но это были бы не вычисления. Мы смогли бы установить истинность или ложность неразрешимых по Тьюрингу предложений, но это «установление» не было бы доказательством, потому что тогда наше знание о том, является ли предложение истинным или ложным, всегда зависело бы от наших знаний о том, что представляют собой законы физики. Если бы однажды мы обнаружили, что на самом деле законы физики другие, нам бы, возможно, пришлось пересмотреть и само доказательство и его вывод. Поэтому оно не было бы настоящим: настоящее доказательство не зависит от физики.
И снова мы видим то же самое заблуждение (а также своего рода джастификационизм, гонящийся за авторитетами). Наше знание о том, истинно или ложно высказывание, всегда зависит от знания о том, как ведут себя физические объекты. Если бы мы изменили свой взгляд на то, что делает компьютер или мозг, — например, решили бы, что наша собственная память ошибается в том, какие шаги в доказательстве мы проверили, — то нам пришлось бы изменить своё мнение о том, доказали ли мы что-то или нет. И так же было бы в том случае, если бы мы изменили мнение о том, как согласно законам физики должен работать компьютер.
Верно математическое высказывание или нет, действительно не зависит от физики. Но его доказательство — дело только физики. Невозможно что-то абстрактно доказать, как невозможно и что-то абстрактно знать. Математическая истина — вещь абсолютно необходимая и трансцендентная, но все знания создаются в ходе физических процессов, а их объём и ограничения обусловлены законами природы. Можно определить класс абстрактных сущностей и назвать их доказательствами (или вычислениями) точно так же, как определить иные абстрактные сущности и назвать их треугольниками и заставить подчиняться законам евклидовой геометрии. Но нельзя вывести из этой «теории треугольников» некое представление о том, на какой угол вы повернётесь, если обойдёте замкнутый контур, состоящий из трёх прямых линий. Точно так же такие «доказательства» не позволят проверить истинность математических утверждений. Математическая «теория доказательств» не имеет отношения к тому, какие истины можно, а какие нельзя доказать или знать в реальности; аналогично, теория абстрактных «вычислений» не имеет отношения к тому, что можно, а что нельзя в реальности вычислить.
Таким образом, вычисление или доказательство — это физический процесс, в котором такие объекты, как компьютер или мозг, физически моделируют или воплощают абстрактные сущности, как, например, числа или уравнения, и имитируют их свойства. Это наше окно в мир абстрактного. И оно действует, потому что мы используем такие сущности лишь при наличии разумных объяснений, говорящих, что абстрактные свойства действительно воплощаются в соответствующих физических переменных применяемых объектов.
Как следствие, достоверность наших знаний о математике всегда будет проистекать из достоверности знаний о физической действительности. Корректность любого математического доказательства полностью зависит от правильности наших представлений относительно законов, определяющих поведение некоторых физических объектов, таких как компьютеры, чернила и бумага или мозг. Таким образом, в противовес тому, что считал Гильберт, и тому, во что со времён античности верили и верят до сих пор почти все математики, теория доказательств никогда не станет направлением математики. Теория доказательств — это естественная наука, а конкретно информатика[49].
Вся мотивация поисков идеально надёжного фундамента для математики была ошибочной. Это был своего рода джастификационизм. Математика характеризуется тем как в ней используются доказательства, равно как естественная наука — тем, как в ней используется экспериментальная проверка; но в обоих случаях ни то, ни другое не является целью исследования. Цель математики — понять, то есть объяснить, абстрактные сущности. Доказательство — это главным образом средство для исключения ложных объяснений, а иногда оно также обнаруживает математические истины, требующие объяснения. Но, как и все области, в которых возможен прогресс, математика ищет не случайные истины, а разумные объяснения.
Итак, вот три тесно связанных между собой подхода, в рамках которых законы физики кажутся тонко настроенными: все они могут быть выражены через единый, конечный набор элементарных операций; они единым образом проводят различие между конечными и бесконечными операциями; все их предсказания могут быть вычислены одним физическим объектом, а именно универсальным классическим компьютером (хотя для эффективного моделирования физических процессов, вообще говоря, требуется квантовый компьютер). А всё потому, что законы физики поддерживают вычислительную универсальность, заключающуюся в том, что человеческий мозг может предсказывать и объяснять поведение очень далёких от человека объектов, вроде квазаров. И та же самая универсальность позволяет таким математикам, как Гильберт, выстраивать интуитивную основу доказательства и ошибочно полагать, что оно не зависит от физики. Но этой независимости нет: это скорее универсальность в рамках той физики, которая управляет нашим миром. Если бы физика квазаров была похожа на физику отеля «Бесконечность» и зависела от функций, которые мы называем невычислимыми, то мы не смогли бы что-либо предсказать о них (если бы только не смогли построить компьютеры из квазаров или других объектов, опирающихся на соответствующие законы физики). При немного более экзотических, чем эти, законах физики мы бы не смогли ничего объяснить, а значит, не могли бы существовать.
Таким образом, нечто особенное — похоже, бесконечно особенное — содержится в законах физики, какими мы их находим, делающее их исключительно благоприятными для вычислений, предсказаний и объяснений. Физик Юджин Вигнер[50] называл это «непостижимой эффективностью математики в естественных науках». По приведённым мною причинам этого не объяснить одними только антропными рассуждениями. Нужно что-то ещё.
Эта проблема, похоже, просто притягивает к себе неразумные объяснения. Так же, как религиозные люди считают, как правило, что непостижимая эффективность математики в науке — заслуга Провидения, некоторые эволюционисты усматривают в ней знак эволюции, а некоторые космологи — результат антропного отбора, а некоторые учёные, занимающиеся информатикой, и программисты видят в небе огромный компьютер. Например, одна из версий этой идеи состоит в том, что всё, обычно воспринимаемое нами как действительность, — это просто виртуальная реальность: программа, запущенная на гигантском компьютере, «Великом симуляторе». На первый взгляд кажется, что это перспективный подход к объяснению связей между физикой и вычислениями: возможно, причина выразимости законов физики в компьютерных программах состоит в том, что они и есть компьютерные программы. Быть может, существование вычислительной универсальности в нашем мире — это частный случай способности компьютеров (в данном случае «Великого симулятора») эмулировать другие компьютеры и так далее.
Но такое объяснение — это химера. Это бесконечный регресс. Ведь оно ведёт к отказу от объяснений в науке. В самой природе вычислительной универсальности заложено, что, если мы и наш мир состояли бы из программного обеспечения, у нас не было бы возможности понять настоящую физику — физику, на основе которой построен «Великий симулятор».
Другой способ поставить вычисления в центр физики и справиться с неоднозначностями антропных рассуждений — это представить, что все возможные компьютерные программы уже запущены. То, что мы воспринимаем как реальность, на самом деле виртуальная реальность, созданная одной или несколькими такими программами. Затем мы определим понятия «обычный» и «необычный» в терминах среднего по всем этим программам, считая их в порядке их длины (количества элементарных операций в каждой из них). Но здесь снова подразумевается, что есть предпочтительное представление о том, что такое «элементарная операция». Поскольку длина и сложность программы полностью зависят от законов физики, эта теория снова требует внешнего мира, в котором работают эти компьютеры, — мира, который был бы для нас непостижимым.
Оба эти подхода терпят неудачу, потому что они пытаются обратить направление реальной объяснительной связи между физикой и вычислениями. Они кажутся возможными лишь потому, что опираются на стандартную ошибку Зенона, но применительно к вычислениям: заблуждение о том, что множество классически вычислимых функций имеет в математике априорно привилегированный статус. Но это не так. Единственное, что как-то выделяет данное множество операций, — это то, что они воплощаются законами физики. Вся суть универсальности теряется, если представить, что вычисления каким-то образом предшествовали физическому миру и создавали его законы. Вычислительная универсальность относится только к компьютерам внутри нашего физического мира, которые связаны друг с другом по универсальным законам физики, к которым мы (таким образом) имеем доступ.
Но как все эти сильные ограничения на то, что мы можем знать и что может быть достигнуто с помощью математики и вычислений, включая существование в математике неразрешимых вопросов, уживаются с принципом, гласящим, что проблемы можно решить?
Проблемы — это конфликты идей. Большая часть математических вопросов, которые существуют абстрактно, никогда не появляются в качестве предмета такого конфликта: они никогда не бывают предметом любопытства или центром конфликтующих заблуждений о какой-либо черте мира абстракций. Одним словом, большинство их них просто неинтересны.
Кроме того, напомню, что поиск доказательств не есть цель математики, это просто один из её методов. Цель её в том, чтобы понять, а общий метод, как и во всех областях, — составлять гипотезы и критиковать их, исходя из того, насколько разумны они в качестве объяснений. Нельзя понять математическое утверждение, просто доказав, что оно истинно. Вот почему существуют лекции по математике, а не просто списки доказательств. И наоборот, отсутствие доказательства не обязательно означает, что утверждение нельзя понять. Напротив, обычно математик сначала понимает что-то в рассматриваемой абстракции, затем на основе этого понимания выдвигает предположение, как можно было бы доказать истинные утверждения о ней, и лишь потом их доказывает.
Можно доказать математическую теорему, но она так и не вызовет ни у кого интереса. А недоказанная математическая гипотеза может оказаться весьма плодоносной, порождая множество объяснений, даже если она столетиями будет оставаться недоказанной или даже если её вообще нельзя доказать. Примером такой гипотезы может служить проблема, известная в информатике как «P ≠ NP». Грубо говоря, она заключается в том, что существуют классы математических вопросов, ответы на которые, будь они откуда-то получены, можно эффективно проверить с помощью универсального (классического) компьютера, но нельзя эффективным образом вычислить. (У «эффективных» вычислений есть техническое определение, которое примерно соответствует тому, что мы имеем в виду под этой фразой на практике.) Практически все исследователи, работающие в области вычислительной теории, убеждены в том, что это предположение верно (что ещё раз опровергает идею о том, что математические знания состоят только из доказательств). Хотя его доказательство и неизвестно, существуют достаточно разумные объяснения того, почему следует ожидать, что это утверждение истинно, а объяснений в пользу противоположного исхода нет. (И поэтому считается, что то же самое верно и для квантовых компьютеров.)
Более того, на этой гипотезе строится огромное количество математических знаний одновременно и полезных, и интересных. Сюда входят теоремы вида «если гипотеза верна, то из неё следует вот такой интересный факт». Теорем о том, что было бы, будь гипотеза неверна, меньше, но они тоже представляют интерес.
Математик, изучающий неразрешимую задачу, может доказать, что она неразрешима (и объяснить почему). С точки зрения математика, это будет успех. Хотя решения математической задачи и не будет найдено, решена будет проблема, стоявшая перед математиком. Даже работать над математической задачей без достижения успеха такого рода — уже не то же самое, что потерпеть неудачу в создании знания. Каждая попытка решить математическую задачу и неудача в этом всегда приводит к теореме (и обычно также к объяснению) о том, почему этот подход к решению не срабатывает.
А значит, неразрешимость противоречит максиме о том, что проблемы можно решить, не больше, чем тот факт, что существуют истины о физическом мире, о которых мы никогда не узнаем. Я думаю, что однажды в нашем распоряжении будут технологии, которые позволят подсчитать точное число песчинок на Земле, но я сомневаюсь, что мы когда-нибудь узнаем, сколько точно их было во времена Архимеда. В самом деле, я уже говорил о более сильных ограничениях на то, что мы можем узнать и чего можем достичь. Есть прямые ограничения, наложенные универсальными законами физики: нельзя превысить скорость света и так далее. Есть ограничения эпистемологии: мы можем создавать знания только путём подверженного ошибкам метода выдвижения гипотез и их критики; ошибки неизбежны, и только процессы, допускающие исправление ошибок, приведут к успеху или смогут длиться долго. Ничто из этого не противоречит упомянутой максиме, потому что ни одно из этих ограничений вовсе не обязано приводить к неразрешимому конфликту объяснений.
Таким образом, я предполагаю, что в математике, так же как в науке и в философии, если вопрос представляет интерес, то проблему можно решить. Согласно фаллибилизму мы можем заблуждаться относительно того, что интересно. Поэтому из данной гипотезы вытекают три следствия. Первое заключается в том, что принципиально неразрешимые задачи также принципиально неинтересны. Второе — в том, что в конечном счёте различие между интересным и скучным — это не вопрос субъективного вкуса, а объективный факт. А третье следствие говорит, что интересная проблема, состоящая в том, почему любая интересная проблема разрешима, и сама разрешима. На настоящий момент мы не знаем, почему кажется, что законы физики тонко настроены; мы не знаем, почему существуют различные формы универсальности (хотя нам известно о многих связях между ними); мы не знаем, почему устройство мира поддаётся объяснению. Но в конце концов мы всё это узнаем. И когда это случится, то останется ещё бесконечно много явлений, требующих объяснения.
Самое важное из всех ограничений на создание знаний — это то, что мы не пророки: мы не можем предсказывать содержание и последствия идей, которые ещё только предстоит создать. Это ограничение не только согласуется с безграничным ростом знаний, но и следует из него, как я объясню в следующей главе.
То, что проблемы разрешимы, не означает, что мы уже знаем их решения или можем сформировать, когда они потребуются. Это было бы сродни креационизму. Биолог Питер Медавар[51] описывал науку как «искусство разрешимого», но то же самое применимо и ко всем формам знания. Творческое мышление любого типа включают в себя оценку того, какие подходы могут сработать, а какие нет. Заинтересоваться определённой задачей или подзадачей или потерять к ней интерес — часть творческого процесса, которая сама по себе составляет процесс решения проблем. Таким образом, «разрешимость проблем» не зависит от того, можно ли ответить на любой заданный вопрос вообще или может ли на него ответить конкретный мыслитель в конкретный день. Но если бы когда-нибудь прогресс зависел от необходимости нарушить закон физики, максима «проблемы можно решить» оказалась бы ложной.
Терминология
Взаимно однозначное соответствие — правило, по которому каждый элемент одного множества сопоставляется с определённым элементом другого множества.
Бесконечное (с математической точки зрения) — множество бесконечно, если существует взаимно однозначное соответствие между ним и его частью.
Бесконечное (с физической точки зрения) — достаточно расплывчатое понятие, означающее что-то вроде «больше, чем что-либо, что можно испытать на опыте в принципе».
Счётное бесконечное — бесконечное, но достаточно небольшое, может быть поставлено во взаимно однозначное соответствие с натуральными числами.
Мера — метод, посредством которого в теории обретают смысл пропорции и средние по бесконечным множествам чего-либо, например вселенных.
Сингулярность — ситуация, в которой нечто физическое становится неограниченно большим, хотя и остаётся везде конечным.
Мультивселенная — единая физическая сущность, содержащая более одной вселенной.
Бесконечный регресс — заблуждение, в котором аргумент или объяснение зависит от вспомогательного аргумента той же формы, который претендует на решение той же проблемы, что и исходный аргумент.
Вычисление — физический процесс, в котором воплощаются свойства какой-либо абстрактной сущности.
Доказательство — вычисление, которое при наличии теории о том, как работает компьютер, на котором оно выполняется, устанавливает истинность некоего абстрактного утверждения.
Значения «начала бесконечности», встречающиеся в этой главе
— Конец античной антипатии к бесконечному (и универсальному).
— Математический анализ, теория Кантора и другие теории о бесконечном большом и малом в математике.
— Вид вдоль коридора в отеле «Бесконечность».
— Свойство бесконечных последовательностей, заключающееся в том, что любой их элемент исключительно близок к началу.
— Универсальность разума.
— Бесконечная сфера применимости некоторых идей.
— Внутренняя структура мультивселенной, которая наделяет смыслом «бесконечное множество вселенных».
— Непредсказуемость содержания будущего знания — необходимое условие неограниченного роста этого знания.
Краткое содержание
Понять бесконечность можно через бесконечную сферу применимости некоторых объяснений. Это понятие имеет смысл как в математике, так и в физике. Но оно обладает контринтуитивными свойствами, часть из которых иллюстрируются мысленным экспериментом Гильберта, связанным с отелем «Бесконечность». Одно из них заключается в том, что если неограниченный прогресс действительно имеет место, то мы не просто сейчас находимся у самых его истоков, но мы всегда будем вблизи них находиться. С помощью своего диагонального метода Кантор доказал, что существует бесконечно много уровней бесконечности, из которых в физике используется от силы один или два: бесконечность натуральных чисел и бесконечность континуума. Там, где есть бесконечно много одинаковых копий наблюдателя (например, во множественных вселенных), вероятность и пропорции имеют смысл, только если вся эта совокупность имеет структуру, подчиняющуюся законам физики, наделяющим её смыслом. У простой бесконечной последовательности вселенных, такой как номера в отеле «Бесконечность», подобной структуры нет, а значит, для объяснения кажущейся «тонкой настройки» физических констант одних только антропных рассуждений недостаточно. Доказательство — это физический процесс: является ли математическое утверждение доказуемым или нет, разрешимым или нет, зависит от законов физики, определяющих, какие абстрактные сущности и отношения моделируются физическими объектами. Аналогично, является ли задача или структура простой или сложной зависит от того, каковы законы физики.
9. Оптимизм
Возможности, которые несёт в себе будущее, бесконечны. Когда я говорю, что «наш долг — оставаться оптимистами», я имею в виду не только открытость будущего, но также и то, что каждый из нас вносит в него свой вклад, что бы мы ни делали: мы все в ответе за то, что ждёт нас в будущем. Таким образом, наш долг — не пророчить беду, а, наоборот, бороться за лучший мир.
Карл Поппер, 1994[52]Мартин Рис подозревает, что цивилизации повезло пережить двадцатый век. Ведь на протяжении холодной войны всегда оставалась возможность начала ещё одной мировой, и на этот раз с применением водородных бомб, в результате чего цивилизация была бы разрушена. Эта опасность, по-видимому, миновала, но в своей книге «Наше последнее столетие» (Our Final Century), опубликованной в 2003 году, Рис приходит к тревожному выводу, что сейчас шансы цивилизации пережить двадцать первое столетие составляют всего 50 %.
И вновь это обусловлено опасностью, что вновь созданное знание приведёт к катастрофическим последствиям. Например, по мнению Риса, оружие уничтожения цивилизации, в особенности биологическое, вполне вероятно вскоре станет настолько простым в изготовлении, что невозможно будет помешать обзавестись им террористическим организациям или даже отдельным недоброжелателям. Он также опасается, что случайные катастрофы, вроде утечки из лаборатории генетически модифицированных организмов, могут вызвать пандемию неизлечимой болезни. Разумные роботы и нанотехнологии (инженерное искусство на атомном уровне), пишет он, «могут в долгосрочной перспективе оказаться ещё более серьёзной угрозой». И «нельзя исключить, что физика тоже может оказаться опасной». Например, высказывалось предположение, что своей работой ускорители элементарных частиц, в которых на короткое время создаются условия в некоторых аспектах более экстремальные, чем что бы то ни было со времён Большого взрыва, могут дестабилизировать сам космический вакуум и разрушить всю нашу Вселенную.
Как отмечает Рис, для его выводов необязательно, чтобы хотя бы одна из этих катастроф имела высокую вероятность, поскольку достаточно однократного невезения, и такому риску мы вновь и вновь подвергаемся каждый раз, когда в какой-нибудь из областей случается прогресс. Рис сравнивает эту ситуацию с русской рулеткой.
Но между человеческой природой и русской рулеткой есть существенная разница: вероятность выиграть в русскую рулетку не зависит от мыслей и действий игрока. В рамках её правил это исключительно игра случая. Будущее же цивилизации, напротив, целиком зависит от наших мыслей и действий. Если цивилизация падёт, то это случится не само по себе, а будет результатом тех выборов, которые совершают люди. Если цивилизация выживет, то потому, что людям удалось решить проблему выживания, и это тоже произойдёт не по воле случая.
И будущее цивилизации, и результат игры в русскую рулетку непредсказуемы, но в разных смыслах и по совершенно различным причинам. Русская рулетка — это просто игра случая. Хотя нельзя предсказать её исход, мы знаем его возможные варианты и вероятность каждого из них при условии, что соблюдаются правила игры. Будущее цивилизации для нас непознаваемо, потому что то знание, которое его определит, ещё только предстоит создать. А значит, не известны и возможные исходы, не говоря уже об их вероятностях.
Развитие знания повлиять на этот факт не может. Напротив, оно только подкрепляет его: возможности научных теорий по предсказанию будущего зависят от сферы применимости их объяснений, но нет такого объяснения, которое могло бы предугадать содержание и влияние идей, которые придут им на смену, или эффект от других идей, о которых никто ещё даже не задумывался. Так же, как никто в 1900 году не мог предвидеть последствия инноваций, появившихся в наступающем двадцатом веке, включая совершенно новые области, такие как ядерная физика, информатика и биотехнологии, так и наше собственное будущее будет формироваться за счёт знаний, которых у нас ещё нет. Мы даже не можем по большей части предсказать, с какими проблемами столкнёмся и какими возможностями будем обладать для их решения, не говоря уже о самих решениях, попытках решения и их влиянии на происходящее. Нельзя сказать, что люди в 1900 году считали Интернет или ядерную энергию чем-то невероятным: они просто о таком не задумывались.
Никакое разумное объяснение не может предсказать исход или вероятность исхода явления, развитие которого будет сильно зависит от создания новых знаний. Это фундаментальное ограничение силы научных предсказаний, и при планировании будущего жизненно важно это признавать. Вслед за Поппером я буду использовать термин предсказание для выводов о будущих событиях, которые следуют из разумных объяснений, и термин пророчество для обозначения любых претензий на знание того, что ещё непознаваемо. Попытки познать непознанное неумолимо ведут к ошибкам и самообману. Среди прочего так появляется склонность к пессимизму. Например, в 1894 году физик Альберт Майкельсон сделал следующее пророчество о будущем физики:
Все самые важные фундаментальные законы и факты физической науки уже открыты и прочно утвердились; вероятность того, что их когда-нибудь в результате новых открытий сменят другие законы и факты чрезвычайно мала… В будущем нам следует ожидать новых открытий лишь в шестом знаке после запятой[53].
Альберт Майкельсон, из речи на церемонии открытия физической лаборатории Райерсона в Чикагском университете в 1894 годуЧем же руководствовался Майкельсон, когда говорил, что «чрезвычайно мала» вероятность того, что известные ему основания физики когда-либо изменятся? Он пророчествовал будущее. Но как? Исходя из наилучших существовавших на тот момент знаний. Но это была физика образца 1894 года! Несмотря на всю её силу и точность в бесчисленных применениях, она не позволяла предсказать содержание теорий, которые за ней последуют. Она плохо подходила даже для того, чтобы вообразить изменения, которые придут с релятивизмом и квантовой теорией — вот почему физики, которым это удалось, получали Нобелевские премии. Майкельсон не включил бы идею расширения Вселенной, или существования параллельных вселенных, или отказ от понятия силы тяжести в список возможных открытий, вероятность которых «чрезвычайно мала». Такое ему даже в голову не приходило.
За сто лет до этого математик Жозеф-Луи Лагранж отметил, что Исаак Ньютон был не только величайшим гением всех времён, но ему ещё и повезло больше всех, ведь «устройство мира можно открыть лишь однажды». Лагранж так и не узнал, что некоторые из его собственных работ, которые он считал простым переложением ньютоновских на более элегантный математический язык, стали шагом к замещению ньютоновской «системы мира». Майкельсон же дожил до ряда открытий, благодаря которым была отвергнута физическая картина мира образца 1894 года, а с ними и его собственное пророчество.
Как и Лагранж, Майкельсон, сам того не осознавая, внёс вклад в развитие новой системы, в данном случае посредством экспериментального результата. В 1887 году он вместе со своим коллегой Эдвардом Морли наблюдал, что скорость света относительно наблюдателя остаётся постоянной, когда сам наблюдатель движется. Этот поразительно контринтуитивный факт позднее стал краеугольным камнем специальной теории относительности Эйнштейна. Но Майкельсон и Морли не осознавали всё значение того, что они наблюдали. Наблюдения нагружены теорией. Когда эксперимент даёт странный результат, у нас нет способа предсказать, будет ли он в итоге объяснён путём исправления какого-то незначительного парохиального предположения или путём переворота в науке в целом. Это можно будет понять лишь после того, как мы увидим всё в свете нового объяснения. До того у нас нет иного выбора, кроме как видеть мир через призму имеющихся лучших объяснений, которые включают и текущие заблуждения. Из-за этого наша интуиция искажается. И среди прочего это мешает нам представлять себе крупные изменения.
Как следует готовиться к будущим событиям, когда факторы, их определяющие, непознаваемы? И возможно ли это? С учётом того, что некоторые из этих факторов лежат за рамками научного предсказания, каков верный философский подход к неизвестному будущему? Как рационально подходить к непостижимому, к немыслимому? Об этом пойдёт речь в данной главе.
Термины «оптимизм» и «пессимизм» всегда относились к непознаваемому, но изначально они не относились главным образом к будущему, в отличие от современного понимания. Изначально «оптимизм» представлял собой учение о том, что мир — прошлое, настоящее, будущее — хорош настолько, насколько это возможно. Этот термин впервые был применён как характеристика довода Лейбница (1646–1716) о том, что Бог, будучи «совершенным», не мог создать что-либо худшее, чем «лучший из возможных миров». Лейбниц полагал, что эта идея решает «проблему зла», о которой я говорил в главе 4: он предположил, что всё явное зло в мире перевешивается хорошими последствиями, настолько далёкими, что мы о них ещё не знаем. Аналогично, все, несомненно, хорошие события, которые не происходят, включая все улучшения, которых людям не удалось достичь, — не случаются, потому что у них были бы плохие последствия, которые перевесили бы хорошие.
Поскольку последствия определяются законами физики, значительная часть утверждения Лейбница должна заключаться в том, что законы физики — тоже наилучшие из возможных. Альтернативные законы, при которых упростилось бы достижение научного прогресса, или были бы исключены болезни, или хотя бы одна болезнь стала немного менее неприятной — короче говоря, любая альтернатива, которая показалась бы улучшением по сравнению с реальной историей со всеми её эпидемиями, пытками, тираниями, стихийными бедствиями, — на самом деле, согласно Лейбницу, были бы в целом хуже.
Эта теория представляет собой особенно неразумное объяснение. С помощью этого метода можно объяснить, что любая наблюдаемая последовательность событий «лучшая»; но Лейбниц мог точно так же заявить, что мы живём в худшем из возможных миров и что каждое хорошее событие необходимо, чтобы предотвратить что-то более хорошее. И в самом деле, некоторые философы, например Артур Шопенгауэр, как раз это и утверждали. Их позиция называется философским «пессимизмом». Или же можно было бы заявить, что мир — это среднее между лучшим из возможного и худшим из возможного, и так далее. Нужно отметить, что, несмотря на свои поверхностные различия, у всех этих теорий есть одно важное сходство: если бы любая из них оказалась верной, у разумного мышления практически не было бы возможности находить новые объяснения. Ведь поскольку мы всегда можем представить себе положение дел, которое кажется лучшим, чем наблюдаемое, мы всегда будем ошибаться в том, что оно действительно лучше, независимо от того, насколько хороши наши объяснения. Поэтому в таком мире верное объяснение событий невозможно будет даже вообразить. Например, в «оптимистичном» мире Лейбница причина неудачи любой попытки решить проблему — в том, что нам помешал невообразимо обширный интеллект, который решил, что потерпеть неудачу для нас будет лучше. И, что ещё хуже, каждый раз, когда кто-то отвергает здравый смысл и предпочитает полагаться на неразумные объяснения или ошибочные логические выводы — или даже имеет откровенно дурные намерения, — он в любом случае приведёт в целом к лучшему результату, чем самое рациональное и благожелательное мышление. Это не описывает объяснимый мир. И для нас, его обитателей, в этом не было ничего хорошего. Как первоначальный «оптимизм», так и первоначальный «пессимизм» близки к чистому пессимизму в том виде, в котором я его определю.
Часто говорят: «Оптимист считает, что стакан наполовину полон, а пессимист — что он наполовину пуст». Но мои рассуждения с этим тоже никак не связаны, потому что такие высказывания — предмет не философии, а психологии, это скорее раскрученная идея, чем высказывание по существу. Эти термины могут также относиться к настроению, например жизнерадостности или депрессии, но опять-таки настроение не предопределяет никакой позиции в отношении будущего: политический деятель Уинстон Черчилль страдал глубокой депрессией, но его взгляд на будущее цивилизации и его особые ожидания как лидера военного времени были необычайно позитивны. Экономист Томас Мальтус, известный прорицатель катастроф (о нём подробнее ниже), напротив, как говорят, был безмятежен и доволен жизнью, и за его обеденным столом часто раздавались взрывы хохота.
Слепой оптимизм — это установка на будущее. Он заключается в том, что человек действует так, будто знает, что плохого не случится. Противоположный подход, слепой пессимизм, часто называемый принципом предосторожности, стремится держать беду на расстоянии, избегая всего неизвестного ради безопасности. Никто всерьёз не пропагандирует ни то, ни другое как универсальную линию поведения, но посылки и доводы у этих течений мысли схожие, и часто они просачиваются в планы людей.
Слепой оптимизм также называют «самонадеянностью» или «безрассудством». Часто, возможно незаслуженно, в качестве примера приводят заявление создателей «Титаника» о том, что их лайнер «практически непотопляем». Самое большое судно того времени затонуло во время своего первого плавания в 1912 году. Конструкция «Титаника» должна была выдержать все мыслимые бедствия, но его столкновение с айсбергом произошло совершенно непредвиденным образом. Слепой пессимист утверждает существование неустранимой асимметрии между хорошими и плохими последствиями: удачное первое плавание, возможно, не принесёт столько хорошего, сколько плохого принесёт неудачное. Как указывает Рис, одно-единственное катастрофическое последствие полезной во всех прочих отношениях инновации может навсегда поставить точку в развитии человечества. Таким образом, придерживаться слепого пессимизма при построении океанских лайнеров — значит держаться существующих конструкций и не пытаться побить рекорды.
Но и слепой пессимизм — это слепая оптимистическая доктрина. Он предполагает, что непредвиденные катастрофические последствия также не могут вытекать и из существующих знаний (или, напротив, из существующего невежества). Не все крушения случались с кораблями, идущими на рекорд по тем или иным параметрам. Не все непредвиденные физические катастрофы обязательно должны происходить в результате физических экспериментов или применения новых технологий. Но одно мы знаем наверняка: чтобы защититься от любых бедствий, предвиденных или нет, и чтобы восстановиться после них, требуются знания, а их нужно создать. Вред, который может нанести любая инновация, не нарушающая рост знаний, всегда конечен, а польза может быть неограниченна. Если бы никто никогда не нарушал принцип предосторожности, не было бы и существующих конструкций кораблей, которых следует придерживаться, и рекордов, которые лучше не побивать.
Пессимизм должен противостоять этому аргументу, иначе он не будет хоть сколько-то убедительным, и поэтому на протяжении истории в пессимистических теориях неизменно воспроизводилась тема о том, что исключительно опасный момент неминуем. В «Нашем последнем столетии» утверждается, что период с середины двадцатого века был первым, в котором технологиям стало под силу уничтожить цивилизацию. Но это не так. Многие цивилизации в истории человечества пали от огня и меча — технологий весьма простых. На самом деле из всех когда-либо существовавших цивилизаций подавляющее большинство погибло — одни по злой воле, другие в результате чумы или стихийного бедствия. Практически все они могли избежать соответствующих катастроф, будь у них чуть больше знаний, например, если бы они располагали более совершенными сельскохозяйственными или военными технологиями, если бы они лучше соблюдали гигиену, если их бы политическое и экономическое устройство было эффективнее. Лишь немногие, если таковые были вообще, могли бы спастись за счёт более осторожного отношения к инновациям. На самом же деле большинство погибших цивилизаций рьяно следовали принципу предосторожности.
В более общем смысле, им не хватало определённой комбинации абстрактных знаний и знаний, заключённых в технологических артефактах, а именно достаточного благосостояния. Я попробую определить это непарохиальным образом как совокупность физических преобразований, которые они способны были осуществлять.
Примером линии поведения в рамках слепого пессимизма могут быть попытки сделать нашу планету как можно менее приметной в Галактике из-за страха контакта с внеземными цивилизациями. Не так давно в своей телепрограмме «Во Вселенную» (Into the Universe) Стивен Хокинг рекомендовал поступить именно так. Вот его доводы: «Если [инопланетяне] когда-либо и посетят нас, то результат будет во многом таким же, как при первой высадке Христофора Колумба на берегах Америки, а это не очень хорошо обернулось для коренных американцев». В космосе могут обитать кочующие цивилизации, предупредил он, которые отнимут у Земли её ресурсы, или цивилизации империалистические, которые сделают её своей колонией. Писатель-фантаст Грег Бир[54] написал несколько захватывающих романов, основанных на допущении, что в Галактике полно цивилизаций, которые являются либо хищниками, либо жертвами, причём и те и другие прячутся. Это могло бы разрешить парадокс Ферми, но не годится в качестве серьёзного объяснения по одной простой причине: согласно этому допущению цивилизации должны убедить себя в существовании цивилизаций-хищников и полностью перестроиться, чтобы спрятаться от них, ещё до того, как они замечены — то есть, скажем, до изобретения радио.
В предложении Хокинга также не учитываются различные опасности, которые возникнут, если мы скроем своё существование от Галактики. Например, нас могут нечаянно уничтожить благожелательно настроенные цивилизации, отправившие роботов в нашу Солнечную систему, чтобы, например, провести разведку на необитаемой, по их мнению, планете. Помимо классического порока слепого пессимизма, здесь есть и другие заблуждения. Одно из них — представление о Земле, как о космическом корабле, но в более широком масштабе: допущение, что прогресс в гипотетической цивилизации-хищнике лимитируется сырьём, а не знаниями. Что им может быть нужно от нас? Золото? Нефть? А может, вода с нашей планеты? Нет, конечно, ведь любая цивилизация, способная добраться до нас или переправить полезные ископаемые к себе на галактические расстояния, уже должна знать дешёвые способы трансмутации, а значит, ей нет дела до химического состава имеющихся у неё запасов. Таким образом, по сути, единственный ресурс в нашей Солнечной системе, который можно было бы использовать, — огромная масса вещества в нашем Солнце. Но оно есть в любой звезде. Возможно, они хотят собрать сразу много звёзд и устроить гигантскую чёрную дыру, как часть некоего колоссального инженерного проекта. Но в таком случае эта цивилизация спокойно сможет пройти мимо обитаемых систем (которых, как можно предполагать, незначительное меньшинство, в противном случае прятаться нам всё равно бесполезно); станут ли они просто так уничтожать миллиарды людей? Или мы для них — всё равно что насекомые? Вполне возможно, если забыть, что существовать может только один тип субъектов: универсальные объяснители и конструкторы. Думать, что могут существовать существа, которые относятся к нам, как мы к животным, — сродни вере в сверхъестественное.
Более того, есть только один способ осуществления прогресса: выдвижение гипотез и их критика. И единственная система моральных ценностей, допускающая устойчивый прогресс, — объективные ценности, которые начали открывать в эпоху Просвещения. Нет сомнений в том, что моральные принципы инопланетян отличаются от наших; но не потому, что они напоминают принципы конкистадоров. И вряд ли нам стоит серьёзно опасаться культурного шока от встречи с передовой цивилизацией: они будут знать, как обучать своих собственных детей (или искусственный интеллект), так что смогут обучить и нас, в частности, тому, как пользоваться их компьютерами.
Следующее заблуждение — аналогия, которую Хокинг проводит между нашей цивилизацией и цивилизациями эпохи до Просвещения: как я объясню в главе 15, между этими двумя типами цивилизаций есть качественная разница. Для цивилизаций после Просвещения культурный шок не должен представлять опасности.
Если посмотреть на погибшие цивилизации прошлого, то можно увидеть, что они были настолько бедны, обладали столь ничтожными технологиями, а их объяснения устройства мира были настолько отрывочны и полны заблуждений, что для них проявлять осторожность по отношению к инновациям и прогрессу было всё равно что упрямо считать, будто, завязав глаза, можно спокойно лавировать среди рифов. Пессимисты полагают, что то состояние, в котором наша собственная цивилизация пребывает сейчас, — исключение из этой картины. Но что говорит об этом утверждении принцип предосторожности? Можем ли мы быть уверены, что наши современные знания в свою очередь не искажены опасными пробелами и заблуждениями? Что наше нынешнее достояние не окажется до жалости неадекватным для столкновения с непредвиденными проблемами? Поскольку мы не можем быть уверены в этом, то не требует ли принцип предосторожности придерживаться линии поведения, которая всегда оказывалась благотворной в прошлом, то есть новаторства, а в крайних случаях даже слепого оптимизма в том, что касается пользы нового знания?
Также в случае нашей цивилизации принцип предосторожности исключает сам себя. Поскольку наша цивилизация не следовала ему, переход к нему привёл бы к обузданию идущего полным ходом технологического прогресса. А подобное изменение никогда раньше не приводило к успеху. Таким образом, тот, кто придерживается слепого пессимизма, должен по принципиальным соображениям возражать против этого.
Может показаться, что здесь нарушается логика, но это не так. Причина этих парадоксов и параллелей между слепым оптимизмом и слепым пессимизмом в том, что эти два подхода очень похожи на уровне объяснения. Оба они пророческие: оба претендуют на знание непознаваемых вещей о будущем знании. И поскольку в любой момент наше наилучшее знание содержит как истину, так и заблуждения, пессимистические пророчества о любом одном его аспекте всегда совпадают с оптимистическими пророчествами о другом. Например, в самых страшных своих опасениях Рис исходит из беспрецедентно быстрого создания беспрецедентно мощных технологий, таких как биологическое оружие, способное уничтожить цивилизацию.
Если Рис прав, говоря, что двадцать первый век исключительно опасен, и если цивилизация всё же переживёт его, то опасности удастся избежать лишь чудом. В книге «Наше последнее столетие» упоминается ещё только один пример такого спасения, а именно холодная война, так что получится уже два чудесных спасения подряд. Однако при таком подходе следует заключить, что цивилизация чудом избежала гибели и ранее, во время Второй мировой войны. Например, нацистская Германия была близка к тому, чтобы создать ядерное оружие; Японской империи удалось создать оружие на основе бубонной чумы и испытать его в Китае с сокрушительным эффектом, и она планировала применить его против Соединённых Штатов. Многие боялись, что победа держав «Оси»[55], даже одержанная традиционными средствами, может погубить цивилизацию. Черчилль предупреждал о «новых тёмных веках, которые под светом извращённой науки станут ещё страшнее и, возможно, простоят ещё дольше», хотя, будучи оптимистом, он и старался предотвратить это. С другой стороны, в 1942 году австрийский писатель Стефан Цвейг с женой покончили жизнь самоубийством, будучи в полной безопасности в нейтральной Бразилии, потому что считали, что цивилизация обречена.
Итак, мы насчитали уже три чудесных спасения подряд. А не было ли ещё одного до них? В 1798 году Мальтус в своём авторитетном труде «Опыт о законе народонаселения» высказал мысль, что в девятнадцатом веке прогрессу в человеческом обществе непременно будет положен конец. Он подсчитал, что экспоненциальный рост населения, который происходил в то время вследствие различных аспектов технологического и экономического развития, приближается к пределу возможностей планеты производить пищу. И это не было случайной неприятностью. Мальтус считал, что открыл закон природы, касающийся населения и ресурсов. С одной стороны, чистый прирост населения в каждом поколении пропорционален текущей численности населения, так что население увеличивается экспоненциально (или «в геометрической прогрессии», как он говорил). Однако, с другой стороны, когда растёт производство продуктов питания — например, в результате обработки ранее непродуктивных земель, — прирост получается такой же, как если бы эта инновация случилась в любое другое время. Он не пропорционален численности населения в данный момент. Мальтус называл это (что характерно) приростом «в арифметической прогрессии» и утверждал: «Прирост населения, если его не сдерживать, происходит в геометрической прогрессии. Пропитание же увеличивается только в арифметической. Даже поверхностное знакомство с арифметикой показывает, насколько необъятно первое по сравнению со вторым». Он сделал вывод, что относительное благосостояние человечества в его время — явление временное и что он живёт в исключительно опасный момент истории. В долгосрочной перспективе состояние человечества должно быть равновесием между, с одной стороны, тенденцией населения к увеличению, а с другой — голодом, болезнями, убийствами и войнами — как всё и происходит в биосфере.
И действительно, на протяжении девятнадцатого века взрыв численности населения происходил во многом так, как и предсказывал Мальтус. Но предвиденный им конец прогресса в человеческом обществе не случился, отчасти потому, что производство пищевых ресурсов росло ещё быстрее, чем население. А затем, в двадцатом веке, и то и другое увеличивалось ещё быстрее.
Мальтус весьма точно предсказал одно, но совершенно промахнулся со вторым. Почему? Из-за систематического уклона в сторону пессимизма, который свойственен пророчеству. В 1798 году грядущий рост численности населения был более предсказуем, чем ещё больший рост объёмов пищевых ресурсов, но не потому, что его вероятность была во всех смыслах выше, а просто потому, что он меньше зависел от создания знаний. Не учитывая эту структурную разницу между двумя рассматриваемыми им явлениями, Мальтус скатился от обоснованной догадки к слепому пророчеству. Как и многие из его современников, он ошибочно полагал, что открыл объективную асимметрию между тем, что сам называл «мощью населения» и «мощью производства». Но это была парохиальная ошибка, такая же, какую совершили Майкельсон и Лагранж. Все они думали, что делают хладнокровные прогнозы на основе наилучшего доступного им знания. В действительности же они заблуждались из-за неустранимой особенности человеческой природы, состоящей в том, что мы никогда не знаем, что ещё нам предстоит открыть.
Ни Мальтус, ни Рис не собирались пророчествовать. Они предупреждали, что если мы не решим со временем определённые проблемы, то будем обречены. Но так было и будет всегда. Проблемы неизбежны. Как я говорил, многие цивилизации исчезли с лица Земли. Ещё до появления цивилизации все наши близкородственные виды, как, например, неандертальцы, вымерли из-за трудностей, с которыми вполне могли бы справиться, если бы знали, как. Согласно генетическим исследованиям, около 70 000 лет назад и наш вид был близок к вымиранию: тогда в результате неизвестной катастрофы общая численность людей сократилась до нескольких тысяч. Попадание в эти и другие подобные катастрофы могло восприниматься жертвами чем-то вроде принуждения играть в русскую рулетку. Другими словами, им наверняка казалось, что никакими усилиями (кроме, быть может, более усердного обращения к богам за помощью) им не повернуть ситуацию в свою пользу. Но это была парохиальная ошибка. Цивилизации голодали задолго до Мальтуса от того, что они считали «стихийным бедствием» в виде засухи или неурожая. А на самом деле — из-за того, что мы назвали бы плохими методами ирригации и земледелия, другими словами, из-за недостатка знаний.
До того как наши предки научились получать огонь искусственным путём (и неоднократно после этого), людям приходилось умирать непосредственно от воздействия источников огня, который должен был спасать им жизнь, потому что не умели с ним обращаться. Говоря парохиально, их убивала погода, но в более глубоком смысле — отсутствие знаний. Многие из тех сотен миллионов, кто на протяжении всей истории умер от холеры, наверняка лежали в двух шагах от очагов, на которых можно было кипятить питьевую воду и тем самым спастись; но опять же они об этом не знали. В достаточно общем смысле, различие между «стихийным» бедствием и бедствием, случившимся по невежеству, является парохиальным. Если перенестись в момент перед любым из стихийных бедствий, которые, как говорится, «просто случились» или уготованы нам богами, то можно увидеть множество вариантов спасения, которыми пострадавшие не смогли воспользоваться, а иногда и просто не создали их. Все эти варианты складываются в одну всеобъемлющую возможность, которую они не смогли воплотить, — это формирование научной и технологической цивилизации, подобной нашей. Это традиции критики. Это Просвещение.
Если бы в любой момент истории человечества до начала двадцать первого века возникла угроза столкновения Земли с летящим к ней астероидом диаметром километр, то от удара погибла бы как минимум значительная часть всего населения. В этом, как и во многих других отношениях, мы живём в эпоху беспрецедентной безопасности: двадцать первый век — это первая эпоха, когда мы знаем, как защититься от подобных ударов, которые происходят примерно раз в 250 000 лет[56]. Может показаться, что это слишком редко, чтобы беспокоиться, но ведь тут вопрос случая. Вероятность такого столкновения, равная 1 на 250 000, означает, что в любой заданный год среднестатистический человек на Земле имеет гораздо больше шансов умереть от удара астероида, чем погибнуть в авиакатастрофе. И следующий такой объект уже в пути, он движется к нам, и ничто, кроме человеческих знаний, его не остановит. Цивилизация уязвима и ещё для нескольких типов катастроф с похожим уровнем риска. Например, ледниковые периоды случаются чаще, чем падение крупных астероидов, а «малые ледниковые периоды» намного более чаще, причём они, как полагают некоторые климатологи, могут «предупредить» о себе всего за несколько лет до начала. Извержение «супервулкана», вроде того, что затаился в Йеллоустонском национальном парке, может затмить солнце сразу и на много лет. Если такое случится завтра, наш вид сможет выжить, выращивая пищу с помощью искусственного света, и цивилизация может восстановиться. Но многие погибнут, а страдания выживших будут так велики, что подобные события заслуживают по крайней мере таких же усилий по их предотвращению, как и полное вымирание. Мы не знаем вероятности самопроизвольного возникновения эпидемии неизлечимой болезни, но можем догадаться, что она неприемлемо высока, поскольку такие пандемии, как Чёрная смерть, обрушившаяся на Европу в четырнадцатом веке, уже показали нам, что может происходить в масштабах столетий. Сейчас, оказавшись перед лицом подобной катастрофы, мы по крайней мере имеем шанс вовремя создать знания, необходимые для выживания.
И этот шанс у нас есть, потому что мы умеем решать проблемы. А они неизбежны. Мы всегда будем ломать голову над тем, как планировать непознаваемое будущее. И никогда не сможем позволить себе тихо сидеть и надеяться на лучшее. Даже если наша цивилизация выдвинется в космос, чтобы перестраховаться, как настойчиво советуют Рис и Хокинг, мы всё равно можем быть уничтожены близким по галактическим меркам гамма-всплеском. Такое случается в тысячи раз реже, чем столкновение с астероидом, но, когда это всё-таки случится, мы защититься не сможем без большего объёма научных знаний и огромного прироста благосостояния.
Но сначала нам придётся пережить следующий ледниковый период, а до этого — другие опасные изменения климата (как природные, так и антропогенные) плюс оружие массового уничтожения, пандемии и всё бесчисленное множество непредвиденных опасностей, которые нас будут окружать. Наши политические институты, образ жизни, личные устремления и нравственные принципы — всё это формы или воплощения знания, и всё это нужно совершенствовать, если цивилизация — и в особенности Просвещение — надеется пережить все те угрозы, которые описываются Рисом, а также, видимо, и многие другие, о которых мы не имеем ни малейшего представления.
Так как же? Как сформировать линии поведения по отношению к неизвестному? Если мы не можем вывести их из наилучших существующих знаний или из догматических эмпирических правил типа слепого оптимизма или пессимизма, откуда нам их выводить? Как и научные теории, линии поведения нельзя ниоткуда вывести. Это — гипотезы, и выбирать между ними нужно не на основе их происхождения, а в соответствии с тем, насколько разумны они как объяснения: насколько сложно их варьировать.
Подобно отрицанию эмпиризма и идеи о том, что всё знание — это «обоснованное истинное убеждение», понимание того, что политические курсы — это гипотезы, подразумевает отрицание бесспорных прежде философских положений. И вновь Поппер стал главным сторонником этого отрицания. Он писал:
Вопрос об источниках нашего знания… всегда формулировали приблизительно так: «Каковы наилучшие источники нашего знания — наиболее надёжные источники, которые не приведут нас к ошибкам, к которым в сомнительных случаях мы можем и должны обращаться как к верховному суду?» Вместо этого я предлагаю считать, что такого идеального источника не существует, как не существует идеального правительства, и что все «источники» способны иногда приводить нас к ошибкам. Поэтому вопрос об источниках нашего знания я предлагаю заменить совершенно иным вопросом: «Как найти и устранить ошибку?»
«Знание без авторитета» (Knowledge without Authority, 1960)[57]Вопрос «Что может дать нам надежду на обнаружение и устранение ошибки?» напоминает о замечании Фейнмана, сказавшего, что «наука — это приобретённые нами знания о том, как избежать самообмана». И ответ в основе своей одинаков как в плане принятия решений человеком, так и в плане науки: для этого требуется традиция критики, в которой ищутся разумные объяснения, как, например, объяснения того, что пошло не так, что было бы лучше, какой эффект различные линии поведения имели в прошлом и будут иметь в будущем.
Но какая польза от объяснений, если они не позволяют делать предсказания и их нельзя проверить на опыте, как в науке? Это по-настоящему сложный вопрос: что делает возможным прогресс в философии? Как я говорил уже в главе 5, достигается он путём поиска разумных объяснений. Заблуждение о том, что данным и фактам нет законного места в философии, — пережиток эмпиризма. В действительности объективный прогресс возможен и в политике, и в нравственной сфере, и в целом в науке.
Политическая философия традиционно вращается вокруг набора вопросов, которые Поппер называл вопросами типа «Кто должен править?». Кто должен обладать властью? Монархи, аристократы, священники, диктаторы, небольшая группа, «народ» или его избранники? Отсюда возникают производные вопросы, например: «Какое образование должно быть у короля?», «У кого должно быть право представлять граждан при демократии?», «Как обеспечить информированность и ответственность избирателей?».
Поппер указывал на то, что корни этого класса вопросов — в том же заблуждении, что и у определяющего эмпиризм вопроса «Как научные теории выводятся из чувственных данных?». Ищется система, которая выводит или обосновывает правильный выбор лидера или правительства на базе существующих данных, таких как унаследованные права, мнение большинства, полученное кандидатом образование и так далее. Такое же заблуждение лежит в основе слепого оптимизма и пессимизма: в обоих случаях предполагается, что прогресс должен совершаться путём применения к существующим знаниям простого правила, с тем чтобы установить, какие будущие возможности нужно игнорировать, а на какие — опираться. Индукция, инструментализм и даже ламаркизм — все они совершают одну и ту же ошибку: ожидают, что прогресс обойдётся без объяснений. Они рассчитывают, что знание будет создаваться в приказном порядке и почти без ошибок, а не в процессе варьирования и отбора, который порождает постоянный поток ошибок — и исправляет их.
Защитники наследственной монархии сомневаются, что какой-нибудь метод выбора лидера посредством рационального мышления и обсуждения может быть лучше, чем однажды заданный механический критерий. Это — принцип предосторожности в действии, со свойственными ему парадоксами. Например, всякий раз, когда претенденты на трон утверждали, что их наследственные права сильнее, чем у теперешнего правителя, фактически они ссылались на принцип предосторожности как оправдание внезапного, насильственного и непредсказуемого изменения, другими словами, как обоснование слепого оптимизма. То же было верно и для случаев, когда монархи сами благоволили радикальным изменениям. Стоит вспомнить также и утопистов-революционеров, которые обычно добиваются только разрушения и стагнации. Хотя они и являются слепыми оптимистами, как утопистов их определяет пессимизм в отношении того, что предполагаемая ими утопия или жестокие методы её достижения и защиты хоть когда-то в принципе могут быть превзойдены. Вдобавок они являются революционерами в первую очередь потому, что относятся с пессимизмом к возможности убедить многих других в окончательной истине, которую, как им кажется, они знают.
Идеи имеют последствия, и подход к политической философии, выражаемый вопросом «Кто должен править?», — это не просто ошибка научного анализа, но часть практически всех плохих политических доктрин в истории. Если рассматривать политический процесс как локомотив для продвижения к власти подходящих правителей, то он оправдывает насилие. Ведь пока эта правильная система не начала действовать, ни один правитель не является законным; но как только начнёт и назначенные ею правители окажутся у руля, находиться в оппозиции к ним будет означать противостоять тому, что правильно. Тогда возникает проблема, как противодействовать тем, кто выступает против правителей или их стратегий. Согласно той же логике, все, кто думает, что текущие правители или стратегии — плохие, должны сделать вывод, что на вопрос «Кто должен править?» был дан неправильный ответ, а значит и власть таких правителей незаконна, а противостоять ей — законно, и, если потребуется, даже силой. Таким образом, сам вопрос «Кто должен править?» приводит к необходимости жестоких, авторитарных ответов, и зачастую они и даются. В результате стоящие у власти доходят до тирании, укрепляется позиция плохих правителей и стратегий, а оппонентов это ведёт к разрушительному насилию и революции.
Те, кто выступает за насилие, обычно думают, что ничто из этого не случится, если все придут к согласию по поводу того, кто должен править. Однако это значит прийти к согласию по поводу того, что правильно, а если в этом вопросе будет согласие, правителям станет нечего делать. В любом случае такое согласие и невозможно, и нежелательно: все люди разные, и они обладают уникальными идеями; проблемы неизбежны, а прогресс состоит в решении их.
Поэтому Поппер применяет свой основной вопрос «Как можно обнаруживать и устранять ошибки?» к политической философии в форме «Как без применения силы избавиться от плохих правительств?». Так же, как наука ищет объяснения, которые можно экспериментально проверить, рациональная политическая система делает так, чтобы было максимально просто обнаружить и убедить других, что лидер или стратегия плохие, и в таком случае устранить их без какого-либо насилия. Подобно структуре научных институтов, которая устроена так, чтобы не защищать теории, а наоборот, подвергать их критике и проверке, политические институты не должны усложнять возможность без насилия выступать в оппозиции к правителям и стратегиям и должны включать в себя традиции мирного, критического их обсуждения, а также самих институтов и всего остального. Таким образом, судить о системах правления нужно не по тому, как они позволяют угадать с выбором лидера и поставить его у руля, а также закрепить хорошие стратегии, а по тому, как они позволяют избавляться от уже правящих плохих лидеров.
В целом эта политическая конструкция являет собой фаллибилизм в действии. Такая позиция предполагает, что правители и стратегии всегда будут неидеальны, что проблемы неизбежны. Но она также предполагает, что они допускают совершенствование: проблемы можно решить. Идеал, на который всё это работает, состоит не в том, чтобы избежать неожиданностей, приводящих к неприятностям, а в том, что, когда подобное случается, тем самым открывается возможность для дальнейшего прогресса.
Но с чего бы людям, которые благоволят к определённым лидерам и стратегиям, делать их более подверженными замене? Однако позвольте мне вначале спросить: зачем вообще кому-то может понадобиться заменять плохих лидеров и плохие стратегии? Этот вопрос может показаться абсурдным, но, вероятно, он абсурден лишь с точки зрения цивилизации, принимающей прогресс как нечто само собой разумеющееся. Если же мы не ожидаем прогресса, то с чего нам ждать, что новый лидер или новая стратегия, выбранные тем или иным методом, будут чем-то лучше старых? Напротив, тогда мы должны ожидать, что любые перемены в целом приносят столько же вреда, сколько пользы. И тогда принцип предосторожности говорит, что «знакомый чёрт лучше незнакомого». Получается замкнутый круг: если исходить из того, что объём знаний не будет расти, то принцип предосторожности верен; а допустив, что он верен, мы не сможем себе позволить развитие знаний. Пока общество не станет надеяться, что в будущем его предпочтения изменятся в лучшую сторону сравнительно с нынешними, оно будет стараться как можно лучше защитить текущие стратегии и институты. Поэтому критерию Поппера могут удовлетворять только те общества, в которых ожидается развитие знаний, причём развитие непредсказуемое. А значит, они ожидают, что если знания будут развиваться, то это пойдёт на пользу.
Как раз это ожидание я и называю оптимизмом и могу сформулировать его в наиболее общем виде как
Принцип оптимизма: Всё зло вызвано недостатком знаний.
Оптимизм прежде всего — это способ объяснить неудачу, а не пророчить успех. Он утверждает, что на пути прогресса не существует фундаментального барьера, закона природы или сверхъестественной воли. Когда мы пытаемся что-то улучшить, но нам это не удаётся, это не потому, что злые (или необъяснимо великодушные) боги нам препятствуют или наказывают нас за эту попытку, и не потому, что мы достигли предела возможностей разума по совершенствованию, и не потому, что неудача — это лучшее, что могло случиться, а всегда потому, что наши знания к этому моменту недостаточны. Но оптимизм — это также установка на будущее, потому что почти все неблагоприятные исходы и почти все благоприятные у нас ещё впереди.
Оптимизм, как я говорил в главе 3, следует из объяснимости физического мира. Если законы физики что-то разрешают, то единственное, что может помешать технологическому осуществлению этого, — незнание, как это сделать. Оптимизм также предполагает, что ни один из запретов, накладываемых законами физики, не является непременным злом. Так, например, отсутствие невозможного знания о том, как делать пророчества, не является для прогресса непреодолимым препятствием. Как и неразрешимые математические задачи, о чём шла речь в главе 8.
Это означает, что в конечном счёте неодолимых зол нет, а в краткосрочной перспективе неодолимо только то зло, которое парохиально. Не может существовать болезни, от которой невозможно найти лекарство, разве что определённые типы повреждений мозга, те, при которых рассеивается знание, составляющее личность пациента. Ведь больной человек — это физический объект, и преобразование этого объекта в того же человека, но в добром здравии, не запрещается ни одним из законов физики. А значит, есть способ осуществить такое преобразование, другими словами, лечение. Нужно только знать как. Если пока мы не знаем, как уничтожить конкретное зло, или знаем, как это сделать теоретически, но не обладаем достаточным временем или ресурсами (то есть благосостоянием), тогда, даже при всём при этом, всегда будет справедливо, что либо законы физики не позволяют устранить его за отведённое время с помощью доступных ресурсов, либо существует способ сделать за такое время и с использованием данных ресурсов.
То же самое с не меньшей тривиальностью должно выполняться и для зла смерти — гибели человека от болезней или от старости. Эта проблема находит огромный резонанс в каждой культуре: в литературе, ценностях, целях, великих и малых. Кроме этого, мало что может сравниться с ней в укоренённости представлений о её неразрешимости (за исключением тех, кто верит в сверхъестественное): смерть считают олицетворением непреодолимого препятствия. Но для такой репутации нет рациональных оснований. Парохиально до нелепости придавать какое-то глубокое значение этой конкретной неудаче, одной среди стольких других проблем, с которыми сталкивается биосфера, обеспечивая существование человека, или медицина на протяжении веков в борьбе со старением. Проблема старения относится к тому же общему типу, что и болезни. И хотя по современным стандартам это задача сложная, её сложность конечна и ограничивается относительно узкой сферой, основные принципы которой уже достаточно хорошо поняты. При этом объём знаний в соответствующих областях растёт экспоненциально.
Иногда «бессмертие» (в этом смысле) даже рассматривается как нечто нежелательное. Например, есть аргументы, ссылающиеся на перенаселённость; но это всё примеры мальтузианского пророческого заблуждения: то, что нужно каждому дополнительному человеку, чтобы выжить при современных стандартах жизни, легко просчитать; какие знания этот человек привнесёт в решение возникающих проблем, узнать невозможно. Существуют также аргументы, говорящие о деградации общества, вызванной укреплением на влиятельных постах пожилых людей; но традиции критики, существующие в нашем обществе, уже хорошо приспособлены для решения такого типа проблем. Даже сегодня в западных странах считается обычным делом отправлять в отставку немолодых, но влиятельных политиков и руководителей корпораций, даже если они не жалуются на здоровье.
Приведу одну из традиционных оптимистичных историй. Король-тиран приговорил её героя-узника к смерти, но тот сумел убедить правителя отложить казнь в обмен на обещание за год научить королевского коня говорить. В ту же ночь сосед-заключённый спрашивает нашего героя, зачем ему всё это. А тот отвечает: «За год много чего может случиться. Вдруг конь подохнет. Или король умрёт. Или я сам. А может, конь возьмёт и заговорит!»[58] Герой рассказа понимает, что хотя его беды непосредственно связаны с тюремными решётками, королём и его конём, то зло, которое ему угрожает, в конечном счёте обусловлено недостатком знаний. И поэтому он смотрит на жизнь с оптимизмом. Он знает, что если прогрессу суждено случиться, то о некоторых из возможностей и открытий нельзя узнать заранее. Прогресса вообще не может быть, пока не найдётся тот, кто будет готов к встрече с этими непостижимыми возможностями и открыт им. Научить коня говорить нашему смельчаку-заключённому, может, и не удастся. Но ему может прийти в голову что-нибудь ещё. Возможно, он уговорит короля отменить нарушенный закон или научится какому-нибудь убедительному фокусу и сделает так, что все будут думать, что конь говорит; он может сбежать или придумать какое-нибудь выполнимое задание, которое понравится королю ещё больше, чем говорящий конь. И этот список можно продолжать бесконечно. Даже если такое маловероятно, осуществления уже одной из подобных возможностей будет достаточно для решения проблемы. Но если заключённому суждено освободиться благодаря какой-то новой идее, сегодня он о ней, возможно, и не подозревает и поэтому не может позволить, чтобы его планы зависели от предположения о том, что она никогда не возникнет.
Оптимизм заключает в себе все другие условия, необходимые для развития знаний и для сохранения создающих знания цивилизаций, а значит, и условий для начала бесконечности. Наш долг, как говорил Поппер, оставаться оптимистами в целом, а в особенности в отношении цивилизации. Да, можно полагать, что спасти цивилизацию будет нелегко. Но это не значит, что вероятность решить соответствующие проблемы мала. Когда о математической задаче говорят, что её трудно решить, это не значит, что её вряд ли решат. Самые разные факторы определяют, возьмутся ли за неё математики вообще, и если да, то насколько активно. Если простая задача не считается интересной или полезной, её могут отложить на неопределённое время, а вот решать трудные задачи учёные пытаются постоянно.
Как правило, трудность проблемы — это как раз один из тех самых факторов, которые заставляют её решать. То, что президент Джон Кеннеди сказал в 1962 году, — знаменитый пример оптимистического подхода к неизвестному: «Мы решили отправиться на Луну. Мы решили отправиться на Луну в этом десятилетии и сделать многое другое, не потому что это легко, а потому что это трудно»[59]. Кеннеди не считал, что лунный проект из-за его трудности вряд ли окажется успешным. Напротив, он верил в успех. Называя задачу трудной, он имел в виду, что при её решении придётся иметь дело с неизвестным. И в своём обращении он ссылался на интуитивно понятный факт: хотя при выборе средств достижения цели такая трудность всегда является негативным фактором, при выборе самой цели она может сыграть и позитивную роль, поскольку нам нравится участвовать в проектах, в которых будет создаваться новое знание. И оптимист готов к появлению знаний, определяющих прогресс, включая их непредсказуемые последствия.
Кеннеди отметил, что для лунного проекта потребуется ракета-носитель, «с корпусом из уникальных металлических сплавов, часть из которых ещё не существует в природе, способная выдерживать невероятную температуру и нагрузки, работающая точнее, чем все часы мира, и несущая оборудование, необходимое для управления полётом, проведения исследований, обеспечения связи, питания и жизнедеятельности астронавтов»[60]. Всё это были известные проблемы, решение которых требовало ещё неизвестных знаний. Слова о «небывалой миссии к неисследованному небесному телу»[61] относились к неизвестным проблемам, из-за которых вероятность успеха и результаты невозможно предсказать заранее. Но ничто не помешало разумно мыслящим людям сформировать ожидание, что этот полёт будет успешным. Это ожидание не было суждением о вероятности: на ранних стадиях проекта никто не мог ничего предсказать, потому что всё зависело от ещё не найденных решений ещё неизвестных задач. Когда людей убеждали работать над проектом, — а также голосовать за него и т. п., — их убеждали, что ограничивать наше существование одной планетой — это плохо, а исследовать Вселенную — хорошо; что гравитационное поле Земли — это не преграда, а просто проблема, и чтобы справиться с ней и со всеми другими проблемами, возникающими в ходе проекта, нужно просто знать, как это сделать, и что, судя по природе этих проблем, настал подходящий момент, чтобы ими заняться. Вероятности и пророчества были не для этих суждений.
На протяжении всей истории пессимизм был свойственен практически каждому обществу. Он принимал форму принципа предосторожности и всевозможных разновидностей жажды пророчеств, политических философий, основанных на вопросе «Кто должен править?» и неверии в силу творческих способностей, а также на ошибочном толковании проблем как непреодолимых преград. Но всегда находилось несколько человек, которые видели в препятствия проблемы, проблемы, которые можно решить. И поэтому пусть и очень редко, но встречаются места и моменты времени, когда пессимизму ненадолго наступал конец. Насколько мне известно, ни один историк не исследовал историю оптимизма, но, я полагаю, что когда бы он ни появлялся в цивилизации, это было мини-Просвещение: традиция критики приводила к расцвету многих форм человеческой деятельности, таких как искусство, литература, философия, наука, технология и институты открытого общества. Конец пессимизма — это потенциально начало бесконечности. Однако я также полагаю, что в каждом случае — с одним-единственным (пока) потрясающим исключением в виде нашего собственного Просвещения — этот процесс вскоре прекращался, и власть пессимизма вновь восстанавливалась.
Самым известным мини-Просвещением была интеллектуальная и политическая традиция критики в Древней Греции, которая достигла наивысшей точки во время так называемого Золотого века в городе-государстве Афины в пятом столетии до нашей эры. Афины были одной из первых демократий, и здесь жило на удивление много людей, которые до сих пор считаются важнейшими фигурами в истории идей: это философы Сократ, Платон и Аристотель, драматурги Эсхил, Аристофан, Еврипид и Софокл, историки Геродот, Фукидид и Ксенофонт. Афинская философская традиция философии продолжила традицию критики, восходящую к жившему более столетием ранее Фалесу Милетскому и включавшую в себя Ксенофана Колофонского (570–480 гг. до н. э.), который одним из первых поставил под сомнение антропоцентрические теории богов. Афины богатели за счёт торговли, привлекали творческих людей со всего известного мира, стали передовой военной державой своего времени, а построенный в городе Парфенон по сей день считается одним из величайших архитектурных достижений всех времён. В самый расцвет Золотого века афинский правитель Перикл попытался объяснить причину успеха Афин. Конечно же, он считал, что на их стороне была покровительница города богиня Афина, но объяснения «это всё благодаря богине» ему, очевидно, было недостаточно. И поэтому он перечислял особые характеристики афинской цивилизации. Мы не знаем точно, насколько в своих описаниях он себе льстил или принимал желаемое за действительное, но при оценке оптимизма цивилизации, то, к чему она стремится, должно быть ещё важнее, чем то, чего ей уже удалось достичь.
На первое место Перикл ставит афинскую демократию. И он объясняет почему. Не потому, что «править должны люди», а потому, что она побуждает к «мудрым действиям». Демократия включает в себя постоянное обсуждение, что является непременным условием для нахождения верного ответа, а это, в свою очередь, — необходимое условие прогресса:
«Мы не думаем, что открытое обсуждение может повредить ходу государственных дел. Напротив, мы считаем неправильным принимать нужное решение без предварительной подготовки при помощи выступлений с речами за и против».
Перикл «Погребальная речь», около 431 г. до н. э.[62]Также в качестве причины успеха он упоминает свободу. Пессимистичная цивилизация считает аморальным действовать так, как многократно не делали прежде, потому что она слепа к возможности получить таким образом преимущества, способные превзойти риски. Поэтому она склонна к нетерпимости и конформизму. Но в Афинах возобладала противоположная точка зрения. Перикл также противопоставлял открытость своего города иностранным гостям закрытой, оборонительной позиции, занимаемой городами-конкурентами: и вновь он ожидал, что Афинам будут полезны контакты с новыми, непредвиденными идеями, даже несмотря на то, что, как он признавал, при такой линии поведения в город также могли попасть и вражеские шпионы. По-видимому, он даже считал, что мягкое отношение к детям — это источник военной силы:
«Между тем как наши противники при их способе воспитания стремятся с раннего детства жестокой дисциплиной закалить отвагу юношей, мы живём свободно, без такой суровости, и тем не менее ведём отважную борьбу с равным нам противником…»[63]
Пессимистичная цивилизация гордится тем, что её дети следуют определённым моделям поведения, и оплакивает каждое реальное или воображаемое новшество.
Во всех вышеописанных отношениях противоположностью Афинам была Спарта. Олицетворение пессимистической цивилизации, это государство славилось суровым, «спартанским» образом жизни своих граждан, жёсткой образовательной системой и полной милитаризацией общества. Каждый мужчина состоял на военной службе, полностью подчинялся старшим по званию, которые и сами должны были следовать религиозным традициям. Всю остальную работу выполняли рабы: Спарта низвела целое соседнее общество, Мессению, до статуса илотов (что-то вроде крепостного или раба). В Спарте не было философов, историков, художников, архитекторов, писателей или других людей, создающих знания, за исключением немногих талантливых полководцев. Таким образом, почти все усилия общества были брошены на сохранение себя в существующем состоянии, иными словами, на предотвращение улучшений. В 404 году до нашей эры, через двадцать семь лет после погребальной речи Перикла, Спарта одержала над Афинами решительную победу в войне и установила там авторитарную форму правления. Хотя благодаря причудам международной политики Афины вскоре восстановили свою независимость и демократию и ещё на протяжении нескольких поколений создавали произведения искусства, литературы и философии, они больше не были местом, где прогресс шёл быстро и не испытывал ограничений. Афины стали обычным городом. Почему? Наверно, потому, что утратили свой оптимизм.
Ещё один недолговечный случай просвещения имел место в итальянском городе-государстве Флоренции в четырнадцатом веке. Это было время раннего Возрождения, культурного движения, оживившего в Европе литературу, искусство и науку Древней Греции и Рима после более чем тысячелетнего застоя. Просвещение началось, когда флорентийцы стали считать, что могут превзойти эти античные знания. Эта эра ярких новаторств, известная как Золотой век Флоренции, сознательно поощрялась семейством Медичи, фактическими правителями города, и в особенности Лоренцо де Медичи Великолепным, который был его главой с 1469 по 1492 год. В отличие от Перикла, Медичи не были поклонниками демократии: Просвещение во Флоренции началось не в политике, а в искусстве, а затем в философии, науке и технологиях, и в этих областях оно проявляло равную открытость критике, стремление к инновациям как в идеях, так и в делах. Художники больше не ограничивались традиционными темами и стилями, а стали свободно изображать то, что считали красивым, изобретать новые стили. Под впечатлением от деятельности семьи Медичи состоятельные жители Флоренции соревновались друг с другом в новаторстве художников и учёных, которых они поддерживали материально: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Боттичелли. В то же время во Флоренции жил Никколо Макиавелли, первый со времён античности светский политический философ.
Вскоре Медичи стали продвигать новую философию «гуманизма», которая ставила знания выше догмы, а такие достоинства, как интеллектуальная независимость, любопытство, хороший вкус и дружелюбие, — выше набожности и смирения. Они отправляли посланцев по всему миру, чтобы заполучить копии древних книг, многие из которых Запад не видел со времён падения Западной Римской империи. В библиотеке Медичи делались копии, которые затем передавались учёным во Флоренции и не только. Флоренция стала местом, где ожившие идеи получали новые интерпретации и порождали совершенно новые идеи.
Но такой быстрый прогресс продолжался всего одно поколение или около того. Харизматичный монах Джироламо Савонарола начал читать апокалиптические проповеди против гуманизма и всех остальных аспектов флорентийского просвещения. Убеждая вернуться к средневековому конформизму и самопожертвованию, он предрекал гибель, если Флоренция продолжит идти по этому пути. Многие горожане поверили, и в 1494 году Савонароле удалось захватить власть. Он вновь наложил все традиционные ограничения на искусство, литературу, мышление и поведение. Светская музыка оказалась под запретом. Одеваться нужно было просто. Частые посты стали фактически принудительными. Гомосексуализм и проституция жестоко пресекались. Из Флоренции были изгнаны евреи. Банды головорезов, вдохновлённых проповедями Савонаролы, рыскали по городу в поисках запретных артефактов: зеркал, косметики, музыкальных инструментов, светских книг — практически всего, что было красиво. Огромная куча таких сокровищ была ритуально сожжена на так называемом «костре тщеславия» в центре города. Говорят, что Боттичелли бросил в огонь несколько своих картин. В этом пламени горел оптимизм.
В конце концов и сам Савонарола был свергнут и сожжён на костре. Медичи восстановили своё правление, но оптимизм во Флоренцию не вернулся. Как и в Афинах, традиция искусства и науки продолжалась ещё некоторое время, и даже век спустя род Медичи помогал Галилею (но потом отвернулся от него). Однако к тому времени Флоренция стала просто одним из городов-государств эпохи Возрождения, мечущимся под правлением тиранов от одного кризиса к другому. К счастью, это мини-Просвещение так и не удалось до конца уничтожить. Его огонёк продолжал теплится во Флоренции и в некоторых других итальянских городах-государствах, и в итоге в Северной Европе от его искры разгорелось пламя нынешнего Просвещения.
Возможно, в истории человечества было ещё много просвещений, более коротких и менее ярких, чем описанные выше, быть может, в малоизвестных субкультурах, семьях или у отдельных людей. Например, философ Роджер Бэкон (1214–1294) известен тем, что отрицал догму, выступал за наблюдение как способ выяснения истины (хотя и по «индукции») и сделал несколько научных открытий. Он предвидел изобретение микроскопа, телескопа, самоходных транспортных средств и летающих машин, а также то, что математика будет ключом к будущим научным открытиям. То есть он был оптимистом. Но он не принадлежал ни к какой традиции критики, поэтому его оптимизм умер вместе с ним.
Бэкон изучал работы древнегреческих учёных и мыслителей так называемого Исламского возрождения, таких как Ибн аль-Хайсам (965–1039), который сделал несколько незаурядных открытий в физике и математике. В период Исламского возрождения (приблизительно между восьмым и тринадцатым веками) существовала сильная традиция учёности, опиравшаяся на науку и философию европейской античности и ценившая их. В настоящее время историки не пришли к единому мнению о том, была ли там также традиция критики в науке и философии. Но если и была, то её задушили, как и в других случаях.
Возможно, Просвещение «пыталось» воплотиться в реальность бессчётное число раз ещё с доисторических времён. Если это так, то наши недавние «чудесные спасения» резко выделяются на фоне всех этих мини-Просвещений. И, возможно, каждый раз случался прогресс — застой ненадолго прерывался, появлялся проблеск бесконечности, — но всегда это заканчивалось трагедией и всё уничтожалось не оставляя следа. Всегда, кроме одного раза.
Тем, кто жил во Флоренции в 1494 году или в Афинах в 404 году до нашей эры, можно простить, что они усомнились в верности оптимизма. Ведь они ничего не знали о сфере применимости объяснений, силе науки и законах природы в нашем понимании, не говоря уже о нравственном и технологическом прогрессе, который должен был за этим последовать, когда набрало силу нынешнее Просвещение. В момент поражения прежде оптимистичным жителям Афин правота спартанцев должна была казаться как минимум убедительной, как и правота Савонаролы растерявшим свой оптимизм флорентийцам. Подобно всем другим случаям крушения оптимизма у целой цивилизации или у отдельного человека, это наверняка были невыразимые катастрофы для тех, кто позволил себе ожидать прогресса. Но нам стоит не просто посочувствовать этим людям. Следует принять их беду близко к сердцу. Ведь если бы любой из этих ранних экспериментов с оптимизмом удался, человек бы уже мог исследовать звёзды, а мы с вами были бы бессмертны.
Терминология
Слепой оптимизм (безрассудство, самонадеянность) — поведение, построено так, как если бы плохой исход был невозможен.
Слепой пессимизм (принцип предосторожности) — избегание всего, безопасность чего не гарантирована.
Принцип оптимизма — всё зло происходит от недостатка знаний.
Благосостояние — набор физических преобразований, которые человек может осуществить.
Значения «начала бесконечности», встречающиеся в этой главе
— Оптимизм (и конец пессимизма).
— Понимание того, как избегать самообмана.
— Мини-Просвещения, подобные тем, что происходили в Афинах и Флоренции, потенциально могли стать началом бесконечности.
Краткое содержание
Оптимизм (в том смысле, за который я выступаю) — это теория о том, что все неудачи, всё зло обусловлено недостатком знаний. Это ключ к рациональной философии неизвестного. Оптимизм был бы бессодержателен, если бы существовали принципиальные ограничения в создании знания, но их нет. Он был бы ложен, если бы существовали сферы, особенно области философии, такие как этика, в которых не было бы объективного прогресса. Но во всех этих областях истина существует, и прогресс в движении к ней достигается за счёт поиска разумных объяснений. Проблемы неизбежны, потому что наши знания всегда будут бесконечно далеки от полноты. Некоторые проблемы трудны, но будет ошибкой путать сложные проблемы с теми, которые вряд ли кто-то решит. Проблемы можно решить, и каждое конкретное зло — это проблема, допускающая решение. Оптимистичная цивилизация открыта, её не пугают новшества, а в её основе лежат традиции критики. Её институты продолжают совершенствоваться, а наиболее важные знания, которые они в себе несут, — это знания о том, как обнаруживать и устранять ошибки. Вероятно, в нашей истории было много недолгих периодов Просвещения. Наш — уникален по своей продолжительности.
10. Сон Сократа
СОКРАТ остановился на постоялом дворе в Дельфах, недалеко от оракула. Вместе со своим другом ХЕРЕФОНТОМ они сегодня спросили у оракула, кто самый мудрый человек в мире [64] , чтобы пойти к нему и учиться у него. Но к их разочарованию жрица (которая говорит от лица бога Аполлона) объявила лишь: «Нет никого мудрее Сократа». И вот теперь, во сне, СОКРАТУ, пристроившемуся на неудобном ложе в непомерно дорогой комнатушке, слышится глубокий, мелодичный голос, нараспев произносящий его имя.
ГЕРМЕС: Приветствую тебя, Сократ.
СОКРАТ [натягивает на голову одеяло]: Уйди прочь. Я сегодня совершил столько приношений, что больше тебе из меня ничего не выжать. Ты разве не слышал, что я слишком «мудр», чтобы опускаться до этого?
ГЕРМЕС: Мне не нужны приношения.
СОКРАТ: Тогда чего тебе надо? [Он поворачивается и видит обнажённого Гермеса.] Хм, наверняка некоторые из моих соратников, расположившихся снаружи, будут рады…
ГЕРМЕС: Мне нужны не они, а ты, о, Сократ.
СОКРАТ: Тогда придётся тебя разочаровать, незнакомец. А теперь, прошу, оставь меня, я заслужил покой.
ГЕРМЕС: Ну что ж… [Он поворачивается к двери.]
СОКРАТ: Постой.
ГЕРМЕС оборачивается и в недоумении поднимает бровь.
СОКРАТ [медленно размышляя]: Я сплю. Мне снится сон. А ты — бог Аполлон.
ГЕРМЕС: Почему ты так думаешь?
СОКРАТ: Эти места для тебя священны. Сейчас ночь, темно, но я всё равно тебя вижу. В реальной жизни такого быть не может. Так что, наверно, ты пришёл ко мне во сне.
ГЕРМЕС: Ты рассуждаешь хладнокровно. Разве ты не напуган?
СОКРАТ: Ха! Позволь задать встречный вопрос: ты добрый бог или злой? Если добрый, то чего мне бояться? А если злой, то я считаю, что бояться тебя — ниже моего достоинства. Мы, жители Афин, народ гордый, и у нас есть богиня-покровительница, как ты, конечно, знаешь. Мы дважды побеждали Персидскую империю в тяжелейшей борьбе[65], а теперь мы бросаем вызов Спарте. Мы всегда бросаем вызов тем, кто хочет нас подчинить.
ГЕРМЕС: Даже богу?
СОКРАТ: Добрый бог не будет стремиться к такому. Но с другой стороны, по нашим обычаям мы выслушиваем любого, кто предлагает честную критику и хочет убедить нас добровольно изменить своё мнение. Ведь мы хотим делать то, что правильно.
ГЕРМЕС: Эти два обычая — две стороны одной ценной монеты, Сократ. Я отдаю вам, афинянам, за это должное.
СОКРАТ: Мой город, вне сомнения, заслуживает твоей благосклонности. Но с чего бы бессмертному вести беседу с таким озадаченным и несведущим человеком, как я? Думаю, я знаю зачем: ты раскаиваешься в том, что так пошутил через оракула, да? С твоей стороны, и правда, было очень жестоко насмехаться над нами в ответ, притом что мы преодолели такой путь и столько оставили приношений. А теперь скажи мне правду, о, кладезь мудрости: кто же самый мудрый на свете человек?
ГЕРМЕС: Я не раскрываю фактов.
СОКРАТ [вздыхает]: Тогда умоляю, скажи, какова природа добродетели? Я всегда хотел это знать.
ГЕРМЕС: И нравственных истин я не раскрываю.
СОКРАТ: Но как добрый бог, ты, должно быть, пришёл, чтобы передать мне какие-то знания. Чем же ты соблаговолишь наградить меня?
ГЕРМЕС: Знанием о знании. Эпистемологией. И я уже кое-что тебе сказал.
СОКРАТ: Да? А, ты сказал, что уважаешь афинян за открытость аргументам. И за сопротивление обидчикам. Но все знают, что это благодетели! И уж конечно, рассказав мне то, что я уже знаю, ты не можешь считать, что что-то «раскрыл» мне.
ГЕРМЕС: Многие афиняне действительно назвали бы это благодетелями. Но сколько из них верят в это по-настоящему? Сколько пожелает критиковать бога, исходя из стандартов благоразумия и справедливости?
СОКРАТ [размышляя]: Наверно, все достойные. Ведь как можно быть праведником, следуя богу, в чьей нравственной правоте ты не убеждён? И как можно убедиться в чьей-то нравственной правоте, не сформировав мнение о том, какие качества являются правильными с нравственной точки зрения?
ГЕРМЕС: А твои соратники, спящие там, на лужайке, они, что, недостойные?
СОКРАТ: Нет, достойные.
ГЕРМЕС: Известно ли им о связи, которую ты только что провёл между благоразумием, нравственностью и нежеланием подчиняться богам?
СОКРАТ: Вероятно, им это не вполне известно, пока.
ГЕРМЕС: Так, значит, неверно то, что это известно любому достойному.
СОКРАТ: Согласен. Вероятно, это известно только мудрым.
ГЕРМЕС: Тогда уж тем, кто как минимум мудр так же, как ты. Кто ещё относится к этой высокой категории?
СОКРАТ: Ты что, преследуешь какую-то высокую цель, продолжая насмехаться надо мной, а, мудрый Аполлон? Зачем ты задаёшь мне тот же вопрос, который мы задали тебе утром? Кажется, твоя шутка перестаёт быть смешной.
ГЕРМЕС: А ты, Сократ, разве никогда ни над кем не насмехался?
СОКРАТ [с достоинством]: Если иногда я и смеюсь над кем-то, то только потому, что хочу, чтобы он помог мне найти истину, с которой ни я, ни он ещё не знакомы. Я не насмехаюсь свысока, как ты. Я только хочу подвигнуть моего смертного друга, чтобы он помог видеть дальше того, что увидеть просто.
ГЕРМЕС: Разве есть что-то в мире, что легко увидеть? Что увидеть проще всего?
СОКРАТ [пожимает плечами]: То, что у тебя перед глазами.
ГЕРМЕС: И что же у тебя сейчас перед глазами?
СОКРАТ: Ты.
ГЕРМЕС: Точно?
СОКРАТ: Уж не собираешься ли ты спрашивать меня, как я могу быть уверен в том, что говорю? А потом, что бы я ни сказал, ты спросишь, как я могу быть уверен и в этом?
ГЕРМЕС: Нет. Неужели ты думаешь, что я явился сюда, чтобы упражняться в банальных приёмах ведения дискуссии?
СОКРАТ: Что ж, хорошо: очевидно, я не могу быть ни в чём уверен. Но я и не хочу. Что может быть скучнее — ничего личного, о, мудрый Аполлон, — чем достичь состояния абсолютной уверенности в своих убеждениях, к которому некоторые, похоже, так стремятся. Какая от этого может быть польза, кроме видимости аргумента, когда на самом деле его нет. К счастью, это психическое состояние не имеет ничего общего с тем, к чему я сам стремлюсь, а именно открыть истину о том, каков мир, почему он такой и, даже больше, каким он должен быть.
ГЕРМЕС: Мои поздравления, Сократ, ты обладаешь эпистемологической мудростью. Знание, которое ты ищешь, — объективное знание — сложно получить, но оно достижимо. А к тому психическому состоянию, которого ты не ищешь, — обоснованному убеждению[66], — стремятся многие, особенно священники и философы. Но, по правде говоря, убеждения нельзя обосновать, кроме как относительно других убеждений, и даже в этом случае только с ошибками. Так что поиск обоснований может привести разве что к бесконечному регрессу, каждый шаг которого будет и сам подвержен ошибкам.
СОКРАТ: И это я знаю.
ГЕРМЕС: Действительно. И, как ты правильно заметил, если я тебе скажу то, что ты уже знаешь, это не будет считаться «откровением». Однако заметь, что это как раз то, с чем люди, ищущие обоснованных убеждений, не согласны.
СОКРАТ: Что-что? Прости меня, но для моей предположительно мудрой головы этот комментарий слишком запутан. Прошу, объясни, что я должен заметить в тех людях, которые ищут «обоснованных убеждений».
ГЕРМЕС: А вот что. Предположим, им известно объяснение чего-либо. Мы с тобой сказали бы, что они его знают. Но для них, независимо от того, насколько разумно это объяснение и насколько оно может быть верным, важным и полезным, это всё ещё не знание. Они будут считать его таковым, только если потом придёт бог и подтвердит им, что оно верно (или если они вообразят себе такого бога или другой авторитетный источник). Таким образом, если авторитет скажет им то, о чём они и так уже прекрасно знают, для них это действительно будет откровение.
СОКРАТ: Это я понимаю. И я также понимаю, что они глупцы, потому что во всём, что они знают, «авторитет» [указывает на Гермеса] может просто играть с ними. Или пытаться преподать им важный урок. А может, они неправильно его понимают. Или ошибаются в том, что это авторитет…
ГЕРМЕС: Да. Таким образом, то, что они называют «знанием», а именно обоснованное убеждение, — фантазия. Для человека оно недостижимо, разве что в виде самообмана; ни для какой хорошей цели оно не нужно; к нему не стремятся мудрейшие из смертных.
СОКРАТ: Это я знаю.
ГЕРМЕС: И Ксенофан знал, но его больше нет среди смертных…
СОКРАТ: Ты это имел в виду, когда сказал оракулу, что нет никого мудрее меня?
ГЕРМЕС [игнорирует вопрос]: Следовательно, также я не имел в виду какое-либо обоснованное убеждение, когда спросил, уверен ли ты, что я стою у тебя перед глазами. Я только спросил, как ты можешь утверждать, что «ясно видишь», что у тебя перед глазами, если ты при этом говоришь, что спишь!
СОКРАТ: Да! Ты поймал меня на ошибке, но она определённо не тривиальна. Действительно, ты не можешь быть в буквальном смысле у меня перед глазами. Возможно, ты у себя на Олимпе и посылаешь мне некое своё подобие. Но в таком случае ты им управляешь, и я его вижу и называю его «тобой» и поэтому вижу «тебя».
ГЕРМЕС: Но я спросил не об этом. Я спросил, что сейчас у тебя перед глазами. В реальности.
СОКРАТ: Хорошо. В реальности у меня перед глазами комнатушка. Или, точнее говоря, у меня перед глазами веки, поскольку глаза у меня должны быть закрыты. Но по твоему лицу я вижу, что такой ответ для тебя всё ещё недостаточно точен. Хорошо: у меня перед глазами — внутренняя поверхность век.
ГЕРМЕС: И ты её видишь? Другими словами, так ли «легко увидеть» то, что у тебя перед глазами?
СОКРАТ: Прямо сейчас нет. Но только потому, что я сплю.
ГЕРМЕС: Только потому, что спишь? То есть ты говоришь, что если бы бодрствовал, то сейчас видел бы веки изнутри?
СОКРАТ [осторожно]: Если бы я не спал, но глаза были бы закрыты, то да.
ГЕРМЕС: Какой цвет ты видишь, когда закрываешь глаза?
СОКРАТ: В такой тусклой комнате, как эта, — чёрный.
ГЕРМЕС: Ты думаешь, что веки у тебя изнутри чёрные?
СОКРАТ: Наверно, нет.
ГЕРМЕС: Так ты и правда их увидишь?
СОКРАТ: Ну, не то что бы…
ГЕРМЕС: Но если бы ты сейчас открыл глаза, ты бы увидел комнату?
СОКРАТ: Очень смутно. Сейчас ведь темно.
ГЕРМЕС: Тогда я спрошу ещё раз: правда ли, что если бы ты не спал, ты бы легко мог увидеть то, что у тебя перед глазами?
СОКРАТ: Ну, хорошо, не всегда. Но тем не менее, когда я не сплю и глаза у меня открыты, и освещение яркое…
ГЕРМЕС: Но не слишком яркое, да?
СОКРАТ: Да. Если ты собираешься придираться и дальше, то, да, я признаю, что, когда солнце светит прямо в глаза, мы видим даже хуже, чем в темноте. Аналогично, можно увидеть собственное лицо за зеркалом, там, где на самом деле только пустота. Иногда мы видим мираж или в смятых одеждах нам чудится мифическое создание…
ГЕРМЕС: Или оно нам чудится во сне…
СОКРАТ [улыбаясь]: Именно так. И, наоборот, будь то во сне или наяву, мы часто не видим того, что есть на самом деле.
ГЕРМЕС: Ты просто не представляешь себе, сколько такого…
СОКРАТ: Да, конечно. Но всё же, когда мы не спим и условия благоприятствуют тому, чтобы видеть…
ГЕРМЕС: А как узнать, «благоприятствуют ли условия» тому, чтобы видеть?
СОКРАТ: Ага! Теперь ты пытаешься поймать меня на том, что я хожу по кругу. Ты хочешь, чтобы я сказал, что говорить, что условия благоприятствуют тому, чтобы видеть, можно, когда без труда видишь, что тебя окружает.
ГЕРМЕС: Я как раз не хочу, чтобы ты так говорил.
СОКРАТ: Мне кажется, что задаёшь вопросы обо мне: что передо мной, что я могу увидеть без труда, уверен ли я и так далее. Но я ищу фундаментальных истин, из которых, как я полагаю, ни одна преимущественно со мной не связана. Позволь ещё раз подчеркнуть: я не уверен в том, что у меня перед глазами, никогда — ни с закрытыми, ни с открытыми глазами, ни во сне, ни наяву. Не могу я быть уверен и в том, что вероятно есть у меня перед глазами. Ведь как я могу оценить вероятность того, что сплю, когда я думаю, что бодрствую? Или что вся моя жизнь до этого была сном, в который соизволил меня заключить один из вас, бессмертных?
ГЕРМЕС: Вот уж действительно.
СОКРАТ: А возможно, я стал жертвой обычного трюка вроде тех, которыми промышляют фокусники. Мы знаем, что фокусник нас обманывает, потому что он показывает то, чего быть не может и просит за это деньги! Но если бы он отказался от вознаграждения и показал мне что-то возможное, но чего нет на самом деле, как бы я об этом узнал? Может быть, то, что ты мне привиделся, — не сон, а какой-то хитрый фокус. С другой стороны, возможно, ты и правда тут, собственной персоной, а я не сплю. Ни в чём из этого я не могу быть уверен. Однако я могу думать, что я знаю кое-что из этого.
ГЕРМЕС: Точно. А верно ли то же самое относительно твоего нравственного знания? Можешь ли ты ошибаться, заблуждаться относительно того, что правильно, а что нет, как с миражами или фокусами?
СОКРАТ: Это как будто представить сложнее. Ведь в том, что касается нравственного знания, от чувств толку мало: в основном это мои собственные мысли. Я рассуждаю о том, что правильно, а что нет, почему кого-то считают добродетельным, а кого-то грешным. Конечно, я могу ошибаться в этих умственных построениях, но это не так просто, как обманываться, видя фокусы и иллюзии, происходящие вне тебя, ведь они затрагивают только чувства, а не разум.
ГЕРМЕС: Как тогда ты объяснишь, что вы, афиняне, постоянно спорите о том, какие качества составляют добродетель, а какие — порок, какие действия правильные, а какие — нет?
СОКРАТ: Что же тут непонятного? Мы расходимся во мнениях потому, что ошибиться легко. Но мы также приходим к согласию по многим таким вопросам. Из этого я делаю вывод: там, где до сих пор у нас не получалось сойтись во взглядах, это не потому, что нас что-то активно вводит в заблуждение, а просто потому, что о некоторых вопросах трудно рассуждать: в геометрии тоже есть много истин, которых не знал даже Пифагор, но будущие геометры могут открыть. Как писал тот другой «мудрый смертный» Ксенофан:
Боги отнюдь не открыли смертным всего изначально,
Но постепенно, ища, лучшее изобретают[67].
Вот что мы, афиняне, сделали по отношению к нравственному знанию. Путём поиска мы выучили простые вещи и пришли к согласию в них. А в будущем теми же средствами, а именно отказываясь огораживать любые свои идеи от критики, мы, возможно, узнаем и более сложное.
ГЕРМЕС: В твоих словах много истины. Давай пройдём немного дальше: если так сложно систематически заблуждаться по поводу нравственных вопросов, то как так получилось, что в некоторых из них спартанцы расходятся с вами, в тех, с которыми практически все афиняне согласны, в тех, которые ты только что назвал простыми?
СОКРАТ: Потому что спартанцы в раннем детстве узнают много ошибочных убеждений и ценностей.
ГЕРМЕС: А в каком возрасте афиняне начинают получать своё безупречное образование?
СОКРАТ: И снова ты поймал меня на ошибке. Да, безусловно, и мы прививаем свои ценности с младых лет, и сюда должно включить не только нашу глубокую мудрость, но и самые серьёзные заблуждения. Однако наши ценности включают в себя открытость предложениям, терпимость к разногласиям, критику как разногласий, так и общепринятых мнений. Таким образом, как я полагаю, разница между нами и спартанцами на самом деле в том, что согласно своим нравственным устоям они должны оберегать самые свои важные представления от критики. Не должны быть открытым предложениям. Не должны критиковать конкретные идеи, такие как свои традиции или понимание богов; не должны искать истину, ведь они утверждают, что уже знают её. А значит, они не верят, что «со временем могут научиться чему-то лучшему».
И среди них есть согласие, потому что их законы и обычаи принуждают к послушанию. Мы же соглашаемся между собой (до той степени, до которой соглашаемся), потому что благодаря нашей традиции нескончаемых дебатов нам открылось некое подлинное знание. Поскольку для каждого данного предмета есть только одна истина, по мере того как мы открываем представления, более близкие к истине, они становятся ближе друг к другу, и мы ещё больше сходимся во взглядах. Люди, которые сходятся в том, что истинно, сходятся и во взглядах.
ГЕРМЕС: И это верно.
СОКРАТ: Более того, поскольку спартанцы не стремятся к совершенствованию, неудивительно, что они его не находят. Мы же, наоборот, всегда к нему стремились, путём постоянной критики и дебатов, пытаясь исправлять свои представления и поведение. И таким образом оказались в хорошем положении, позволяющем приумножать наши знания в будущем.
ГЕРМЕС: Тогда получается, что спартанцы не правы, когда учат своих детей оберегать представления, законы и обычаи своего города от критики.
СОКРАТ: Я думал, ты не собираешься раскрывать нравственные истины!
ГЕРМЕС: Что я могу поделать, если это логическое следствие эпистемологии. И к тому же эту истину ты уже знаешь.
СОКРАТ: Да. И я понимаю, к чему ты клонишь. Ты показываешь мне, что и в отношении нравственного знания бывают миражи и фокусы. Некоторые из них встроены в нравственный выбор, который традиционно делают спартанцы. Ведь уже то, как они живут, вводит их в заблуждение, заманивает в ловушку, потому что одно из их ошибочных убеждений заключается в том, что они не должны предпринимать никаких шагов, чтобы помешать этому!
ГЕРМЕС: Именно так.
СОКРАТ: Есть ли в нашем образе жизни такие ловушки? [Хмурит брови.] Конечно, я думаю, что нет. Но разве я мог бы думать иначе? Как писал всё тот же Ксенофан, слишком легко счесть универсальной истиной её местные проявления:
Эфиопы… [представляют своих богов] чёрными и с приплюснутыми носами, Фракийцы — рыжими и голубоглазыми… Если бы руки имели быки или <кони,> Чтобы рисовать руками, творить изваянья, как люди, Кони б тогда на коней, а быки на быков бы похожих Образы рисовали богов и тела их ваяли, Точно такими, каков у каждого собственный облик[68].ГЕРМЕС: Теперь ты представляешь себе некоего Сократа Спартанского, который считает, что у них сплошная добродетель, а у вас — упадок…
СОКРАТ: И который считает, что мы загнали себя в ловушку, поскольку никогда по своей воле не примем, чтобы «исправиться», спартанский образ жизни. Да.
ГЕРМЕС: Но заботит ли этого Сократа Спартанского, если он существует, что афинский Сократ может быть прав, а он нет? Был ли у спартанцев Ксенофан, который предположил, что боги могут не быть такими, как думают о них греки?
СОКРАТ: Наверняка нет!
ГЕРМЕС: И поскольку их «образ жизни» включает в себя сохранение образа жизни неизменным, то если бы он был прав, а ты нет…
СОКРАТ: То спартанцы должны быть всё время правы, начиная с того момента, как они стали вести свой теперешний образ жизни. Наверно, в самом начале боги раскрыли им идеальный образ жизни. Твоих рук дело?
ГЕРМЕС вскидывает брови.
СОКРАТ: Ну, конечно, нет. Теперь я вижу, что разница между нашим образом жизни и их — не только в ракурсе и не только в степени[69]. Скажу иначе.
Если Сократ Спартанский прав в том, что Афины находятся в плену ложных заключений, а Спарта нет, то Спарта, раз она не меняется, уже должна быть идеальной, а значит, правой относительно всего прочего тоже. Но на самом деле они практически ничего не знают. Одного они явно не знают, а именно: как убедить в идеальности Спарты другие города, даже те, в которых есть практика выслушивания аргументов и критики…
ГЕРМЕС: Что ж, логически вполне возможно, что «идеальный образ жизни» предполагает мало достижений и наличие заблуждений по большинству вопросов. Но ты приоткрыл важный момент…
СОКРАТ: А если я прав, что Афины не находятся в этом плену, то из этого никак не следует, правы мы или ошибаемся по любым другим вопросам. Действительно, сама наша идея о возможности совершенствования предполагает, что в текущих наших представлениях должны быть ошибки и несоответствия.
Благодарю тебя, великодушный Аполлон, за то, что приоткрыл мне эту важную разницу.
ГЕРМЕС: Однако это ещё не всё. Имей в виду, что и спартанцы, и афиняне — всего лишь люди и им свойственно ошибаться, а всё мышление их подвержено заблуждениям и ошибкам…
СОКРАТ: Постой! Всё наше мышление подвержено ошибкам? Что же, нет буквально ни одной идеи, которую можно надёжно оградить от критики?
ГЕРМЕС: Например?
СОКРАТ [задумывается ненадолго, затем отвечает]: Истины арифметики, например, два плюс два равно четырём? Или то, что Дельфы существуют? Или факт из геометрии, что углы треугольника в сумме дают два прямых?
ГЕРМЕС: Не раскрывая фактов, я не могу подтвердить даже то, что все эти три утверждения истинны! Но важнее вот что: почему ты решил именно их освободить от критики? Почему Дельфы, а не Афины? Почему два плюс два, а не три плюс четыре? Почему не теорема Пифагора? Ты так решил, потому что из всех утверждений, которые ты рассматривал, они лучше всего передадут твою мысль, потому что они наиболее очевидны, однозначно истинны?
СОКРАТ: Да.
ГЕРМЕС: А тогда как ты определял, насколько очевидно и однозначно верно каждое из выбранных тобой утверждений по сравнению с другими? Разве ты не критиковал их? Разве не попытался быстро продумать, как или почему они могли бы оказаться ложными?
СОКРАТ: Я всё это проделал. Я понимаю тебя. Если бы я оградил их от критики, я бы никак не смог прийти к такому выводу.
ГЕРМЕС: Получается, что ты радикальный фаллибилист, хотя и ошибочно считаешь, что нет.
СОКРАТ: Я просто поставил это под сомнение.
ГЕРМЕС: Ты поставил под сомнение и критиковал сам фаллибилизм, как раз в духе истинного фаллибилиста.
СОКРАТ: Да, это так. Более того, если бы я не критиковал его, я бы не смог понять, почему он верен. Сомнение укрепило моё знание важной истины — ведь знание, ограждённое от критики, не может совершенствоваться!
ГЕРМЕС: И это тоже ты уже знал. Ведь именно поэтому ты всегда всех призываешь к критике даже того, что кажется тебе наиболее очевидным…
СОКРАТ: И поэтому я стал для них примером!
ГЕРМЕС: Вероятно. Теперь посмотри: что случилось бы, если бы склонные ошибаться афинские избиратели ошиблись и приняли весьма немудрый и несправедливый закон…
СОКРАТ: Что они, увы, часто делают…
ГЕРМЕС: Представь себе частный случай, в рамках нашей беседы. Предположим, что избирателей каким-то образом удалось убедить в том, что воровство — высшая благодетель, которая несёт в себе много пользы с практической точки зрения, и что нужно отменить все законы, запрещающие его. Что тогда будет?
СОКРАТ: Все начнут воровать. И очень быстро те, кто преуспеет в этом (и в жизни среди воров) лучше других, станут самыми состоятельными. Но большинство людей (даже большинство воров) больше не смогут чувствовать себя в безопасности у себя дома и не только, и все земледельцы, ремесленники, торговцы вскоре поймут, что невозможно и дальше производить то, что всё равно могут украсть. За этим последуют беды и голод, а обещанной пользы не будет, и все они поймут, что ошибались.
ГЕРМЕС: Поймут ли? Позволь ещё раз напомнить тебе, Сократ, о том, что человеку свойственно ошибаться. С учётом того, что их твёрдо убедили в пользе воровства, не подумают ли они прежде всего, что воровства просто недостаточно много? Не примут ли они законы, которые будут ещё больше поощрять его?
СОКРАТ: Увы, поначалу, да. Но независимо от того, насколько твёрды были их убеждения, эти неудачи станут для них проблемами, которые они захотят решить. Несколько человек начнут в итоге подозревать, что увеличением воровства проблему, может, и не решить. Они задумаются. В пользе воровства их убедило какое-то объяснение. И теперь они будут пытаться объяснить, почему предполагаемое решение не действует. В конце концов они найдут объяснение, которое будет казаться разумнее. И постепенно убедят в этом остальных, и так далее, пока большинство опять не станет выступать против воровства.
ГЕРМЕС: Ага! Так спасение придёт через убеждение.
СОКРАТ: Да, пожалуй. Через мышление, объяснение и убеждение. И теперь, с помощью новых объяснений[70], они лучше разберутся в том, почему воровство вредно.
ГЕРМЕС: Кстати, эта маленькая выдуманная нами история как раз отражает то, какими мне видятся Афины.
СОКРАТ [немного обиженно]: Так ты, должно быть, смеёшься над нами!
ГЕРМЕС: Вовсе нет, афинянин. Я же сказал, что уважаю вас. А теперь давай посмотрим, что было бы, если бы вместо легализации воровства они ошиблись и запретили дебаты, а также философию, политику, выборы и всю эту деятельность и стали считать её позорной.
СОКРАТ: Понимаю. Это было бы равносильно запрету убеждать. А значит, тот путь к спасению, который мы обсудили, оказался бы отрезан. Это редкая и фатальная ошибка: она не оставляет возможности для отступления.
ГЕРМЕС: Или по крайней мере чрезвычайно усложняет спасение, да. Такой в моих глазах и выглядит Спарта.
СОКРАТ: Понимаю. И в моих тоже, теперь, когда ты указал мне на это. В прошлом я часто задумывался над многочисленными различиями наших двух городов, ибо я должен признаться, что было и есть много чего, что в спартанцах меня восхищает. Но до сих пор я не осознавал, что все эти различия поверхностны. За их очевидными добродетелями и пороками, даже за самим фактом, что они злейшие враги Афин, скрывается то, что Спарта является жертвой — и слугой — коренного зла. Это весомое откровение, благородный Аполлон, лучше, чем тысяча заявлений оракула. Как мне благодарить тебя?
ГЕРМЕС кивает в знак признательности.
СОКРАТ: Я также понимаю, почему ты постоянно намекаешь мне, что человеку свойственно ошибаться. Раз уж ты упомянул, что некоторые нравственные истины логически следуют из эпистемологических соображений, мне теперь интересно, верно ли это для всех. Может ли быть так, что моральный императив, заключающийся в неразрушении средств исправления ошибок, — единственный такой императив? И что все остальные нравственные истины из него следуют?
ГЕРМЕС молчит.
СОКРАТ: Как тебе будет угодно. Теперь, касательно Афин и того, что ты говорил об эпистемологии: если наши шансы на открытие новых знаний настолько высоки, почему ты подчёркивал ненадёжность чувств?
ГЕРМЕС: Я поправлял твоё описание поиска знаний как стремления «видеть дальше того, что увидеть просто».
СОКРАТ: Я говорил метафорически: «видеть» в смысле «понимать».
ГЕРМЕС: Да. Но тем не менее ты признал, что то, как ты думал, проще всего увидеть в буквальном смысле, на самом деле увидеть совсем непросто, ничего не зная об этом заранее. На самом деле ничто нельзя легко увидеть без предварительных знаний. Всё знание в мире даётся нелегко. Более того…
СОКРАТ: Более того, отсюда следует, что мы не получаем знания из того, что видим. Оно не попадает в нас через органы чувств.
ГЕРМЕС: Точно.
СОКРАТ: Однако ты говоришь, что объективное знание достижимо. А если оно не даётся нам через чувства, то откуда оно берётся?
ГЕРМЕС: А если я сказал бы тебе, что всё знание происходит от способности убеждать.
СОКРАТ: Опять убеждение! Что ж, тогда я ответил бы, при всём моём уважении, что это не имеет смысла. Кто бы и в чём бы меня ни убеждал, сначала он должен открыть это для себя, так что в таком случае следует спросить, откуда взялось его знание…
ГЕРМЕС: Совершенно верно, если не…
СОКРАТ: И в любом случае, когда я что-то узнаю путём убеждения, это на самом деле приходит ко мне через чувства.
ГЕРМЕС: Нет, ты ошибаешься. Тебе это только кажется.
СОКРАТ: Как так?
ГЕРМЕС: Ты же сейчас от меня что-то узнаёшь, да? И ты получаешь это знание через органы чувств?
СОКРАТ: Да, конечно. Или нет, не через чувства. Но это только потому, что ты, сверхъестественное существо, обходишь мои чувства и посылаешь мне знания во сне.
ГЕРМЕС: Разве?
СОКРАТ: Мне казалось, ты здесь не для того, чтобы испытывать на мне приёмы ведения дискуссии! Ты что, отрицаешь своё собственное существование? Когда так поступают софисты, я обычно признаю их слова и перестаю с ними спорить.
ГЕРМЕС: Что вновь свидетельствует о твоей мудрости, Сократ. Но нет, я не отрицаю своё существование. Я только спросил, не всё ли равно, реален я или нет. Повлияло бы это на твоё мнение о чём-либо из того, что ты узнал об эпистемологии из нашего разговора?
СОКРАТ: Наверно, нет…
ГЕРМЕС: Наверно, нет? Да ты что, Сократ, ты же сам хвастался, что ты и твои сограждане всегда открыты убеждению.
СОКРАТ: Да, я понимаю тебя.
ГЕРМЕС: Хорошо, а если я лишь результат игры твоего воображения, то кто тогда убедил тебя?
СОКРАТ: Наверно, я сам, если только этот сон не происходит из какого-то другого источника — не от тебя, и не от меня…
ГЕРМЕС: Но разве ты не говорил, что открыт для убеждения кем бы то ни было? Не всё ли равно, что сны приходят неизвестно откуда? Если они убедительны, то не должен ли ты считать своим долгом, как афинянин, принять их?
СОКРАТ: Похоже, что да. А что если сон исходил бы из злого источника?
ГЕРМЕС: Это тоже не вносит никакой принципиальной разницы. Допустим, источник хочет донести до тебя какой-то факт. Тогда, если ты подозреваешь, что источник злой, ты попытаешься понять, чего он добивается, рассказывая тебе сомнительный факт. Но потом, в зависимости от твоего объяснения, ты вполне можешь взять и всё-таки поверить ему…
СОКРАТ: Понимаю. Если, например, враг объявит, что хочет убить меня, я вполне могу ему поверить при всей его недоброжелательности.
ГЕРМЕС: Да. А можешь и не поверить. А если твой самый близкий друг захочет тебе что-то сказать, ты точно так же можешь подумать, а не обманывает ли его кто-то третий, недоброжелатель, или не ошибается ли он по одной из бесчисленных причин. Таким образом, легко может случиться так, что ты поверишь не своему близкому другу, а злейшему врагу. Что важно, во всех этих случаях ты как-то объяснишь для себя в голове, эти факты, наблюдения и советы.
Но у нас всё проще. Как я уже сказал, я не раскрываю фактов. Я только привожу аргументы.
СОКРАТ: Понимаю. Если аргумент сам по себе убедителен, то доверять источнику мне необязательно. Но любой источник будет бесполезен, если у меня нет также убедительного аргумента.
Постой-ка, меня только что осенило. Ты «не раскрываешь фактов». Но бог Аполлон-то их раскрывает, сотнями каждый день, через оракула. Ага, всё ясно! Ты не Аполлон, ты другой бог.
ГЕРМЕС молчит.
СОКРАТ: Очевидно, ты бог знаний… но знаниями интересуются несколько богов. Даже сама Афина, но ты явно не она, я знаю.
ГЕРМЕС: Нет, не знаешь.
СОКРАТ: Отчего же. Твой внешний вид тут ни при чём. Такой вывод я могу сделать из того, как ты отзываешься об Афинах. Я думаю, ты — Гермес. Бог знаний, посланий, потока информации…
ГЕРМЕС: Что ж, неплохо. А почему ты считаешь, что Аполлон через оракула раскрывает факты?
СОКРАТ: А!
ГЕРМЕС: Мы договорились, что под «раскрывать» имеется в виду сообщать просителю что-то, чего он ещё не знает…
СОКРАТ: Его ответы, что, все подряд шутки и проказы?
ГЕРМЕС молчит.
СОКРАТ: Как тебе будет угодно, проворный Гермес. Тогда позволь, я попытаюсь понять твой аргумент касательно знаний. Я спросил, откуда берётся знание, а ты перевёл моё внимание на этот самый сон. Ты спросил, изменится ли мой взгляд на знание, которое я получаю от тебя, если в итоге выяснится, что оно не имеет сверхъестественной поддержки. И мне пришлось согласиться, что нет, не изменится. Таким образом, я должен сделать вывод, что… все знания происходят из того же источника, что и сны? И он находится внутри нас?
ГЕРМЕС: Да, из того же источника. Помнишь, что писал Ксенофан сразу после того, как сказал, что объективное знание человеком достижимо?
СОКРАТ: Да. Дальше было:
Истины точно никто не узрел и никто не узнает Из людей о богах и о всём, что я только толкую: Если кому и удастся вполне сказать то, что сбылось, Сам всё равно не знает, во всём лишь догадка бывает[71].То есть он говорит, что объективное знание достижимо, а вот обоснованное убеждение («безусловная истина») — нет.
ГЕРМЕС: Да, мы всё это обсудили. Но нужный тебе ответ — в последней строке.
СОКРАТ: «…Во всём лишь догадка бывает». Догадки!
ГЕРМЕС: Да, гипотезы.
СОКРАТ: Но постой! А как же если знание приходит не из догадок, а, например, когда какое-нибудь божество посылает мне его во сне? А если я просто слышу идеи от других людей? Они, может, до них и догадались, но я-то воспринимаю их просто слушая.
ГЕРМЕС: Нет, это не так. Во всех таких случаях тебе всё равно приходится догадываться, чтобы узнать что-то новое.
СОКРАТ: Разве?
ГЕРМЕС: Конечно. Наверняка и тебя часто неправильно понимали, даже те, кто изо всех сил старался понять, да?
СОКРАТ: Да.
ГЕРМЕС: А ты сам разве не часто неправильно понимал, что имеет в виду кто-то другой, даже когда он пытается донести до тебя это с максимальной ясностью?
СОКРАТ: Бывало и такое. И в этой нашей беседе в том числе.
ГЕРМЕС: Это присуще не только философским идеям, но и вообще всем идеям. Помнишь, как вы заблудились по пути сюда с корабля? А почему?
СОКРАТ: Потому что, как мы потом осознали, мы совершенно не так поняли разъяснения капитана, когда тот указывал нам дорогу.
ГЕРМЕС: Так вот, когда вы неправильно поняли, что он имел в виду, хотя внимательно слушали каждое его слово, кто вам это внушил? Уж наверно, не капитан…
СОКРАТ: Понимаю. Должно быть, это шло изнутри нас. Наверно, это была догадка. Хотя до сих пор я никогда даже вскользь не задумывался о том, что строил догадки.
ГЕРМЕС: Так с чего тогда ожидать, что при правильном понимании кого-то происходит что-то другое?
СОКРАТ: Да-да. Когда мы что-то слышим, мы догадываемся о смысле, даже не осознавая этого. Кажется, я начинаю понимать.
За одним исключением: ведь догадка — это ещё не знание!
ГЕРМЕС: Действительно, многие из догадок не открывают ничего нового. Догадки, хоть и дают начало всему знанию, также являются источником ошибок, и поэтому важно, что случается с идеей после того, как до неё догадались.
СОКРАТ: Итак, позволь мне совместить этот вывод с моими познаниями о критике. Догадка может появиться из сна, может быть просто плодом необузданной мысли, случайной комбинацией идей или ещё чем-то. Но мы не принимаем её слепо на веру, потому что думаем, что она «надёжна» или потому что хотим, чтобы она оказалась верной. Вместо этого мы критикуем её и пытаемся найти в ней недостатки.
ГЕРМЕС: Да. Именно это так или иначе и нужно делать.
СОКРАТ: Затем мы пытаемся исправить недостатки, переделывая идею или отбрасывая её в пользу других, и все эти переделки или другие идеи — сами тоже догадки. И их тоже критикуют. И только когда нам не удаётся отвергнуть или усовершенствовать идею, мы условно принимаем её.
ГЕРМЕС: Это метод действенный. Но, к сожалению, люди не всегда выбирают действенные методы.
СОКРАТ: Благодарю тебя, Гермес. Очень увлекательно узнать об этом едином процессе, через который происходит всё знание, будь то указанная капитаном дорога в Дельфы, знание о том, что правильно, а что нет, которое мы тщательно шлифовали годами, теоремы арифметики или геометрии или эпистемология, раскрытая нам божеством…
ГЕРМЕС: Всё происходит изнутри, из гипотез и критики.
СОКРАТ: Постой-ка! Изнутри приходит даже то, что раскрыто божеством?
ГЕРМЕС: И так же подвержено ошибкам, как и всегда. Да. Твоя аргументация покрывает этот случай так же, как и любой другой.
СОКРАТ: Изумительно! А что тогда с предметами, с которыми мы сталкиваемся на этом свете. Мы протягиваем руку и дотрагиваемся до предмета и таким образом ощущаем его присутствие. Это, безусловно, другой тип знания, тип, который подвержен он ошибкам или нет, действительно приходит извне, по крайней мере в том смысле, что наш собственный опыт находится там, где и сам предмет[72].
ГЕРМЕС: Тебе явно понравилась идея о том, что все другие типы знаний имеют точно такое же происхождение и совершенствуются точно так же. Почему «непосредственный» чувственный опыт — исключение? Что если нам просто кажется, что он кардинально отличается от остального?
СОКРАТ: Но теперь ты, конечно, просишь меня поверить в своего рода всеохватывающий фокус, смахивающий на странное представление о том, что вся жизнь — это сон. Ведь это означало бы, что ощущение прикосновения к предмету происходит не там, где мы ощущаем его, то есть в руке, которая прикасается к предмету, а в сознании, как я полагаю, где-то в голове. То есть все мои чувства, связанные с осязанием, находятся у меня в черепе, откуда, пока я жив, ничто не может ни к чему прикоснуться. И всякий раз, когда я думаю, что вижу широкую, ярко освещённую картину, всё, что я на самом деле ощущаю, точно так же расположено целиком в моём черепе, где, вообще говоря, всегда темно!
ГЕРМЕС: Так ли это нелепо? Где, по-твоему, находятся все места и звуки из этого сна?
СОКРАТ: Я соглашусь с тем, что они на самом деле у меня в голове. Но вот моя точка зрения: в большинстве снов рисуются картины, которых просто нет во внешней реальности. Изобразить то, что там есть, безусловно, невозможно без неких входных данных, которые приходят не из головы, а от самих картин.
ГЕРМЕС: Хорошо сказано, Сократ. Но нужны ли эти входные данные в источнике твоего сна или только в непрерывной критике его?
СОКРАТ: Ты имеешь в виду, что мы сначала догадываемся, что там, а потом — что? — мы проверяем догадки по входных данным от органов чувств?
ГЕРМЕС: Да.
СОКРАТ: Понимаю. А затем мы полируем догадки и лучшим из них придаём форму своего рода иллюзии реальности[73].
ГЕРМЕС: Да. Иллюзия, которая соответствует реальности. Но это ещё не всё. Это сон, которым тогда ты сможешь управлять. Управляя соответствующими аспектами внешней реальности.
СОКРАТ [тяжело вздыхает]: Это удивительно единообразная теория и последовательная, насколько я могу судить. Но действительно ли я должен признать, что я сам — думающее существо, которое я называю «Я», — вообще не имею непосредственного знания о физическом мире и могу только получать загадочные намёки о нём через мерцания и тени, которые воздействуют на мои глаза и другие органы чувств? И то, что я воспринимаю как реальность, всегда не больше чем иллюзия, составленная из гипотез, исходящих из меня самого?
ГЕРМЕС: У тебя есть другое объяснение?
СОКРАТ: Нет! И чем больше я над ним размышляю, тем больше оно меня радует. (Этого ощущения мне следует остерегаться! Но вместе с тем оно меня и убеждает.) Всем известно, что человек — венец всего живущего. Но если эпистемология, которую ты до меня доносишь, верна, то мы бесконечно более удивительные создания. И вот мы сидим, навечно заточённые в тёмной, почти закрытой пещере собственного черепа, и строим догадки. Мы плетём истории о мире вокруг нас, на самом деле даже о мирах: физическом мире, нравственном мире, мире абстрактных геометрических форм и так далее, но нам недостаточно этого плетения и этих историй. Нам нужны верные объяснения. И мы ищем такие, которые выдержат проверку теми мерцаниями и тенями, и друг другом, и критериями логики и разума, и всем, что ещё только можно придумать. И когда мы уже не сможем их больше менять, нам откроется некая объективная истина. И, как будто нам этого мало, мы начинаем управлять тем, что понимаем. Это как магия, только действенная. А мы как боги!
ГЕРМЕС: Что ж, иногда можно открыть некую объективную истину и в результате оказать некое влияние. Но зачастую, когда думаешь, что достиг этого, это не так.
СОКРАТ: Да-да. Но постигнув некоторые истины, разве мы не можем строить более удачные догадки и дальше критиковать и проверять их и таким образом понять больше и управлять большим, как говорит Ксенофан?
ГЕРМЕС: Да.
СОКРАТ: Так мы действительно как боги!
ГЕРМЕС: В какой-то степени. И да, отвечая на твой следующий вопрос, ты, если захочешь, действительно можешь стать ещё больше и в большем похож на богов. (Хотя тебе всегда будет свойственно ошибаться.)
СОКРАТ: Кто же от этого откажется? А, я понял: Спарта и им подобные…
ГЕРМЕС: Да. А ещё кто-нибудь возьмёт и скажет, что боги, которые могут ошибаться, — это не очень хорошо…
СОКРАТ: Что ж, но, допустим, мы не откажемся, тогда утверждаешь ли ты, что нет верхней границы тому, сколько мы сможем в итоге понять, скольким управлять и сколького достигнуть?
ГЕРМЕС: Забавно, я знал, что ты спросишь об этом. Через много поколений будет написана книга, в которой будет приведён убедительный…
[В этот момент раздаётся стук в дверь. Сократ оборачивается на звук, а затем вновь смотрит туда, где стоял Гермес, но тот уже исчез.]
ХЕРЕФОНТ [из-за двери]: Прошу прощения, что разбудил тебя, мой друг, но нам говорят, что, если мы не освободим комнаты до того, как рабы придут их убирать, с нас могут взять плату ещё за день.
СОКРАТ [встаёт и рукой приглашает херефонтова раба в комнату, чтобы тот собрал его, Сократа, скромные пожитки]: Наше путешествие всё-таки прошло не зря, Херефонт! Я видел Гермеса.
ХЕРЕФОНТ: Кого?
СОКРАТ: Бога Гермеса. Во сне, а может, и наяву. А может, мне просто приснилось, что я его видел. Но это не важно, потому что, как он сказал, никакой разницы нет.
ХЕРЕФОНТ [озадаченно]: Что? Но как это?
СОКРАТ: Понимаешь, я узнал о целом новом направлении в философии, и не только!
[Подходит группа соратников Сократа. Впереди всех несётся молодой поэт Аристокл, которого друзья называют Платон («широкоплечий») из-за его борцовского телосложения.]
ПЛАТОН: Доброе утро, Сократ! Тысяча благодарностей тебе за то, что разрешил принять участие в этом паломничестве. [Сразу переходит к философии, не дожидаясь ответа.] Прошлым вечером я подумал, а считается ли откровением, если оракул говорит нам то, что мы и так знаем? Мы уже знали, что нет никого мудрее тебя, поэтому я подумал, не вернуться ли нам и не попросить ли права на бесплатный вопрос? Но потом я подумал…
ХЕРЕФОНТ: Аристокл, Сократ ночью…
ПЛАТОН: Нет, не надо! Ничего не говори. Позволь мне сначала сказать, до чего я догадался. Итак, я подумал: да, мы уже знали, что он мудрейший. И что он скромный. Но мы не знали, насколько он скромен. И это-то как раз нам и открыл бог! Что Сократ настолько скромен, что будет возражать даже богу, называющему его мудрым.
СОРАТНИКИ смеются.
ПЛАТОН: И ещё: превосходство Сократа было известно нам, но теперь Аполлон открыл его всему миру.
ХЕРЕФОНТ [шёпотом]: Тогда пусть «весь мир» внесёт свою долю в приношение.
ПЛАТОН: Ну, так что же? Я прав, да?
[СОКРАТ делает вдох и собирается ответить, но ПЛАТОН продолжает.]
И ещё, Сократ, можно я буду называть тебя Учителем?
СОКРАТ: Нет.
ПЛАТОН: Да-да, я понимаю. Прости меня. Я тут пообщался в гимназии с ребятами из Спарты, и вот они постоянно так говорят. «Мой учитель сказал то. Мой учитель сказал сё. Учитель мне запрещает…» и так далее. И я позавидовал им, ведь у меня-то учителя нет, поэтому…
СОРАТНИК 1: Ай-ай-ай, Платон!
ПЛАТОН: Да, но…
ХЕРЕФОНТ [подхватывает]: Ребята из Спарты? Как ты мог, Аристокл! У нас же с ними война.
ПЛАТОН: Но не в Дельфах же. Они бы никогда не нарушили священное перемирие, принятое в оракуле. И вели себя они очень благочестиво. Милые ребята, хотя акцент у них смешной. Мы много говорили о борьбе, ну, в промежутках между собственно борьбой. Не спали всю ночь, боролись при свечах. Такое со мной в первый раз. И у них действительно хорошо получается! Хотя иногда они и жульничают. [Снисходительно улыбается, вспоминая что-то.] Но даже при всём при этом я бы не позволил оскорбить наш город. Я выиграл за Афины несколько схваток, вас должно это порадовать. Было нелегко! Они научили меня паре отличных приёмов. Жду не дождусь, когда смогу испробовать их дома. Вот только почему-то никто из них особо не увлекается поэзией…
СОКРАТ: В Спарте не чтят поэтов. Тех, кто ещё жив, по крайней мере.
ПЛАТОН: А жаль! Я набросал стихотворение в память о нашем состязании. Хотя, если читать между строк, оно скорее о том, почему Афины лучше Спарты. Это математический аргумент… Так или иначе, я только что отправил раба в их лагерь, чтобы он прочитал им его, но если они не чтят поэтов, то, наверно, не оценят. Вы только послушайте…
ХЕРЕФОНТ: Аристокл, ночью к Сократу приходил бог Гермес!
ПЛАТОН: Ого! А почему ты нас не позвал, Сократ? Это же не сравнится ни с какой схваткой со спартанцами!
СОКРАТ: Я не мог никого позвать, потому что это было во сне, вроде того. Я даже не уверен, что это и правда был бог. Но, как он мне сказал, это не важно.
ПЛАТОН: Как не важно? А, наверно, когда всё пройдёт, важно только то, что ты вынес из этого. Так чего же он хотел? Бьюсь об заклад, он хотел переманить тебя от Аполлона. Не делай этого, Сократ! Аполлон гораздо лучше. Не то чтобы с Гермесом что-то не так, но он не оракул. Он не настолько классный…
ХЕРЕФОНТ [возмущённо]: Имей уважение, Аристокл, к Сократу и к богам!
СОКРАТ: Он как раз и выказывает уважение, Херефонт, но по-своему.
ПЛАТОН [озадаченно]: Ну что ты, Херефонт, конечно, я их уважаю. Ты же знаешь, я бы буквально поклонялся Сократу, если бы он позволил. Да и тебя я тоже уважаю, мой друг. Весьма и весьма. Прошу, прости меня, если я тебя обидел: иногда я слишком увлекаюсь, я знаю. [Замолкает ненадолго.] Так о чём же ты спросил Гермеса, Сократ? И что он ответил?
СОКРАТ: Всё было не совсем так. Он пришёл открыть мне новое направление в философии, эпистемологию, знание о знании, из которого можно также сделать выводы в этике и других областях. Многое я уже знал или частично знал по различным частным случаям. Но он дал мне взглянуть на это глазами бога — захватывающая картина. Что интересно, для этого он в основном задавал вопросы мне, приглашал меня задуматься об определённых вещах. Похоже, этот метод действенный. Может, когда-нибудь я его испробую.
ПЛАТОН: Расскажи же нам всё, Сократ! Какой был самый интересный вопрос и что ты на него ответил?
СОКРАТ: Что ж, среди прочего он попросил меня вообразить себе Сократа Спартанского.
ПЛАТОН: Спартанского кого? А, я понял! Наверно его и имел в виду оракул. Ну и хитрец этот Аполлон! То есть самый мудрый в мире Сократ Спартанский, хотя, готов поспорить, он лишь чуточку мудрее тебя! Но, как спартанец, он, наверно, и величайший из воинов. Потрясающе! И ты, Сократ, безусловно, тоже когда-то был великим воином. Но подумать только: Сократ Спартанский! Так мы поедем к нему в Спарту, да? Давайте поедем!
ХЕРЕФОНТ: Аристокл, у нас же война!
СОКРАТ: Не хочу разочаровать тебя, Аристокл, но это было чисто интеллектуальное упражнение. Нет никакого Сократа Спартанского. По правде говоря, я вообще не знаю ни одного спартанского философа. В каком-то смысле об этом по большей части и был весь мой разговор с Гермесом.
ПЛАТОН: Но расскажи же нам ещё что-нибудь.
[Произнося эти слова, Платон взмахивает рукой в сторону своего раба, который, будучи хорошо вышколенным, тут же бросает ему навощённую дощечку из стопки, которую носит с собой. Платон ловит её одной рукой и вытаскивает палочку для письма.]
СОКРАТ: В какой-то момент Гермес раскрыл мне принципиальное различие между афинским и спартанским образом жизни. И заключается оно в том…
ПЛАТОН: Постой! Давайте попробуем догадаться! Это так увлекательно.
Я начну, потому что об этом как раз в основном и было моё стихотворение. Так вот, со спартанцами всё просто: Спарта гордится своими войнами. В ней ценятся все соответствующие качества, такие как мужество, выносливость и так далее.
[Остальные соратники Сократа шёпотом выражают согласие.]
А мы же, мы ценим всё, ведь правда же! Всё хорошее, то есть.
СОРАТНИК 1: Всё хорошее? Круг как будто замкнулся, Платон… или ты собираешься определить «хорошее» не через то, «что мы, афиняне, ценим»? Я бы предложил более изящное противопоставление: воевать или иметь то, за что стоит воевать.
СОРАТНИК 2: Неплохо. Но это, по сути, «война против философии», не так ли?
ПЛАТОН [как бы обиженно]: И поэзии.
СОРАТНИК 3: А может, дело в том, что Афины, чьей покровительницей является богиня, представляют в мире творческий дух, а Спарта благоволит Аресу, богу войны, жаждущему крови и бойни, которого Афина победила и заставила преклонить голову…
ПЛАТОН: Нет-нет, на самом деле они не так уж и почитают Ареса. Скорее Артемиду. И, что довольно странно, также уважают и Афину. Вы знали об этом?
ХЕРЕФОНТ: Как афинянин, который старше вас всех и который видел много войн, позвольте мне сказать: мне кажется, Афины, несмотря на все их славные военные достижения, вполне удовлетворились бы спокойной жизнью, дружбой со всеми греками и со спартанцами, в частности. Но, к сожалению, спартанцев хлебом не корми, дай только подосаждать нам. Хотя, должен признать, в этом отношении они не особо отличаются от других. В том числе и от наших союзников!
СОКРАТ: Всё это очень интересные гипотезы, и все они, я полагаю, отражают аспекты различия между двумя городами. Но всё же, мне кажется, и, безусловно, я могу ошибаться…
ПЛАТОН: Сократ Спартанский не был бы скромен. Не в этом ли разница?
СОКРАТ: Нет. (И, кстати, если уж на то пошло, я считаю, что он был бы.)
Мне кажется, что все мы ошибаемся по поводу Спарты. Возможно ли такое, что спартанцы вообще не ищут войны, как таковой? По крайней мере не с того момента, как они завоевали своих соседей столетия назад и превратили их в илотов. Вероятно, с тех пор у них появился совершенно другой интерес, важнее всего остального; и вероятно, воюют они, только когда этому интересу что-то угрожает.
СОРАТНИК 2: И что же это за интерес? Угнетать илотов?
СОКРАТ: Нет, это было бы лишь средством, а не целью. Думаю, бог открыл мне, в чём их главенствующий интерес. А ещё он сказал мне, какой интерес у нас, хотя, увы, мы также воюем и из-за многого другого, в чём часто раскаиваемся.
Так вот, эти два главенствующих интереса следующие: мы, афиняне, больше всего озабочены совершенствованием; спартанцы же стремятся только к стабильности. Две противоположные цели. Если вы вдумаетесь, то, я полагаю, вскоре согласитесь с тем, что это единственный источник всего бессчётного множества различий между нашими двумя городами.
ПЛАТОН: Я никогда раньше в таком ключе об этом не думал, но, наверно, соглашусь. Позволь опробовать эту теорию. Вот одно из различий: в Спарте нет философов. А всё потому, что задача философа — пытаться лучше разобраться в чём бы то ни было, а это своего рода перемены, и спартанцам это не нужно. Ещё различие: они не чтят живущих поэтов, только тех, кто умер. Почему? А потому, что мёртвые больше не пишут, в отличие от живых. Третье различие: их система образования безумно сурова, а наша известна своей вольготностью. Почему? А потому, что они не хотят, чтобы у их детей возникали какие-либо сомнения, чтобы они даже не думали что-то менять. Ну как?
СОКРАТ: Ты схватываешь на лету, как всегда, Аристокл. Однако…
ХЕРЕФОНТ: Мне кажется, Сократ, я знаю достаточно афинян, которые не стремятся к совершенству! У нас много политиков, которые считают, что идеальны. И много софистов, полагающих, что они всё знают.
СОКРАТ: Но что конкретно, по мнению этих политиков, идеально? Их собственные грандиозные планы о том, как усовершенствовать город. Аналогично, каждый софист полагает, что все должны принять его идеи, которые в его глазах являются усовершенствованием всего, во что верили прежде. Законы и обычаи Афин установлены с тем, чтобы вместить всё множество этих соперничающих представлений о совершенстве (наряду с более скромными предложениями по совершенствованию), подвергнуть их критике, отделить от них несколько возможных мельчайших зёрен истины и проверить те, которые кажутся наиболее перспективными. Таким образом, это бессчётное множество отдельных людей, которые не могут представить никакого совершенствования для себя, тем не менее складывается в город, который неустанно, день и ночь, для себя не ищет ничего, кроме этого.
ХЕРЕФОНТ: Да, понятно.
СОКРАТ: В Спарте нет таких политиков и таких софистов. И таких критиканов, как я, потому что любой спартанец, который засомневался бы в том, как всё у них устроено, или не одобрил бы это, держал бы это при себе. Те немногие новые идеи, которые у них есть, предназначены для укрепления города в его текущем состоянии. А что касается войны, я знаю, что есть спартанцы, которые ею бредят и хотели бы завоевать и поработить весь мир так же, как однажды они вознамерились подчинить себе своих соседей. Однако институты их города и глубокие условности, укоренившиеся даже в горячих головах, заключают в себе интуитивный страх перед любым таким шагом в неизвестное. Возможно, символично, что стоящая за стенами Спарты статуя Ареса изображает его в цепях, так что он всегда будет стоять там на защите города. Не то же ли это самое, что не давать богу жестокости нарушать установленный порядок? Не давать ему обрушиться на мир и устроить там хаос, грозящий переменами?
ХЕРЕФОНТ: Да, возможно. Так или иначе, теперь я понимаю, Сократ, как у города могут быть «главенствующие интересы», которые не разделяют все горожане. Однако я пока не понимаю, как твоя теория объясняет вражду между нашими городами. Прежде всего я не могу припомнить, чтобы спартанцы когда-нибудь возражали против нашего пристрастия к совершенствованию себя. Наоборот, они всячески выражают недовольство тем, как мы якобы нарушаем договоры, настраиваем их союзников против них, замышляем создание империи на материке и так далее. И, во-вторых, не то что бы я хотел критиковать бога… Конечно, нет!..
СОКРАТ: В критике богов нет ничего нечестивого, Херефонт, это даже разумно. Если уж на то пошло, Гермес и сам так считает…
ПЛАТОН пишет: «В критике богов нет ничего нечестивого».
ХЕРЕФОНТ: Что ж, даже если Гермес прав насчёт этих двух «главенствующих интересов», заключающихся в застое и совершенствовании, то каждый город свой интерес держит при себе. У них нет желания возложить его на кого бы то ни было ещё. Таким образом, пусть Афины и выбирают движение вперёд, а Спарта решает стоять на месте, пусть эти предпочтения могут быть логически «противоположны», но как они могут быть источником вражды?
СОКРАТ: Я думаю так. Само существование Афин, каким бы мирным оно ни было, представляет для застоя Спарты смертельную угрозу. А значит, в конечном счёте условие постоянной стабильности в Спарте (то есть её постоянного существования, каким они его видят) — это уничтожение прогресса в Афинах (что, с нашей точки зрения, приведёт к разрушению Афин).
ХЕРЕФОНТ: Я всё равно не понимаю, в чём конкретно состоит угроза.
СОКРАТ: Что ж, допустим, в будущем оба города должны продолжить процветать вместе со своими главенствующими интересами. Спартанцы останутся в том же положении, что и сейчас. Но нам-то, афинянам, из-за нашего благосостояния и различных достижений уже завидуют другие греки. Что случится, если мы будем развиваться и дальше и начнём затмевать всех и во всём в мире? Спартанцы редко путешествуют, редко пересекаются с чужестранцами, но они не могут оставаться в полном неведении относительно достижений, которые случаются где-то ещё. Даже военные походы дают им какое-то представление о том, как живут в других городах, более богатых и свободных, чем Спарта. Однажды какие-нибудь спартанские юнцы приедут в Дельфы и обнаружат, что «приёмы» и навыки в борьбе лучше не у них, а у афинян. А что если через одно или два поколения афинские воины научатся и более удачным «приёмам» ведения боя?
ПЛАТОН: Но даже если и так, Сократ, спартанцы-то об этом не знают! Так почему им бояться этого?
СОКРАТ: Для этого не нужно обладать даром предвидения. Не думаешь ли ты, что спартанский гонец, добравшись до Афин, не замрёт от восторга, как все остальные, при виде того, что стоит у нас на Акрополе[74]? И сколько бы он ни ворчал (возможно, справедливо) по поводу нашего высокомерия и безответственности, думаешь, на обратном пути он не будет размышлять о том, что никто никогда не сможет и не будет подобным образом восхищаться своим городом? Не думаешь ли ты, что в этот самый момент спартанских старейшин не волнует растущая слава демократии во многих городах, включая некоторые союзные?
Кстати, нам самим следует относиться к демократии с не меньшей осторожностью, чем, я думаю, спартанцы относятся к жажде крови и ярости в бою, ибо, по сути, она не менее опасна. Наша демократия нужна нам так же сильно, как спартанцам их военная подготовка. И так же, как они обуздывали разрушительную силу жажды крови через традиции дисциплины и осмотрительности, мы обуздывали разрушительную силу демократии через традиции добродетели, терпимости и свободы. Без этих традиций нам не удержать нашего дикого зверя, не удержать его подле себя, а спартанцы без своих традиций не смогут помешать своему зверю поглотить их вместе со всеми, кто попадётся ему на пути. Мы с тем же успехом могли бы поставить статую демократии на цепи как символ всенепременного защитника нашего города.
ПЛАТОН пишет: «Демократия — дикий зверь, его нужно держать на цепи».
СОКРАТ: Спартанцы — и многие другие, кто нас не понимает, — должны также каждый день спрашивать себя: а как же мы, афиняне, сможем выстоять против них в том единственном в мире деле, в котором они лучшие, а именно в ведении войны. И это несмотря на одновременное с этим наше более чем когда-либо сильное превосходство в философии, поэзии, драме, математике, архитектуре и всех тех областях человеческой деятельности, на которые спартанцы редко, если вообще, обращают внимание.
ПЛАТОН пишет: «Спартанцы — лучшие в военном деле, а в остальном — полные профаны».
СОКРАТ: Им не нужно знать обоснования, когда они видят факт. Но обоснование в том, что мы можем совершенствоваться, потому что постоянно стремимся к этому; они же едва ли что-то улучшают в своей жизни, потому что стараются этого не делать! И это ахиллесова пята Спарты.
ПЛАТОН пишет: «Ахиллесова пята спартанцев в том, что они ничего не совершенствуют».
То есть им не хватает только философов. С философами они будут непобедимы!
СОКРАТ [посмеиваясь]: В некотором роде, да, Аристокл, Но…
ПЛАТОН пишет: «Сократ говорит, что, будь в Спарте философы, она была бы непобедима».
ХЕРЕФОНТ [взволнованно]: Тогда может нам не следует обсуждать всё это на постоялом дворе? Вдруг кто-нибудь подслушает и расскажет им?
ПЛАТОН пишет: «Себе на заметку: не рассказывать ничего спартанцам!»
СОКРАТ: Не волнуйся, друг мой. Если бы спартанцы в принципе были способны дойти до этого «тайного» знания, они бы давно уже воплотили его в жизнь и войны между нашими городами не было бы. Если бы какой-нибудь отдельно взятый спартанец попытался выступить за новые философские идеи, его вскоре обвинили бы в ереси или ещё каких преступлениях.
ПЛАТОН: Если только…
СОКРАТ: Если только что?
ПЛАТОН: Если только тот, кто возьмётся за философию, не окажется царём.
СОКРАТ: Ты мог бы и сам отыскать логическую дыру, Аристокл. Теоретически ты прав, но в Спарте даже царям не дозволено проводить какие-либо существенные перемены. Если бы такой смельчак и нашёлся, эфоры свергли бы его.
ПЛАТОН: Что ж, у них два царя[75], пять эфоров и двадцать восемь сенаторов. Рассуждая математически, получим, что если бы философией занялись всего пятнадцать сенаторов, три эфора и один царь…
СОКРАТ [смеётся]: Ладно, Аристокл, сдаюсь. Если бы правители Спарты переняли нашу философскую манеру, а затем серьёзно вознамерились бы взяться за критику и реформирование своих традиций…
ПЛАТОН [немного растерян, пишет: «Теорема. Царь-философ — то же самое, что философ-царь. Что будет, если философ станет царём?»]: Или, может, скорее к власти пришёл бы один благожелательный царь…
СОКРАТ: Как бы то ни было, если им удалось бы провести такие реформы, то их город и правда мог бы стать поистине великим. Но об этом даже мечтать не стоит.
ПЛАТОН пишет: «Сократ говорит, что город с царём-философом был бы поистине великим»]: Нет, я и не мечтаю. Но, а вообще, как учить царей философии, Сократ? [Пишет: «Заключается ли роль философов в том, чтобы обучать царей?»]
СОКРАТ: Не уверен, что философия — первое, чему следует учить правителя. Нужно, чтобы было, о чём философствовать. Он должен знать историю, литературу, арифметику и, возможно, прежде всего он должен быть знаком с глубочайшим из наших знаний, а именно геометрией.
ПЛАТОН пишет: «Несведущему в геометрии входа нет!»
ХЕРЕФОНТ: А я сужу о городе по тому, как в нём относятся к своим философам.
СОКРАТ [с улыбкой]: Отличный критерий, Херефонт, я с ним даже спорить не буду! Кстати, Аристокл, я вовсе не скромен. И чтобы доказать это, я скажу, что Гермес убедил меня, что я на самом деле мудр, по крайней мере в одном отношении, которое он особенно ценит, а именно в том, что мне известно, что обоснованное убеждение невозможно, равно как бесполезно и нежелательно.
ПЛАТОН [пишет: «Сократ — мудрейший человек в мире, потому что только он знает, что ничего не знает, ведь настоящее знание невозможно!»]: Постой! Обоснованное убеждение невозможно? Точно? Ты уверен?
СОКРАТ [громко смеётся, остальные же озадаченно наблюдают за ним]: Извини, Аристокл, но в твоём вопросе что-то не так.
ПЛАТОН: А, я понял! [Грустно улыбается, как и остальные, когда понимают, что Платон только что попросил обоснования убеждения, состоящего в том, что обосновать убеждения нельзя.]
СОКРАТ: Нет, я ни в чём не уверен. И никогда не был. Но Гермес объяснил мне, почему так и должно быть, начиная с того, что человеку свойственно ошибаться и что чувственный опыт ненадёжен.
ПЛАТОН пишет: «Лишь знание о материальном мире невозможно, бесполезно и нежелательно».
СОКРАТ: Он познакомил меня с замечательной точкой зрения на то, как мы воспринимаем мир. Каждый твой глаз — как маленькая тёмная пещера, на одну из задних стен которой извне падают редкие тени. Всю свою жизнь ты сидишь в дальнем углу пещеры и тебе видна только задняя её стена, поэтому видеть реальность напрямую ты не можешь.
ПЛАТОН пишет: «Мы как будто скованные цепями узники, сидящие в пещере, и нам разрешено смотреть только на её заднюю стену. Мы никогда не узнаем, что там снаружи, потому что видим только быстро мелькающие, искажённые тени».
[Примечание. Сократ немного улучшает воспринятое от Гермеса, а Платон всё более превратно толкует слова Сократа.]
СОКРАТ: Затем он продолжил и объяснил, что объективное знание действительно возможно: оно происходит изнутри! Сначала появляется предположение, которое затем исправляется повторяющимися циклами критики, включая сравнение со свидетельствами на нашей «стене».
ПЛАТОН пишет: «Единственное истинное знание — то, что происходит изнутри. (Как? Путём воспоминаний из прошлой жизни?)»
СОКРАТ: Таким образом, мы, слабые люди, которым свойственно ошибаться, можем узнать объективную реальность, при условии, что пользуемся философски обоснованными методами, которые я описал (и которыми большинство людей не пользуются).
ПЛАТОН пишет: «Мы можем познать истинный мир за гранью иллюзорного мира ощущений. Но только через величественное искусство философии».
ХЕРЕФОНТ: Сократ, я думаю, с тобой действительно говорил бог, ибо у меня сложилось сильное впечатление, что сегодня благодаря тебе я мельком увидел божественную истину. Мне потребуется немало времени, чтобы перестроить свои представления с учётом этой новой эпистемологии, которую он тебе открыл. По-видимому, это чрезвычайно перспективный и важный предмет.
СОКРАТ: Да, действительно. Мне и самому нужно перестроить свои представления.
ПЛАТОН: Сократ, тебе не помешало бы всё это записать, вместе со всеми твоими остальными мудрыми мыслями, на благо всего мира и потомков.
СОКРАТ: В этом нет нужды, Аристокл. Потомки здесь, они слушают. Вы все потомки, друзья мои. Зачем записывать то, что ещё будут бесконечно подправлять и совершенствовать? Вместо того чтобы навсегда запечатлеть все мои заблуждения в том виде, в котором они существуют на определённый момент, я лучше предложу их другим в ходе двусторонних дебатов. Всё ценное в этих дебатах выживет и будет передано дальше без моего участия. А всё, что ценности не представляет, лишь выставит меня дураком в глазах грядущих поколений.
ПЛАТОН: Как скажешь, учитель.
Поскольку Сократ не оставил никакого письменного наследия, историкам идей остаётся только строить догадки о том, что он в действительности думал и чему учил, на основе косвенных свидетельств о его образе, запечатлённом Платоном и несколькими другими современниками, чьи записи дошли до наших дней. Это так называемая «проблема Сократа», и она порождает много споров. Одна из общепринятых точек зрения гласит, что молодой Платон достаточно верно передавал философию Сократа, но впоследствии он стал пользоваться образом Сократа преимущественно как средством для продвижения собственных взглядов; что в своих диалогах он и не собирался представлять истинного Сократа, а использовал их только как удобный способ выражения обоснований в форме полемики.
Возможно, мне стоит подчеркнуть, если это ещё не очевидно, что я делаю то же самое. Я не намеревался в приведённом выше диалоге точно передавать философские воззрения исторических фигур Сократа и Платона. Я выбрал этот период истории и этих участников, потому что Сократ и его кружок внесли наибольший вклад в афинский «золотой век», который должен был стать началом бесконечности, но не стал. А ещё потому, что одно мы о древних греках знаем точно: философские проблемы, которые они считали важными, с тех пор продолжают доминировать в западной философии. Как мы получаем знание? Как отличить истинное от ложного, правильное от неправильного, разумное от неразумного? Знание какого типа (нравственное, эмпирическое, теологическое, математическое, доказательное…) возможно, а какое является лишь химерой? И так далее. И поэтому, хотя теория знания, представленная в диалоге, больше похожа на теорию, предложенную философом XX века Карлом Поппером, с некоторыми моими собственными добавлениями, мне кажется, Сократ бы её понял и оценил. В каких-то вселенных, очень похожих на нашу того времени, он и сам об этом думал.
Я бы всё-таки хотел дать один неочевидный комментарий по проблеме Сократа: мы обычно недооцениваем сложность передачи информации, равно как и Сократ в конце диалога, когда он предполагает, что каждый из участников безусловно понимает, что говорит другой, и в то же время записи Платона становятся всё более ошибочными. В действительности, когда мы пытаемся донести новые идеи, даже в таких обыденных делах, как указание дороги, мы полагаемся на догадки как со стороны получателя, так и со стороны того, кто передаёт информацию, и этот процесс по сути своей подвержен ошибкам. Поэтому нет оснований ожидать, что молодой Платон, лишь потому, что был умным и хорошо образованным и по всем данным почти боготворил Сократа, передавал его теории с минимальным числом ошибок. Напротив, по умолчанию мы должны предположить, что неверные толкования там сплошь и рядом и что ни ум, ни намерение быть точным не могут от них застраховать. Легко могло статься, что молодой Платон неправильно понял всё, что говорил ему Сократ, а в более зрелом возрасте Платон постепенно разбирался в этом всё лучше и лучше, и поэтому надёжнее будет отталкиваться от этого. А может, Платон зашёл в неправильном толковании ещё дальше и добавил свои новые ошибки. Чтобы провести различие между этими и многими другими возможностями, нужны свидетельства, доводы и объяснения. Это непростая задача для историков. Объективное знание хотя и достижимо, но дорога к нему трудна.
Всё это одинаково верно как для записанного знания, так и для знания, высказанного вслух. То есть «проблема Сократа» осталась бы, даже если бы он писал книги. И действительно, эта проблема существует в отношении плодовитого Платона и иногда даже в отношении живущих ныне философов. Что имеет в виду этот философ под таким-то и таким-то термином или утверждением? Какую проблему должно решить это утверждение и как? Сами по себе эти проблемы не философские. Это проблемы истории философии. Однако практически все философы, особенно преподаватели, уделяют им немало внимания. В курсах по философии огромное значение придаётся чтению оригинальных текстов и комментариев к ним с целью понять теории, которые владели умами различных великих философов.
Этот акцент на истории странен и заметно контрастирует со всеми остальными академическими дисциплинами (кроме, возможно, самой истории). Например, что касается всех физических предметов, которые я изучал в университете как на младших курсах, так и в аспирантуре, я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы какие-нибудь оригинальные статьи или книги великих физиков давних времён изучались на занятиях или хотя бы рекомендовались к прочтению. Такие работы мы читали, только если в курсе затрагивались совсем недавние открытия. Таким образом, теорию относительности Эйнштейна мы изучали без каких-либо текстов её автора; Максвелл, Больцман, Шрёдингер, Гейзенберг и прочие были для нас просто именами. Их теории мы изучали по учебникам, написанным физиками (не историками физики), которые и сами вполне могли никогда не читать работ учёных-первопроходцев.
Почему? Первым делом на ум приходит то, что исходные тексты научных теорий практически никогда не являются хорошим источником для их изучения. Да и могло ли быть иначе? Предполагается, что с каждым последующим толкованием теории совершенствуются (и иногда это действительно происходит) и эти усовершенствования складываются друг с другом. Но есть и более глубокая причина. Авторы фундаментально новой теории изначально разделяют многие заблуждения предыдущих. Им нужно заниматься пониманием того, откуда взялись недостатки этих теорий и как новая теория объяснит всё то, что объясняли старые. Но у большинства людей, которые затем изучают эту новую теорию, интересы совершенно другие. Зачастую они просто хотят принять теорию на веру и делать с её помощью предсказания или, скомбинировав её с другими теориями, разобраться в каком-нибудь сложном явлении. Они могут также стремиться понять какие-то нюансы теории, которые не имеют отношения к тому, почему она лучше старых. Или они могут стремиться её усовершенствовать. Но чем они точно не собираются больше заниматься, так это выискиванием и опровержением всех до одного возражений, которые естественным образом поступают от тех, кто думает в терминах более старых, вытесненных теорий. Потребность обращаться к устаревшим проблемам, которые мотивировали великих учёных прошлого, возникает очень редко.
Историки науки, напротив, должны делать именно это, и они сталкиваются во многом с теми же сложностями, что и историки философии, которые пытаются решить проблему Сократа. Но тогда почему учёные не сталкиваются с этими сложностями, изучая научные теории? Что позволяет передавать эти теории с такой очевидной лёгкостью по цепочкам посредников? Куда делась «сложность коммуникации», о которой я говорил выше?
Первая, кажущаяся парадоксальной половина ответа состоит в том, что, когда учёные изучают теорию, их не интересует, что считал её автор или кто-либо ещё в цепочке передачи информации. Когда физики читают учебник по теории относительности, их непосредственная цель — изучить теорию, а не мнения Эйнштейна или автора учебника. Если вам это кажется странным, представьте, в рамках наших рассуждений, что историк вдруг обнаружил, что Эйнштейн свои статьи писал в шутку или под дулом пистолета, а сам вообще-то всю жизнь верил в законы Кеплера. Это будет странное, но важное открытие в истории физики, и все учебники, раскрывающие эту тему, придётся переписать. Но на нашем знании самой физики это никак не отразится, вносить изменения в учебники физики не придётся.
Вторая половина ответа говорит, что причина, по которой учёные пытаются изучить теорию и по которой они так равнодушны к верности оригиналу, заключается в том, что они хотят понять, как устроен мир. Важно то, что у автора теории была та же самая цель. Если теория хорошая — если она превосходная, как все современные фундаментальные теории в физике, — тогда её чрезвычайно сложно варьировать так, чтобы она не теряла свою жизнеспособность как объяснение. Таким образом, учащиеся путём критики своих собственных изначальных догадок и с помощью книг, преподавателей и коллег в поиске жизнеспособного объяснения придут к той же теории, что и её автор. Вот так теорию и удаётся верно передавать от одного поколения к другому, несмотря на то, что никто особо не беспокоится об этой самой верности.
Медленно, со многими неудачами то же самое начинает выполняться и в ненаучных областях. Путь к общему с другими мнению состоит в том, чтобы двигаться в сторону истины.
11. Мультивселенная
В научной фантастике часто встречается тема «двойника» человека («доппельгенгера»[76]). Например, в классическом американском телевизионном сериале «Звёздный путь» (Star Trek) присутствовало несколько типов сюжетов о двойниках, связанных с неисправностями транспортёра — телепортационного устройства корабля Звёздного флота, обычно применяемого для перемещений в космосе на короткие расстояния. Поскольку телепортация объекта по сути сходна с созданием его копии в другом местоположении, можно представить себе различные варианты нарушения этого процесса, в результате которых каждый пассажир окажется представленным в двух экземплярах: оригинале и копии.
В фантастических сюжетах степень сходства двойника с оригиналом бывает разная. Чтобы все их признаки были в буквальном смысле одинаковые, им нужно было бы не только выглядеть одинаково, но и находиться точно в том же месте. Но что это означало бы? Если попытаться совместить атомы, мы создадим проблему с точки зрения физики: например, два совпадающих ядра должны слиться с образованием атомов более тяжёлых химических элементов. Если бы два одинаковых человеческих тела совместились даже приблизительно, они бы взорвались просто потому, что вода при плотности в два раза больше обычной создаёт давление в сотни тысяч атмосфер. В фантастике можно принять иные законы физики, которые позволят избежать этого; но и тогда, если на протяжении всего сюжета двойники так и будут совпадать со своими оригиналами, то рассказ, вообще говоря, будет не о двойниках. Рано или поздно они должны стать различными. Это могут быть хорошая и плохая «стороны» одного и того же человека; или всё начинается с одинакового сознания, но затем за счёт разного опыта двойники начинают всё сильнее различаться.
Иногда двойник не копируется с оригинала, а с самого начала существует в «параллельной вселенной». В некоторых рассказах между вселенными существует «разлом», через который, однако, можно связаться со своим двойником и даже отправиться к нему в гости. В других вселенные остаются незаметными друг для друга, и в этом случае в сюжете (или, точнее, в двух сюжетах) интересно то, как разница между ними сказывается на событиях. Так, в фильме «Осторожно! Двери закрываются» (Sliding Doors) чередуются два варианта развития любовной истории, описывающих судьбу двух экземпляров одной и той же пары в двух вселенных, которые изначально отличаются лишь одной небольшой деталью. В родственном литературном жанре, так называемой «альтернативной истории», один из двух вариантов необязательно рассказывать явно, потому что это часть нашей собственной истории и предполагается, что публике она известна. Например, в романе Роберта Харриса «Фатерланд» (Fatherland)[77] речь идёт о вселенной, в которой во Второй мировой войне победу одержала Германия, а в «Вечном Риме» (Roma Eterna) Роберта Силверберга — о вселенной, в которой Римская империя не пала.
В другом классе сюжетных линий из-за неисправности телепортатора пассажиры попадают в «фантомную зону» и становятся незаметными для всех остальных в обычном мире, но могут видеть и слышать их (и друг друга). Им приходится нелегко, они кричат и жестикулируют, чтобы привлечь внимание своих сотоварищей, но всё впустую: те их не замечают и проходят прямо сквозь них.
Иногда в фантомную зону отсылаются лишь копии путешественников, и оригиналы об этом не подозревают. В таких сюжетах в итоге изгнанники могут обнаружить, что всё-таки способны как-то повлиять на обычный мир. И они пользуются этим, чтобы заявить о своём существовании, и их спасают путём обращения процесса, в результате которого они оказались «в изгнании». В зависимости от возможностей науки конкретного фантастического мира они могут начать новую жизнь как отдельные люди или слиться со своими оригиналами. Во втором варианте нарушается среди прочих законов физики закон сохранения массы. Но опять же это всего лишь фантастика.
Тем не менее существует определённая категория достаточно педантичных любителей научной фантастики, к числу коих принадлежу и я, которые предпочитают, чтобы такие произведения были осмысленны, то есть содержали достаточно разумные объяснения. Одно дело представлять себе миры с иными законами физики, и совсем другое — миры, которые не абсурдны в своих собственных понятиях. Например, мы хотим знать, как получается, что «изгнанники» могут видеть и слышать всё, что происходит в обычном мире, но не могут ни до чего дотронуться. Такое отношение было неплохо спародировано в одной из серий «Симпсонов» (The Simpsons), когда поклонники задали звезде фантастического приключенческого сериала такой вопрос:
ЗВЕЗДА: Следующий вопрос.
ПОКЛОННИК: Я хотел спросить. [Прокашливается.] В серии BF12 вы сражаетесь с варварами верхом на крылатом апполузском жеребце, а потом, сразу же, дорогуша, под вами крылатый арабский скакун. Как это так?
ЗВЕЗДА: А, ну да. Если вы что-то такое увидите, знайте, это всё колдун.
ПОКЛОННИК: Колдун, ага, ясно. А в серии AG4…
ЗВЕЗДА [твёрдым голосом]: Тоже он.
ПОКЛОННИК: Да что ж такое…
Поскольку это пародия, поклонник жалуется не на сам сюжет, а только на ошибку в целостности: в разные моменты роль одной вымышленной лошади сыграли два разных коня. Тем не менее внутренне противоречивые сюжеты существуют. Представьте себе, например, историю о поиске ответа на вопрос, существуют ли в реальности крылатые лошади, или рассказ, в котором персонажи сами перемещаются на таких лошадях. И хотя такой рассказ формально не содержит логического противоречия, он лишён смысла как объяснение в своих же собственных категориях. Его можно было бы встроить в контекст, где он обрёл бы смысл: например, как часть аллегории о том, как люди часто не видят значения того, что у них прямо перед носом. Но в этом случае ценность рассказа опять будет зависеть от того, как можно объяснить очевидно абсурдное поведение его героев в терминах этой аллегории. Сравните это с объяснением «это всё колдун». Поскольку колдуну можно с тем же успехом приписать любые события в любой истории, это объяснение неразумное; потому поклонник и был им возмущён.
В некоторых рассказах технические детали сюжета не важны: история на самом деле о другом. Но хороший сюжет всегда явно или неявно опирается на разумные объяснения того, как и почему происходят события с учётом сделанных фантастических допущений. В этом случае, даже если эти допущения касаются колдунов, речь идёт на самом деле не о сверхъестественных силах, а о воображаемых законах физики и воображаемых обществах, а также о реальных проблемах и настоящих идеях. Как я объясню в главе 14, на научное объяснение таким образом похожи не только все хорошие сюжеты научной фантастики, но и всё хорошее искусство в самом широком смысле.
Теперь рассмотрим в этом ключе вымышленных двойников в фантомной зоне. Что позволяет им видеть обычный мир? Поскольку по своему строению они идентичны оригиналам, их глаза поглощают свет и распознают вызываемые им химические изменения, как и настоящие глаза. Но если они поглощают часть света, поступающего из обычного мира, то они должны отбрасывать тень в тех местах, куда этот свет мог бы упасть, если бы их там не было. Кроме того, если «изгнанники» в фантомной зоне видят друг друга, то какой свет в этом задействован? Есть ли в фантомной зоне собственный свет? Если да, то откуда он берётся?
С другой стороны, если изгнанники могут видеть без поглощения света, то у них должно быть иное по сравнению с оригиналами строение на микроскопическом уровне. Но тогда непонятно, почему внешне они напоминают оригиналы, ведь идея «случайного копирования» больше не пройдёт: откуда телепортатор получил знания, чтобы построить нечто, что выглядит и ведёт себя как человеческое тело, но внутри функционирует по-другому? Это был бы случай самопроизвольного зарождения.
Аналогично, есть ли в фантомной зоне воздух? Если изгнанники дышат воздухом, это не может быть воздух с корабля, потому что тогда было бы слышно, как они говорят и даже дышат. Но этот воздух не может быть также и копией того небольшого объёма воздуха, который был в телепортаторе, потому что они свободно перемещаются по кораблю. Таким образом, в фантомной зоне должен быть «целый корабль воздуха». Но тогда что мешает ему уходить в окружающее пространство?
Представляется, что всё происходящее в этом сюжете не только противоречит реальным законам физики (что неудивительно для фантастики), но проблемы возникают и в пределах вымышленного объяснения. Если двойники могут проходить сквозь людей, почему они не проваливаются сквозь пол? В реальности под людьми пол немного прогибается. Но если бы он прогибался в нашем рассказе, он бы вибрировал от шагов «изгнанников», создавались бы звуковые волны, которые люди в обычном мире могли бы услышать. Таким образом, должно быть, в фантомной зоне есть свой пол и стены, а также вся оболочка космического корабля. Даже космос снаружи не может быть там обычным, потому что если бы можно было покинуть корабль и оказаться в обычном космосе, «изгнанники» могли бы таким путём вернуться обратно. Но если в фантомной зоне существует целый космос, параллельная вселенная, то как неисправность скромного телепортатора могла создать всё это?
Не стоит удивляться, что хорошую научную фантастику писать трудно: она представляет собой вариант настоящей науки, а реальное научное знание очень трудно варьировать. Так что лишь немногие из описанных мною сюжетных линий имеют смысл в неизменном виде, если такие вообще найдутся. Однако я хотел бы развить свою собственную, которая (в итоге) имела бы смысл.
Писатель, работающий в жанре настоящей научной фантастики, движим двумя противоположными устремлениями. Первое, как и в случае с любой художественной литературой, — захватить внимание читателя, а это проще всего сделать с помощью уже знакомых тем. Но это антропоцентрическое устремление. Следуя ему, авторы, например, выдумывают, как можно было бы обойти абсолютный предел скорости, накладываемый законами физики на путешествия и передачу информации (а именно скорость света). Но поступая так, авторы отводят расстоянию роль, которую оно обычно играет в рассказах о нашей планете: звёздные системы сопоставляются с далёкими островами или Диким Западом в произведениях более раннего времени. Аналогично, в рассказах о параллельных вселенных возникает соблазн разрешить передавать информацию или перемещаться из одной вселенной в другую. Но тогда это будет рассказ об одной-единственной вселенной: как только барьер между вселенными оказывается легко преодолимым, он становится не более чем экзотической версией океанов, разделяющих континенты. Сюжет, который целиком идёт на поводу у этого антропоцентрического устремления, на самом деле не научная фантастика, а просто замаскированная обычная беллетристика.
Противоположное устремление — исследовать самое сильное из возможных фантастических допущений и самые странные из возможных его следствий — толкает автора в антиантропоцентрическом направлении. Из-за этого завладеть вниманием читателя будет сложнее, но зато можно будет пуститься в гораздо более широкие научные размышления. В той истории, которую я собираюсь рассказать, в качестве средства объяснения мира в соответствии с квантовой теорией я прибегну к последовательности таких размышлений, всё сильнее удаляющихся от привычных нам.
Квантовая теория — это глубочайшее из известных науке объяснений. Она нарушает многие допущения здравого смысла и всей предшествующей науки, включая и те, о самом факте существования которых никто даже и не подозревал, пока не появилась квантовая теория и не вступила с ними в противоречие. Однако эта кажущаяся чуждой территория — реальность, частью которой являемся мы и всё, с чем мы сталкиваемся. И другой реальности нет. Рассказывая здесь о ней, я, возможно, и проиграю в плане привычных составляющих драматизма, но смогу это компенсировать возможностью объяснить нечто более поразительное, чем любая фантастика, и при этом являющееся самым ясным и фундаментальным фактом, который известен нам о физическом мире.
Должен предупредить читателя, что на момент написания этой книги определённо лишь меньшинство физиков разделяет подход к квантовой теории, который я собираюсь представить и который известен как многомировая интерпретация (не слишком удачное название, так как в нём заключено намного больше, чем просто «миры»). В следующей главе я порассуждаю о том, почему так получилось, несмотря на то, что для многих хорошо изученных явлений неизвестно объяснений. Но на данный момент достаточно сказать, что сама идея науки как объяснения в том смысле, за который я выступаю в этой книге (а именно: объяснение того, что на самом деле существует в мире), пока поддерживается меньшинством даже среди физиков-теоретиков.
Пожалуй, я начну с самого простого из возможных размышлений о «параллельных вселенных»: допустим, что «фантомная зона» существовала всегда (с момента её собственного Большого взрыва). И вплоть до начала нашей истории она представляла собой точную копию «настоящей» вселенной — атом за атомом, событие за событием.
Все недостатки, которые я упоминал в рассказах о фантомной зоне, связаны с асимметрией: то, что есть в обычном мире, влияет на то, что есть в фантомной зоне, но не наоборот. Чтобы избавиться от этих недостатков, представим на минуту, что эти две вселенные совершенно незаметны друг для друга. Поскольку мы идём в направлении настоящей физики, я также сохраню предел скорости света для передачи информации, а законы физики пусть будут универсальными и симметричными (то есть они не делают различий между вселенными). Более того, они являются детерминистическими: ничего не случается самопроизвольно, и поэтому вселенные остаются одинаковыми, но лишь до определённого момента. Так как же они станут разными? Это ключевой вопрос в теории мультивселенной, на который я отвечу далее.
Все эти основные свойства моего вымышленного мира можно считать условиями, наложенными на потоки информации: нельзя послать сообщение в другую вселенную; нельзя ничего изменить в своей вселенной быстрее, чем до объекта воздействия дойдёт свет. Нельзя привносить в мир новую информацию, даже случайную: всё, что происходит, определяется законами физики на основе того, что произошло раньше. Однако в мир, безусловно, можно привносить новое знание. Знание состоит из объяснений, а ни одно из перечисленных условий не мешает созданию новых объяснений. Всё это верно и для реального мира.
Мы можем временно представлять себе эти две вселенные параллельными в буквальном смысле слова. Уберите третье измерение пространства и представьте, что вселенная двумерна, как бесконечный плоский телевизор. Затем поместите параллельно этому телевизору второй такой же, с теми же самыми картинками на экране (символизирующими объекты в наших вселенных). Теперь забудьте, из чего сделаны телевизоры. Есть только картинки. Этим подчёркивается, что вселенная — не резервуар с физическими объектами: она и есть эти объекты. В реальной физике даже пространство — физический объект, который может деформироваться, влиять на материю и испытывать её влияние.
Таким образом, теперь у нас есть две в точности параллельные, идентичные вселенные, в каждой имеется копия нашего звездолёта, его экипажа, телепортатора и всего космоса. Из-за того, что вселенные симметричны, называть одну «обычной вселенной», а другую «фантомной зоной» теперь неправильно. Поэтому я буду просто называть их «вселенными». Обе они вместе составляют пока всю физическую реальность моего рассказа, и это — мультивселенная. Аналогично, ошибочно говорить об «оригинальном» объекте и его «двойнике»: это просто два экземпляра одного объекта.
Если бы на этом наше научно-фантастическое размышление закончилось, две вселенные так бы и остались навсегда одинаковыми. С логической точки зрения в этом нет ничего невозможного. Однако тогда наш рассказ точно нельзя было бы назвать ни безупречным прозаическим произведением, ни безупречным научным рассуждением по одной и той же причине: это рассказ о двух вселенных с одной историей, то есть с одним вариантом развития событий. Другими словами, есть только один сценарий, описывающий то, что происходит в обеих вселенных. В качестве литературного произведения это был бы рассказ об одной вселенной с никому не нужными ухищрениями. В качестве же научного рассуждения это было бы описание мира, необъяснимого для его обитателей. Как бы могли они доказать, что их история протекает в двух вселенных, а не в трёх или тридцати? И почему не в двух сегодня и в тридцати завтра? Более того, поскольку в их мире только одна история, все их разумные объяснения природных явлений будут касаться именно её. Этот единый вариант развития событий будет тем, что они подразумевают под своим «миром» или «вселенной». Ничто из стоящей за их реальностью двойственности не будет им доступно, и как объяснение это будет нести для них не больше смысла, чем три вселенных или тридцать, — и всё же по факту они будут ошибаться.
Замечание объяснимости: хотя до сих пор с точки зрения обитателей описываемых вселенных мой рассказ был бы объяснением неразумным, оно необязательно неразумно для нас. Воображаемые необъяснимые миры помогают разобраться в природе объяснимости. Поэтому в предыдущих главах я уже описывал несколько необъяснимых миров, а в этой главе опишу ещё. Но в конечном счёте я хочу рассказать об объяснимом мире, а именно о нашем.
Замечание о терминологии: мир — это вся физическая реальность. В классической (доквантовой) физике считалось, что мир состоит из одной вселенной и представляет собой нечто вроде всего трёхмерного пространства на всём протяжении времени и со всем содержимым. Как я объясню далее, согласно квантовой физике, мир гораздо больше и сложнее — это мультивселенная, в которую (помимо всего прочего) входит множество таких вселенных. Историей мы назовём последовательность событий, происходящих с объектами и, возможно, с их идентичными партнёрами. Так, в моём рассказе мир пока представляет собой мультивселенную, состоящую из двух вселенных, но с единственной историей.
Итак, наши две вселенные не должны оставаться идентичными. Что-то вроде сбоя телепортатора сделает их разными. Однако, как я сказал, может показаться, что такая возможность исключается упомянутыми ограничениями на информационный поток. Законы физики в вымышленной вселенной детерминистические и симметричные. Так что же способен сделать телепортатор, отчего вселенные станут различаться? Может показаться, что любая операция одного экземпляра, осуществляемая в первой вселенной, должна повторяться его двойником во второй, и вселенные так и останутся одинаковыми.
Как ни странно, это не так. Две идентичные сущности при детерминистических и симметричных законах вполне могут стать различными. Но чтобы это случилось, изначально они должны быть более чем точными образами друг друга: они должны быть неотличимы[78], что означает идентичность буквально во всех аспектах, за исключением того, что их две. В моём рассказе понятие неотличимости будет появляться неоднократно. Этот термин заимствован из юриспруденции, где он относится к юридической фикции, признающей определённые сущности идентичными для таких целей, как оплата долгов. Например, долларовые банкноты неотличимы по закону, то есть если вы взяли в долг доллар, то, если не оговорено обратное, необязательно возвращать именно эту конкретную банкноту. Баррели нефти (определённого сорта) также неотличимы. А вот лошади нет: если вы одолжили у кого-то лошадь, то вернуть придётся именно её; не подойдёт даже её однояйцевый близнец. Но физическая неотличимость, о которой я здесь говорю, не основана на признании. Её смысл заключается в том, чтобы быть идентичными, а это совсем другое и контринтуитивное свойство. Лейбниц в своём учении о «тождестве неразличимых» дошёл до того, что исключил существование таковых в принципе. Но он ошибался. Даже независимо от физики мультивселенной, мы теперь знаем, что фотоны и при некоторых условиях даже атомы могут быть неотличимы. Первое достигается в лазерах, второе — в устройствах, называемых «атомными лазерами». Последние выбрасывают сгустки чрезвычайно холодных, неотличимых атомов. Как такое возможно без возникновения трансмутации, взрывов и тому подобного, я расскажу ниже.
Во многих учебниках и научных статьях по квантовой теории, даже в тех немногих, которые поддерживают многомировую интерпретацию, понятие неотличимости практически не обсуждается и даже не упоминается. Тем не менее оно присутствует повсеместно, прямо под концептуальной поверхностью, и я считаю, что его явное выражение поможет объяснить квантовые явления безо всяких ухищрений. Как вскоре станет ясно, это свойство ещё более странное, чем предполагал Лейбниц, гораздо более странное, чем, например, множественные вселенные, которые в конечном счёте не противоречат здравому смыслу — просто их много. Это свойство допускает совершенно новые типы движения и информационных потоков, отличные от всего, что можно было себе представить до появления квантовой физики, а значит, и радикально иную структуру физического мира.
В некоторых ситуациях деньги неотличимы не только юридически, но и физически; и, будучи привычным, это обстоятельство даёт хорошую модель для размышления о неотличимости. Например, если на вашем (электронном) счету лежит один доллар и банк начисляет ещё один доллар в качестве бонуса за лояльность, а затем снимает доллар в виде платы за обслуживание, то нет смысла выяснять, был ли снят тот же доллар, что положен, или тот, что уже находился на счету до этого, или же снятый доллар частично состоит из того и из другого. И это не просто потому, что мы не можем узнать, был ли это тот же доллар, или решили, что нам это не важно: физика происходящего просто исключает такое понятие, как снятие исходного доллара или снятие того, который был добавлен позже.
Доллары, лежащие на банковских счетах, можно назвать «конфигурационными» сущностями: это состояния или конфигурации объектов, а не то, как мы обычно представляем себе сами физические объекты. Ваш банковский счёт воплощается в состоянии определённого устройства для хранения информации. В каком-то смысле вы владеете этим состоянием (согласно закону изменить его без вашего согласия никто не может), но само устройство или любая его часть вам не принадлежит. И в этом смысле доллар — абстракция. В действительности это фрагмент абстрактного знания. Я отмечал в главе 4, что, как только знание воплощается в физической форме в какой-либо подходящей среде, оно стремится там остаться. Таким образом, когда физический доллар изнашивается и уничтожается монетным двором, абстрактный доллар вынуждает монетный двор перевести его в электронную форму или заново напечатать в бумажном виде. Это абстрактный репликатор, с тем отличием (не свойственным репликаторам), что он старается не распространиться, а скопироваться в бухгалтерские книги и резервные копии в памяти компьютера.
Другим примером неотличимых конфигурационных сущностей в классической физике служит количество энергии: если крутить педали велосипеда, пока не наберётся кинетическая энергия десять килоджоулей, а затем тормозить, пока половина её не рассеется в виде тепла, то не важно, рассеялись ли первые пять набранных килоджоулей, или вторые, или какая-то их комбинация. Важно, что рассеялась половина имевшейся энергии. Оказывается, что в квантовой физике элементарные частицы тоже являются конфигурационными сущностями. Вакуум, который мы считаем пустым по обыденным меркам и даже на атомном уровне, на самом деле не пустота, а богато структурированная сущность, называемая «квантовым полем». Элементарные частицы представляют собой высокоэнергичные конфигурации этой сущности — «возбуждения вакуума». Так, например, фотоны в лазере — это конфигурации вакуума внутри его «резонатора». Когда в нём представлены несколько таких возбуждений с идентичными свойствами (энергией и спином), то невозможно указать, какое из них появилось первым или какое покинет резонатор следующим. Есть только свойства, характеризующие каждое из них, а также их количество.
Если две вселенные в нашей вымышленной мультивселенной изначально неотличимы, то из-за неисправности телепортатора они могут приобрести различные свойства точно так же, как компьютер в банке может снять с двухдолларового счёта один из двух неотличимых долларов, а не другой. По законам физики могло бы быть так, например, что, когда в телепортаторе случается сбой, в одной из вселенных, но не в другой, в перемещаемых объектах произойдёт небольшой скачок напряжения. Поскольку законы симметричны, то невозможно уточнить, в которой из вселенных случится этот скачок. Но так и должно быть именно в силу изначальной неотличимости вселенных.
Достаточно трудным для понимания является тот факт, что если объекты просто идентичны (в том смысле, что являются точными копиями друг друга) и подчиняются детерминистическим законам, которые не проводят между ними различия, то они никогда не станут различными, а вот неотличимые объекты, которые на первый взгляд похожи друг на друга даже больше, могут. Это первое из странных свойств неотличимости, о которых Лейбниц никогда не задумывался и которые я считаю центральными для явлений квантовой физики.
А вот другое свойство. Допустим, у вас на счету лежит сто долларов и вы дали банку указание перевести в определённый день в будущем один доллар на счёт налоговой службы. Теперь в банковском компьютере содержится соответствующее детерминистическое правило. Допустим, вы руководствовались тем, что этот доллар уже принадлежит налоговой службе. (Скажем, он был ошибочно вам переведён как налоговый вычет, и вы должны его вернуть в указанный срок.) Поскольку доллары на счету неотличимы, нельзя сказать, какой из них принадлежит налоговой службе, а какие — вам. Итак, получается, что не у всех объектов в наборе, хотя они и неотличимы, один и тот же владелец! Описать это простым языком сложно: каждый доллар на счету разделяет буквально все свои свойства с другими, однако не у всех у них хозяин один и тот же. Так можно ли сказать, что в этом случае у них нет владельца? Это было бы заблуждением. Ведь очевидно, что один доллар всё-таки принадлежит налоговой службе, а остальные — вам. Можно ли сказать, что у всех у них два владельца? Наверно, но только из-за размытости термина. Безусловно, нет смысла говорить, что налоговой службе принадлежит один цент от каждого доллара, поскольку мы столкнёмся с тем, что и центы на счету тоже неотличимы. Но в любом случае, заметим, что проблема, поднимаемая этим «многообразием в пределах неотличимости», только языковая. Непонятно, как словами описать некоторые аспекты ситуации. Саму же ситуацию никто не считает парадоксальной: компьютер получил команду выполнить определённые правила, и относительно того, что случится в результате, никогда не будет никакой двусмысленности.
Как станет ясно в дальнейшем, многообразие в пределах неотличимости — широко распространённое явление в мультивселенной. Одно важное отличие от случая взаимозаменяемых денег заключается в том, что в последнем примере нам не нужно интересоваться или предсказывать, каково это — быть долларом. Другими словами, каково это быть неотличимым, а затем приобрести отличия. Многие приложения квантовой теории требуют от нас как раз этого.
Вначале я предложил временно представить, что наши две вселенные расположены в космосе рядом друг с другом, подобно тому, как в некоторых научно-фантастических рассказах о вселенных-двойниках говорят, что они находятся «в разных измерениях». Но теперь нам придётся отказаться от этого образа и представить, что вселенные совпадают: независимо от того, что могло бы обозначать это «дополнительное измерение», из-за него они перестали бы быть неотличимыми[79]. Нельзя сказать, что они совпадают в чём-то, например, в окружающем их пространстве. Они не находятся в пространстве, но экземпляр пространства является частью их самих. Под «совпадением» понимается лишь то, что они никоим образом не отдельны друг от друга.
Вообразить совпадение идеально идентичных предметов трудно. Стоит только представить себе лишь один из них, как воображение уже нарушит их неотличимость. Но в отличие от воображения для разума это не препятствие.
Теперь в нашем рассказе появляется нетривиальный поворот. Например, в результате скачка напряжения, который случился в одной из двух вселенных при сбое в работе телепортатора, некоторые нейроны в мозгу пассажира в этой вселенной дали осечку. И вот в этой вселенной этот пассажир пролил чашку кофе на другого пассажира. Между ними возникают общие переживания, которых у них нет в другой вселенной, и начинается роман, прямо как в фильме «Осторожно! Двери закрываются».
Скачки напряжения необязательно должны быть «сбоями» телепортатора. Они могут быть регулярным побочным эффектом его работы. Мы проходим через гораздо более сильную, непредсказуемую тряску, когда, например, летим на самолёте или катаемся на мустанге. Представим себе, что каждый раз при запуске телепортатора, который происходит в обеих вселенных, в одной из них случается маленький скачок, но он настолько мал, что его можно зафиксировать только чувствительным вольтметром, или если он подтолкнёт что-то, чему для изменения не хватало как раз этого толчка, но без него изменения не случилось бы.
В принципе, явление может выглядеть непредсказуемым для наблюдателей по одной или более из следующих трёх причин. Первая состоит в том, что на него влияет какая-то фундаментально случайная (недетерминированная) переменная. Я исключил такую возможность из нашего рассказа, поскольку в реальной физике таких переменных нет. Вторая причина, которая по крайней мере до некоторой степени обуславливает большую часть непредсказуемого, случающегося ежедневно, — в том, что факторы, влияющие на явление, хотя и детерминированы, но либо неизвестны, либо слишком сложны, чтобы их учесть. (Особенно когда они включают в себя создание знания, как обсуждалось в главе 9.) Третья причина, о которой до появления квантовой теории никто не задумывался, заключается в том, что несколько изначально неотличимых экземпляров наблюдателя становятся различными. Именно к этому и приводят скачки, вызванные телепортатором, и из-за этого их последствия строго непредсказуемы, несмотря на то, что описываются детерминистическими законами физики.
Эти замечания о непредсказуемых явлениях можно было бы сделать и не ссылаясь явно на неотличимость. Так на самом деле обычно и поступают исследователи мультивселенной. Но тем не менее, как я уже говорил, я считаю, что неотличимость существенна для объяснения квантовой случайности и большинства других квантовых явлений.
Все эти три кардинально разные причины непредсказуемости могут, в принципе, казаться наблюдателям в точности одинаковыми. Но в объяснимом мире должен существовать способ выяснить, какая из них (или какая их комбинация) является истинным источником любой видимой случайности в природе. Как убедиться, что некое конкретное явление обуславливается именно неотличимостью и параллельными вселенными?
В художественных произведениях всегда возникает соблазн ввести для этого коммуникацию между вселенными, отчего те перестают быть «параллельными». Как я уже говорил, в результате получается рассказ об одной-единственной вселенной, но можно попытаться замаскировать этот факт, говоря, что такая коммуникация будет сложной. Например, это мог бы быть такой способ настройки телепортатора в одной из вселенных, чтобы он приводил к скачку напряжения в другой. Тогда его можно будет использовать для передачи сообщений. Но наверняка это будет очень дорогой или опасный метод, и поэтому правила звездолёта должны ограничивать его применение. Особенно строго запрещаются «личные разговоры» со своим двойником. Тем не менее один из членов экипажа во время ночной смены втайне нарушает этот запрет и получает сообщение, которое сильно его удивляет: «ЖЕНИЛСЯ НА СОНАК». В отличие от этого персонажа, мы знаем, что эта свадьба — прямое следствие пролитого кофе, непосредственного результата скачка напряжения в другой вселенной. Затем передача информации прерывается, и больше никаких сообщений не приходит. Мы знаем (снова в отличие от нашего героя), что в другой вселенной засекли незаконное использование оборудования и усилили меры безопасности. Дальше рассказ может строиться вокруг того, что случится, когда этот член экипажа предпримет какие-то действия в связи с полученным шокирующим известием.
Как человеку следует реагировать на новость о том, что его двойник женился? Искать ли в своей вселенной двойника жены, с которой он никогда даже не встречался лично, не говоря уже о романтических отношениях? Или которая, в лучших традициях любовных историй, его раздражает. Наверно, вреда от этого не будет. Или будет?
Идеи, зарождающиеся в другой вселенной, как минимум столь же подвержены ошибкам, как и те, которые зарождаются в нашей; и если их сложно получить, то и корректировать ошибки будет труднее. Создание знаний зависит от возможности исправлять ошибки. Возможно, продолжением того первого сообщения должно было стать: «УЖЕ ЖАЛЕЮ ОБ ЭТОМ». Или вдруг в другой вселенной в комнату с телепортатором вошла Сонак, помешав тем самым отослать предупреждение. А может быть, сейчас они счастливы, но вскоре разругаются и разведутся. Как бы то ни было, эта межвселенская коммуникация вместо пользы могла удвоить число роковых брачных решений, принятых двумя экземплярами интересующего нас члена экипажа.
В более общем смысле, известие о том, что ваш двойник вполне доволен принятым в другой вселенной решением не означает, что вы тоже будете довольны «соответствующим» решением в своей. Раз между вселенными есть различия (а без них новости из другой вселенной не были бы новостями), нет достаточных оснований полагать, что они никак не повлияют на результат принятия решения. В одной вселенной вы встретились благодаря случайности, произошедшей с вами обоими, а в другой — потому что незаконно воспользовались оборудованием корабля. Может ли это как-то сказаться на счастье в браке? Возможно, нет, но вы можете это знать, только имея хорошую объяснительную теорию касательно того, какие факторы влияют на последствия свадеб, а какие нет. И если у вас есть такая теория, то, возможно, вам тогда и не нужно тайком пробираться к телепортатору.
В ещё более общем смысле, польза от коммуникации между вселенными могла в итоге воплотиться в новых формах обработки информации. В описанном мною вымышленном случае, поскольку две вселенные до недавних пор были идентичными, общаться со своим двойником из другой вселенной — это всё равно что запустить компьютерную модель альтернативной версии некоторого отрезка своей жизни, не зная, однако, в явном виде все соответствующие физические переменные. Такой вычислительный процесс неосуществим никаким другим способом и мог бы пригодиться для проверки объяснительных теорий о том, какое влияние на последствия оказывают различные факторы. Тем не менее сначала эти теории всё равно придётся придумать.
Поэтому если такое общение — ресурс дефицитный, то более эффективным его использованием был бы обмен самими теориями: если ваш двойник справится с проблемой и поделится решением, то вы сможете сами убедиться, что это разумное объяснение, даже если совершенно не представляете, как он до него додумался.
Ещё одно эффективное применение обмена информацией между вселенными могло бы заключаться в разделении работы над трудоёмкими вычислениями. Например, по сюжету некоторые члены экипажа могли отравиться, и без противоядия они протянут всего несколько часов. Чтобы найти его, нужно смоделировать на компьютере результат действия множества вариантов лекарства. На каждом экземпляре компьютера корабля можно запустить поиск по половине списка вариантов, и таким образом на прогон всего списка уйдёт в два раза меньше времени. Когда в одной из вселенных лекарство будет найдено, его номер в списке можно передать в другую, проверить там результат, и экипаж в обеих вселенных будет спасён. И снова: тот факт, что вычислительная мощность таким образом доступна через телепортатор, будет свидетельствовать о том, что по ту сторону действительно есть компьютер, который выполняет иные вычисления, нежели наш. Обдумывая затем детали (о том, как двойники дышат и так далее), обитатели одной вселенной смогли бы понять, что другая вселенная в целом реальна, что у неё такая же структура и она так же сложна, как и их собственная. Таким образом, их мир стал бы объяснимым.
Поскольку в реальной квантовой физике коммуникации между вселенными нет, то и в нашем рассказе её быть не должно, а значит, этот конкретный путь к объяснимости для нас закрыт. Между историей, в которой наши члены экипажа женаты, и той, в которой они едва знают друг друга, неосуществим обмен сообщениями; невозможно и наблюдение друг за другом. Тем не менее, как мы вскоре увидим, существуют обстоятельства, при которых эти истории всё же могут влиять друг на друга способами, которые не сводятся к обмену информацией, и необходимость объяснить эти эффекты даёт главный аргумент в пользу того, что наша собственная мультивселенная реальна.
После того как вселенные в нашем рассказе начали отличаться внутри одного звездолёта, всё остальное в мире существует в парах идентичных экземпляров. Мы должны продолжать считать эти пары неотличимыми. Это необходимо, потому что вселенные — не «резервуары», они и есть те объекты, которые в них содержатся. Если бы у каждой из вселенных была независимая реальность, то у каждого из объектов в такой паре было бы свойство находиться в одной конкретной вселенной, а не в другой, и тогда они перестали бы быть неотличимыми.
Как правило, область, в которой вселенные различаются, будет расти. Например, когда наша пара решит пожениться, оба сообщат об этом на свои родные планеты. Когда сообщения достигнут адресатов, два экземпляра каждой из планет станут различными. До этого различались только два экземпляра звездолёта, но вскоре, даже до того, как кто-либо распространит информацию намеренно, часть её выйдет наружу. Например, в результате принятия решения о свадьбе люди на звездолёте в двух вселенных начнут двигаться по-разному, свет будет от них отражаться тоже по-разному, часть его покинет звездолёт через иллюминаторы, делая две вселенные слегка различающимися там, куда он дошёл. То же верно и для теплового излучения (инфракрасного света), исходящего от каждой точки его корпуса звездолёта. Таким образом, начиная со скачка напряжения, случившегося в одной вселенной, в пространство во всех направлениях выходит волна дифференциации между вселенными. С учётом того, что скорость распространения информации в любой из вселенных не может превышать скорость света, на неё накладывается такое же ограничение. Поскольку передний фронт волны дифференциации в основном перемещается с такой или почти такой скоростью, различия в стартовых условиях, которые могли иметь место между разными направлениями, будут становиться всё меньше по отношению к пройденному расстоянию, и поэтому чем дальше уходит волна, тем ближе к сферической она становится. Так что я буду называть её «сфера дифференциации».
Даже внутри сферы дифференциации между вселенными относительно немного различий: звёзды сияют всё так же, на планетах остались всё те же континенты. Даже у людей, которые слышат о свадьбе и в результате ведут себя по-другому, в памяти и других запоминающих устройствах содержатся по большей части одинаковые данные, они продолжают дышать тем же самым воздухом, едят такую же еду и так далее.
Однако, хотя и кажется интуитивно очевидным, что новости о свадьбе по большей части ничего не изменят, есть и другое интуитивно разумное соображение, которое, по-видимому, доказывает, что от этого изменится всё, пусть и слегка. Рассмотрим, что случится, когда новость достигнет некоторой планеты, скажем, в виде импульса фотонов от лазерного передатчика. Ещё до того, как это как-то отразится на людях, планета подвергнется физическому воздействию этих фотонов, которые, как можно ожидать, передадут импульс каждому атому, встретившемуся на пути луча, то есть всем атомам примерно на половине поверхности планеты, обращённой в сторону луча. Колебания атомов слегка изменятся, что скажется на нижележащих атомах. По мере воздействия атомов друг на друга эффект быстро распространится по всей планете. Вскоре воздействие затронет все атомы планеты, хотя влияние на большинство из них будет невообразимо малым. Но тем не менее каким бы незначительным ни было это влияние, его будет достаточно, чтобы нарушить неотличимость между атомом и его двойником в другой вселенной. Таким образом, представляется, что после прохождения волны дифференциации не останется ничего неотличимого.
Эти две противоположные интуиции отражают древнюю дихотомию между дискретным и непрерывным. Приведённый выше аргумент о том, что в сфере дифференциации всё должно стать различным, опирается на реальность чрезвычайно малых изменений физических свойств, изменений, которые на много порядков меньше доступных измерениям. Существование таких изменений неумолимо следует из объяснений классической физики, ведь в ней большая часть фундаментальных величин (таких как энергия) изменяется непрерывно. Противоположная интуиция происходит от представления о мире в категориях обработки информации, а значит, в терминах дискретных переменных, таких как содержимое воспоминаний человека. Квантовая теория разрешает этот конфликт в пользу дискретного. У типичной физической величины есть наименьшее возможное изменение, которое она может претерпеть в заданной ситуации. Например, существует наименьшее возможное количество энергии, которое излучение может передать любому конкретному атому. Атом не может поглотить любое количество энергии, меньшее, чем этот «квант» энергии. Поскольку это отличительное свойство квантовой физики было обнаружено первым, оно и дало название всей области. Введём его и в нашу фантастическую физику.
Значит, неверно, что после получения радиосообщения все атомы на поверхности планеты изменились. В действительности обычно крупный физический объект реагирует на очень маленькие воздействия так: большая часть его атомов остаётся в строго неизменном состоянии, но, чтобы выполнялись законы сохранения, некоторые испытывают дискретные, относительно большие изменения на один квант.
Дискретность переменных поднимает вопрос о движении и изменении. Означает ли это, что изменения происходят мгновенно? Это не так, и отсюда вытекает следующий вопрос: как выглядит мир в середине этого изменения? Кроме того, если некоторые атомы испытывают сильное влияние определённого воздействия, а остальные ему не подвергаются, то от чего зависит, какие испытывают влияние, а какие — нет? В ответе, как мог догадаться читатель, должна фигурировать неотличимость, и ниже я это объясню.
Воздействие волны дифференциации обычно быстро уменьшается с расстоянием, просто потому, что это свойственно физическим воздействиям в целом. Уже с расстояния в одну сотую светового года Солнце выглядит как холодная, яркая точка в небе. Оно едва ли на что-то влияет. А на расстоянии в тысячу световых лет и сверхновая ни на что не влияет. Даже самые неистовые джеты квазаров, если смотреть на них из соседней галактики, мало чем будут отличаться от абстрактного рисунка в небе. Существует только одно известное явление, которое, раз случившись, имеет последствия, не уменьшающиеся с расстоянием, и это создание определённого типа знания, то есть начало бесконечности. На самом деле знание само может выбрать цель, преодолеть огромные расстояния, почти не оставляя за собой следа, а затем вызвать радикальные преобразования в пункте назначения.
Так и в нашем рассказе: если мы хотим, чтобы неисправность телепортатора имела значительные физические последствия на астрономических расстояниях, это возможно только посредством знаний. Весь этот поток фотонов, который испускается звездолётом и несёт в себе, намеренно или нет, информацию о свадьбе, не пройдёт незамеченным мимо далёкой планеты только в том случае, если кто-то на ней задумается о возможности получения такой информации и установит научное оборудование, способное её принять.
Итак, как я уже объяснил, наши воображаемые законы физики, согласно которым скачок напряжения происходит «в одной вселенной, но не в другой», не могут быть детерминистическими, если вселенные не являются неотличимыми. Что же тогда произойдёт, если телепортатором воспользуются ещё раз, после того как вселенные перестали быть неотличимыми? Представьте себе второй звездолёт такого же типа, как и первый, но находящийся далеко. Что будет, если на втором звездолёте телепортатор запустят сразу после того, как его запустили на первом?
Логично было бы предположить, что не произойдёт ничего; другими словами, по законам физики, как только две вселенные станут различными, все телепортаторы будут работать в обычном режиме и скачков напряжения больше не будет. Однако это также позволит передать информацию быстрее света, пусть ненадёжно и только раз. Нужно поставить вольтметр в комнате с телепортатором и привести устройство в действие. Если произойдёт скачок напряжения, мы будем знать, что на другом звездолёте, как бы далеко он ни находился, телепортатор ещё не запускали (ведь иначе такие скачки прекратились бы везде раз и навсегда). Законы, которым подчиняется реальная мультивселенная, не позволяют информации распространяться подобным образом. Если мы хотим, чтобы наши вымышленные законы физики были универсальными с точки зрения обитателей мультивселенной, второй телепортатор обязан делать в точности то, что делал первый. Он должен вызвать скачок напряжения только в одной из вселенных, но не в другой.
Но в этом случае что-то должно указать, в какой из вселенных произойдёт второй скачок. Условие «в одной вселенной, но не в другой» больше не является детерминистическим указанием. К тому же этого скачка не должно быть, если телепортатор запущен только в другой вселенной. Иначе это был бы способ передачи информации между вселенными. Скачок должен зависеть от того, работают ли оба экземпляра телепортатора одновременно. Но даже в этом случае коммуникация между вселенными могла бы осуществиться следующим образом. Во вселенной, где однажды уже произошёл скачок, нужно запустить телепортатор в заранее запланированное время и наблюдать за вольтметром. Если скачка не происходит, значит, в другой вселенной телепортатор выключен. Получается тупик. Поразительно, сколько тонкостей может таится, казалось бы, в очевидном бинарном различии между «одинаковым» и «разным» или между «затронутым» и «не затронутым». В настоящей квантовой теории запреты на коммуникацию между вселенными и сверхсветовую передачу информации также тесно взаимосвязаны.
Существует один и, я думаю, единственный способ одновременно удовлетворить требованию универсальности и детерминистичности наших выдуманных законов физики и запретить коммуникацию быстрее света и между вселенными: вселенных должно быть больше. Представьте, что их несчётное бесконечное множество и все они изначально неотличимы. По-прежнему после запуска телепортатора у ранее неотличимых вселенных появляются различия; но теперь соответствующие законы физики гласят: «Скачок напряжения происходит в половине из тех вселенных, где телепортатор был запущен». То есть если на двух звездолётах запущены телепортаторы, то после того, как две сферы дифференциации перекроются, получится четыре различных типа вселенных: те, в которых скачок произошёл только в первом звездолёте, только во втором, ни в каком и в обоих. Другими словами, в области пересечения существует четыре разные истории, четыре варианта развития событий, каждый из которых имеет место в четверти всех вселенных.
Наша вымышленная теория не даёт структуры мультивселенной, достаточной для того, чтобы понятие «половина вселенных» имело смысл, но в реальной квантовой теории она присутствует. Как я говорил в главе 8, метод, предоставляемый теорией для наделения смыслом долей и средних в бесконечных множествах, называется мерой. Знакомым примером из классической физики служит присвоение длины бесконечным множествам выстроенных в ряд точек. Допустим, что наша теория предусматривает меру для вселенных.
Теперь мы можем развивать сюжетную линию следующим образом. В тех вселенных, где состоялась свадьба, пара проводит медовый месяц на колонизованной людьми планете, которую посещает звездолёт. Во время обратной телепортации из-за скачка напряжения в половине из этих вселенных на чей-то планшет приходит голосовое сообщение, из которого следует, что один из молодожёнов уже изменил другому. В результате запускается цепочка событий, приводящих к разводу. И теперь в нашем исходном наборе неотличимых вселенных содержится три различных варианта развития событий: в одном, включающем в себя половину исходного множества вселенных, наши герои всё ещё холосты; во втором, состоящем из четверти исходного множества, они женаты; а в третьем, включающем в себе оставшуюся четверть, они в разводе.
Получается, что эти три варианта занимают разные доли мультивселенной. Тех вселенных, в которых никакой свадьбы не было, вдвое больше, чем тех, где пара уже в разводе.
Теперь предположим, что учёным, находящимся на звездолёте, известно о существовании мультивселенной и что они понимают физику телепортатора. (Заметим, однако, что мы ещё не дали им способа узнать всё это.) В таком случае они знают, что при запуске телепортатора бесконечное число неотличимых экземпляров их самих, делящих между собой одну и ту же историю, делают одновременно то же самое. Они знают, что скачок напряжения случится в половине вселенных с данной историей, вызвав распад на два варианта истории с одинаковой мерой. Следовательно, учёные знают, что, если взять вольтметр, который сможет зафиксировать этот скачок, у половины экземпляров их самих вольтметр его зафиксирует, а у другой половины — нет. Но они также знают, что бессмысленно спрашивать (а не просто невозможно узнать), что именно выпадет им. Значит, они могут сделать два тесно связанных между собой предсказания. Одно заключается в том, что, несмотря на идеальный детерминизм всего происходящего, ничто не позволяет достоверно предсказать, зафиксирует ли их вольтметр скачок.
Другое предсказание — вольтметр просто зафиксирует скачок с вероятностью одна вторая. Таким образом, исходы подобных экспериментов субъективно случайны (с точки зрения любого наблюдателя), даже несмотря на то, что объективно всё происходящее совершенно детерминистично. Отсюда же происходит квантовомеханическая случайность и вероятность в реальной физике: всё дело в мере, которой теория наделяет мультивселенную, что в свою очередь обусловлено тем, какие типы физических процессов теория разрешает, а какие — нет.
Заметим, что, когда вот-вот ожидается случайный исход (в указанном смысле), мы имеем дело с ситуацией многообразия в пределах неотличимости: многообразие — в переменной, определяющей, «какой исход в итоге будет наблюдаться». Логика этой ситуации такая же, как в случаях с банковским счётом, которые я рассматривал выше, только на этот раз неотличимыми сущностями выступают люди. Они неотличимы, но половина из них увидит скачок напряжения, а другая половина — нет.
На практике они могли бы проверить этот прогноз, проведя эксперимент многократно. Любая формула, претендующая на предсказание последовательности исходов, в конечном счёте потерпит неудачу: это позволяет проверить непредсказуемость. И в подавляющем большинстве вселенных (и историй) скачок будет происходить приблизительно в половине случаев: это позволяет проверить предсказанное значение вероятности. Лишь самая незначительная доля экземпляров наблюдателей увидит нечто другое.
А мы продолжаем. В одном варианте развития событий в газетах на родных планетах астронавтов появляется сообщение о помолвке. В нём достаточно подробно описывается, как астронавты познакомились и что было дальше. В другом варианте, в котором никаких новостей о помолвке не было, в одной из газет на соответствующем месте публикуется короткий рассказ. И оказывается, что в нём речь идёт о романе на звездолёте. Некоторые предложения в нём совпадают с предложениями в новостной заметке из первого варианта. Одинаковые слова, напечатанные в одинаковых местах газеты, в них взаимозаменяемы, но в одном случае это выдумка, а в другом — свершившийся факт. Таким образом, здесь в свойстве факт/выдумка проявляется многообразие в пределах взаимозаменяемости.
Теперь число различных историй будет быстро расти. При каждом включении телепортатора сфера дифференциации поглощает весь звездолёт за какие-то микросекунды, и получается, что если обычно его используют десять раз в день, то число различных вариантов внутри целого корабля примерно десять раз в день будет удваиваться. За месяц различных вариантов истории станет больше, чем атомов в видимой нам части Вселенной. Большая часть этих вариантов будет чрезвычайно похожа на многие другие, потому что лишь в малой их доле точный момент и величина скачка напряжения будут как раз такими, чтобы выдать заметное изменение в стиле фильма «Осторожно! Двери закрываются». Тем не менее число историй продолжает экспоненциально расти, и вскоре их становится так много, что где-то в мультиверсном многообразии звездолёта это приводит к нескольким значительным изменениям. И общее число таких историй также растёт экспоненциально, даже несмотря на то, что они всё ещё составляют малую долю всех имеющихся вариантов.
Вскоре после этого в ещё меньшем, но тоже экспоненциально растущем числе историй доминирующую роль станут играть странные цепочки «случайностей» и «маловероятных совпадений». Я поставил эти термины в кавычки, потому что эти события совсем не случайны. Все они были неизбежны в соответствии с детерминистическими законами физики. И все были вызваны телепортатором.
Вот ещё одна ситуация, в которой если не проявить осторожности, то здравый смысл ведёт к ложным допущениям о физическом мире и парадоксальным описаниям ситуаций, которые сами по себе являются совершенно ясными. В своей книге «Расплетая радугу» (Unweaving the Rainbow) Докинз приводит пример, в котором анализирует заявление о том, что телевизионный медиум делает точные предсказания:
В году примерно 100 тысяч пятиминутных периодов времени. Вероятность того, что любые заданные часы, скажем, мои, остановятся в заданную пятиминутку, приблизительно 1 к 100 000. Низкая вероятность, но шоу [этого медиума] смотрят 10 миллионов зрителей. Если только половина из них носит часы, то можно ожидать, что около 25 механизмов остановятся в любую заданную минуту. Если только четверть владельцев позвонит в студию, это будет 6 звонков — более чем достаточно, чтобы ошеломить наивную публику. Особенно если добавить звонки от тех, чьи часы остановились в предыдущий день, от тех, у кого остановились не собственные наручные часы, а настенные часы у дедушки, от родственников, умерших из-за сердечного приступа, которые, переживая утрату, сообщают, что сердце их родных больше «не тикает», и так далее.
Как показывает этот пример, тот факт, что определённые обстоятельства могут объяснять другие события, при этом никак не влияя на их совершение, нам хорошо знаком, хотя и противоречит логике. Ошибка, которую совершает «наивная» публика, сродни парохиальности: они наблюдают явление — людей, звонящих, чтобы сказать, что у них встали часы, но не могут воспринимать это как часть более широкого явления, которое в большей своей части недоступно для их наблюдения. Хотя ненаблюдаемые части этого более широкого явления никак не повлияли на то, что мы, зрители, видим, для объяснения они существенны. Аналогично, в здравом смысле и классической физике содержится парохиальная ошибка, согласно которой существует только один вариант развития событий. Эта ошибка, встроенная в наш язык и систему понятий, делает крайне странным утверждение о том, что событие может, с одной стороны, быть очень маловероятным, а с другой — совершенно точно случиться. Но в реальности в этом нет ничего странного.
Теперь мы наблюдаем звездолёт изнутри как чрезвычайно сложное нагромождение наложенных друг на друга объектов. В большинстве мест на борту полно людей, некоторые среди них выполняют весьма необычные задания, и все они друг о друге не подозревают. Сам звездолёт следует многими, слегка отличными друг от друга курсами, что обусловлено небольшими различиям в поведении экипажа. Безусловно, всё это мы видим лишь мысленным взором. Согласно нашим вымышленным законам физики ни один наблюдатель в самой мультивселенной не увидит ничего подобного. Следовательно, при более близком рассмотрении (в нашем воображении) мы также увидим, что во всём этом очевидном хаосе много порядка и закономерностей. Так, хотя в кресле капитана собралось множество человеческих фигур, мы видим, что большинство из них — это капитан; и хотя в кресле штурмана тоже много фигур, мы видим, что лишь немногие из них являются капитаном. Закономерности такого рода в конечном счёте обусловлены тем, что все вселенные, несмотря на свои различия, подчиняются одним и тем же законам физики (включая их начальные условия).
Мы также видим, что любой отдельно взятый экземпляр капитана взаимодействует только с одним экземпляром штурмана и с одним экземпляром первого помощника; и это как раз те экземпляры, что взаимодействуют между собой. Эти закономерности обусловлены тем, что истории почти автономны: то, что происходит в любой из них, практически полностью определяется предыдущими событиями в этом варианте событий, а исключениями являются лишь скачки напряжения, вызванные телепортатором. До сих пор в рассказе эта автономность историй — достаточно тривиальный факт, поскольку мы начали с того, что сделали вселенные автономными. Но, пожалуй, на время нам стоит стать ещё педантичнее и спросить: в чём конкретно разница между тем экземпляром вас, с которым я могу взаимодействовать, и теми экземплярами, которые для меня неощутимы? Последние находятся «в других вселенных», но, как мы помним, вселенные состоят только из тех объектов, которые в них есть, так что это равносильно тому, чтобы сказать: «Я вижу тех, кого могу видеть». Суть в том, что наши законы физики должны также говорить, что каждый объект несёт в себе информацию о том, которые из его экземпляров с экземплярами других объектов могут взаимодействовать (кроме случаев, когда экземпляры неотличимы, то есть когда нет такого понятия, как «которые из»). В квантовой теории описывается такая информацию. Она называется информацией о запутанности[80].
До сих пор в рассказе мы выстраивали обширный, сложный мир, который в нашем воображении выглядит весьма непривычно, но для подавляющего большинства его обитателей он кажется почти в точности таким же, как одна-единственная вселенная нашего повседневного опыта и классической физики плюс некоторая очевидно случайная встряска, ощущаемая при работе телепортатора. Крошечное меньшинство историй оказалось под сильным влиянием очень «маловероятных» событий, но даже в них информационный поток — что на что влияет — остаётся привычным и знакомым. Например, версия корабельного журнала с записями о странных совпадениях будет доступна восприятию людей, которые помнят об этих совпадениях, но не другим экземплярам этих людей.
Таким образом, информация в нашей вымышленной мультивселенной течёт по ветвящемуся древу, ветви которого — варианты развития событий — имеют разную толщину (меру) и никогда не воссоединяются после того, как разошлись. Каждая из них ведёт себя в точности так, как если бы других не существовало. Если бы на этом всё заканчивалось, то воображаемые законы физики этой мультивселенной были бы совершенно негодными объяснениями: не было бы разницы между их предсказаниями и предсказаниями гораздо более ясных законов, говорящих, что есть только одна вселенная с одной историей, в которой телепортатор случайным образом вызывает изменение в перемещаемых им объектах. Согласно этим законам, единственная история в таких случаях не разветвляется на две автономные, а случайным образом претерпевает или не претерпевает это изменение. И вся изумительно сложная мультивселенная, которую мы себе вообразили, с её множественностью сущностей, включая людей, проходящих друг сквозь друга, странными происшествиями и информацией о запутанности, превратится в ничто, как та галактика в главе 2, которая оказалась дефектом на фотопластинке. Мультиверсное объяснение тех же самых событий было бы неразумным, и мир оказался бы для его обитателей необъясним, будь это правдой.
Может сложиться впечатление, что, накладывая все эти условия на информационный поток, мы затратили массу усилий, чтобы добиться этого самого свойства, а именно спрятать от обитателей архисложные лабиринты их мира. Мы, как Белый Конь в «Алисе в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла, который
…обдумывал свой план, Как щёки мазать мелом, А у лица носить экран, Чтоб не казаться белым![81]Пришло время убрать экран.
В квантовой физике информационный поток в мультивселенной не столь послушен, как в описанном мной ветвящемся древе историй. Всему виной следующее квантовое явление: при определённых обстоятельствах законы движения допускают воссоединение историй (то есть они могут вновь становиться неотличимыми). Это обращение во времени уже описанного мною расщепления (дифференциации истории на две или более), так что в нашей вымышленной мультивселенной его можно воплотить естественным образом, если наделить телепортатор способностью отменять вызванное им ветвление историй.
Если представить исходное расщепление следующим образом:
где X — нормальное напряжение, а Y — аномальное, вызванное телепортатором, то воссоединение историй можно представить как:
Это явление известно как интерференция: своим присутствием вариант истории Y интерферирует с тем, что телепортатор обычно делает с вариантом X. В результате варианты X и Y сливаются в один. Во многом это схоже с тем, когда в некоторых рассказах о фантомных зонах двойники сливаются со своими оригиналами, только здесь нам не нужно отказываться от закона сохранения массы или любого другого закона сохранения: общая мера всех историй остаётся постоянной.
Интерференция — это явление, которое может предоставить обитателям мультивселенной данные о существовании в их мире множества историй без необходимости разрешать обмен информацией между историями. Например, предположим, что телепортатор был запущен дважды с коротким интервалом во времени (ниже я объясню, что значит «короткий»):
Если бы это делалось неоднократно (каждый раз с использованием, скажем, различных копий телепортатора), то вскоре можно было бы заключить, что промежуточный результат не может быть лишь случайным выбором между X и Y, потому что в этом случае конечным исходом иногда мог бы быть Y (из-за ), хотя на самом деле всегда получается X. Таким образом, обитатели не смогут больше объяснять увиденное предположением, что на промежуточной стадии реально существует только одно, случайно выбранное значение напряжения.
Хотя такой эксперимент и свидетельствовал бы о том, что множественные варианты истории не только существуют, но и сильно влияют друг на друга (в том смысле, что ведут себя по-разному в зависимости от наличия или отсутствия другого), он не включает в себя передачу информации между историями (отправку произвольного сообщения в другую историю).
Точно так же, как мы не допустили в нашем рассказе, чтобы расщепление позволяло передавать информацию быстрее скорости света, мы должны обеспечить аналогичное ограничение и для интерференции. Проще всего для этого потребовать, чтобы воссоединение происходило, только если не было волн дифференциации. Другими словами, телепортатор может отменить скачок напряжения, только если он ещё не привёл к образованию каких-либо различий в чём-то ещё. Когда волна дифференциации, отвечающая паре различных значений X и Y некоей переменной, покинула объект, между ним и всеми попавшими под дифференциацию объектами возникает запутанность.
Итак, вкратце наше правило заключается в том, что интерференция возможна только для объектов, которые не запутаны с остальным миром. Именно поэтому в эксперименте с интерференцией два запуска телепортатора должны происходить «с коротким интервалом во времени». (Или же рассматриваемый объект должен быть достаточно хорошо изолирован, чтобы его напряжение не влияло на окружающий мир.) Тогда обобщённый эксперимент с интерференцией можно символически представить следующим образом
(⇒ и ⇓ обозначают действие телепортатора.) Как только между объектом и остальным миром возникнет запутанность относительно величин X и Y, никакая операция только над этим объектом не позволит создать интерференцию между этими величинами. Вместо этого истории просто будут продолжать расщепляться дальше, как это происходит обычно:
Когда несколько значений физической величины оказывают разное влияние на что-то в остальном мире, эффект домино обычно продолжается бесконечно и, как я уже описывал, волна дифференциации запутывает всё больше и больше объектов. Если все эффекты дифференциации удастся отменить, то снова станет возможной интерференция между исходными значениями; но законы квантовой механики диктуют, что для такой отмены требуется точно управлять всеми затронутыми объектами, а это вскоре становится неосуществимым. Этот процесс, ведущий к неосуществимости интерференции называется декогеренцией. В большинстве случаев она происходит очень быстро, поэтому расщепление обычно преобладает над интерференцией, а интерференцию, хотя она повсеместно встречается в микроскопических масштабах, достаточно сложно однозначно продемонстрировать в лабораторных условиях.
Тем не менее сделать это можно, и явления квантовой интерференции суть наши главные свидетельства существования мультивселенной и того, что представляют собой её законы. Практический аналог описанного выше эксперимента является стандартным для лабораторий квантовой оптики. Вместо вольтметров (многочисленные взаимодействия которых с окружающей средой быстро вызывают декогеренцию) используются отдельные фотоны, а переменная, над которой совершается действие, — не напряжение, а то, по какому из двух возможных путей проходит фотон. Вместо телепортатора используется простое устройство — полупрозрачное зеркало (на схемах ниже оно изображено в виде серых наклонных полосок). Попадая на такое зеркало, в половине вселенных фотон отскакивает, а в другой половине проходит сквозь него прямо, как показано на рисунке.
Свойства прохождения в направлении X и Y ведут себя аналогично двум напряжениям X и Y в нашей вымышленной мультивселенной. Прохождение через полупрозрачное зеркало с серебряным покрытием — аналог трансформации выше. А когда два экземпляра одного фотона, летящие по направлениям X и Y, одновременно ударяются о второе полупрозрачное зеркало с серебряным покрытием, они претерпевают трансформацию , что означает, что оба экземпляра появляются в направлении X, и две истории воссоединяются. Чтобы продемонстрировать это, можно воспользоваться конструкцией, известной как «интерферометр Маха — Цендера», в котором эти два преобразования (расщепление и интерференцию) выполняются быстро, друг за другом.
Два обычных зеркала (чёрные наклонные полосы) нужны, чтобы направить фотон от первого полупрозрачного зеркала ко второму.
Если запустить фотон по направлению вправо (X) после первого зеркала, а не перед ним, как показано на рисунке, то за последним зеркалом он, очевидно, случайно пойдёт либо вправо, либо вниз (потому что тогда там происходит ). То же верно для фотона, запускаемого после первого зеркала по направлению вниз (Y). Но фотон, запущенный так, как показано на рисунке, непременно выйдет вправо, а не вниз. Повторяя этот эксперимент с детекторами, установленными на траекториях фотонов и без них, можно убедиться в том, что в одном варианте истории всегда присутствует лишь один фотон, поскольку в ходе такого эксперимента наблюдается срабатывание только одного из этих детекторов. Тогда тот факт, что промежуточные истории X и Y обе дают вклад в детерминированный финальный исход X, неминуемо приводит к тому, что оба эти варианта событий протекают в промежуточные моменты времени.
В реальной мультивселенной нет необходимости в телепортаторе или другом специальном аппарате, который заставлял бы истории расщепляться или воссоединяться. По законам квантовой физики элементарные частицы участвуют в таких процессах сами по себе и всё время. Мало того, истории могут расщепляться больше чем на две части — зачастую на много триллионов частей, каждая из которых характеризуется немного отличным направлением движения или разницей в других физических переменных рассматриваемой элементарной частицы. Также в общем случае получающиеся истории имеют неравные меры. Так что давайте теперь попробуем обойтись без телепортатора и в вымышленной мультивселенной.
Темпы роста числа различных историй совершенно ошеломительны, несмотря на то, что благодаря интерференции теперь есть и определённое количество самопроизвольных воссоединений. Из-за этих воссоединений поток информации в реальной мультивселенной не разделён на строго автономные подпотоки — ветвящиеся, автономные истории. Хотя никакой коммуникации (в смысле отправки сообщений) между историями всё ещё нет, они существенно влияют друг на друга, потому что воздействие интерференции на развитие событий зависит от того, какие ещё истории присутствуют.
Не только мультивселенная не разделяется идеально на истории, но и отдельные частицы не разбиты идеально на экземпляры. Например, рассмотрим следующее явление интерференции, где X и Y теперь представляют разные значения положения одной частицы:
Поскольку эти две группы экземпляров частицы, изначально находившиеся в разных положениях, в какой-то момент были неотличимы, нельзя ставить вопрос, которая из них в какой конечной позиции оказалась. Интерференция такого рода происходит постоянно, даже с одной частицей в области пустого в иных отношениях пространства. Таким образом, в общем случае нет такого понятия, как «тот же самый» экземпляр частицы в разные моменты времени.
Даже в пределах одной и той же истории частицы, как правило, не сохраняют свою индивидуальность во времени. Например, при столкновении двух атомов варианты развития событий расщепляются на что-то вроде
и что-то вроде
Таким образом, для каждой отдельной частицы это событие скорее представляет собой столкновение с полупрозрачным зеркалом. Каждый атом играет роль зеркала для другого атома. А мультиверсный образ пары частиц примерно таков:
где в конце столкновения некоторые экземпляры каждого атома становятся неотличимыми от того, что изначально было другим атомом.
По той же причине нет такого понятия, как скорость одного экземпляра частицы в заданном местоположении. Скорость определяется как преодолённое расстояние, делённое на потраченное время, но это не имеет смысла, когда нет такого понятия, как определённый экземпляр частицы на протяжении отрезка времени. Вместо этого набор неотличимых экземпляров частицы в общем случае имеет несколько скоростей, и это означает, что мгновением позже они, вообще говоря, будут делать нечто разное. (Это ещё один пример «многообразия в пределах неотличимости».)
Не только неотличимый набор с одним и тем же положением может иметь разные скорости, но и группа неотличимых объектов с одной и той же скоростью может иметь различные положения. Более того, из законов квантовой физики следует, что для любого набора неотличимых экземпляров физического объекта некоторые из их свойств должны быть различными. Это так называемый «принцип неопределённости Гейзенберга», носящий имя физика Вернера Гейзенберга, создавшего первую версию квантовой теории.
Так, например, у отдельного электрона всегда есть набор различных положений и набор различных скоростей и направлений движения. Как следствие, его обычное поведение состоит в постепенном распределении по пространству. Электрон подчиняется квантово-механическому закону движения, напоминающему закон, по которому растекается чернильная клякса, — если он изначально располагался в очень маленькой области, то распространяется быстро, и чем больше он разрастается, тем меньше становится скорость. Информация о запутанности, которую в себе несёт электрон, гарантирует, что никакие два его экземпляра не будут задействованы в одной и той же истории. (Или, точнее говоря, во временах и местах, где есть варианты истории, он существует в экземплярах, которые никогда не смогут столкнуться.) Если диапазон скоростей частицы центрирован не на нуле, а на каком-то другом значении, то вся «чернильная клякса» движется, и её центр приблизительно подчиняется законам движения классической физики. Так, в общем, устроено в квантовой физике движение.
Этим объясняется также и то, как в одной истории частицы могут быть неотличимыми в устройствах наподобие атомного лазера. Две такие «частицы-кляксы», каждая из которых является мультиверсным объектом, могут идеально совпасть в пространстве, а их информация о запутанности может быть такой, что никакие два их экземпляра никогда не находятся в одной и той же точке одной и той же истории.
Теперь поместим протон в середину этого постепенно расползающегося облака экземпляров одного электрона. У протона положительный заряд, притягивающий отрицательно заряженный электрон. В результате облако перестанет расползаться, когда его размер достигнет такой величины, при которой тенденция к расширению из-за многообразия, связанного с принципом неопределённости, в точности компенсируется притяжением к протону. То, что получается в результате, называется атомом водорода.
Исторически это объяснение природы атомов было одним из первых триумфов квантовой теории, ведь согласно классической физике атомы вообще не могли существовать. Атом состоит из положительно заряженного ядра, окружённого отрицательно заряженными электронами. Но положительные и отрицательные заряды притягиваются и, если их ничто не сдерживает, ускоряются навстречу друг другу, испуская по пути энергию в виде электромагнитного излучения. Таким образом, было загадкой, почему электроны не «падают» на ядро, испустив вспышку света. Ни у ядра, ни у электронов в отдельности диаметр не превышает одной десятитысячной диаметра атома, так что же удерживает их на таком значительном расстоянии друг от друга? И что делает атомы стабильными при таких размерах? В совсем уж популярном изложении строение атомов иногда объясняют по аналогии с Солнечной системой: электроны вращаются по орбитам вокруг ядра, как планеты вокруг Солнца. Но это не соответствует действительности. Прежде всего гравитационно связанные объекты на самом деле медленно сближаются по спирали, испуская гравитационное излучение (этот процесс наблюдался в случае двойных нейтронных звёзд), а соответствующий электромагнитный процесс в атоме закончился бы за долю секунды. Кроме того, существование твёрдого вещества, состоящего из плотно прилегающих друг к другу атомов, свидетельствует о том, что они не могут легко проникать друг в друга, тогда как планетные системы на это способны. Более того, оказывается, что в атоме водорода электрон в состоянии с наименьшей энергией вообще не вращается, а, как я говорил, просто сидит, как чернильная клякса, — стремление распространяться, обусловленное принципом неопределённости, в точности уравновешивается электростатической силой. Таким образом, явления интерференции и многообразия в пределах неотличимости — неотъемлемая часть структуры и стабильности всех статических объектов, включая все твёрдые тела, так же, как и неотъемлемая часть всякого движения.
Устоявшийся термин «принцип неопределённости» вводит в заблуждение. Подчеркну, что он не имеет никакого отношения к неопределённости или каким-либо иным неприятным психологическим ощущениям, которые могли испытывать первопроходцы квантовой физики. Когда у электрона есть более одной скорости или более одного положения, в этом не больше чьей-то неуверенности в его скорости, чем «неуверенности» относительно того, какой из долларов на банковском счету принадлежит налоговым органам. Многообразие свойств в обоих случаях — физический факт, который не зависит от чьих-либо знаний или ощущений.
И, кстати говоря, принцип неопределённости вовсе не «принцип», ведь принцип предполагает независимый постулат, который с точки зрения логики можно было бы отбросить или заменить и получить другую теорию. На самом же деле выбросить его из квантовой теории не труднее, чем в астрономии не обращать внимания на затмения. Нет никакого «принципа затмений»: их существование можно вывести из гораздо более общих теорий, как, например, геометрия и динамика Солнечной системы. Аналогично и принцип неопределённости выводится из принципов квантовой теории.
Благодаря сильной, постоянно протекающей внутренней интерференции типичный электрон представляет собой принципиально мультиверсный объект, а не набор объектов из параллельных вселенных или с параллельными историями. Другими словами, у него множество положений и скоростей, но при этом он не делится на автономные субсущности, у каждой из которых одна скорость и одно положение. Даже разные электроны не обладают совершенно обособленной индивидуальностью. Таким образом, в реальности есть электронное поле, охватывающее всё пространство, и возмущения распространяются по этому полю в виде волн со скоростью света или ниже. Отсюда появилось часто цитируемое заблуждение первопроходцев квантовой теории, будто электроны (как и другие частицы) — это «частицы и волны одновременно». Для каждой отдельной частицы, которую мы наблюдаем в конкретной вселенной, в мультивселенной есть поле (или «волны»).
Квантовая теория выражается математическим языком, но я сейчас на обычном языке объяснил основные особенности описываемой ею действительности. Таким образом, на данном этапе та вымышленная вселенная, которую я рисую, является более или менее реальной. Но осталось привести в порядок ещё одно. Моя «последовательность рассуждений» опиралась на представление о вселенных и экземплярах объектов и продолжалась корректировкой этих идей с целью описать мультивселенную. Но настоящая мультивселенная ни на что «не опирается» и не является поправкой для чего бы то ни было. Вселенные, истории, частицы и их экземпляры не упоминаются в квантовой теории, как и планеты, люди, их жизнь и привязанности. Всё это — приближённые описания, эмерджентные явления для мультивселенной.
История является частью мультивселенной в том же смысле, как геологический пласт — часть земной коры. Одна история отличается от других значениями физических переменных, так же как один пласт отличается от других химическим составом, типами найденных в нём окаменелостей и так далее. И геологический пласт, и вариант истории — это каналы информационного потока. Они сохраняют информацию, потому что, хотя их содержимое со временем и меняется, они приблизительно автономны — другими словами, изменения в конкретном пласте или варианте истории зависят практически полностью от условий внутри них, а не где-либо ещё. Именно благодаря этой автономности по найденной сегодня окаменелости можно судить о том, что было в момент формирования пласта. И по аналогичной причине с помощью классической физики можно в рамках одной истории успешно предсказывать некоторые аспекты её будущего по её прошлому.
Пласт, как и вариант истории, не имеет отдельного существования в отрыве от заключённых в нём объектов: он состоит из них. Нет у пласта и чётко заданных границ. Кроме того, на Земле есть области, например около вулканов, где пласты сливаются (хотя я думаю, нет таких геологических процессов, при которых пласты расщеплялись бы и затем снова объединялись, как расщепляются и вновь объединяются истории). Есть в Земле и области, такие как ядро, в которых никогда не было пластов. А есть области, такие как атмосфера, где пласты формируются, но их содержимое взаимодействует и смешивается гораздо быстрее, чем в коре Земли. Аналогично, в мультивселенной существуют области, содержащие скоротечные варианты истории, и области, где даже в приближённом рассмотрении нет никаких историй.
И всё же есть одно большое различие в том, как геологические пласты и варианты истории возникают из соответствующих базовых явлений. Хотя не каждый атом земной коры можно однозначно приписать конкретному пласту, для большей части атомов, образующих пласт, это возможно. Напротив, каждый атом в повседневных предметах — объект мультиверсный, не разбиваемый на почти автономные экземпляры и почти автономные истории. Но при этом повседневные объекты, такие как звездолёты и обручённые парочки, состоящие из таких частиц, очень точно разбиваются на почти автономные варианты истории ровно с одним экземпляром, одним положением, одной скоростью у каждого объекта в каждом варианте.
Причина в том, что интерференция подавляется запутанностью. Как я уже объяснял, интерференция почти всегда либо сразу следует за расщеплением, либо не случается вообще. Поэтому чем больше и сложнее объект или процесс, тем меньше интерференция влияет на его поведение в целом. На этом «крупнозернистом» уровне эмерджентности события в мультивселенной состоят из автономных историй, причём каждая «крупнозернистая» история состоит из пучка историй, отличающихся только микроскопическими деталями, но влияющих друг на друга путём интерференции. Сферы дифференциации стремятся расти практически со скоростью света, поэтому в масштабе повседневной жизни и выше эти обобщённые истории вполне оправданно назвать «вселенными» в обычном смысле этого слова. Каждая из них чем-то похожа на вселенную в понимании классической физики. И их вполне разумно назвать «параллельными», потому что они практически автономны. Каждая из них в глазах своих обитателей очень похожа на мир, в котором есть только одна вселенная.
Микроскопические события, которые случайно усиливаются до этого крупнозернистого уровня (как скачок напряжения в нашем рассказе), редкость для любого отдельно взятого варианта крупнозернистой истории, но обычное дело в мультивселенной в целом. Возьмём, например, одну частицу космических лучей, которая летит из глубокого космоса в сторону Земли. Эта частица должна двигаться по семейству немного различных траекторий, поскольку принцип неопределённости говорит, что в мультивселенной она по пути должна растекаться, как чернильная клякса. К моменту прибытия эта клякса вполне может оказаться шире всей Земли, и большая её часть пройдёт мимо, а остальное ударит по всей соответствующей стороне планеты. Напомню, что это всего лишь одна частица, которая может состоять из неотличимых экземпляров. Далее они перестают быть неотличимыми, расщепляясь от взаимодействия с атомами в точках их прибытия на конечное, но огромное число экземпляров, каждый из которых порождает отдельную историю.
В каждой такой истории есть автономный экземпляр космической частицы, который будет рассеивать свою энергию, порождая так называемый широкий атмосферный ливень из электрически заряженных частиц. В разных вариантах истории такой ливень случается в разных местах. В некоторых он оставит токопроводящий канал, по которому проследует молния. Каждый атом на поверхности Земли подвергнется удару молнии в какой-нибудь из историй. В других историях одна из этих космических частиц попадёт в человеческую клетку и повредит уже дефектную ДНК так, что клетка станет раковой. Некоторая и не пренебрежимо малая доля всех раковых заболеваний так и зарождается. В результате существуют варианты истории, в которых любой заданный человек, который в некоторый момент времени жив в нашем варианте, вскоре умрёт от рака. Существуют и другие истории, в которых ход битвы или войны меняется подобным событием, или вспышкой молнии в нужном месте в нужное время, или в результате бесчисленного множества других маловероятных «случайных» событий. Весьма вероятно, что существуют варианты, в которых события развиваются примерно так, как в произведениях жанра альтернативной истории, таких как «Фатерланд» или «Вечный Рим», или в которых события вашей собственной жизни развивались бы совсем по-другому, будь то к лучшему или к худшему.
Поэтому большая часть фантастики близка к действительности, существующей где-то в мультивселенной. Но не вся. Например, нет историй, в которых верны мои рассказы про неисправность телепортатора, потому что они требуют других законов физики. Как нет и историй с другими фундаментальными постоянными, такими как скорость света и заряд электрона. Однако есть смысл, при котором другие законы физики кажутся верными некоторое время в некоторых вариантах истории из-за последовательности «маловероятных случайностей». (Также могут быть вселенные, в которых действуют другие законы физики, что необходимо для антропных объяснениях тонкой настройки. Но пока что жизнеспособной теории для такой мультивселенной нет.)
Представьте себе одиночный фотон, выпущенный коммуникационным лазером звездолёта и движущийся по направлению к Земле. Как и частица космического излучения, в разных историях он попадает в каждую точку её поверхности. В каждой из них фотон поглощается только одним атомом, а остальные изначально совершенно не будут затронуты. Приёмник для такой связи должен тогда обнаруживать относительно большое, дискретное изменение, которое претерпел этот атом. Важное следствие для конструкции измерительных устройств (включая глаза) состоит в том, что как бы далеко ни находится источник, толчок, данный атому пришедшим фотоном, всегда одинаков: просто чем слабее сигнал, тем меньше толчков. Если бы это было не так, например, если бы выполнялись законы классической физики, слабые сигналы гораздо легче тонули бы в случайном местном шуме. Это то же самое, что и преимущество цифровой обработки информации над аналоговой, о котором я говорил в главе 6.
Некоторые мои исследования в области физики имеют отношение к теории квантовых компьютеров. Существуют компьютеры, в которых несущие информацию переменные различными средствами защищены от запутывания с окружением. Это делает возможным новый режим вычислений, в котором поток информации не замкнут в единственной истории. В одном из типов квантового компьютинга огромное число различных вычислений, производимых одновременно, могут влиять друг на друга, а значит, вносить свой вклад в результат. Это так называемый квантовый параллелизм.
В типичном квантовом вычислении отдельные биты информации представляются физическими объектами, называемыми «кубитами» — квантовыми битами, у которых есть большое разнообразие физических реализаций, всегда обладающих двумя важными свойствами. Во-первых, у каждого кубита есть переменная, которая может принимать одно из двух дискретных значений, и, во-вторых, для защиты кубитов от запутывания принимаются особые меры, такие как охлаждение их до температур, близких к абсолютному нулю. Типичный алгоритм, использующий квантовый параллелизм, начинается с того, что вынуждает несущие информацию переменные в некоторых кубитах принять оба значения одновременно. Следовательно, если рассматривать эти кубиты как регистр, представляющий (скажем) число, количество отдельных экземпляров регистра экспоненциально велико: два в степени числа кубитов. Затем некоторое время производятся классические вычисления, и в ходе этого процесса волны дифференциации распространяются на некоторые другие кубиты, но не дальше — благодаря упомянутым особым мерам. Это значит, что информация обрабатывается отдельно в каждой из этих многочисленных автономных историй. Наконец процесс интерференции, включающий все затронутые кубиты, объединяет информацию в этих вариантах в единую историю. Из-за промежуточных вычислений, в которых происходила обработка информации, конечное состояние не совпадает с начальным, как в простом эксперименте с интерференцией, описанном выше (, а представляет собой некоторую его функцию, например
Алгоритм, использующий квантовый параллелизм, делает то же, что и члены экипажа звездолёта, которые могли добиться эффекта большого объёма вычислений, обмениваясь информацией со своими двойниками, вычисляющими ту же самую функцию с разными входными данными. Но если в фантастике эффект ограничен только правилами корабля, которые мы можем придумать в соответствии с сюжетом, то квантовые компьютеры ограничены законами физики, которым подчиняется квантовая интерференция. Таким способом с помощью мультивселенной можно производить только определённые типы параллельных вычислений, для которых математический аппарат квантовой интерференции как раз подходит для сведения в единую историю информации, необходимой для получения конечного результата.
В таких вычислениях квантовый компьютер всего лишь с несколькими сотнями кубитов смог бы в параллельном режиме производить гораздо больше вычислений, чем атомов в видимой части нашей Вселенной. На момент написания этой книги были построены квантовые компьютеры, насчитывающие около десяти кубитов. Дальнейшее «масштабирование» этого подхода — огромной сложности задача для квантовых технологий, но исследователи постепенно приближаются к её решению.
Я уже упоминал, что, когда крупный объект подвергается незначительному воздействию, в результате этот объект обычно остаётся совершенно незатронутым. Теперь я могу объяснить, почему это так. Например, в уже обсуждавшемся интерферометре Маха — Цендера два экземпляра одного фотона проходят по двум различным путям. В ходе этого процесса они отражаются от двух разных зеркал. Интерференция будет иметь место, только если не возникнет запутанности фотона с зеркалами, но она возникнет, если в любом из двух зеркал останется даже самая незначительная запись о столкновении (так как это будет дифференциальный эффект для двух экземпляров фотона, проходящего по двум различным путям). Даже одного кванта изменения амплитуды вибрации зеркала на его опоре, например, будет достаточно, чтобы помешать интерференции (последующему слиянию двух экземпляров фотона).
Когда один из экземпляров фотона отражается от любого из зеркал, у него изменяется импульс, а значит, согласно закону сохранения импульса (который универсально выполняется, как в классической, так и в квантовой физике), импульс зеркала должен измениться на равную и противоположную величину. Поэтому кажется, что в каждом варианте истории после столкновения с фотоном одно зеркало, но не другое, должно вибрировать с немного большей или меньшей энергией. Такое изменение энергии могло бы указывать, по какому пути прошёл фотон, и между зеркалами и фотоном возникла бы запутанность.
К счастью, этого не происходит. Напомню, что на достаточно детальном уровне то, что нам в первом приближении видится как один вариант истории для зеркала, пассивно пребывающего или слегка вибрирующего на опоре, на самом деле представляет собой огромное число историй, в которых экземпляры всех атомов постоянно расщепляются и воссоединяются. В частности, совокупная энергия зеркала принимает огромное число возможных значений в окрестности среднего, «классического». Но что же происходит, когда фотон ударяет по зеркалу, изменяя эту суммарную энергию на один квант?
На минуту упростив ситуацию до предела, представим себе всего пять из бесконечного числа экземпляров зеркала, причём у каждого из них своя энергия колебаний со значением в диапазоне от двух квантов ниже до двух квантов выше среднего. Каждый экземпляр фотона попадает на один экземпляр зеркала и сообщает ему один дополнительный квант энергии. Таким образом, после этого удара средняя энергия экземпляров зеркала увеличится на один квант, и теперь это будут экземпляры со значениями энергии от одного кванта ниже до трёх квантов выше старого среднего. Но поскольку на этом уровне детализации не существует автономных историй, связанных с любым из этих значений энергии, не имеет смысла спрашивать, является ли экземпляр зеркала с конкретным значением энергии после удара тем же, что и тот, у которого раньше была такая энергия. Объективным является только тот физический факт, что из пяти экземпляров зеркала у четырёх значения энергии те же, что были раньше, а у одного — нет. Значит, только он — тот, у которого энергия на три кванта выше, чем предыдущее среднее, — несёт запись о столкновении с фотоном. А это означает, что только в одной пятой вселенных, в которых фотон ударился о зеркало, волна дифференциации дошла до зеркала, и только в них будет подавлена последующая интерференция между экземплярами этого фотона, которые столкнулись или не столкнулись с зеркалом.
В реальных цифрах это ближе к одному случаю из триллиона триллионов, а значит, вероятность подавления интерференции равна всего лишь одному из триллиона триллионов. Это значительно ниже, чем вероятность того, что эксперимент даст неточные результаты из-за неидеальных измерительных приборов или что он сорвётся из-за удара молнии.
Теперь рассмотрим получение этого одного кванта энергии, чтобы понять, как такое дискретное изменение может случиться без всякого нарушения непрерывности. Рассмотрим простейший из возможных случаев: атом поглощает фотон вместе со всей его энергией. Эта передача энергии не является мгновенной. (Забудьте всё, что читали о «квантовых скачках», — это всё выдумки.) Есть много способов, как это может произойти, но самый простой из них следующий. В начале процесса атом находится (скажем) в своём «основном состоянии», в котором у его электронов наименьшая возможная энергия, допускаемая квантовой теорией. Это означает, что все его экземпляры (в рамках соответствующей крупнозернистой истории) обладают такой энергией. Допустим также, что они неотличимы. В конце процесса все экземпляры остаются неотличимыми, но теперь они находятся в «возбуждённом состоянии» с одним дополнительным квантом энергии. Что представляет собой атом в середине процесса? Его экземпляры всё ещё остаются неотличимыми, но половина из них находится в основном, а половина — в возбуждённом состоянии. Это как если бы непрерывно изменяемое количество денег постепенно переходило от одного дискретного владельца к другому.
Такой механизм постоянно встречается в квантовой физике и в общем случае за счёт него переходы между дискретными состояниями осуществляются непрерывным образом. В классической физике «крохотный эффект» всегда означает очень малое изменение каких-либо измеримых величин. А в квантовой — физические переменные обычно дискретны и не могут претерпевать очень мало изменений. Поэтому тут «крохотный эффект» означает небольшое изменение в пропорциях различных дискретных свойств.
На фоне этого встаёт также вопрос, является ли само время непрерывной величиной. В рамках данного обсуждения я полагаю, что является. Однако квантовая механика времени ещё до конца не понята и не будет понята, пока не появится квантовая теория гравитации (объединение квантовой теории с общей теорией относительности); и может оказаться, что всё не так просто. Но в чём мы можем быть вполне уверены, так это в том, что в этой теории разные времена — это частный случай разных вселенных. Другими словами, время — явление, связанное с запутанностью, которое помещает все одинаковые показания часов (правильно подготовленных часов или любых объектов, которые можно использовать как часы) в одну и ту же историю. Первыми это поняли в 1983 году физики Дон Пейдж и Уильям Вутерс.
Какое продолжение будет у нашего научно-фантастического рассказа в этой полной версии квантовой мультивселенной? Практически всё внимание, которое квантовая теория привлекла со стороны физиков, философов и авторов научно-фантастических произведений, сосредоточено на том, что касается параллельных вселенных. Это парадоксально, поскольку именно в приближении параллельных вселенных мир больше всего похож на тот, что рисует классическая физика, но в то же время именно этот аспект квантовой теории многие люди не могут интуитивно принять.
Фантастика может исследовать возможности, открываемые параллельными вселенными. Например, наш рассказ — о любви, поэтому герои вполне могут поинтересоваться судьбой своих двойников в других историях. В рассказе их размышления могут сравниваться с тем, что, как мы «знаем», случилось в других вариантах. Герой, неверность супруга которого открылась благодаря «случайному» событию, может заинтересоваться, не даёт ли это ему хороший повод отделаться от брака, который и так обречён быть несчастным. Остались ли они вместе в той истории, в которой о неверности ничего не известно? Счастливы ли по-прежнему? Может ли счастье быть подлинным, если оно «основано на лжи»? Наблюдая за тем, как они рассуждают обо всём этом, мы видим историю, где они всё ещё женаты, и знаем (выдуманную) суть дела.
Они могут также размышлять и о не столь обыденных вопросах. В рассказе может говориться о том, что их солнце — часть скопления из десятков звёзд и все они находятся внутри сферы радиусом в несколько световых недель. Это десятилетиями озадачивало их учёных, поскольку состав звёзд показывает, что они происходят из разных мест, но стали гравитационно связанными в результате серии очень маловероятных совпадений. В большинстве вселенных, как подсчитали эти учёные, жизнь в таких плотных звёздных скоплениях развиться не может, потому что там слишком много столкновений. Получается, что в большинстве вселенных, в которых есть люди, нет флота звездолётов, посещающих одну за другой обитаемые звёздные системы. Они пытались найти механизм, благодаря которому соседство с ближайшими звёздами каким-то образом могло бы ускорить появление разумной жизни, но им это не удалось. Следует ли им считать всё это лишь астрономически маловероятным совпадением? Но учёным не нравится оставлять что-либо без объяснения. И они делают вывод, что нечто их выбрало. Так и было. Эти люди — не просто рассказ. Это реальные, живые и думающие люди, которые прямо сейчас спрашивают себя, откуда они взялись. Но они никогда этого не узнают. В этом одном отношении им не повезло: выбор на них пал действительно по совпадению. Или, говоря иным языком, они избраны самим рассказом о них, который я сейчас излагаю. Вся фантастика, которая не нарушает законов физики, — это факт.
Некоторые фантастические сюжеты, в которых законы физики кажутся нарушенными, тоже реализуются где-то в мультивселенной. Сюда входит тонкий вопрос о том, как структурирована мультивселенная — как появляются варианты истории. Каждая история почти автономна. Если я кипячу воду в чайнике и завариваю чай, я нахожусь в варианте истории, в котором я включил чайник, вода в нём постепенно нагревалась, потому что чайник передавал ей свою энергию, в итоге образовывались пузырьки и так далее, и в конце концов получился горячий чай. Это — история, потому что она позволяет давать объяснения и делать предсказания без всякого упоминания о существовании в мультивселенной других вариантов, где я решил сварить кофе, или о том, что на микроскопическое движение молекул воды немного влияют части мультивселенной, находящиеся вне этой истории. Для этого объяснения несущественно, что в ходе процесса от данной истории отщепляется малая мера, в которой делается что-то другое. В каком-то крошечном ответвлении чайник превращается в цилиндр, а вода — в кролика, который тут же убегает, а я в итоге остаюсь без чая и без кофе и пребываю в сильном недоумении. Это тоже история, но уже после превращения чайника. Однако никак нельзя корректно объяснить, что происходило в ходе превращения, или предсказать вероятности, не ссылаясь на другие части мультивселенной, гораздо более обширные (то есть с бóльшими мерами), в которых нет кролика. Таким образом, этот вариант истории начался в момент превращения чайника, и его причинную связь с тем, что произошло до этого, нельзя выразить в терминах истории, а можно только в терминах мультивселенной.
В таких простых случаях, как этот, есть готовый приблизительный язык, на котором мы можем минимизировать упоминание оставшейся части мультивселенной: язык случайных событий. Это позволяет нам признать, что бóльшая часть рассматриваемых высокоуровневых объектов ведёт себя автономно, кроме тех случаев, когда на них влияет нечто внешнее по отношению к ним, как, например, кролик — на меня. Здесь проявляется своего рода непрерывность между новой историей и предыдущей, от которой она отделилась, и мы можем называть первую из них «историей, на которую повлияли случайные события». Однако в буквальном смысле этого никогда не происходило: часть этой «истории» до «случайного события» неотличима от остальной части более широкой истории — она не обладает отдельной идентичностью, и её нельзя отдельно объяснить.
Однако более широкий вариант этих двух историй остаётся объяснимым. Это говорит о том, что вариант с кроликом фундаментально отличается от варианта с чаем, поскольку последний остаётся с высочайшей точностью автономным на протяжении всего рассматриваемого периода. В варианте с кроликом у меня остаются воспоминания, идентичные тому, какими они были бы в истории, где вода превратилась в кролика. Но это воспоминания, вводящие в заблуждение. Такого варианта не было; история, содержащая эти воспоминания, началась только после формирования кролика. Надо сказать, что в мультивселенной есть места — с гораздо большей мерой, — в которых затронут был только мой мозг, породивший в точности эти воспоминания. По сути, у меня была галлюцинация, вызванная случайным движением атомов в моём мозгу. Некоторые философы придают таким вещам слишком большое значение, утверждая, что это ставит под сомнение научный статус квантовой теории, но это, конечно же, эмпирицисты. В действительности ошибочные наблюдения, ошибочные воспоминания и ложные толкования — обычное дело даже на главных линиях истории. Мы должны сильно постараться, чтобы не дать им себя обмануть.
Таким образом, не совсем верно, что, например, есть истории, в которых кажется, будто магия действует. Есть только такие, в которых кажется, что магия сработала, но больше такого не повторится. Есть истории, в которых я как будто прошёл через стену, потому что все атомы моего тела, так уж получилось, сохранили свои исходные курсы, после того взаимодействие с атомами стены. Но эти истории начинаются от стены: истинное объяснение случившегося включает много других экземпляров меня и стены — или можно грубо объяснить это случайными событиями с очень низкой вероятностью. В чём-то это схоже с выигрышем в лотерею: победитель не может адекватно объяснить свою удачу, не упоминая о существовании множества проигравших. В мультивселенной проигравшие — это другие экземпляры себя.
Приближение с «историями» полностью ломается, лишь когда варианты не только расщепляются, но и сливаются; иными словами, в явлении интерференции. Например, некоторые молекулы могут существовать в двух или более конформациях одновременно («конформация» — расположение атомов, удерживаемых химическими связями). Химики называют это явление «резонансом» между двумя конформациями, но молекула не переходит из одной в другую: она находится в них одновременно. Объяснить химические свойства таких молекул через одну структуру невозможно, потому что, когда «резонансная» молекула участвует в химической реакции с другими молекулами, происходит квантовая интерференция.
В научной фантастике у нас есть право доходить в рассуждениях до такого уровня неправдоподобности, который привёл бы к совершенно неразумным объяснениям в настоящий науке. Но наилучшим объяснением нас самих в настоящей науке является то, что мы — разумные существа в этой гигантской неестественной для нас структуре, где у материальных предметов нет непрерывности, и даже столь базовые вещи, как движение или изменение, отличаются от всего, с чем мы привыкли иметь дело, — мы сами внедрены в мультиверсные объекты. Когда мы что-то наблюдаем — научный инструмент, галактику, человека, на самом деле мы видим проекцию на одну вселенную намного более масштабного объекта, который неким образом простирается в другие вселенные. В некоторых из тех вселенных объект выглядит таким же, как его видим мы, а в некоторых — совсем по-другому или его вообще там нет. То, что наблюдателю кажется женатой парой, на самом деле лишь одно волокно обширной сущности, которая включает в себя множество неотличимых экземпляров этой пары, а также остальных их экземпляров, которые в разводе, и тех, которые никогда не вступали в брак.
Мы — каналы информационного потока. Как и варианты истории, как и все относительно автономные объекты в рамках этих историй; но мы, разумные существа, — каналы крайне необычные, каналы, по которым (иногда) развивается знание. Это может иметь колоссальные последствия, не только внутри отдельной истории (где это может, например, выражаться в том, что влияние не уменьшается с расстоянием), но и в мультивселенной в целом. Поскольку знание развивается в процессе исправления ошибок и поскольку намного больше способов оказаться неправым, чем правым, сущности, создающие знания в разных историях, быстро становятся более похожими друг на друга, чем иные сущности. Насколько нам известно, процессы создания знания уникальны в обоих этих отношениях: все остальные результаты каких-либо воздействий уменьшаются с расстоянием в пространстве и в долгосрочной перспективе всё сильнее различаются по всей мультивселенной.
Но это лишь насколько нам известно. А вот некоторые смелые рассуждения, которые могли бы вылиться в научно-фантастический рассказ. Что если существует нечто, отличное от информационного потока, способное вызывать когерентные, эмерджентные явления в мультивселенной? Что если в результате может возникать знание или нечто иное, у чего станут появляться свои собственные цели и что начнёт адаптировать под них мультивселенную, как это делаем мы? Сможем ли мы общаться с этой сущностью? В обычном смысле слова, вероятно, нет, потому что это был бы информационный поток; но возможно, в нашем рассказе будет предложен какой-нибудь новый аналог коммуникации, который, как квантовая интерференция, не включает в себя пересылку сообщений. Не придётся ли нам бороться с такой сущностью за выживание? А может, несмотря ни на что, у нас с ней найдётся что-то общее? Давайте будем избегать парохиальных выводов по этому вопросу, таких как открытие, заключающееся в том, что преодолеть преграды помогает любовь или доверие. Но давайте будем помнить, что точно так же, как мы достигаем высшей значимости в великой схеме бытия, что угодно другое может достичь этого уровня, если только тоже способно создавать объяснения. А место на вершине найдётся всегда[82].
Терминология
Неотличимый — идентичный во всех отношениях.
Мир — физическая реальность в целом.
Мультивселенная — мир в соответствии с квантовой теорией.
Вселенная — квазиавтономная область мультивселенной.
История (вариант истории) — набор неотличимых вселенных во времени. Можно также говорить об истории частей вселенной.
Параллельные вселенные — отчасти вводящий в заблуждение способ описания мультивселенной. Ошибочный, поскольку вселенные не идеально «параллельны» (автономны) и поскольку мультивселенная имеет гораздо больше структур, особое значение среди которых имеют неотличимость, запутанность и мера историй.
Экземпляры — в тех частях мультивселенной, которые содержат вселенные, каждый мультиверсный объект можно приблизительно считать состоящим из «экземпляров» по одному в каждой вселенной, часть из которых идентичны, а часть — нет.
Квант — наименьшее возможное изменение дискретной физической переменной.
Запутанность — информация в каждом мультиверсном объекте, которая определяет, какие его части (экземпляры) на какие части других мультиверсных объектов могут влиять.
Декогеренция — процесс, в результате которого становится нереальным отменить последствия распространения волны дифференциации между вселенными.
Квантовая интерференция — явление, вызванное тем, что переставшие быть неотличимыми экземпляры мультиверсного объекта, вновь становятся неотличимыми.
Принцип неопределённости — (неудачно названный) вывод из квантовой теории, заключающийся в том, что в любом неотличимом наборе экземпляров физического объекта некоторые из их свойств должны быть различными.
Квантовые вычисления — вычисления, при которых поток информации не ограничен одной историей.
Краткое содержание
Физический мир — это мультивселенная, а её структура определяется тем, как в ней течёт информация. Во многих областях мультивселенной информация течёт квазиавтономными потоками, называемыми историями, один из них мы считаем нашей «вселенной». Вселенные приблизительно подчиняются законам классической (доквантовой) физики. Но мы знаем об остальной части мультивселенной и можем проверить законы квантовой физики благодаря явлению квантовой интерференции. Таким образом, вселенная не точное, а эмерджентное свойство мультивселенной. Одним из наименее естественных и контринтуитивных свойств мультивселенной является неотличимость. Законы движения в мультивселенной детерминистические, а кажущаяся случайность обусловлена тем, что изначально неотличимые экземпляры объектов становятся различающимися. В квантовой физике переменные обычно дискретны, а изменение их значений с одного на другое представляет собой мультиверсный процесс, включающий в себя интерференцию и неотличимость.
12. Физик — о несостоятельной философии С некоторыми замечаниями о несостоятельных научных теориях
Кстати, всё, что я вам сейчас рассказал, представляет собой пример того, что я называю «история физики глазами физика», — а она всегда неправильна…
Ричард Фейнман. КЭД — странная теория света и вещества (QED: The Strange Theory of Light and Matter, 1985)[83].ЧИТАТЕЛЬ: Так, значит, я — эмерджентный квазиавтономный поток информации в мультивселенной?
ДЭВИД: Именно так.
ЧИТАТЕЛЬ: И я существую во множестве экземпляров, часть из которых отличается друг от друга, а часть — нет. И согласно квантовой теории это наименее странное, что есть в устройстве мира?
ДЭВИД: Да.
ЧИТАТЕЛЬ: И вы утверждаете, что у нас нет другого выбора, кроме как принять выводы этой теории, потому что это единственное известное объяснение многих явлений и оно выдержало все известные экспериментальные проверки?
ДЭВИД: А какие ещё варианты вам нужны?
ЧИТАТЕЛЬ: Я просто резюмирую.
ДЭВИД: Тогда да: квантовая теория универсальна по сфере своего охвата. Но если вы лишь хотите объяснить, откуда мы знаем, что есть другие вселенные, то необязательно проходить всю теорию. Достаточно остановиться на том, что происходит с единичным фотоном в интерферометре Маха — Цендера: путь, по которому фотон не полетел, влияет на тот, по которому он прошёл. Или если вам нужна ещё большая ясность, представьте себе квантовый компьютер: то, что он выдаёт, зависит от промежуточных результатов, вычисляемых в огромном количестве различных историй, связанных с одними и теми же несколькими атомами.
ЧИТАТЕЛЬ: Но это же просто несколько атомов, которые существуют во множестве экземпляров. Это не люди.
ДЭВИД: Вы хотите сказать, что состоите не из атомов?
ЧИТАТЕЛЬ: А, понятно.
ДЭВИД: Представьте себе также огромное облако экземпляров одного фотона, часть из которых задержана по пути барьером. Поглотил ли их тот барьер, который мы видим, или каждый поглощён другим квазиавтономным барьером, находящимся в том же месте?
ЧИТАТЕЛЬ: А какая разница?
ДЭВИД: Разница есть. Если бы все они были поглощены тем барьером, который мы видим, он бы испарился.
ЧИТАТЕЛЬ: Пожалуй, испарился бы.
ДЭВИД: И мы можем спросить, как спрашивал я в рассказе о звездолёте и фантомной зоне, на чём стоят эти барьеры? Наверно, на других экземплярах пола. И планеты. А затем мы можем вспомнить об экспериментаторах, которые всё это устанавливают и наблюдают результаты и так далее.
ЧИТАТЕЛЬ: Получается, что эта струйка фотонов, проходящих через интерферометр, действительно открывает окно с видом на огромную множественность вселенных.
ДЭВИД: Да. Это ещё один пример силы, и лишь малой доли силы квантовой теории. Объяснение этих экспериментов по отдельности не так сложно варьировать, как всю теорию. Но в том, что касается существования других вселенных, оно, бесспорно, остаётся таким же.
ЧИТАТЕЛЬ: И это всё?
ДЭВИД: Да.
ЧИТАТЕЛЬ: Но тогда почему к согласию пришла лишь малая часть физиков, занимающихся квантовой теорией?
ДЭВИД: Из-за несостоятельной философии.
ЧИТАТЕЛЬ: А что это?
Квантовая теория была открыта двумя физиками — Вернером Гейзенбергом и Эрвином Шрёдингером — независимо друг от друга, и они подошли к ней с разных сторон. В честь второго из них названо уравнение Шрёдингера, которое представляет собой способ выражения квантово-механических законов движения.
Обе версии теории были сформулированы между 1925 и 1927 годами, и в обеих движение, особенно в атомах, объяснялось новым и совершенно контринтуитивным образом. Теория Гейзенберга утверждала, что физические переменные, характеризующие какую-либо частицу, не имеют числовые значения. Это матрицы: большие массивы чисел, связанные сложным, вероятностным образом с исходами наблюдений этих переменных. Это теперь мы знаем, что множественность информации существует, потому что переменная принимает различные значения для различных экземпляров объекта в мультивселенной. А тогда ни Гейзенберг, ни кто-либо другой не верили, что его матрично-значные величины буквально описывают то, что Эйнштейн называл «элементами реальности».
Уравнение Шрёдингера применительно к отдельной частице описывало волну, движущуюся в пространстве. Но Шрёдингер вскоре понял, что для случая двух или более частиц это не так. Уравнение не описывало волну с множеством гребней, его нельзя было разрешить с получением двух или более волн; с математической точки зрения получалась одна волна в пространстве более высокой размерности. Это теперь мы знаем, что такие волны описывают, какая доля экземпляров каждой частицы находится в каждой области пространства, а также информацию о запутанности частиц между собой.
Хотя казалось, что теории Шрёдингера и Гейзенберга описывают очень непохожие миры, каждый из которых было непросто соотнести с существующими представлениями о реальности, вскоре обнаружилось, что, если добавить к каждой теории определённое, простое эмпирическое правило, они всегда будут делать идентичные предсказания. Более того, эти предсказания оказались весьма удачными.
Теперь, оглядываясь в прошлое, мы можем сформулировать это правило так: при каждом измерении перестают существовать все истории, кроме одной. Этот вариант выбирается случайным образом, а вероятность каждого возможного исхода равна суммарной мере всех историй, в которых этот исход реализуется.
Но потом случилась беда. Вместо того чтобы попытаться усовершенствовать и объединить эти две сильные, хотя и небезупречные, объяснительные теории и понять, почему такая эмпирическая закономерность работает, большая часть сообщества физиков-теоретиков быстро, как по команде, ушла в инструментализм. Если предсказания сбываются, рассуждали они, зачем беспокоиться о каком-то объяснении? И они пытались рассматривать квантовую теорию всего лишь как набор эмпирических закономерностей для предсказания наблюдаемых исходов экспериментов, ничего (больше) не говорящих о реальности. Такой взгляд популярен и сегодня, и его критики (и даже некоторые сторонники) называют его «интерпретацией квантовой теории в стиле „заткнись и считай“».
Это означало игнорирование ряда неудобных фактов. Во-первых, того, что это эмпирическое правило совершенно несовместимо с обеими теориями; поэтому его можно использовать лишь в тех ситуациях, когда квантовые эффекты слишком малы и, как следствие, незаметны. В их число попадал момент измерения (из-за запутанности с измерительным инструментом и последующей декогеренции, как мы теперь знаем). Во-вторых, оно даже не было самосогласованным применительно к гипотетическому случаю, когда один наблюдатель производит квантовое измерение по отношению к другому наблюдателю. И в-третьих, обе версии квантовой теории явно описывали физический процесс некоторого типа, который привёл к результатам эксперимента. Физикам, как в силу их профессионализма, так и из природного любопытства, трудно удержаться и не заинтересоваться этим процессом. Хотя многие и пытались сдержаться. И большинство из них учили этому студентов. Это мешало научной традиции критики по отношению к квантовой теории.
Я определю «несостоятельную философию» как философию, которая не просто неверна, но и активно препятствует развитию другого знания. В данном случае действие инструментализма было направлено на то, чтобы помешать усовершенствованию, развитию или объединению объяснений, даваемых теориями Шрёдингера и Гейзенберга.
Физик Нильс Бор (ещё один первопроходец квантовой эпохи) разработал тогда «интерпретацию» теории, которая впоследствии получила название «копенгагенская интерпретация». Она утверждала, что квантовая теория, включая эмпирическое правило, является полным описанием реальности. Различные противоречия и пробелы Бор объяснял, комбинируя инструментализм с намеренной двусмысленностью. Он отрицал возможность «говорить о явлении как о существующем объективно», но утверждал, что явлениями нужно считать только исходы наблюдений. Он также говорил, что, хотя у наблюдения нет доступа к «реальной сущности явлений», оно всё же открывает взаимоотношения между ними и что вдобавок квантовая теория размывает различие между наблюдателем и наблюдаемым. Но вопроса о том, что случится, если один наблюдатель произведёт наблюдение за другим на квантовом уровне, он избегал, и этот вопрос получил название «парадокс друга Вигнера», в честь физика Юджина Вигнера.
Относительно ненаблюдаемых процессов между наблюдениями, где теории Шрёдингера и Гейзенберга, казалось, описывали множество историй, происходящих одновременно, Бор предложил новый фундаментальный принцип природы — «принцип дополнительности». Он гласил, что явления можно описывать только на «классическом языке», то есть на языке, который приписывает физическим переменным единственное значение в каждый отдельный момент времени, но этот классический язык можно использовать только для некоторых переменных, включая только что измеренные. Спрашивать, каковы значения других переменных, не разрешалось. Таким образом, например, в ответ на вопрос «По какому из путей полетел фотон?» в интерферометре Маха — Цендера ответом было, что если путь не наблюдался, то нет и такого понятия, как «какой из путей». На вопрос «Тогда как фотон узнаёт, куда ему поворачивать за последним зеркалом, ведь это зависит от того, что было на обоих путях?» давался уклончивый ответ, называемый «корпускулярно-волновым дуализмом»: фотон одновременно является объектом протяжённым (с ненулевым объёмом) и локализованным (с нулевым объёмом), и для наблюдения можно выбрать одно из свойств, но не оба. Часто это выражается словами: «Фотон одновременно является и волной, и частицей». Как это ни парадоксально, но в некотором смысле эти слова в точности верны: в этом эксперименте весь мультиверсный фотон действительно является протяжённым объектом (волной), а его экземпляры (частицы в отдельных историях) локализованы. К сожалению, это не то, что имелось в виду в копенгагенской интерпретации. Её идея была в том, что квантовая физика бросает вызов самим основам разума: у частиц имеются взаимоисключающие свойства, и точка. Попытки критики этой идеи отвергаются как необоснованные, потому что это попытки использовать «классический язык» вне отведённой ему области применения (а именно описания исходов измерений).
Позднее Гейзенберг назвал значения, о которых не разрешено спрашивать, потенциальными возможностями, из которых после завершения измерения актуальным станет только одно. Но как могут потенциальные возможности, которые не реализовались, влиять на фактические исходы? Это оставалось неясным. Чем вызван переход между «потенциальным» и «фактическим»? Антропоцентрический язык Бора, который прорабатывался в большинстве последующих изложений копенгагенской интерпретации, приводил к мысли о том, что этот переход обусловлен человеческим сознанием. Тем самым утверждалось, что сознание действует на фундаментальном уровне в физике.
Десятилетиями в университетских курсах физики различные версии всего этого преподавались как факт — расплывчатость, антропоцентризм, инструментализм и так далее. Немногие физики осмеливались заявить, что всё это понимают. На самом деле никто этого не понимал, и на вопросы студентов обычно отвечали ерундой вроде: «Если вы думаете, что поняли квантовую механику, значит, вы её не поняли». Несовместимость защищалась как «дополнительность» или «дуализм»; парохиальность провозглашалась философской изощрённостью. Таким образом, теория заявляла, что стоит вне юрисдикции обычных (то есть всех) режимов критики, а это верный признак несостоятельной философии.
Сочетание расплывчатости, защищённости от критики, а также престижа и мнимого авторитета фундаментальной физики открыло двери бесчисленному множеству псевдонаучных и шарлатанских систем, якобы опирающихся на квантовую теорию. То, что в ней прямая критика и здравый смысл ставились под сомнение как «классические», а значит, недопустимые, оказалось бесконечно удобно тем, кто хотел проигнорировать разум и предаться многочисленным иррациональным способам мышления. Таким образом, квантовая теория — глубочайшее открытие в области физических наук — приобрела репутацию защитника практически всякого выдвигаемого мистического и оккультного учения.
Не все физики соглашались с копенгагенской интерпретацией и её последующими уточнениями. Эйнштейн так её и не принял. Физик Дэвид Бом изо всех сил пытался найти альтернативную, совместимую с реализмом интерпретацию и в итоге построил весьма сложную теорию, которую я рассматриваю как сильно замаскированную теорию о мультивселенной, хотя сам он решительно возражал против такого понимания. В 1952 году в Дублине Шрёдингер в шутку предупредил слушателей своей лекции, что то, что он собирается сказать, может прозвучать как «бред сумасшедшего». А сказал он, что когда его уравнение описывает несколько различных историй, то это «не альтернативы, но все они действительно происходят одновременно». Это самая ранняя из известных отсылок к мультивселенной.
Выдающемуся учёному приходилось шутить, что его можно принять за безумца. И почему? Просто потому, что он утверждал, что его собственное уравнение — то самое, за которое он получил Нобелевскую премию, — может оказаться верным.
Эта лекция Шрёдингера ни разу не была опубликована, и, по-видимому, он далее эту идею не развивал. Пятью годами позже и независимо от него физик Хью Эверетт опубликовал всеобъемлющую теорию мультивселенной, теперь называемую эвереттовской интерпретацией квантовой теории. Но прошло ещё несколько десятилетий, прежде чем работа Эверетта была замечена более чем несколькими физиками. Даже теперь, когда она стала широко известна, признаёт её лишь незначительное меньшинство. Меня часто просят объяснить это необычное явление. К сожалению, полностью удовлетворительное объяснение мне не известно. Но чтобы понять, почему это, возможно, не такое уж странное и единичное событие, как кажется, нужно рассмотреть несостоятельную философию в более широком контексте.
Ошибка — нормальное состояние нашего знания, это не порок. В ложной философии нет ничего плохого. Проблемы неизбежны, но их можно решить путём творческого, критического мышления, которое ищет разумных объяснений. Это состоятельная философия и состоятельный научный подход, и то и другое так или иначе существовали всегда. Например, дети всегда изучали язык путём построения, критики и проверки предположений о связи между словами и реальностью. И, как я объясню в главе 16, они, по-видимому, и не могут изучать его другим способом.
Несостоятельная философия также существовала всегда. Например, взрослые постоянно говорят детям: «Потому что я так сказал». Хотя не всегда предполагается, что это философская позиция, проанализировать её как таковую стоит, поскольку эти простые слова содержат удивительно много аспектов и ложной, и несостоятельной философии. Во-первых, это идеальный пример неразумного объяснения: с его помощью можно «объяснить» всё. Во-вторых, среди прочего эта позиция приобретает свой статус за счёт того, что обращается лишь к форме вопроса, а не к его сути: важно, кто сказал, а не что. Это противоположно поиску истины. В-третьих, в ней по-новому истолковывается требование правильного объяснения (почему нечто должно быть таким, каково оно есть?) как требование оправдания (что даёт вам право утверждать, что это так?), а это химера обоснованного истинного убеждения (justified-true-belief). В-четвёртых, эта фраза смешивает несуществующий авторитет в плане идей с авторитетом (властью) человека, что ведёт многократно исхоженным путём несостоятельной политической философии. И, в-пятых, за счёт этого данная фраза провозглашает свою неподсудность обычной критике.
До эпохи Просвещения несостоятельная философия обычно представляла собой вариации темы «потому что я так сказал». Когда Просвещение освободило философию и науку, в них обеих начался прогресс и стало появляться всё больше состоятельной философии. Но парадоксальным образом несостоятельная философия становилась ещё хуже.
Я уже говорил, что поначалу эмпиризм играл в истории идей положительную роль, защищая от традиционных авторитетов и догм, а также отводя эксперименту центральную — хотя и неправильную — роль в науке. Первое время то, что эмпиризм — неработоспособное объяснение того, как работает наука, почти не вредило, потому что никто не воспринимал его буквально. Что бы ни говорили учёные о том, откуда взялись их открытия, они с воодушевлением брались за интересные задачи, выдвигали разумные объяснения, проверяли их и только потом заявляли, что вывели объяснения из опыта. В сухом остатке было то, чего они добились: достигнутый ими прогресс. Ничто не мешало этому безобидному (само) обману, и никаких выводов из него не делалось.
Но постепенно эмпиризм стал восприниматься буквально, и вреда от него становилось всё больше. Например, позитивизм, развивавшийся в XIX веке, ставил целью выбросить из научных теорий всё, что не «выведено из наблюдения». И поскольку на самом деле ничто из наблюдений не выводится, исключительно от прихоти и интуиции позитивистов зависело, что выбросить, а что нет. Изредка это даже приносило пользу. Например, физик Эрнст Мах (отец Людвига Маха, создателя интерферометра Маха — Цендера), который также был философом-позитивистом, повлиял на Эйнштейна, подтолкнув его к исключению из физики непроверенных допущений, включая ньютоновское допущение о том, что время течёт с одинаковой скоростью для всех наблюдателей. Эта оказалось замечательной идеей. Но из-за своего позитивизма Мах возражал и против получившейся в результате теории относительности, главным образом потому, что в ней утверждалось, что пространство-время существует, хотя его и нельзя «непосредственно» наблюдать. Также Мах решительно отрицал существование атомов, потому что они слишком малы для наблюдения. Сегодня мы смеёмся над этой глупой мыслью, ведь у нас есть микроскопы, которые позволяют увидеть атомы, но философия обязана была посмеяться над ней ещё тогда.
Однако вместо этого, когда физик Людвиг Больцман с помощью атомной теории объединил термодинамику и механику, ему так досталось от Маха и других позитивистов, что он был просто в отчаянии, и это могло стать одной из причин его самоубийства, совершённого незадолго до того, как события приняли совсем иной оборот и многие направления физики вырвались из-под махистского влияния. С тех самых пор ничто уже не мешало процветанию атомной физики. К счастью, и Эйнштейн вскоре отказался от позитивизма, открыто встав на защиту реализма. Поэтому он так и не принял копенгагенскую интерпретацию. Интересно, если бы Эйнштейн продолжал принимать позитивизм всерьёз, дошёл бы он когда-нибудь до общей теории относительности, в которой пространство-время не только существует, но и является динамической, невидимой сущностью, вздыбливающейся и скручивающейся под влиянием массивных объектов? Или теория пространства-времени резко остановилась бы, как квантовая теория?
К сожалению, большинство философов науки со времён Маха были ещё хуже (с одним важным исключением в лице Поппера). На протяжении XX века антиреализм стал почти общепризнанным течением среди философов и широко распространённым среди учёных. Некоторые вообще отрицали существование физического мира, а большинство считало необходимым признать, что, даже если он существует, науке до него не добраться. Например, философ Томас Кун в своей статье «Размышления о моих критиках» (Reflections on my Critics) пишет так:
Существует [шаг], который многие философы науки хотели бы сделать, а я от него отказываюсь. Они хотели бы сравнивать [научные] теории как представления природы, как утверждения о том, «что там есть на самом деле».
Цит. по сб. Criticism and the Growth of Knowledge, 1979 («Критицизм и рост знания» под ред. Имре Лакатоса и Алана Масгрейва)Позитивизм выродился в логический позитивизм, в рамках которого заявлялось, что утверждения, не поддающиеся наблюдательной проверке, не только бесполезны, но и бессмысленны. Это учение грозило уничтожить не только объяснительное научное знание, но и всю философию. В частности, сам логический позитивизм — философская теория, и её нельзя проверить путём наблюдений; а значит, он утверждает свою собственную бессмысленность (а также бессмысленность всякой другой философии).
Приверженцы логического позитивизма пытались спасти свою теорию от этого вывода (например, называя его «логическим» в отличие от философского), но всё напрасно. Затем Витгенштейн принял этот вывод и объявил всю философию, включая свою собственную, бессмысленной. Он выступал за то, чтобы обходить молчанием философские проблемы, и, хотя сам никогда не пытался следовать этой установке, многие превозносили его как одного из величайших гениев XX века.
Кто-то подумает, что это было низшей точкой философской мысли, но, к сожалению, нашлись ещё большие глубины, куда можно пасть. На протяжении второй половины XX века господствующая философия утратила связь с попытками понять науку в том виде, в котором она фактически творилась или должна была бы делаться, и интерес к ней. Следуя Витгенштейну, доминирующей школой философии на некоторое время стала «лингвистическая философия», определяющий догмат которой был таков: то, что кажется философскими проблемами, на самом деле представляет собой вопросы о том, как именно в повседневной жизни используются слова, и что осмысленно изучать философы могут только это.
Далее, следуя родственной тенденции, зародившейся в европейском Просвещении, но распространившейся во всём западном мире, многие философы отошли от попыток что-либо понять. Они активно нападали не только на идею объяснения и реальности, но и на идею истины и разума. Просто критиковать такие атаки за внутреннюю противоречивость, как у логического позитивизма — а в них она была, — значит доверять им сверх меры. Ведь даже приверженцы логического позитивизма и Витгенштейн были заинтересованы в том, чтобы провести различие между тем, что имеет смысл, и тем, что не имеет, хотя и выступали они за безнадёжно неправильное.
Одно из влиятельных сегодня философских течений проходит под различными названиями, такими как постмодернизм, деконструктивизм и структурализм, в зависимости от несущественных здесь исторических деталей. В его рамках утверждается, что из-за того, что все идеи, включая научные теории, носят гипотетический характер и их невозможно обосновать, они по сути своей произвольны: это не больше чем рассказы, называемые в данном контексте нарративами. Смешивая крайний культурный релятивизм с другими формами антиреализма, это направление рассматривает объективную истинность и ложность, а также реальность и знание о ней, как всего лишь привычные словесные конструкции, обозначающие идею, одобряемую определённой группой людей, например элитой, или разделяющими единое мнение людьми, или модой, или другим произвольным авторитетом. Наука и Просвещение рассматриваются всего лишь как одна такая мода, а заявляемое наукой объективное знание — как проявление чрезмерной самонадеянности, свойственной соответствующей культуре.
По-видимому, всё это с неизбежностью относится и к самому постмодернизму: это нарратив, который противится рациональной критике или усовершенствованию, и именно поэтому он отвергает всю критику как «всего лишь» нарратив. Чтобы создать удачную постмодернистскую теорию, нужно действительно просто удовлетворить критериям постмодернистского сообщества, которое в ходе своего развития стало сложным, привилегированным и основанным на авторитетах. Ничто из сказанного не является верным для рациональных способов мышления: создание разумного объяснения — дело сложное, но не в силу чьего-то решения, а потому что есть объективная реальность, которая не отвечает ничьим, включая авторитетов, априорным ожиданиям. Создатели неразумных объяснений, например мифов, всего лишь занимаются сочинительством. Но метод поиска разумных объяснений связывает нас с реальностью, и не только в науке, но и в состоятельной философии, поэтому он и работает и поэтому является антитезой выдумыванию историй для удовлетворения надуманных критериев.
Хотя с конца XX века наметилось улучшение, есть одно наследие эмпиризма, которое продолжает вносить замешательство и уже открыло двери огромному числу несостоятельных философских направлений, — это идея о том, что научную теорию можно разбить на обладающие предсказательной силой эмпирические правила, с одной стороны, и утверждения о реальности (иногда называемые «интерпретация») — с другой. Это не имеет смысла, потому что, как и с фокусами, без объяснения невозможно распознать обстоятельства, при которых предполагается применять эмпирическое правило. И в особенности это не имеет смысла в фундаментальной физике, потому что предсказанный исход наблюдения и сам является ненаблюдаемым физическим процессом.
Многим научным дисциплинам, включая большинство направлений физики, до сих пор удавалось избежать такого расщепления, хотя теория относительности, как я уже говорил, вполне могла и не спастись от этого. Таким образом, скажем, в палеонтологии мы не называем существование динозавров миллионы лет назад «интерпретацией нашей наилучшей теории о происхождении окаменелостей»: мы заявляем, что это — объяснение их существования. И в любом случае теория эволюции изучает главным образом не ископаемые останки или даже динозавров, а их гены, от которых не остаётся даже окаменелостей. Мы утверждаем, что динозавры на самом деле существовали и что у них были гены, химическая природа которых нам известна, хотя и существует бесконечное множество возможных конкурирующих «интерпретаций» тех же самых данных, которые позволяют сделать всё те же предсказания, но при этом заявляют, что ни динозавров, ни их генов никогда не было.
Одна из них — «интерпретация», заключающаяся в том, что динозавры — это только способ выражения определённых ощущений, которые появляются у палеонтологов, когда они вглядываются в окаменелости. Эти ощущения реальны, но самих динозавров не было. Или если и были, то мы о них никогда ничего не узнаем. Последнее — один из множества тупиков, в которые легко попасть через теорию о том, что знания строятся на обоснованных истинных убеждениях, хотя в действительности вот они мы, и мы о них знаем. Далее, есть «интерпретация», состоящая в том, что сами ископаемые появляются лишь в том случае, когда они извлекаются из породы способом, выбранным палеонтологом, и изучаются методом, который можно донести до других палеонтологов. В этом случае ископаемые, безусловно, оказываются не старше человеческого вида. И они свидетельствуют не о динозаврах, а только об актах наблюдения. А ещё можно сказать, что динозавры реальны, но не как животные, а только как набор соотношений между восприятиями окаменелостей разными людьми. Отсюда можно сделать вывод об отсутствии чёткого различия между динозаврами и палеонтологами и что «классическим языком», применять который мы вынуждены, непередаваемую связь между ними выразить невозможно. Ни одна из этих «интерпретаций» неотличима эмпирически от рационального объяснения ископаемых останков. Но они исключаются как неразумные объяснения: все они — универсальное средство отрицания чего угодно. С их помощью можно даже показать, что неверно уравнение Шрёдингера.
Поскольку предсказание без объяснений в действительности невозможно, методология исключения объяснения из науки — это просто способ оградить чьи-то объяснения от критики. Приведу пример из далёкой области — из психологии.
Я уже упоминал бихевиоризм, который является инструментализмом применительно к психологии. На протяжении нескольких десятилетий эта интерпретация была доминирующей в данной области, и хотя сейчас от неё массово отказываются, исследования в психологии продолжают умалять достоинства объяснения в пользу эмпирических правил типа «стимул — отклик». Так, например, состоятельной научной практикой считается проведение бихевиористских экспериментов для измерения степени, в которой психологическое состояние человека, как, скажем, одиночество или счастье, закодировано (подобно цвету глаз) или не закодировано (подобно дате рождения) в генах. С объяснительной точки зрения таким исследованиям присущи некоторые фундаментальные проблемы. Во-первых, как определить, сопоставимы ли оценки, которые разные люди дают своему психологическому состоянию? Иными словами, некоторая доля людей, утверждающих, что у них уровень счастья 8, могут вовсе не быть счастливы, просто они настолько пессимистичны, что неспособны себе представить, что может быть гораздо лучше. А некоторые из тех, кто утверждает, что у них лишь уровень 3, на самом деле могут быть счастливее большинства других, просто они считают, что счастливее других могут стать только те, кто научится определённым образом петь. Во-вторых, если бы мы выяснили, что люди с определённым геном склонны оценивать степень своего счастья выше, чем люди без него, то как узнать, закодировано ли в этом гене собственно счастье? Возможно, в нём закодировано меньшее отвращение к измерению счастья. Возможно, этот ген вообще никак не влияет на мозг, а только на то, как выглядит человек, и, возможно, люди, которые выглядят лучше, в среднем больше довольны жизнью, потому что другие к ним лучше относятся. Объяснений может быть бесконечно много. Но цель этого исследования — не в их поиске.
Ничего бы не изменилось, если бы экспериментаторы попытались исключить субъективную самооценку и вместо этого наблюдали бы поведение, отражающее, насколько счастлив или несчастлив человек (например, выражение его лица или как часто он насвистывает весёлую мелодию). Чтобы понять, как это всё связано со счастьем, всё равно нужно будет сравнивать субъективные интерпретации, которые никак нельзя подвести под общий стандарт, и к тому же появится дополнительный уровень интерпретации: некоторые люди считают, что если вести себя так, будто ты счастлив, то можно побороть обратное состояние, и для этих людей такое поведение может быть признаком несчастья.
Поэтому ни одно исследование поведения не позволяет определить, является ли счастье врождённым. Наука просто не может разрешить этот вопрос без объяснительных теорий о том, на какие объективные признаки ссылаются люди, говоря о своём счастье, а также о том, какая физическая цепочка событий связывает гены с этими признаками.
Так как же наука, не опирающаяся на объяснения, подходит к этому вопросу? Прежде всего нужно объяснить, что счастье не измеряется непосредственно, а измеряется только его заместитель, такой как поведение, заключающееся в проставлении галочек на шкале, называемой «счастье». Цепочки заместителей используются во всех научных системах мер. Но, как я объяснял в главах 2 и 3, каждое звено в цепи — дополнительный источник ошибок, и чтобы не обмануть самих себя, нам нужно критиковать теорию каждого звена, а это невозможно без объяснительной теории, связывающей заместители с интересующими нас величинами. Поэтому-то в настоящей науке утверждать, что величина измерена, можно только когда есть объяснительная теория, говорящая, как и почему измерительная процедура даёт значение величины и с какой точностью.
Есть обстоятельства, при которых существует разумное объяснение, связывающее измеримый заместитель, например расставление галочек, с интересующей величиной, и в таких случаях в исследовании не будет ничего ненаучного. Например, в ходе опроса политического мнения респондентов могут спрашивать, «довольны» ли они тем, что конкретный политик будет переизбираться, и руководствоваться при этом теорией, что так можно будет узнать, в каком квадратике они поставят галочку на выборах. Затем эта теория проверяется во время выборов. Аналогов такому тесту для счастья нет: для его измерения нет независимого способа. Другим примером добросовестной науки будет клиническое исследование, в ходе которого должен быть протестирован препарат, призванный облегчить состояния, когда человек несчастлив (отдельные опознаваемые их типы). В этом случае цель исследования опять же — определить, приведёт ли препарат к поведению, при котором человек будет говорить, что стал счастливее (причём без неблагоприятных побочных эффектов). Но если препарат и пройдёт тестирование, вопрос о том, действительно ли благодаря ему пациенты становятся счастливее или они просто переориентируются на более низкие стандарты или что-то вроде того, науке будет недоступен до тех пор, пока не появится проверяемая объяснительная теория того, что такое счастье.
В науке, лишённой объяснений, можно признать, что реальное счастье и его измеряемый заместитель необязательно эквивалентны. Но тем не менее заместитель называют «счастьем», и работа продолжается. Отбирается большое число людей якобы случайным образом (хотя на практике мы обычно ограничены маленькой группой людей, как, например, студентами университета в конкретной стране, которым нужно подзаработать), затем исключаются те, у которых есть выявляемые внешние причины счастья или его отсутствия (вроде выигрыша в лотерею или тяжёлой утраты). Таким образом, объектами исследования являются «типичные люди», хотя на самом деле без объяснительной теории нельзя сказать, является ли эта выборка статистически репрезентативной. Затем «наследуемость» черты определяется как степень её статистической корреляции с тем, насколько генетически родственны люди. И снова это необъяснительное определение: согласно ему когда-то в Америке принадлежность к классу рабов очень даже «передавалось по наследству» от поколения к поколению. В более общем смысле признаётся, что статистические корреляции ещё не говорят о том, что из чего проистекает. Но при этом добавляется индуктивистское уклончивое утверждение, что «они всё-таки могут наталкивать на определённые мысли».
Затем проводится исследование и выясняется, что «счастье» «наследуемо», скажем на 50 %. Это утверждение ничего не говорит про само счастье, пока не откроют соответствующих объяснительных теорий (в какой-то момент в будущем, возможно, после того, как мы поймём, что такое сознание, и искусственный интеллект станет обычным делом). Но люди считают такой результат интересным, потому что интерпретируют его через повседневные значения слов «счастье» и «наследование». При такой интерпретации, которую авторы исследования, если они добросовестны, нигде не поддерживают, результат станет значительным вкладом в широкий класс философских и научных споров о природе человеческого разума. Всё это будет отражено в пресс-релизах об открытии. Заголовок будет таким: «По результатам нового исследования, счастье на 50 % предопределено генетически» — уже без взятия терминов в кавычки.
То же будет и с последующей несостоятельной философией. Допустим, что кто-то теперь осмеливается на поиск объяснительных теорий о причине человеческого счастья. Счастье — это состояние постоянного решения проблем, предполагает он. Отсутствие счастья вызвано хроническим провалом попыток их решить. А само решение проблем зависит от знания, как это сделать; таким образом, помимо внешних факторов, отсутствие счастья вызвано незнанием, как что-либо сделать. (Читатели могут распознать в этом частный случай принципа оптимизма.)
Интерпретаторы описанного выше исследования, говорят, что оно опровергает теорию счастья. Не более чем 50 % отсутствия счастья может быть вызвано незнанием, говорят они. Другие 50 % вне нашей власти — они предопределяются генетически, а значит, не могут зависеть от того, что мы знаем или во что верим, до появления соответствующих методов генной инженерии. (Следуя такой же логике в примере с рабством в США, можно заключить, что, скажем, в 1860 году то, будет ли человек рабом, на 95 % определялось генами, а значит, политические силы не могли это исправить.)
В этот момент — при переходе от «наследуемого» к «генетически предопределённому» — в этом лишённом объяснений психологическом исследовании правильные, но неинтересные результаты превратились в нечто весьма захватывающее. Ведь был затронут реальный философский вопрос (оптимизм) и научный вопрос о том, как мозг порождает психические состояния — квалиа. И всё это проделано без каких-либо знаний о них.
«Но постойте, — говорят те, кто интерпретирует исследование, — пусть мы не можем сказать, закодировано ли в каких-нибудь генах счастье (или его часть). Но какая разница, как гены этого добиваются — за счёт хорошего внешнего вида или как-то ещё? Эффект-то есть».
Эффект есть, но наш эксперимент не позволяет определить, насколько можно повлиять на него, не прибегая к генной инженерии, а просто зная как. Потому что то, как эти гены влияют на счастье, может и само зависеть от знания. Например, на то, что люди считают «хорошим видом», может повлиять смена культур, и из-за этого изменится, становятся ли люди счастливее за счёт наличия определённых генов. Наше исследование не позволяет спрогнозировать, может ли случиться такая перемена. Аналогично, оно не скажет нам, будет ли когда-либо написана книга, которая убедит некоторую часть населения в том, что всё зло — от недостатка знаний, а знание создаётся путём поиска разумных объяснений. Если некоторые из этих людей в результате создадут больше знания, чем было бы без книги, и станут счастливее, чем были бы, то часть тех 50 % счастья, которые во всех предыдущих исследованиях считались «генетически предопределёнными», больше не будет таковой.
Те, кто интерпретируют исследование, могут ответить, что в нём доказано, что такой книги не может быть! Безусловно, никто из них не напишет такую книгу и не придёт к такому тезису. Таким образом, несостоятельная философия породит несостоятельную науку, которая задушит рост знания. Заметим, что эта форма несостоятельной науки вполне может соответствовать всем лучшим практикам научного метода, таким как корректная рандомизация, правильно подобранная контрольная группа, аккуратный статистический анализ. Она может следовать всем формальным правилам «о том, как избежать самообмана». Но прогресса не будет, потому что к нему никто не стремится: теории, не опирающиеся на объяснения, могут лишь защитить существующие, неразумные объяснения.
То, что в описанном мною вымышленном исследовании результат выглядит поддерживающим пессимистическую теорию, не случайно. Теория, предсказывающая, насколько счастливы (возможно) будут люди, не может, по-видимому, учесть последствия создания знания. Таким образом, какова бы ни была степень влияния создания знания, эта теория остаётся пророчеством и поэтому будет склоняться к пессимизму.
Бихевиористские исследования человеческой психологии должны по своей сути вести к дегуманизирующим теориям человеческой природы. Ведь отказ считать разум причинным фактором эквивалентен рассмотрению его как нетворческого автомата.
Бихевиористский подход равно бесполезен и применительно к вопросу о том, есть ли у некоего существа разум. Я уже критиковал его в главе 7 при обсуждении теста Тьюринга. То же верно и для споров о разуме животных, таких как вопросы легальности охоты на животных и их разведения, которые проистекают из философских дискуссий о том, ощущают ли животные квалиа, аналогичные тому, что возникают у человека от страха или боли, и если да, то каким животным это доступно. В настоящее время наука мало что может сказать по этому вопросу, потому что пока нет объяснительной теории для квалиа, а значит, нет способа определить их экспериментально. Но это не мешает правительствам пытаться передать эту политически щекотливую тему под предположительно объективную юрисдикцию экспериментальной науки. Так, например, в 1997 году зоологам Патрику Бейтсону и Элизабет Брэдшоу Национальным трестом[84] было поручено определить, страдают ли олени, когда на них охотятся. В своём отчёте учёные написали, что да, потому что охота — «это большой стресс… она утомительна и мучительна». Однако это предполагает, что измеримые величины, обозначенные словами «стресс» и «мучение» (такие как уровни ферментов в крови), показывают присутствие квалиа с такими же названиями, а это точно соответствует тому, что пресса и народ предполагали узнать в результате проведения этого исследования. Через год организацией Countryside Alliance, занимающейся в Великобритании вопросами сохранения сельского уклада жизни, было начато исследование, посвящённое тому же вопросу и проводимое под руководством ветеринарного физиолога Роджера Харриса, который пришёл к выводу, что уровни этих величин схожи с теми, что вырабатываются у человека, но только не когда он страдает, а когда, например, с удовольствием смотрит футбол. Бейтсон аккуратно ответил, что ничто в отчёте Харриса его собственному отчёту не противоречит. Но это потому, что ни одно из исследований не имело никакого отношения к рассматриваемому вопросу.
Эта форма избегающей объяснений науки — попросту разновидность несостоятельной философии, замаскированной под науку. Её результатом становится подавление философской дискуссии о том, как нужно обращаться с животными, за счёт создания впечатления, будто данный вопрос разрешён научным образом. В реальности у науки нет и не будет доступа к этому вопросу, пока не будет открыто объяснительное знание о квалиа.
Другая причина, по которой наука, лишённая объяснений, задерживает прогресс, — нарастание ошибок. Я приведу один достаточно необычный пример. Допустим, вам поручили оценить, сколько людей ежедневно в среднем приходит в городской музей. Музей расположен в большом здании со множеством входов. Вход в музей бесплатный, поэтому обычно посетителей не считают. Вы набираете себе помощников. Им необязательно обладать какими-то особыми знаниями или опытом; на самом деле, как станет ясно, чем меньше они знают, тем лучше будут результаты.
Каждое утро ваши помощники занимают свои места у дверей. Когда кто-либо заходит в музей через их дверь, они ставят на листе бумаги отметку. После закрытия музея они считают отметки, а вы складываете все их результаты. И так каждый день на протяжении заданного периода времени, затем вы вычисляете среднее значение и сообщаете это число заказчику.
Однако для утверждения о том, что ваши подсчёты отражают число посетителей музея, требуются некоторые объяснительные теории. Например, вы предполагаете, что двери, за которыми ведётся наблюдение, — это именно вход в музей и что они ведут только в музей. Если через одну из них можно также пройти в кафе или сувенирный магазин, а заказчик не считает тех, кто шёл только в кафе или только в магазин, «посетителями музея», вы сильно ошибётесь в подсчётах. А есть ещё персонал — их считать посетителями или нет? А есть и такие посетители, которые выходят и в тот же день возвращаются вновь, и так далее. Таким образом, прежде чем разрабатывать стратегию подсчёта людей, нужна достаточно сложная объяснительная теория о том, что имеет в виду заказчик под «посетителями музея».
Допустим, вы также считаете число выходящих людей. При наличии объяснительной теории, утверждающей, что ночью музей всегда пуст, и что все входят и выходят только через двери, и что посетители не создаются, не уничтожаются, не делятся и не сливаются между собой и так далее, то, считая выходящих людей, можно, например, проверить число входящих: логика подсказывает, что они будут совпадать. И тогда, если они не совпадут, вы сможете оценить, насколько точен ваш подсчёт. Это состоятельная научная практика. Фактически выдать результат, который не сопровождается оценкой его точности, означает выдать заведомо бессмысленный результат. Но пока у вас нет объяснительной теории о внутреннем устройстве музея — которого вы никогда не видели, — вы не можете оценивать погрешность, подсчитывая выходящих людей или каким-то иным способом.
Теперь допустим, что, проводя исследование, вы полагаетесь на науку, лишённую объяснений, то есть науку с невысказанными и не подвергнутыми критике объяснениями, подобно тому, как в копенгагенской интерпретации фактически предполагается, что есть только одна ненаблюдаемая история, связывающая последовательные наблюдения. В этом случае результаты можно анализировать следующим образом. Для каждого дня считаем разность между числом входящих людей и числом выходящих. Если она не равна нулю, то — и это ключевой шаг в исследовании — называем эту разницу «счётчиком спонтанного человекосоздания», если она положительна, или «счётчиком спонтанного человекоуничтожения», если отрицательна. Если она равна нулю, то можно заявить, что результат «согласуется с традиционной физикой».
Чем ниже компетентность ваших помощников, тем чаще вы будете обнаруживать эту «несогласованность с традиционной физикой». Далее, вы доказываете, что ненулевой результат (спонтанное создание или уничтожение людей) не согласуется с традиционной физикой. Это доказательство следует включить в отчёт, равно как и оговорку о том, что внеземные посетители, вероятно, могут использовать физические явления, о которых нам не известно. А заодно и ещё одну: что в вашем эксперименте телепортация в другое место или из него ошибочно была бы принята бы за «уничтожение» (без следа) и «создание» (из воздуха) и что поэтому её нельзя исключить как возможную причину отклонений.
Когда появятся заголовки вроде «По заявлениям учёных, в городском музее могла произойти телепортация» и «Учёные доказали, что инопланетяне действительно похищают людей», вы можете тихо протестовать, что ничего подобного не утверждали, что результаты не окончательные, они просто дают пищу для размышлений и что для определения механизма этого непонятного явления нужно продолжать исследования.
Вы не сделали ни одного ложного утверждения. Данные могут стать «несогласованными с традиционной физикой» просто из-за того, что содержат ошибки, так же, как гены могут «вызывать счастье» бессчётным числом простых способов вроде влияния на внешний вид. То, что в вашей статье это не указано, не означает, что всё в ней ложь. Более того, как я уже отметил, решающий шаг заключён в определении, а определения при условии своей непротиворечивости не могут быть ложными. Вы дали определение наблюдательному факту — людей входит больше, чем выходит, — как «уничтожение» людей. Хотя на повседневном языке эта фраза может означать, что люди растворяются, как дым, в исследовании вы ничего такого не имели в виду. Возможно, что они и вправду могут исчезать, как дым, или улетать в невидимых космических кораблях: это не будет противоречить полученным данным. Но в статье по этому поводу ничего не сказано. Она полностью посвящена результатам наблюдений.
Поэтому для нашей статьи не подойдёт название «Ошибки, сделанные при некомпетентном подсчёте людей». Это не только будет провал с точки зрения пиара, в науке, лишённой объяснений, такое название могут даже посчитать ненаучным. Ведь оно будет означать, что вы приняли определённую позицию по «интерпретации» данных, для чего не было оснований.
С моей точки зрения, этот эксперимент является научным только по форме. Сущность научных теорий — в объяснении, а объяснение ошибок составляет большую часть содержания замысла любого нетривиального научного эксперимента.
Как показывает приведённый выше пример, общей чертой экспериментирования является то, что чем больше ошибки, которые вы допускаете в числах или в названиях и интерпретации измеренных величин, тем более захватывающие будут результаты, если они верны. Так что без мощных методик обнаружения и исправления ошибок, которые зависят от объяснительных теорий, начинает нарастать неустойчивость, при которой ложные результаты заглушают верные. В естественных науках, где обычно практикуются состоятельные научные подходы, ложные результаты, обусловленные всякого рода ошибками, тем не менее встречаются часто. Но их исправляют в ходе критики и проверки их объяснений. Такого не может происходить в науке, лишённой объяснений.
Следовательно, как только учёные позволят себе отказаться от стремления к разумным объяснениям и ограничатся лишь тем, точны предсказания или нет, они вполне могут поставить себя в дурацкое положение. Именно так череда выдающихся физиков на протяжении десятилетий, наблюдая за выступлением фокусников, верила, что различные трюки выполняются с помощью «паранормальных» средств.
Состоятельной философии нелегко противостоять несостоятельной посредством дискуссии и объяснений, потому что несостоятельная философия от них защищена. Но это под силу прогрессу. Люди, как бы громко они это ни отрицали, хотят понять, как устроен мир. А благодаря прогрессу верить в несостоятельную философию становится сложнее. И дело не в опровержении путём логики или эксперимента, дело в объяснении. Если бы сегодня Мах был жив, я думаю, он признал бы существование атомов, увидев в микроскоп, что они ведут себя в соответствии с атомной теорией. С точки зрения логики он всё ещё мог бы сказать: «Я вижу не атомы, а только видео на мониторе. И это говорит лишь о том, что оправдались предсказания теории не об атомах, а обо мне». Но ему станет ясно, что это неразумное объяснение самого общего плана. Он также может сказать: «Хорошо, допустим, атомы существуют, но электроны-то — нет». Но такая игра ему вполне может наскучить, если на горизонте появится другая, более интересная, иными словами, если будет быстро достигнут прогресс. И он вскоре поймёт, что это не игра.
Несостоятельная философия — это философия, которая отрицает возможность, желательность и существование прогресса. А прогресс — это единственный действенный способ противостоять несостоятельной философии. Если прогресс не сможет идти бесконечно, несостоятельная философия неизбежно вернётся к власти, ведь тогда она окажется верной.
Терминология
Несостоятельная философия — философия, которая активно мешает развитию знания.
Интерпретация — объяснительная часть научной теории, якобы отличная от её предсказательной или инструментальной части.
Копенгагенская интерпретация — комбинация инструментализма, антропоцентризма и намеренной двусмысленности, предложенная Нильсом Бором и используемая, чтобы избежать понимания квантовой теории как теории, описывающей реальность.
Позитивизм — несостоятельная философия, заключающаяся в том, что всё, что не «выведено из наблюдения», должно быть исключено из науки.
Логический позитивизм — несостоятельная философия, заключающаяся в том, что утверждения, не поддающиеся проверке наблюдением, бессмысленны.
Значения «начала бесконечности», встречающиеся в этой главе
— Отрицание несостоятельной философии.
Краткое содержание
До Просвещения несостоятельная философия была правилом, а состоятельная — редким исключением. С наступлением эпохи Просвещения появилась гораздо более состоятельная философия, но несостоятельная стала ещё хуже, причём эмпиризм (всего лишь ложный) скатился до позитивизма, логического позитивизма, инструментализма, учения Витгенштейна, лингвистической философии и, наконец, «постмодернистских» и родственных ему течений.
В науке главное влияние несостоятельной философии выражалось в идее разделения научной теории на предсказания (не опирающиеся на объяснения) и (произвольную) интерпретацию. Это способствовало узакониванию дегуманизирующих объяснений человеческой мысли и поведения. В квантовой теории несостоятельная философия главным образом провозглашалась в виде копенгагенской интерпретации и её множественных вариантах, а также интерпретации в стиле «помалкивай и считай». Чтобы оправдать систематическую двусмысленность и защититься от критики, эти интерпретации обращались к таким учениям, как логический позитивизм.
13. Альтернативы
В марте 1792 года Джордж Вашингтон впервые в истории Соединённых Штатов Америки воспользовался правом президентского вето. Если вы не знаете, в чём заключалось его разногласие с конгрессом, то вряд ли сможете догадаться, а между тем обсуждавшийся вопрос остаётся спорным и по сей день. Оглядываясь назад, можно даже увидеть в этом некую неизбежность, ведь, как я объясню, он произрастает из далекоидущего и всё ещё распространённого заблуждении о том, как человек делает выбор.
На первый взгляд, это не более чем технический вопрос: сколько мест должно быть выделено каждому штату в палате представителей конгресса США? Он известен как проблема распределения, потому что согласно Конституции США места должны «распределяться между отдельными штатами… в соответствии с численностью их населения»[85]. Таким образом, если в штате проживает 1 % населения США, на его долю будет выделен 1 % мест в палате представителей. Предполагалось, что так будет воплощён принцип представительного правления, то есть что законодательная власть должна представлять народ. Но всё это касалось палаты представителей. (В сенате представлены штаты союза, и, как следствие, каждый штат независимо от населения имеет двух сенаторов.)
В настоящее время в палате представителей 435 мест; таким образом, если бы население того или иного штата действительно составляло 1 % от населения США, то число представителей, исходя из строгой пропорции, называемой квотой штата, было бы равно 4,35. Если квоты оказываются не целыми числами, как, безусловно, чаще всего и бывает, то их приходится как-то округлять. Для этого применяется правило распределения[86]. В Конституции США оно не прописано; такие тонкости оставлены конгрессу, где и начался этот многовековой спор.
Правило распределения позволяет «оставаться в рамках квоты», если разница между числом мест, выделяемых по нему каждому штату, и квотой штата не превышает целое место. Например, если квота штата составляет 4,35 места, то, чтобы «остаться в рамках квоты», правило должно выделять этому штату либо четыре места, либо пять. Выбирая между четырьмя и пятью, можно принимать во внимание разнообразную информацию, но если в итоге правило допускает назначение иного числа мест, то говорят, что оно «нарушает квоту».
Когда впервые слышишь о проблеме распределения, на ум быстро приходят разные компромиссы, которые, как кажется, позволят решить её одним махом. Все спрашивают: «Почему бы просто не…?» Я, например, спросил: «Почему бы просто не округлять квоту каждого штата до ближайшего целого?» По такому правилу квоту в 4,35 места округляли бы до четырёх, а 4,6 места — до пяти. Мне казалось, что, поскольку при таком округлении мы не добавляем и не вычитаем больше, чем полместа, квота каждого штата не будет превышена или недобрана больше чем на полместа, а значит, мы с запасом «останемся в рамках квоты».
Но я ошибался: при моём методе квота нарушается. Это легко продемонстрировать, применив его к воображаемому парламенту с десятью местами в государстве из четырёх штатов. Допустим, что в одном из штатов проживает чуть меньше 85 % всего населения, а в каждом из остальных трёх — чуть больше 5 %. У большого штата квота будет чуть меньше 8,5, что, согласно моему методу, округлится до восьми. У каждого из трёх маленьких штатов квота составляет чуть больше половины места, что округляется до одного. Тогда получается, что мы распределили одиннадцать мест, а не десять. Само по себе это едва ли имеет значение: народу просто придётся кормить на одного законодателя больше, чем планировалось. Но проблема-то в том, что такое распределение перестаёт быть репрезентативным: 85 % от 11 — это не 8,5, а 9,35. Таким образом, большой штат, которому досталось всего восемь мест, на самом деле недобрал до своей квоты более чем одно место, и по моему методу 85 % населения не будут должным образом представлены. Мы собирались распределить десять мест, поэтому точные числа квот обязательно должны были в сумме составить десять; но округлённые значения в сумме дали одиннадцать. А если в парламенте будет одиннадцать мест, то согласно принципу представительного правления и конституции именно одиннадцать, а не десять мест, как предполагалось первоначально, должны быть справедливо распределены между штатами.
И снова на ум приходит множество идей вида «почему бы просто не…?». Почему бы не создать три дополнительных места и не отдать их большому штату, чтобы распределение мест было в рамках квоты? (Пытливые умы среди читателей могут проверить, что потребуется не меньше трёх дополнительных мест.) Или почему бы им просто не передать место одного из маленьких штатов большому? Возможно, для этого нужно взять штат с наименьшей долей, чтобы в невыгодном положении оказалось как можно меньше людей. Тогда и распределение будет в рамках квоты, и число мест вернётся к исходным десяти.
Такие стратегии называют схемами перераспределения. Они действительно позволяют остаться в рамках квоты. Но что же в них не так? В соответствующих предмету терминах это называют парадоксами распределения, а на обыденным языке — несправедливостью и нелогичностью.
Например, последняя описанная мною схема перераспределения несправедлива, потому что ущемляет интересы жителей наименее населённого штата. Они одни расплачиваются за ошибки округления. В этом случае число их представителей округляется до нуля. Однако в плане минимизации отклонения от квот такое распределение практически идеально справедливо: изначально 85 % населения сильно не вписывались в квоту, теперь же все находятся в её рамках, а у 95 % количества мест — ближайшие целые к значениям их квот. Да, у 5 % теперь совсем нет представителей, и они не смогут голосовать на выборах в конгресс, но они находятся в рамках квоты и лишь немного дальше от её точного для них значения, чем до этого. (Числа ноль и один практически равноудалены от квоты, немного большей, чем одна вторая.) Тем не менее, поскольку эти 5 % людей полностью лишились избирательных прав, большинство защитников представительного правительства посчитали бы этот исход гораздо менее представительным, чем раньше.
Это должно означать, что «минимальное суммарное отклонение от квоты» не подходит в качестве меры представительности. А что подходит? Что выбрать: немного ущемить права многих людей или сильно ущемить права немногих? Отцы-основатели осознавали, что между разными концепциями справедливости или представительности может возникнуть конфликт. Например, среди прочего они обосновывали демократию тем, что правительство легитимно, только если у каждого, чьи действия регулируются законодательством, среди законодателей есть представитель с не меньшей властью, чем у других. Это нашло отражение в их лозунге: «Нет налогам без представительства». Также они стремились к упразднению привилегий: они хотели, чтобы система правительства не была предвзятой по своей природе. Отсюда, собственно, следует требование пропорционального распределения. Поскольку эти два стремления могут конфликтовать, в Конституции есть положение, которое явно разрешает возможные разногласия: «У каждого штата должен быть по крайней мере один представитель». Тем самым принципу представительного правления в смысле «нет налогам без представительства» отдавалось предпочтение в сравнении с тем же принципом в смысле «упразднения привилегий».
Кроме этого, в аргументах отцов-основателей в пользу представительного правления часто упоминалось понятие «воли народа» — предполагалось, что правительства должны придавать ей законную силу. Но это — источник дальнейших несоответствий. Ведь на выборах считается только воля избирателей, но избиратели — это не весь «народ». В те времена избиратели составляли достаточно скромное меньшинство: голосовать могли только свободные граждане мужского пола старше двадцати одного года. Между тем «численность», которая упоминается в Конституции США, — это общее население штата, включая тех, кто не голосует, то есть женщин, детей, иммигрантов и рабов. Таким образом, в Конституции США была сделана попытка наделить равными правами население, но при этом неравно относясь к избирателям.
В итоге на каждого избирателя в штатах с более высокой долей тех, кто не голосует, «выделялось» больше представителей. Такое решение имело тот негативный эффект, что в штатах, где избиратели и так были самыми привилегированными (то есть там, где их доля во всём населении штата была исключительно мала), они получали дополнительную привилегию относительно избирателей в других штатах, а именно — на долю каждого из них выделялось больше представительства в конгрессе. В отношении рабовладельцев это приобрело характер острой политической проблемы. Почему политическое влияние рабовладельческих штатов должно расти пропорционально количеству рабов? Чтобы сгладить этот эффект, был достигнут компромисс, согласно которому в целях распределения мест в палате один раб приравнивался к трём пятым человека[87]. Но даже при этом многие продолжали считать, что три пятых несправедливости — это всё равно несправедливость[88]. Те же самые разногласия сегодня существуют относительно нелегальных иммигрантов, которые с точки зрения пропорционального распределения мест также считаются частью населения. Штаты с большим числом нелегальных иммигрантов получают дополнительные места в конгрессе, а остальные штаты соответственно в этом смысле проигрывают.
После первой переписи населения США, состоявшейся в 1790 году, вопреки записанному в новой Конституции требованию пропорциональности места в палате представителей распределялись по правилу, которое нарушало квоту. Это правило, предложенное будущим президентом Томасом Джефферсоном, также благоволило штатам с более высоким населением, и они получали больше представителей на душу населения. Поэтому конгресс голосовал за то, чтобы отказаться от него и заменить его правилом, предложенным Александром Гамильтоном, давним и яростным соперником Джефферсона, по которому гарантировался результат в рамках квоты, а также отсутствие очевидных преимуществ для тех или иных штатов.
На это изменение как раз и наложил вето президент Джордж Вашингтон. Своё решение он объяснил просто тем, что правило Гамильтона включает в себя перераспределение: все схемы с перераспределением он считал противоречащими Конституции, потому что термин «распределение» он интерпретировал как деление на подходящий делитель с последующим округлением результата, и ничего более. Неизбежно возникли подозрения, что подлинная причина в том, что Вашингтон, как и Джефферсон, является выходцем из наиболее населённого штата — Вирджинии, который по правилу Гамильтона оказался бы в минусе.
С тех пор в конгрессе постоянно спорили о правилах пропорционального распределения и переделывали их. В конечном итоге в 1841 году от правила Джефферсона отказались в пользу правила, предложенного сенатором Дэниелом Вебстером, в котором всё-таки было перераспределение. Это правило также могло нарушить квоту, но очень редко; и его, как и правило Гамильтона, считали беспристрастным по отношению к штатам.
Спустя примерно десять лет от правила Вебстера также отказались, на сей раз в пользу правила Гамильтона. Защитники последнего теперь считали, что принцип представительного правления реализуется полностью, и, возможно, надеялись, что это положит конец проблеме пропорционального распределения. Но их ждало разочарование. Вскоре разногласий стало ещё больше, чем раньше, потому что правило Гамильтона, несмотря на его беспристрастность и пропорциональность, начало выдавать распределения, которые казались просто возмутительными. Например, оно сильно зависело от того, что позднее стали называть парадоксом населения: штат, население которого с момента последней переписи увеличилось, мог потерять место в пользу того, население которого уменьшилось.
Так «почему бы просто не создать» новые места и приписать их штатам, которые вследствие парадокса населения проигрывают? Так делалось. Но, к сожалению, из-за этого распределение могло выйти за рамки квоты. Кроме того, это приводило к другому исторически важному парадоксу пропорционального распределения: парадоксу Алабамы. Он случается, когда увеличение общего числа мест в палате приводит к тому, что какой-либо штат теряет одно место.
Были и другие парадоксы. И совсем необязательно они оказывались несправедливыми в смысле особых привилегий или нарушения пропорциональности. Мы называем их парадоксами, потому что разумное на вид правило приводит к явно неразумным изменениям, если сравнивать одно пропорциональное распределение со следующим за ним. Такие изменения фактически носят случайный характер и обусловлены причудами ошибок округления, а не предвзятостью, и на протяжении большого промежутка они компенсируют друг друга. Но беспристрастность в среднем за длительный срок не достигает поставленной цели представительного правления.
Идеальной «справедливости в долгосрочной перспективе» можно было бы достичь и без голосования, случайным образом выбирая законодателей из электората в целом. Но ведь если мы будем подбрасывать монету вверх случайным образом сто раз, мы вряд ли получим ровно пятьдесят орлов и пятьдесят решек; точно так же законодательный орган, составленный из случайным образом выбранных 435 человек, на практике не будет представительным ни в какой момент времени: по статистике, типичное отклонение от представительности составит около восьми мест. Кроме того, возникнут большие колебания в распределении этих мест между штатами. Описанные мною парадоксы пропорционального распределения дают схожие последствия.
Число затронутых мест обычно невелико, но это не означает, что они не важны. Политиков этот вопрос очень беспокоит, потому что голоса в палате представителей нередко распределяются практически поровну. Очень часто законопроекты принимаются или не принимаются с перевесом в один голос, а политические соглашения порой зависят от того, к какой фракции присоединится некий конкретный законодатель. Таким образом, всякий раз, когда парадоксы пропорционального распределения приводили к политическим разногласиям, люди пытались изобрести правило распределения, которое математически исключило бы данный конкретный парадокс. Каждый парадокс в отдельности создавал впечатление, что сделай «они» то или иное простое изменение — и проблемы не будет. Но у парадоксов в целом есть одно очень неприятное свойство: как бы упорно их не выталкивали за дверь, они тут же влезают в дом снова, но уже через окно.
После перехода в 1851 году к правилу Гамильтона многие всё ещё поддерживали Вебстера. Конгресс как минимум два раза пытался проделать трюк, который, как казалось, приведёт к разумному компромиссу: корректировать количество число мест в палате, пока оба метода не дадут согласия друг с другом, чтобы все были довольны! Но в итоге получилось вот что: в 1871 году в отношении некоторых штатов результат распределения мест оказался настолько несправедливым, а последующая работа по его законодательному оформлению настолько беспорядочной, что было непонятно, на какое из правил пал выбор и пал ли он на что-либо вообще. Принятое в итоге распределение, в том числе несколько дополнительных мест, созданных в последнюю минуту и без видимых причин, не подходило ни под правило Гамильтона, ни под правило Вебстера. Многие считали его противоречащим Конституции.
На протяжении следующих нескольких десятилетий после 1871 года вслед за каждой переписью населения либо принималось новое правило пропорционального распределения, либо менялось количество мест, и всё это — с целью достичь компромисса между различными подходами. В 1921 году перераспределения не было вообще: оставили старое (что тоже можно было счесть неконституционным), потому что конгресс так и не смог договориться о правилах.
За решением вопроса о пропорциональном распределении несколько раз обращались к известным математикам, в том числе дважды в Национальную академию наук США, и каждый раз эти влиятельные в своей области люди давали разные рекомендации. Но никто из них не обвинял своих предшественников в том, что они ошибались в математических расчётах. Это должно было навести всех на мысль, что дело вовсе не в математике. И каждый раз после внесения рекомендаций экспертов парадоксы и разногласия случались снова и снова.
В 1901 году Бюро переписи населения США опубликовало таблицу, показывающую, каким должно быть пропорциональное распределение для каждого количества мест в палате между 350 и 400 при использовании правила Гамильтона. Волею арифметики, как это часто бывает при пропорциональном распределении, штату Колорадо доставалось три места при любом их общем числе, за исключением 357, при котором штат получал только два места. Председатель комитета палаты представителей по распределению мест (он был родом из Иллинойса, и я не знаю, имел ли он что-нибудь против Колорадо) предложил использовать правило Гамильтона и изменить количество мест на 357. К этому предложению отнеслись с подозрением, и конгресс в конце концов его отклонил, приняв пропорциональное распределение 386 мест по методу Вебстера, по которому Колорадо доставались его «законные» три места. Но был ли этот вариант на самом деле правомернее, чем правило Гамильтона в применении к 357 местам? По какому критерию это определялось? Или правило распределения мест надо было выбирать большинством голосов?
Почему нельзя было посмотреть на результаты применения большого числа конкурирующих правил пропорционального распределения, а затем выделить каждому штату число представителей, которое достанется им в большей части этих схем? Главное — то, что это само по себе тоже метод пропорционального распределения. Аналогично и комбинирование схемы Гамильтона и Вебстера, которую пытались применить в 1871 году, просто означает принятие некоей третьей схемы. А что в этой схеме такого, чтобы стоило её попробовать? Каждая из её составляющих, предположительно, разрабатывалась так, чтобы обеспечить желаемые свойства. У комбинированной схемы, которая по методу построения не должна была иметь таких свойства, их и не будет, разве что случайно. Таким образом, она необязательно унаследует хорошие черты своих составляющих. Она возьмёт от них некоторые хорошие и некоторые плохие, у неё также будут и свои хорошие и плохие черты, но если её не разрабатывали с расчётом на то, что она будет хорошей, почему она должна таковой оказаться?
Адвокат дьявола теперь может спросить: если выбор правила распределения большинством голосов — плох, то что хорошего в идее выборов большинством голосов избирателей? Для науки, скажем, это было бы губительно. Ведь астрологов больше, чем астрономов, а те, кто верит в «сверхъестественное», часто указывают, что число якобы свидетелей таких явлений многократно превосходит число свидетелей большинства научных экспериментов. Поэтому они и требуют пропорциональной степени доверия. Однако наука отказывается оценивать данные таким образом: она придерживается критерия разумного объяснения. Так почему, если для науки принять такой «демократический» принцип было бы неправильным, это правильно для политики? Просто потому, что Черчилль когда-то выступил в его защиту и сказал: «Много форм правления применялось и ещё будет применяться в этом грешном мире. Все понимают, что демократия не является совершенной. Правильно было сказано, что демократия — наихудшая форма правления, за исключением всех остальных, которые пробовались время от времени»?[89] В самом деле, чем не основание? Но есть и реальные убедительные причины, и они тоже связаны с объяснениями, как я покажу далее.
Иногда политики бывали так озадачены теми странными эффектами, к которым приводили парадоксы пропорционального распределения, что доходило до обвинений в адрес самой математики. В 1882 году член палаты представителей от штата Техас Роджер Миллс жаловался: «Я думал… что математика — божественная наука. Я думал, что это единственная из наук, которая обращается к вдохновению и непогрешима в своих утверждениях, [но] вот перед нами новая математическая система, которая показывает, что истина — это ложь». В 1901 году член палаты представителей Джон Литтлфилд, чьё собственное место от штата Мэн было под угрозой из-за парадокса Алабамы, сказал: «Господи, помоги штату Мэн, когда математика доберётся до него и решит его повергнуть».
Собственно говоря, нет такой вещи, как математическое «вдохновение» (то есть появления математического знания из безошибочного источника, традиционно считающегося Богом): как я объяснял в главе 8, наши математические знания не безошибочны. Но если конгрессмен Миллс имел в виду, что математики могут или неким образом обязаны лучше всех в обществе судить о справедливости, то он просто ошибался[90]. В комиссию Национальной академии наук США, которая готовила доклад для конгресса в 1948 году, входил математик и физик Джон фон Нейман. Комиссия пришла к заключению, что правило, изобретённое статистиком Джозефом Хиллом (и используемое в настоящее время), менее всего предвзято по отношению к штатам. Но после этого математики Мишель Балинский и Пейтон Янг впоследствии показали, что правило Хилла благоволит штатам меньшего размера. Это ещё раз иллюстрирует, что различные критерии «беспристрастности» отдают предпочтение различным методам пропорционального распределения и математика не может определить, какой из этих критериев правильный. Если жалоба Миллса и носила иронический характер, если в действительности он имел в виду, что сама по себе математика, наверное, не может приводить к несправедливости и что сама по себе она не может избавить от неё, то он был прав.
Однако существует математическое открытие, которое навсегда изменило природу споров о пропорциональном распределении: теперь мы знаем, что поиск метода пропорционального распределения, который будет и пропорционален, и свободен от парадоксов одновременно, никогда не завершится успехом. Это доказали Балински и Янг в 1975 году.
Теорема Балинского — Янга
Всякий метод пропорционального распределения, который удовлетворяет правилу квоты, приводит к парадоксу населения.
Эта сильная теорема о невозможности объясняет длинную цепочку исторических неудач в решении задачи пропорционального распределения. Не говоря уже о различных других условиях, которые могут показаться существенными для обеспечения справедливого распределения, ни один метод не может удовлетворить даже базовым требованиям пропорциональности и не позволяет избежать парадокса населения. Балинский и Янг также доказали теоремы о невозможности и для других классических парадоксов.
Эта работа имела гораздо более широкий контекст, чем проблема пропорционального распределения. На протяжении XX века и особенно после Второй мировой войны основные политические движения пришли к согласию в том, что будущее благосостояние человечества будет зависеть от совершенствования в области планирования и принятия решений в масштабах общества (а лучше в мировых масштабах). Западный взгляд отличался от подходов тоталитарных противников тем, что был нацелен на удовлетворение предпочтений отдельных граждан. Таким образом, западные сторонники планирования в масштабах общества были вынуждены взяться за фундаментальный вопрос, с которым тоталитаристы не сталкивались: когда перед обществом в целом встаёт выбор, а предпочтения граждан разнятся, какой вариант выбора является для общества наилучшим? Если люди единодушны в выборе, то проблемы нет, но планировщик тогда не нужен. Если же они не единодушны, то какой вариант можно рационально обосновать как «волю народа» — вариант, к которому «склоняется» общество? И тогда возникает второй вопрос: как в обществе должен быть организован процесс принятия решений, чтобы выбирались действительно те варианты, к которым общество «склоняется»? Эти два вопроса существовали, по крайней мере неявно, с самого зарождения современной демократии. Например, и в Декларации независимости США, и в Конституции США говорится о праве «народа» на определённые действия, например на смену правительства. Сегодня эти вопросы стали центральными в области математической теории игр, называемой теорией социального выбора.
Таким образом, теория игр, ранее малоизвестная и немного странная ветвь математики, вдруг оказалась в центре деятельности человека, как до неё — ракетостроение и ядерная физика. Многие из величайших математических умов, включая фон Неймана, занялись развитием теории игр в интересах бесчисленного множества учреждаемых институтов коллективного принятия решений. Предстояло создать новые математические инструменты, с помощью которых можно, учитывая пожелания, потребности или предпочтения членов общества, сделать вывод о том, чего «хочет» общество, реализуя тем самым установку на осуществление «воли народа». Они также должны были определить, какие системы голосования и законотворчества дадут обществу то, что оно хочет получить.
Были открыты некоторые интересные математические закономерности, но лишь малая их доля, если таковые вообще были, позволяла удовлетворить этим устремлениям. Напротив, снова и снова с помощью теорем о невозможности, подобных теореме Балинского — Янга, доказывалось, что предположения, стоящие за теорией социального выбора, непоследовательны или несостоятельны.
Таким образом, оказалось, что проблема пропорционального распределения, которая поглотила столько времени, сил и энтузиазма законодателей, была лишь верхушкой айсберга. Эта проблема гораздо менее парохиальна, чем кажется. Например, ошибки округления пропорционально уменьшаются с увеличением числа мест в законодательном органе. Так почему бы просто не сделать его очень большим, скажем, десять тысяч членов, чтобы все ошибки округления стали ничтожно малы? Во-первых, потому, что для принятия решений такой законодательный орган должен был бы самоорганизовываться изнутри. Фракциям внутри органа самим пришлось бы выбирать лидеров, политические курсы, стратегии и так далее. Как следствие, все проблемы социального выбора возникли бы внутри маленького «общества» — фракции определённой партии в законодательном органе. Выходит, дело не сводится к ошибкам округления. Но и основными предпочтениями людей оно не исчерпывается: если приглядеться к деталям процесса принятия решений в больших группах — к тому, как законодательные органы, партии и фракций внутри них самоорганизуются, чтобы присовокупить свои пожелания к «желаниям общества», — то окажется, что нужно учитывать и второй, и третий по важности варианты выбора. Ведь у людей должно оставаться право участвовать в принятии решений, даже если они не могут убедить большинство согласиться с их главным выбором. Однако с избирательными системами, которые рассчитаны на то, чтобы принимать такие факторы во внимание, неизменно связано ещё больше парадоксов и теорем о невозможности.
Одна из первых таких теорем была доказана в 1951 году экономистом Кеннетом Эрроу и стала частью исследования, удостоенного в 1972 году Нобелевской премии по экономике. Может показаться, что теорема Эрроу отрицает само существование социального выбора и бьёт по принципу представительного правления, пропорциональному распределению, самой демократии и не только.
Вот что сделал Эрроу. Сначала он сформулировал пять элементарных аксиом, которым любое правило, определяющее «волю народа» — предпочтения группы, должно удовлетворять, и эти аксиомы на первый взгляд кажутся настолько резонными, что их можно было бы и не формулировать. Одна из них заключается в том, что правило должно определять предпочтения группы только через предпочтения членов этой группы. Другая — в том, что правило не должно просто обозначать взгляды одного конкретного человека как «предпочтения группы», независимо от того, чего хотят другие. Это так называемая аксиома об отсутствии диктатора. Третья аксиома гласит, что если члены группы единогласно сходятся в чём-то — в том смысле, что у них у всех по этому поводу одинаковые предпочтения, то правило должно приписать те же предпочтения и группе. Эти три аксиомы отражают в данном случае принцип представительного правления.
Четвёртая аксиома Эрроу звучит следующим образом. Пусть при заданном определении «предпочтений группы» правило утверждает, что группа имеет конкретное предпочтение, скажем, в пользу пиццы, а не гамбургера. Тогда это правило должно также сохранять данное групповое предпочтение, если кто-то из участников, кто до этого расходился с группой во мнении (то есть предпочитал гамбургер), теперь изменил своё мнение и выбирает пиццу. Это ограничение аналогично исключению парадокса населения. Группа вела бы себя неразумно, если бы меняла своё «мнение» в направлении, противоположном изменению взглядов своих членов.
Последняя аксиома заключается в том, что если у группы есть некое предпочтение, а затем некоторые её члены изменяют своё мнение о чём-то ещё, то правило должно и дальше приписывать группе исходное предпочтение. Например, если некоторые члены группы передумали насчёт сравнительной ценности клубники и малины, но относительно сравнительных ценностей пиццы и гамбургера их предпочтения не изменились, то и групповое предпочтение выбора между пиццей и гамбургером тоже не должно измениться. И снова это ограничение может рассматриваться как вопрос разумности: если никто из членов группы не меняет своего мнения по поводу конкретного сравнения, то и группа не должна.
Эрроу доказал, что только что перечисленные мною аксиомы, несмотря на свою кажущуюся разумность, логически несовместимы. Нет такого способа понимания «воли народа», который удовлетворил бы всем пяти. Это означает, что предположения, стоящие за теорией социального выбора, получают удар на ещё более глубоком уровне, чем от теоремы Балинского — Янга. Во-первых, аксиомы Эрроу не об очевидно ограниченном вопросе пропорционального распределения, а о любой ситуации, в которой нужно рассматривать группу с предпочтениями. Во-вторых, все эти пять аксиом интуитивно не просто желательны для того, чтобы система была справедливой, а существенны для её рациональности. И всё же они несовместимы друг с другом.
Из этого как будто бы следует, что группа людей, совместно принимающих решения, обязательно будет вести себя нерационально в том или ином отношении. Это может оказаться диктатура или подчинение какому-то произвольному правилу; или, если удовлетворены все три условия представительности, она может изменять свой «выбор» в направлении, противоположном тому, в котором оказались действенными критика и убеждение. Таким образом, группа будет делать странный выбор независимо от того, насколько мудры и великодушны люди, которые интерпретируют и проводят в жизнь её предпочтения, если только, возможно, один из них не окажется диктатором (см. ниже). Получается, что такого понятия, как «воля народа», просто нет. Не существует способа рассматривать «общество» как субъекта, принимающего решения и имеющего самосогласованные предпочтения. Вряд ли это тот вывод, который мир ожидал от теории социального выбора!
Как и в случае с проблемой пропорционального распределения, попытки исправить следствия теоремы Эрроу предпринимались и с помощью идей типа «почему бы просто не…?» Например, почему бы не учитывать, насколько сильны предпочтения людей? Ведь если немногим больше половины электората с трудом делает выбор в пользу X и против Y, а остальные считают, что выбрать и провести в жизнь Y — это вопрос жизни и смерти, то интуитивно наиболее очевидным планом представительного правления будет обозначить «волей народа» решение Y. Однако всем, к сожалению, известно, что силу предпочтений и особенно разницу в этой силе у разных людей или у одного и того же человека в разные моменты времени сложно определить и тем более измерить, как, например, счастье. И в любом случае добавление таких понятий ничего не изменит: теоремы о невозможности никуда не денутся.
Как и в случае с проблемой пропорционального распределения, похоже, что как только систему принятия решений «подлатают» в одном месте, так она станет парадоксальной в другом. Дальнейшая серьёзная проблема, которую выявили во многих институтах, принимающих решения, состоит в том, что в них создаются стимулы, чтобы участники лгали о своих предпочтениях. Например, если из двух мнений вы слегка склоняетесь к одному, то у вас появляется стимул назвать своё предпочтение «сильным». Возможно, вы не сделаете этого из чувства гражданской ответственности. Но у системы принятия решений, ограничиваемой гражданской ответственностью, есть недостаток, заключающийся в том, что она придаёт непропорциональный большой вес мнениям людей, у которых нет чувства гражданской ответственности и которые склонны лгать. С другой стороны, в обществе, в котором все достаточно хорошо знают друг друга, чтобы сделать такую ложь невозможной, не будет эффективным тайное голосование, и тогда система присвоит непропорциональный вес фракции, наиболее способной запугать нерешительных людей.
Разработка избирательной системы — одна из неизменно спорных проблем социального выбора. Такая система с математической точки зрения аналогична схеме пропорционального распределения, только распределяются не места между штатами, исходя из численности населения, а места между кандидатами (или партиями), исходя из числа голосов. Однако эта проблема ещё парадоксальнее пропорционального распределения и приводит к более серьёзным последствиям, потому что в случае с выборами элемент убеждения играет во всём процессе центральную роль: считается, что выборы должны показать, в чём голосующих удалось убедить. (При распределении мест не предполагается, что штаты пытаются убедить людей переехать из одного в другой.) Как следствие, в рассматриваемом обществе избирательная система может способствовать традициям критики или подавлять их.
Например, избирательная система, в которой места распределяются целиком или частично пропорционально числу голосов, полученных каждой партией, называется системой «пропорционального представительства». Согласно Балинскому и Янгу, если избирательная система слишком пропорциональна, она будет подвержена аналогу парадокса населения и другим парадоксам. Действительно, политолог Петер Куррилль-Клитгор в своём исследовании последних восьми всеобщих выборов в Дании (проводимых по системе пропорционального представительства) показал, что каждый раз в них обнаруживались парадоксы. Среди прочих был и такой, при котором те, кого предпочитают больше, получают меньше мест, то есть большинство голосовавших предпочло партию X, а не партию Y, но партия Y получила больше мест, чем партия X.
Но в действительности это самое малое из нелогичных свойств пропорционального представительства. Более важное, которое есть даже у самых мягких пропорциональных систем, заключается в том, что третьей по величине партии, а зачастую и партиям с ещё меньшей численностью достаётся в законодательном органе несоразмерная власть. Вот как это получается. Очень редко (в любой системе) бывает так, что абсолютное большинство голосов получает одна партия. Значит, если в законодательном органе голоса отражены пропорционально, ни один закон не пройдёт, если некоторые партии не объединятся с этой целью, и ни одно правительство не будет сформировано, если некоторые из них не вступят в коалицию. Иногда это удаётся двум самым большим партиям, но чаще всего «политическим равновесием» заправляет лидер третьей по величине партии, он решает, какая из двух самых больших партий составит ему компанию в правительстве, а какая и на сколько уйдёт на второй план. Это означает, что решать, какая партия и какие политические курсы будут отстранены от власти, электорату соответственно будет сложнее.
В Германии (ранее — в Западной Германии) в период с 1949 по 1998 год третьей по величине партией была Свободная демократическая партия (СвДП)[91]. Хотя эта партия никогда не получала более 12,8 % голосов, а обычно и того меньше, согласно национальной системе пропорционального представительства она наделялась властью, которая не зависела от изменений во мнениях избирателей. В нескольких случаях именно она выбирала, какая из двух самых больших партий будет править, при этом она два раза меняла своё предпочтение[92] и трижды ставила у руля менее популярную из них (по числу голосов). Лидер СвДП обычно входил в кабинет министров как часть коалиционной сделки, и в результате за последние двадцать девять лет того периода Германия жила без министра иностранных дел из СвДП всего две недели. В 1998 году, когда Партия зелёных вытеснила СвДП на четвёртое место, последнюю тут же убрали из правительства, и теперь уже «зелёные» надели мантию создателя «королей», а заодно и получили под свою ответственность министерство иностранных дел. Несоразмерная власть, которую при пропорциональном представительстве может получить третья по величине партия, — это самое уязвимое место системы, весь смысл существования (raison d’être) которой и моральное оправдание — в том, чтобы пропорционально распределять политическое влияние.
Теорема Эрроу применима не только к коллективному принятию решений, она верна и для индивидуумов. Рассмотрим отдельного, рационально мыслящего человека, которому нужно выбрать один из нескольких вариантов. Если принятие решения требует обдумывания, то каждому варианту должно быть сопоставлено объяснение, хотя бы временное, того, почему этот вариант может быть лучшим. Выбрать вариант — значит выбрать его объяснение. Так как же человек решает, какое объяснение принять?
Здравый смысл говорит, что нужно «взвесить» их или те данные, на которых основана аргументация. Это очень древняя метафора: статуя Фемиды со времён античности держит в руках весы. В недавнее время индуктивизм точно так же рассматривал научное мышление, говоря, что научные теории выбираются, обосновываются и признаются — и даже каким-то образом первоначально формируют — в соответствии с «весом данных» в их пользу.
Рассмотрим предполагаемый процесс взвешивания. Каждый элемент данных, включая каждое чувство, предубеждение, ценность, аксиому, аргумент и так далее, в зависимости от того, каков его «вес» в голове человека, даёт вклад в «предпочтения» этого человека при выборе между различными объяснениями. Значит, для целей теоремы Эрроу каждый элемент данных можно рассматривать как «индивидуума», принимающего участие в процессе принятия решения, а человек в целом будет «группой».
Далее, чтобы процесс, который позволяет выбрать одно из различных объяснений, был рациональным, он должен удовлетворять определённым ограничениям. Например, если, уже решив, что один из вариантов наилучший, человек получает дополнительные свидетельства, придающие этому варианту больше веса, то в целом предпочтение человека всё равно останется на стороне этого варианта, и так далее. Согласно теореме Эрроу эти требования несовместимы друг с другом, и поэтому создаётся впечатление, что весь процесс принятия решения — и мышления вообще — должен быть иррационален. Если только, возможно, один из внутренних участников не является диктатором, которому по силам перевешивать все вместе взятые мнения других участников. Но ведь это бесконечный регресс: как сам «диктатор» выбирает между конкурирующими объяснениями относительно того, предпочтения каких других участников лучше игнорировать?
Что-то глубоко неправильное скрыто во всей этой традиционной модели принятия решений, как в отдельных головах, так и в группах, если следовать теории социального выбора. Она рассматривает принятие решений как процесс выбора из существующих вариантов в соответствии с фиксированной формулой (такой как метод распределения мест или избирательная система). Но на самом деле этим процесс принятия решений лишь заканчивается — это фаза, не требующая творческого мышления. Если вспомнить метафору Эдисона, эта модель рассматривает только фазу работы в поте лица, не учитывая, что процесс принятия решения — это процесс решения проблемы и что без фазы вдохновения ничто никогда не решается, что без неё не из чего будет выбирать. В центре процесса принятия решений стоит создание новых вариантов, а также отказ от существующих или их модификация.
Рационально выбрать вариант — значит выбрать соответствующее объяснение. Поэтому рациональное принятие решений состоит не во взвешивании данных, а в их объяснении в процессе объяснения устройства мира. Аргументы расцениваются как объяснения, а не оправдания, и это делается творчески, с помощью гипотез, доводимых до ума разного рода критикой. По самой природе разумных объяснений — поскольку их трудно варьировать — в итоге останется только одно из них. Когда оно создано, остальные варианты уже не выглядят привлекательно. И дело не в том, что у них оказался малый вес, — они проиграли в споре, их отвергли, от них отказались. В ходе творческого процесса человек не силится найти различие между бесчисленным множеством различных объяснений с практически равными достоинствами, а обычно старается создать единственное разумное объяснение и, преуспев в этом, рад избавиться от остальных.
Другое заблуждение, к которому иногда приводит идея принятия решений путём взвешивания, заключается в том, что таким образом можно решать проблемы, в частности, разрешать споры между сторонниками конкурирующих объяснений, созданием взвешенного среднего из их предложений. Но дело в том, что разумное объяснение, которое сложно варьировать без утраты объяснительной силы, по той же причине сложно соединить с конкурирующим объяснением: нечто среднее между ними обычно хуже, чем каждое в отдельности. Чтобы соединить два объяснения и создать одно более разумное, нужен новый акт творчества. Поэтому разумные объяснения дискретны — они отделены друг от друга неразумными — и поэтому, выбирая объяснение, мы сталкиваемся с дискретными вариантами.
Если решения сложные, то за творческой фазой часто следует механическая фаза работы в поте лица: нужно уже нетворческими средствами связать детали объяснения, которые ещё не стали, но могут стать сложными для варьирования. Например, архитектор, у которого заказчик спрашивает, какой высоты может быть небоскрёб при определённых ограничениях, не просто вычисляет эту высоту по формуле. Таким вычислением процесс принятия решения может закончиться, но начнётся он творчески, с идей, как лучше учесть в новом проекте приоритеты и ограничения заказчиков. А прежде заказчикам нужно творчески решить, какими должны быть эти приоритеты и ограничения. В начале процесса им могут быть известны не все предпочтения, которые они в итоге сформулируют архитекторам. Аналогичным образом избиратель может просмотреть программы различных партий и даже присвоить каждому вопросу «вес» в соответствии с его значимостью; но это можно сделать лишь после того, как он определился с собственной политической философией и удовлетворительно для самого себя объяснил, насколько важны в её свете те или иные вопросы, каких взглядов по этим вопросам, скорее всего, будут придерживаться различные партии и так далее.
Тип «решения», рассматриваемый в теории социального выбора, — это выбор из известных и фиксированных вариантов, в соответствии с известными, фиксированными и последовательными предпочтениями. Наиболее типичный пример — решение избирателя в кабине для голосования, но не о том, какого кандидата выбрать, а в каком квадратике поставить галочку. Как я уже объяснил, это чрезвычайно неадекватная и неточная модель принятия решения человеком. В действительности избиратель выбирает между объяснениями, а не квадратиками, и хотя лишь немногие избиратели решают повлиять на сам список квадратиков, баллотируясь для этого на выборах, все разумные избиратели создают своё собственное объяснение того, в каком из них лично они поставят галочку.
Таким образом, неверно, что процесс принятия решений обязательно страдает от грубой иррациональности — и не потому, что с теоремой Эрроу или любой другой теоремой о невозможности что-то не так, а потому, что сама теория социального выбора основана на ложных предположениях о том, из чего состоит процесс мышления и принятия решений. Это ошибка Зенона. Абстрактный процесс, названный в теории принятием решений, ошибочно принимается за реальный процесс с тем же названием.
Аналогично, «диктатор», как он понимается в теореме Эрроу, — необязательно диктатор в повседневном смысле этого слова. Это просто любой участник, которого правила принятия решений в обществе наделяют исключительным правом принимать конкретные решение вне зависимости от предпочтений кого-то ещё. Таким образом, в любом законе, который предполагает получение согласия индивидуума, например, закон против изнасилования или принудительной хирургии, устанавливается «диктатура» в техническом смысле, применяемом в теореме Эрроу. Любой человек является диктатором по отношению к своему телу. Закон против воровства устанавливает диктатуру по отношению к вещам, принадлежащим человеку. Свободные выборы по определению — выборы, в которых каждый избиратель является диктатором по отношению к своему бюллетеню. В самой теореме Эрроу предполагается, что все участники обладают исключительным правом на управление своим вкладом в процесс принятия решений. В более общем смысле, самые важные условия для рационального принятия решений — такие как свобода мысли и слова, терпимость к иному взгляду и самоопределение индивидуумов — все они требуют «диктатуры» в математическом смысле Эрроу. И вполне можно понять, почему был выбран этот термин. Но он не имеет никакого отношения к диктатуре с тайной полицией, которая может прийти за вами среди ночи, если вы критикуете систему.
Практически все, кому пришлось комментировать эти парадоксы и теоремы о невозможности, реагировали ошибочным и весьма красноречивым способом: с сожалением. Это иллюстрирует недоразумение, о котором я уже говорил. Им бы хотелось, чтобы эти чисто математические теоремы оказались ложными. Если бы только математика позволяла, говорили они, мы, люди, смогли бы построить справедливое общество, рационально принимающее решения. Но столкнувшись с невозможностью этого, мы понимаем, что нам ничего не остаётся, как решить, какие несправедливости и иррациональности нам нравятся больше, и закрепить их законом. Как писал Вебстер о проблеме пропорционального распределения, «то, что нельзя сделать идеально, нужно приблизить к совершенству как можно больше. Если по природе вещей точность недостижима, то нужно взять ближайшее практически возможное приближение»[93].
Но какого рода «совершенство» содержится в логическом противоречии? Логическое противоречие — это ведь бессмыслица. Всё гораздо проще: если ваше понимание справедливости противоречит логике или рациональности, то оно несправедливо. Если ваше понимание рациональности противоречит математической теореме (или в нашем случае — нескольким теоремам), то саму рациональность вы понимаете иррационально. Упрямо придерживаясь логически невозможных ценностей, вы не только гарантировано потерпите неудачу в том узком смысле, что никогда не будет им соответствовать, но вы ещё вынужденно отвергнете оптимизм («всё зло — от недостатка знаний») и таким образом лишитесь средств достижения прогресса. Желание чего-то логически невозможного — знак, что есть лучшие объекты для желаний. Более того, если моя гипотеза, высказанная в главе 8, верна, невозможное желание в конечном счёте и неинтересно.
Нужно найти нечто лучше, чего желать. Что-то не противоречащее логике, разуму или прогрессу. И мы уже встречались с этим. Это основное условие, при котором политическая система способна к устойчивому прогрессу: критерий Поппера о том, что система способствует ненасильственному устранению плохих политических курсов и плохих правительств. Это влечёт за собой отказ от вопроса «кто должен править?» как критерия оценки политических систем. Все разногласия по поводу методов распределения и всех других вопросов в теории социального выбора традиционно рассматривались всеми заинтересованными сторонами в контексте вопроса «кто должен править?»: сколько должно быть мест у каждого штата и у каждой политической партии? Чего «хочет» группа, если она имеет право господствовать над своими подгруппами и индивидуумами, и какие институты поймут, что она «хочет»?
Давайте заново рассмотрим коллективное принятие решений в терминах критерия Поппера. Вместо того чтобы настойчиво интересоваться, какие из самоочевидных, но взаимно несовместимых критериев справедливости, представительности и так далее наиболее самоочевидны, чтобы их можно было отстаивать, мы оцениваем эти критерии наряду со всеми другими действующими или предлагаемыми политическими институтами, в соответствии с тем, насколько хорошо они способствуют отстранению плохих правителей и отказу от плохих политических курсов. Для этого они должны заключать в себе традиции мирного критического обсуждения правителей, курсов и самих политических институтов.
С этой точки зрения любая интерпретация демократического процесса просто как способа посоветоваться с людьми по поводу того, кто должен править и какую политику нужно реализовать, упускает из вида то, что происходит на самом деле. Роль выборов в рациональном обществе — не то же самое, что в более ранних обществах совет с оракулом или священником или подчинение указам короля. Суть демократического процесса принятия решений — не в выборе, сделанном системой на выборах, а в идеях, порождённых между выборами. А выборы — это всего лишь один из институтов, функция которых — сделать так, чтобы такие идеи могли создаваться, проверяться, модифицироваться и отвергаться. Избиратели — это не кладезь мудрости, из которого можно эмпирически «выводить» правильный политический курс. Они пытаются, пусть и с ошибками, объяснить мир и тем самым его усовершенствовать. В одиночку и коллективно они ищут истину — или должны её искать, если они рациональны. И объективная истина существует. Проблемы можно решить. Общество — это не игра с нулевой суммой: цивилизация Просвещения дошла до своего теперешнего состояния не за счёт того, что с умом распределяла богатства, голоса или что-то ещё, что не могли поделить, когда она зарождалась. Она достигла всего этого путём создания ex nihilo[94]. В частности, на выборах избиратели не занимаются синтезом решения сверхчеловеческого существа — «общества». Они выбирают, какие эксперименты предпринять далее и (главным образом) от каких отказаться, потому что больше нет разумного объяснения, почему они наилучшие. Политики и их курсы и есть эти эксперименты.
Если кто-то использует теоремы о невозможности, такие как теорема Эрроу, для моделирования реального процесса принятия решений, ему придётся считать (достаточно нереалистично), что никто в группе из лиц, принимающих решения, не способен убедить остальных изменить свои предпочтения или создать новые, по которым будет проще прийти к согласию. Реалистичным же является случай, когда и предпочтения, и варианты в конце процесса принятия решения необязательно должны быть теми же самыми, что и в начале.
Итак, почему бы просто не… исправить теорию социального выбора, включив в её математическую модель принятия решений творческие процессы, такие как объяснение и убеждение? Потому что никто не знает, как смоделировать творческий процесс. Такая модель и сама была бы творческим процессом — искусственным интеллектом.
Условия «справедливости», как их понимают при обсуждении различных проблем, связанных с социальным выбором, — это заблуждения, аналогичные эмпиризму: все они касаются того, что поступает на вход процесса принятия решений, — кто в нём участвует и как их мнения объединяются и формируют «предпочтение группы». Рациональный же анализ должен упираться в то, как правила и институты способствуют избавлению от плохих политических курсов и правителей и созданию новых вариантов.
Иногда такой анализ поддерживает одно из традиционных требований, по крайней мере частично. Например, действительно важно, чтобы никто из членов группы не имел привилегий в плане представительства и не был его лишён. Но это делается не ради того, чтобы все они могли внести свой вклад в решение, а потому, что такая дискриминация закрепляет в системе предубеждение против возможной критики. Не имеет смысла включать в новое решение предпочитаемые каждым политические курсы или их части; для прогресса необходимо исключать идеи, которые не выдерживают критики, предотвращать их закрепление и поддерживать создание новых идей.
Принцип пропорционального представительства часто защищают на том основании, что он ведёт к коалиционным правительствам и компромиссным курсам. Но у компромиссов — смеси курсов участвующих сторон — незаслуженно высокая репутация. Безусловно, они лучше, чем прямое насилие, но, вообще говоря, как я уже объяснял, это плохая политика. Если курс не представляет собой чью-то идею о том, что должно работать, то почему же он будет работать? Но это ещё не самое плохое. Ключевой недостаток компромиссной политики — в том, что, когда такой курс реализуют, а он проваливается, никто не извлекает никаких уроков, потому что никто никогда с ним не соглашался. Таким образом, компромиссные политические курсы не позволяют критиковать и отбрасывать основополагающие объяснения, которые действительно кажутся разумными, по крайней мере некоторым фракциям.
В большинстве стран британской политической традиции система, используемая для выбора членов законодательного органа, заключается в том, что в нём каждый район (или избирательный округ) страны получает одно место, которое достаётся кандидату, набравшему наибольшее число голосов в соответствующем районе. Это так называемая мажоритарная избирательная система («мажоритарность» и означает «наибольшее число голосов»). Занявший второе место ничего не получает, нет и второго тура голосования (альтернативные подходы встречаются в других избирательных системах для повышения пропорциональности исходов). Мажоритарное голосование обычно приводит к тому, что две самые крупные партии получают «избыточное представительство» по сравнению с пропорцией полученных ими голосов. Более того, никто не гарантирует, что удастся избежать парадокса населения, может даже оказаться так, что у власти окажется не та партия, которая получила в сумме намного больше голосов.
Всё это часто приводится в качестве аргументов против мажоритарного голосования и в пользу более пропорциональной системы — либо чисто пропорционального распределения, либо других схем, таких как система передаваемых голосов[95], или системы с выбыванием[96], которые обеспечивают более пропорциональное представительство избирателей в законодательном органе. Однако по критерию Поппера всё это несущественно по сравнению с более высокой эффективностью мажоритарного голосования в том, что касается избавления от плохих правительств и политических курсов.
Давайте проследим механизм этого преимущества более явно. Обычно после выборов по системе мажоритарного голосования партия, набравшая наибольшее число голосов, имеет абсолютное большинство в законодательном органе и поэтому целиком берёт управление на себя. Все проигравшие партии полностью отстраняются от власти. При пропорциональном распределении такое случается редко, потому что некоторые из партий старой коалиции обычно нужны и в новой. Как следствие, логика мажоритарности в том, что политики и политические партии имеют мало шансов получить какую-либо долю власти, если они не смогут убедить существенную долю населения проголосовать за них. Это даёт всем партиям стимул к поиску более разумных объяснений или по крайней мере к убеждению большего числа людей в существующих, ведь если им это не удастся, то на следующих выборах они власти лишатся.
При мажоритарной системе выигравшие объяснения подвергаются критике и проверке, потому что их можно реализовать, не смешивая с наиболее важными требованиями конкурирующих программ. Аналогично, на выигравших политиков ложится исключительная ответственность за выбор, который они делают, поэтому, если их выбор окажется плохим, оправданий у них будет меньше. Если к следующим выборам они будут уже не столь убедительны в глазах избирателей, то, как правило, мало что поможет им удержаться у власти.
При пропорциональной системе небольшие изменения общественного мнения редко имеют какое-либо значение, а власть может легко сместиться в направлении, противоположном общественному мнению. Наибольшее значение имеет перемена мнения лидера третьей по величине партии. Это защищает от устранения из власти путём голосования не только самого этого лидера, но и большинство действующих политиков с их политическими курсами. Чаще их отстраняют из-за потери поддержки внутри собственной партии или из-за изменения альянсов между партиями. Так что в этом отношении пропорциональная система с треском проваливает критерий Поппера. При мажоритарном голосовании всё как раз наоборот. Низкое представительство маленьких партий соответствующее принципу «всё или ничего», делает общий исход голосования чувствительным к небольшим изменениям мнений. Когда правящая партия даже немного теряет в общественном мнении, она, как правило, подвергается реальному риску остаться совершенно без власти.
При пропорциональном распределении присущая системе несправедливость имеет сильную тенденцию сохраняться либо усугубляться со временем. Например, если из большой партии уходит маленькая фракция, то в итоге у неё может быть больше шансов, что её курс будет испробован, чем если бы её сторонники остались в исходной партии. Это приводит к проникновению в законодательный орган небольших партий, что в свою очередь повышает необходимость в коалициях, включая коалиции с ещё меньшими партиями, что ещё больше увеличивает их непропорциональную власть. В Израиле, стране с самой пропорциональной в мире избирательной системой, этот эффект достиг столь серьёзных масштабов, что на момент написания этой книги даже две крупнейшие партии вместе не могут собрать абсолютное большинство. И всё равно при этой системе, которая пожертвовала всеми другими соображениями в пользу якобы справедливой пропорциональности, даже сама пропорциональность достигается не всегда: на выборах 1992 года партии правого крыла в целом набрали большинство голосов избирателей, но большинство мест досталось левым партиям. (Так произошло, потому что большинство малых партий, которые не смогли преодолеть барьер для получения одного места, были правыми.)
Напротив, свойство исправлять ошибки, присущее мажоритарной избирательной системе, уводит от парадоксов, которым система теоретически подвержена, или быстро избавляет от их последствий, если они всё-таки проявляются, поскольку все стимулы действует в обратную сторону. Например, в канадской провинции Манитоба в 1926 году Консервативная партия набрала в два с лишним раза больше голосов, чем любая другая партия, но ей не доставалось ни одного из семнадцати выделенных этой провинции мест. В результате она потеряла власть в национальном парламенте, несмотря на то, что и по всей стране получила больше всего голосов. Но даже в этом редком, крайнем случае непропорциональность представительства двух главных партий в парламенте не была такой уж большой: на среднего избирателя-либерала пришлось в 1,31 раза больше членов парламента, чем на среднего избирателя-консерватора. Что же было дальше? На следующих выборах Консервативная партия снова набрала наибольшее количество голосов по стране, но на этот раз получила в парламенте абсолютное большинство. Общее число набранных ею голосов увеличилось на 3 %, а представительство выросло на 17 % от общего числа мест, и в результате доля мест партий вновь стала приблизительно пропорциональной, и критерий Поппера был торжественно удовлетворён.
Отчасти это обусловлено ещё одной чертой мажоритарной системы, а именно тем, что конкуренты обычно получают очень близкое число голосов, а также тем, что вследствие этого все члены правительства сильно рискуют потерять свои посты. В пропорциональных системах выборы редко бывают столь опасными в обоих смыслах. Зачем отдавать партии с наибольшим числом голосов наибольшее количество мест, если третья по количеству мест партия затем всё равно поставит у власти вторую по величине партию и установит компромиссную платформу, за которую абсолютно никто не голосовал? Мажоритарная избирательная система почти всегда приводит к тому, что небольшое изменение в количестве голосов достаточно сильно влияет (в том же направлении!) на то, кто формирует правительство. Чем более пропорциональна система, тем менее чувствителен состав получающегося в результате правительства и его курсы к изменениям в числе голосов.
К сожалению, существуют политические явления, которые могут нарушать критерий Поппера даже сильнее, чем плохие избирательные системы, например укоренившееся расовое разделение или различные традиции политического насилия. Поэтому приведённое выше обсуждение избирательных систем не имеет своей целью полностью одобрить мажоритарное голосование как единственно верную демократическую систему, подходящую для всех государственных устройств при любых обстоятельствах. Даже сама демократия иногда может оказаться несостоятельной. Но в передовых политических культурах, связанных с традицией Просвещения, первостепенную важность может и должно иметь создание знаний, идея же о том, что представительное правление зависит от пропорционального представительства в законодательном органе, определённо ошибочна.
В системе правления Соединённых Штатов сенат должен быть представительным, но в ином смысле, чем палата представителей: штаты имеют равное представительство в знак признания того, что каждый штат является отдельной политической сущностью со своей собственной характерной политической и правовой традицией. Каждому штату в сенате выделяется два места независимо от численности населения. Из-за того, что население разных штатов сильно отличается (в настоящий момент больше всего людей живёт в Калифорнии — почти в семьдесят раз больше, чем в наименее населённом Вайоминге), распределение мест в сенате сильно отличается от пропорционального численности населения — гораздо сильнее, чем во всех тех методах распределения, столь живо обсуждаемых в отношении палаты представителей. Но всё же, как показывает история, после выборов редко случается так, что сенат и палата представителей контролировались разными партиями. Возникает мысль, что этот грандиозный процесс распределения мест и выборов заключает в себе нечто большее, чем просто «представительство» нации — отражение населения в законодательном органе. Может ли быть так, что процесс решения проблем, поддерживаемый мажоритарной системой голосования, непрерывно меняет варианты, доступные избирателям, а также их предпочтения в отношении к этим вариантам, причём достигает этого путём убеждения? И потому мнения и предпочтения, что бы там ни казалось, сходятся, но не в том смысле, что разногласий становится меньше (ведь решения приводят к новым проблемам), а в смысле создания всё большего объёма общих знаний.
В науке мы не считаем удивительным, что сообщество учёных с различными исходными устремлениями и ожиданиями, постоянно спорящих о своих конкурирующих теориях, постепенно приходят к практически единодушному согласию по непрекращающемуся потоку вопросов (хотя при этом постоянно остаются разногласия). Это неудивительно, потому что в данном случае существуют наблюдаемые факты, которые они могут использовать для проверки своих теорий. Они сходятся друг с другом по любому конкретному вопросу, потому что все сходятся к одной объективной истине. В политике же принято скептически относиться к возможности такого рода совпадения во взглядах.
Но это пессимистическая точка зрения. В западном мире большая часть философского знания, которое в наше время практически всеми воспринимается как само собой разумеющееся, — скажем, отвращение к рабству, или то, что женщины могут работать, или что вскрытие должно проводиться в законном порядке, или что продвижение по военной службе не должно зависеть от цвета кожи, — всё это было весьма спорным всего несколько десятилетий назад, и изначально как само собой разумеющееся принимались противоположные точки зрения. Удачная система поиска истины идёт в направлении широкого консенсуса или почти единодушия — одного состояния общественного мнения, которое не подвержено парадоксам, связанным с теорией принятия решений, и в котором «воля народа» имеет смысл. Таким образом, достижение широкого консенсуса со временем становится возможным за счёт того, что все заинтересованные лица постепенно избавляются от ошибок в своих позициях и сходятся к объективным истинам. Поддержать этот процесс, добиваясь наилучшего соответствия критерию Поппера, — важнее, чем то, какая из двух соперничающих фракций с практически одинаковой поддержкой победит на конкретных выборах.
Что касается вопроса о распределении мест, то со времён принятия Конституции США в доминирующем понимании смысла «представительного» правления произошли огромные изменения. Например, с признанием за женщинами права на голосование число избирателей удвоилось, и неявно получалось, что на всех предыдущих выборах половина населения была лишена избирательных прав, а на долю другой выпадало избыточное распределение мест сравнительно со справедливым. В цифровом выражении это делает ничтожными все остальные случаи несправедливого пропорционального распределения, которые веками отнимали у политиков столько сил. Но нужно отдать должное политической системе и людям, живущим в Соединённых Штатах и на Западе в целом, ведь пока они яростно спорили о справедливости сдвигов в несколько процентных пунктов в пользу одного или другого штата, они также спорили и об этих важных усовершенствованиях и воплощали их. И в правильности этого теперь не возникает сомнений.
Схемы представительства, избирательные системы и другие институты человеческого сотрудничества по большей части создавались и развивались для разрешения повседневных разногласий, для того чтобы намечать совместные пути ненасильственного развития, вопреки значительным расхождениям во взглядах относительно того, какие из них лучше. Причём и наилучшие из них ведут к успеху в меру того, как в их рамках удаётся, часто непреднамеренно, реализовать решения, открывающие огромные возможности. Как следствие, разрешение разногласий в настоящее время стало просто средством достижения цели. Суть подчинения большинству в демократической системе должна заключаться в приближении к единодушию в будущем за счёт предоставления всем заинтересованным стимула для отказа от плохих идей и для выдвижения более удачных. Творческое изменение возможных вариантов — вот что позволяет людям в реальной жизни объединять усилия так, как, казалось бы, запрещают теоремы о невозможности; и именно это позволяет индивидуумам вообще делать выбор.
Рост массива знаний, по которым достигнуто единодушное единогласие, не означает, что споры утихнут: напротив, люди никогда не станут расходиться во взглядах меньше, чем сейчас, и это очень хорошо. Если эти институты действительно оправдают надежду на то, что изменения могут быть в целом к лучшему (как это, кажется, и происходит), то по мере продвижения от одного заблуждения к другому, менее тяжкому, наша жизнь будет становиться всё лучше и лучше, и так без конца.
Терминология
Представительное правление — система правления, при которой состав или мнения законодательного органа отражают состав и мнения народа.
Теория социального выбора — исследование того, как можно определить «волю общества» через желания его членов, а также того, какие общественные институты позволяют обществу воплощать определённую таким образом волю.
Критерий Поппера — хорошими являются политические институты, которые, насколько возможно, упрощают процесс выяснения того, является ли правитель или политический курс плохими, и если да, то избавиться от них без насилия.
Значения «начала бесконечности», встречающиеся в этой главе
— Выбор, включающий в себя создание новых вариантов, а не взвешивание существующих.
— Политические институты, удовлетворяющие критерию Поппера.
Краткое содержание
Ошибочно считать, что осуществление выбора и принятия решения — это процесс отбора из существующих вариантов по фиксированной формуле. В этом случае опускается самый важный элемент принятия решений, а именно — создание новых вариантов. Хорошие курсы сложно варьировать, и поэтому противоречащие друг другу курсы дискретны, их нельзя произвольным образом смешивать. Подобно тому, как рациональное мышление заключается не во взвешивании обоснований конкурирующих теорий, а в поиске наилучших объяснений с помощью гипотез и критики, так и коалиционные правительства — не есть цель, к которой должны стремиться избирательные системы. Эти системы нужно оценивать по критерию Поппера, то есть смотреть, насколько легко они позволяют избавляться от плохих правителей и плохих политических курсов. В этом смысле мажоритарная избирательная система представляется лучшей для передовых политических культур.
14. Почему цветы красивые?
Как-то моя дочь Джульет, тогда ей было шесть… обратила моё внимание на цветы, растущие на обочине. Я спросил её, как она думает, зачем нужны дикие цветы. Она ответила весьма вдумчиво. «Во-первых, — сказала она, — чтобы украсить мир. А во-вторых, чтобы пчёлам было из чего делать мёд». Я был растроган таким ответом, но, к сожалению, мне пришлось сказать ей, что это не так.
Ричард Докинз, Поднимаясь на пик Невероятного (Climbing Mount Improbable, 1996)«Убери хоть одну ноту — музыка исчезнет. Измени одну фразу — здание рухнет»[97]. Так описывал музыку Моцарта Питер Шеффер в своей пьесе «Амадей» (Amadeus), опубликованной в 1979 году. Это напоминает слова Джона Арчибальда Уилера о желанной единой теории фундаментальной физики, взятые эпиграфом к первой главе этой книги: «Такая простая и красивая идея, что когда… мы додумаемся до неё, то непременно спросим: а разве могло быть иначе?»
Шеффер и Уилер описывали одно и то же свойство: с трудом поддаваться варьированию, но при этом выполнять своё предназначение. В первом случае это свойство хорошей с эстетической точки зрения музыки, а во втором — разумных научных объяснений. И говоря о научной теории как о красивой, Уилер в то же время описывает её как трудно варьируемую.
Научные теории трудно изменять, потому что они близко соответствуют объективной истине, которая не зависит от нашей культуры, личных предпочтений и биологического строения. Но почему Питер Шеффер решил, что произведения Моцарта трудно варьировать? Как среди людей искусства, так и среди тех, кто с ним не связан, преобладает, как мне кажется, мнение, что в художественных стандартах нет ничего объективного. Как говорится, о красоте не спорят. Сама фраза «это дело вкуса» используется взаимозаменяемо со словами «тут нет объективной истины». С этой точки зрения художественные стандарты — не более чем проявления моды и других культурных случайностей, чьих-то капризов или биологического предрасположения. Многие готовы признать, что в науке и математике одна идея может быть объективно более истинной, чем другая (хотя, как мы увидели, некоторые отрицают даже это), но большинство настаивает: нельзя сказать, что один предмет объективно более красив, чем другой. В математике есть доказательства (рассуждают они), а в науке — экспериментальная проверка; но если вы решите, что Моцарт был плохим композитором, а его произведения — сплошная какофония, то ни логикой, ни экспериментом, ни каким-либо другим объективным доводом опровергнуть вашу точку зрения будет нельзя.
Однако было бы ошибкой отвергнуть возможность объективной красоты на такого рода основании, ведь это не что иное, как пережиток эмпиризма, который мы обсуждали в главе 9, — утверждение о том, что общезначимого философского знания не может существовать. Верно, что так же, как нельзя из научных теорий вывести моральные максимы, из них не выводятся и эстетические ценности. Но это не мешает эстетическим истинам ассоциироваться с физическими фактами через объяснения, как это имеет место с моральными истинами. В приведённой цитате Уилер очень близко подошёл к утверждению о наличии такой связи.
Факты можно использовать для критики эстетических теорий так же, как и как нравственных. Например, существует критическое мнение, что раз большая часть видов искусства полагается на ограниченные свойства человеческих ощущений (таких как диапазон цветов и звуков, которые ими воспринимаются), то они не могут достичь ничего объективного. Искусство инопланетян, органы чувств которых способны регистрировать радиоволны, но не свет и звук, будет нам недоступно, и наоборот. В ответ на это можно сказать, что, во-первых, наше искусство, вероятно, лишь скользит по поверхности возможного: оно действительно парохиально, но это первое приближение к чему-то универсальному. Или, во-вторых, что на Земле глухие композиторы сочиняли и ценили великую музыку; так почему же не способные слышать инопланетяне (или глухие от рождения люди) не могли бы научиться тому же самому — хотя бы и путём загрузки в свой мозг эстетических представлений глухого композитора? Или, в-третьих, чем отличаются ситуации, когда радиотелескопы используются для изучения физики квазаров и когда для понимания внеземного искусства подключают протезные органы чувств (соединённые с мозгом и способствующие созданию новых квалиа)?
Из опыта могут появляться и художественные проблемы. У наших предков были глаза и краски, и они наверняка могли задумываться над тем, как покрасить стену так, чтобы она смотрелась красивее.
Аналогично тому, как Джейкоб Броновски указывал, что научное открытие зависит от приверженности определённым нравственным ценностям, не может ли из них вытекать также восприятие определённых форм красоты? То, что глубокая истина зачастую красива, — известный факт, который часто упоминают, но редко объясняют. Математики и учёные-теоретики называют красоту такого рода «элегантностью». Элегантность — это красота в объяснениях. Это никоим образом не синоним того, насколько объяснение разумно или истинно. Утверждение поэта Джона Китса (которое, по-моему, было ироничным), что «В прекрасном — правда, в правде — красота»[98], опровергается тем, что эволюционист Томас Гексли называл «великой трагедией науки, когда прекрасная гипотеза разбивается об один-единственный безобразный факт, что с завидным постоянством происходит на глазах у философов». (Под философами он имел в виду учёных.) Мне кажется, что Гексли называл этот процесс великой трагедией также с иронией, в особенности потому, что речь шла об опровержении теорий о самозарождении жизни. В действительности, некоторые важные математические доказательства и некоторые научные теории далеко не элегантны. Правда, однако, так часто бывает элегантной, что элегантность — это как минимум удобная эвристика при поиске фундаментальных истин. А когда «красивая гипотеза» разбивается, то чаще всего её заменяют ещё более красивой, как было с теорией самозарождения. И это, безусловно, не совпадение: это природная закономерность. Поэтому у неё должно быть объяснение.
Процессы, протекающие в науке и искусстве, выглядят совсем непохожими друг на друга: новое художественное произведение редко доказывает ошибочность старого; художники редко рассматривают натуру под микроскопом или пытаются понять скульптуру с помощью уравнений. Однако научные и художественные произведения кое в чём всё-таки выглядят необыкновенно похожими. Ричард Фейнман однажды заметил, что физику-теоретику не нужно ничего, кроме стопки бумаги, карандаша и мусорной корзины, и есть художники, которые за работой выглядят очень похоже. До изобретения пишущей машинки точно таким же набором были вооружены и писатели.
Такие композиторы, как Людвиг ван Бетховен, мучительно вносили в партитуру одно изменение за другим, по-видимому, в поисках того, что, как они знали, должно быть создано согласно критериям, удовлетворить которым, очевидно, можно, лишь приложив огромные творческие усилия и потерпев множество неудач. Зачастую то же самое делают и учёные. Как в науке, так и в искусстве встречаются поразительные творцы, такие, например, как Моцарт или математик Шриниваса Рамануджан, которые, по общему мнению, создавали блестящие труды, не прилагая особых усилий. Но из того, что мы знаем о порождении знаний, мы должны сделать вывод, что в таких случаях и усилия, и ошибки тоже имеют место, но их не видно — всё происходит в головах творцов.
Но не поверхностно ли это сходство? Не обманывался ли Бетховен, когда считал, что выброшенные им партитуры содержат ошибки: что они хуже, чем те, которые он в итоге выставил на суд общественности? Не просто ли он следовал произвольным стандартам своей культуры, как женщины в XX веке тщательно выверяли длину одежды, следуя последней моде? Или всё-таки есть реальный смысл в утверждении о том, что произведения Бетховена и Моцарта стоят выше постукивания костями мамонтов, которым развлекали себя предки композиторов в каменном веке, подобно тому, как математика Рамануджана стоит выше системы счёта на палочках?
Иллюзия ли то, что критерии, которым пытались соответствовать Бетховен и Моцарт, тоже были лучше? Или такого понятия, как «лучше», нет? Быть может, существует только «Я знаю, что мне нравится», или то, что называет хорошим традиция, или признаваемое авторитетными источниками? Или это гены предопределяют, что нам должно нравиться? Психолог Сигэру Ватанабэ установил, что воробьи предпочитают гармоничную музыку неблагозвучной. Только ли в этом заключается всё человеческое восприятие искусства?
Все эти теории предполагают, хотя и почти никак не обосновывают, что для любого логически возможного эстетического стандарта может существовать, скажем, культура, в которой люди будут наслаждаться искусством, удовлетворяющим этому стандарту, оно будет глубоко их трогать. Или что может существовать генетическое предрасположение с такими же свойствами. Но не будет ли намного более правдоподобным предположить, что лишь совершенно исключительные эстетические стандарты могут в принципе стать нормой какой бы то ни было культуры или целью, для достижения которой великие деятели искусств, создающие новый художественный стиль, трудились бы всю жизнь? В широком смысле культурному релятивизму (по отношению к искусству или нравственности) очень трудно объяснить, чем занимаются люди, когда думают, что совершенствуют традицию.
Также здесь существует и свой эквивалент инструментализма: не является ли искусство просто средством достижения нехудожественных целей? Например, художественные произведения могут передавать информацию: картина передаёт изображение, а музыкальное произведение — эмоции. Но красота не заключена преимущественным образом в их содержании. Она в форме. Например, вот эта картинка скучная:
а вот другая, во многом похожая по содержанию
но её эстетическая ценность выше. Можно видеть, что над созданием второй картинки размышляли. В её композиции, кадрировании, обрезке, освещении, фокусе содержатся явные признаки замысла фотографа. Но что он задумывал? В отличие от часов Пейли у этой фотографии как будто бы нет никакой функции — просто она кажется красивее первой. Но что это значит?
Одним из возможных полезных назначений красоты является притягательность. Красивый объект привлекателен для тех, кто ценит красоту. Притягательность (для заданной аудитории) может носить функциональный характер и является практичной, научно измеримой величиной. Искусство может быть привлекательным в буквальном смысле, то есть заставлять людей приближаться. Посетители художественной галереи, увидев картину, не смогут от неё оторваться и позже вернутся туда снова из-за этой картины. Люди могут совершать далёкие поездки, чтобы попасть на концерт, и так далее. Если вы видите произведение искусства, которое вам нравится, это значит, что вы хотите остановиться около него, посмотреть на него подольше, чтобы лучше его оценить. Если вы занимаетесь искусством и в процессе создания произведения видите в нём нечто, что хотите показать другим, то вас притягивает красота, которую вы ещё не ощутили. Идея произведения искусства притягивает вас ещё до того, как вы его создали.
Но не всякая притягательность имеет отношение к эстетике. Потеряв равновесие, вы упадёте с бревна, потому что всех нас притягивает планета Земля. Может показаться, что это просто игра слов: то, что Земля нас притягивает, связано не с эстетической ценностью, а с законами физики, которые влияют на деятелей искусства так же, как и на африканских муравьедов. Увидев красный свет светофора, мы остановимся и будем пристально смотреть на него, пока он не переключится на зелёный. Однако эстетическая ценность здесь опять ни при чём, хотя светофор и притягивает наше внимание. Тут связь чисто механическая.
Однако если начать углубляться в детали, то все связи — чисто механические. А заправляют всем законы физики. Таким образом, можно ли сделать вывод, что у красоты не может быть другого объективного значения, кроме как «то, к чему нас притягивает благодаря процессам, протекающим у нас в голове, а значит, законам физики»? Нет, нельзя, потому что согласно такому аргументу физический мир также объективно не существовал бы, поскольку законами физики, помимо прочего, определяется, что учёный или математик желает называть истинным. Однако нельзя объяснить, что делает математик (или костяшки домино Хофштадтера), не обращаясь к объективным математическим истинам.
Новые произведения искусства непредсказуемы, как и новые научные открытия. Является ли это непредсказуемостью случайности или более глубокой непознаваемости процесса создания знаний? Другими словами, по-настоящему ли созидательно искусство, как наука и математика? Обычно этот вопрос задают в обратную сторону, потому что идея творческого мышления до сих пор достаточно неясна из-за различных заблуждений. Эмпиризм ошибочно навешивает на науку ярлык автоматического, нетворческого процесса. А искусство, считаясь «творческим», часто рассматривается как противоположность науке, а значит, оно иррациональное, случайное, необъяснимое и, как следствие, не поддающееся оценке и необъективное. Но если красота действительно объективна, то и новое произведение искусства, подобно вновь открытому закону природы или доказанной математической теореме, добавляет в мир что-то нередуцируемо новое.
Мы пристально смотрим на красный свет светофора, потому что это позволит продолжить движение с наименьшей потерей времени. Животных тянет друг к другу из-за стремления произвести потомство или насытиться. Откусив один кусок, хищник хочет откусить ещё, если только вкус не показался ему дурным, и тогда пища отвергается. То есть это в буквальном смысле дело вкуса. И это дело вкуса действительно обусловлено законами физики, проявляющимися в форме законов химии и биохимии. Можно предположить, что не существует объяснения получающегося в результате поведения на уровне более высоком, чем зоологический, поскольку это поведение предсказуемо. Оно повторяется снова и снова, а там, где не повторяется, оно случайно.
Искусство не состоит из повторений. В человеческих вкусах может присутствовать подлинная новизна. Поскольку мы являемся универсальными объяснителями, мы не просто слепо подчиняемся своим генам. Например, люди часто действуют противоположно любым предпочтениям, которые только могли быть встроены в наши гены. Они постятся, иногда по эстетическим соображениям. Некоторые воздерживаются от половых отношений. Люди ведут себя очень непохоже по религиозным или разнообразным другим причинам: философским и научным, практическим или чудаческим. Мы от рождения боимся высоты, боимся падения, но при этом прыгаем с парашютом, причём не наперекор этому чувству, а ради него. Именно это врождённое чувство страха люди могут реинтерпретировать шире, так, что картина станет для них притягательна и они захотят её повторения; захотят глубже её оценить. Виды, которые должны бы нас пугать, парашютистам кажутся красивыми. Весь процесс прыжка для них красив, а часть этой красоты — в самих ощущениях, которые, согласно тому, ради чего они развивались, должны были удерживать нас от прыжка. Отсюда с неизбежностью следует вывод: эта притягательность не врождённая, как и содержание новых законов физики или математических теорем.
Может ли это быть чисто культурным явлением? Мы ищем красоту так же, как и правду, и в обоих случаях можем заблуждаться. Возможно, чьё-то лицо нам кажется красивым, потому что оно действительно красиво, а возможно, просто из-за комбинации генов и культуры. Один жук привлекателен для другого, хотя нам с вами он кажется отвратительным. Но только если вы не энтомолог. Люди могут научиться во многом видеть красоту или уродство. Но опять же они могут научиться считать ложные научные теории истинными, а истинные — ложными, что не мешает существованию объективной научной истины. Так что из этого никак не определить, существует ли объективная красота.
Так почему же у цветка форма именно такая, а не другая? Потому что эволюция соответствующих генов была направлена на то, чтобы он привлекал насекомых. Зачем это нужно генам? Для того чтобы пыльца попадала на насекомых, которые садятся на цветок, чтобы они переносили её на другие цветы того же вида и тем самым распространяли повсюду гены, содержащиеся в ДНК этой пыльцы. Это репродуктивный механизм, развившийся у цветковых растений, которым большинство из них пользуется по сей день: до появления насекомых цветов на Земле тоже не было. Но этот механизм смог заработать лишь потому, что у насекомых одновременно развивались гены, привлекавшие их к цветам. А это почему происходило? Потому что в цветах есть нектар, то есть пища. Точно так же как существует коэволюция генов, координирующих брачное поведение у самцов и самок одного вида, те гены, благодаря которым образуются цветы определённой формы и расцветки, коэволюционировали с генами насекомых, отвечающими за распознавание цветов с лучшим нектаром.
В ходе этой биологической коэволюции, как и в истории искусств, развивались критерии, а с ними — и средства их удовлетворения. Таким образом, цветы получили знание о том, как привлекать насекомых, а насекомые — о том, как узнавать эти цветы, и стали охотнее садиться именно на них. Но вот что удивительно: те же самые цветы притягивают к себе и людей.
Мы настолько к этому привыкли, что сложно осознать, насколько это поразительно. Представьте себе, сколько в природе ужасных животных, а теперь задумайтесь над тем, что все они находят себе пару по внешним признакам и в результате эволюции стали считать эти признаки привлекательными. И поэтому неудивительно, что мы их таковыми не считаем. У хищников и жертв существует похожая коэволюция, но это скорее конкуренция, а не сотрудничество: у тех и у других развились гены, отвечающие за распознавание друг друга и за то, чтобы догонять или убегать, а также гены, отвечающие за то, чтобы организм было сложно распознать на соответствующем фоне. Поэтому-то у тигров полосатая шкура.
Иногда случается так, что парохиальные критерии притягательности, развивавшиеся внутри вида, порождают нечто, кажущееся красивым и нам, например хвост павлина. Но это редкая аномалия: с подавляющим большинством видов мы не разделяем никаких критериев привлекательности. За исключением цветов или по крайней мере большей их части. Иногда и лист может быть красивым, и даже лужа на дороге. Но это — опять же — редкий случай. С цветами же всё надёжно.
Это ещё одна природная закономерность. Каково же объяснение? Почему цветы красивы?
С оглядкой на доминирующие в научном сообществе предположения, которые всё ещё остаются достаточно эмпирическими и редукционистскими, может показаться вполне убедительным, что цветы не являются объективно красивыми и что их притягательность не более чем культурное явление. Но я думаю, что эта идея не выдерживает тщательный проверки. Красивыми нам кажутся и те цветы, которых мы никогда прежде не видели и которые в нашей культуре, как, весьма вероятно, и большинству людей в большинстве культур, до этого были неизвестны. А вот для корней растений или для листьев это неверно. Почему же так происходит только с цветами?
Один необычный аспект коэволюции цветов и насекомых состоит в том, что она включала в себя создание сложного кода или языка для передачи информации между видами. Этот код должен был быть сложным, потому что перед генами стояла непростая коммуникационная задача. С одной стороны, код должен быть легко узнаваемым для определённого вида насекомых, а с другой — остальным видам цветов должно было быть сложно его подделать, ведь если бы другому виду удалось добиться, чтобы те же самые насекомые переносили его пыльцу, но при этом нектар для них можно было не запасать, на что требуется энергия, то этот вид получил бы селективное преимущество. Таким образом, критерий, развивавшийся у насекомых, должен был делать их достаточно разборчивыми, чтобы они выбирали нужные им цветы, а не грубые имитации; а цветы должны были выглядеть так, чтобы их было сложно спутать с любыми другими. Таким образом, сложными с точки зрения варьирования должны были быть как сам критерий, так и средства его удовлетворения.
Когда гены сталкиваются с похожей проблемой внутри вида, особенно в ходе коэволюции критериев и характеристик для выбора пары, в их распоряжении уже есть большое количество общих генетических знаний, на которые можно полагаться. Например, ещё до начала такой коэволюции в геноме могут уже содержаться адаптации для распознавания особей того же вида и для обнаружения различных их свойств. Более того, свойства, которые ищет самец или самка, могут быть изначально полезными объективно, как, например, длина шеи у жирафа. Одна из теорий, объясняющих эволюцию шеи жирафа, заключается в том, что всё началось с адаптации, позволяющей добираться до еды, но затем продолжилось в половом отборе. Однако подобного общего знания, опираясь на которое можно преодолеть пропасть между далёкими видами, нет. Они начинают формироваться с нуля.
И поэтому я предполагаю, что самый простой способ подать сигнал между видами с помощью трудно подделываемых механизмов, рассчитанных на то, что их будут распознавать сложно имитируемыми алгоритмами сопоставления образов, заключается в использовании объективных стандартов красоты. Таким образом, цветам приходится создавать объективную красоту, а насекомым — распознавать её. Как следствие, из всех видов цветы притягательны только для насекомых, которые приспособились к этому в ходе коэволюции, и людей.
Если это верно, то в конечном счёте маленькая дочка Докинза была отчасти права насчёт цветов. Они действительно украшают мир; или по крайней мере красота — не случайный побочный эффект, а то, что специально развивалось в ходе эволюции. Не из-за чьей-то цели украсить мир, а потому, что наиболее эффективно воспроизводящиеся гены нуждаются в реализации объективной красоты для своей репликации. А вот с мёдом, например, совсем другая история. Причина, по которой мёд, то есть вода с сахаром, легко производится цветами и пчёлами, а его вкус одинаково привлекателен для людей и насекомых, состоит в том, что у нас всё-таки есть общее генетическое наследие, уходящее корнями к нашему общему предку и даже дальше, и оно включает биохимическое знание о многих вариантах применения сахара и средствах его распознавания.
Но не может ли то, что люди находят привлекательным в цветах или в искусстве, быть действительно объективно, но при этом не быть объективной красотой? Возможно, это что-то более приземлённое, может, нам просто нравятся яркие цвета, чёткий контраст, симметричные формы. Люди, по-видимому, испытывают врождённую симпатию к симметрии. Считается, что это один из факторов сексуальной привлекательности, кроме того, симметрия может пригодиться при классификации и при физической или мысленной организации нашей среды. Побочным эффектом таких врождённых предпочтений может быть то, что нам нравятся цветы, которые, как правило, красочны и симметричны по форме. Хотя цветы могут быть и белыми (по крайней мере такими видим их мы, а у них ещё могут быть цвета, которые насекомые различают, а мы — нет), но тогда нам кажется красивой их форма. Все цветы тем или иным образом выделяются на окружающем их фоне — это непременное условие для передачи сигналов, однако паучок, ползущий по дну ванны, выделяется на её фоне ещё сильнее, но никто не считает это зрелище красивым. Что касается симметрии, опять же пауки ею не обделены, а некоторые цветы, например орхидеи, совсем не симметричны, но из-за этого они не теряют привлекательности в наших глазах. Поэтому я не думаю, что симметрия, цвет и контраст — это не всё, что мы видим, глядя на цветы, когда отмечаем, что они выглядят красиво.
Своего рода зеркальное отражение этого возражения заключается в том, что в природе существуют и другие вещи, которые мы считаем красивыми и которые не являются результатом творческой деятельности человека или преодолевающей пропасть коэволюции: ночное небо, водопады, закаты. Почему бы и цветам не быть в этом ряду? Но это — разные случаи. Все эти вещи могут притягивать взгляд, но в них нет видимых признаков замысла. Они похожи не на часы Пейли, а на Солнце, служащее в качестве хронометра. Нельзя объяснить, почему часы такие, какие они есть, не ссылаясь на необходимость измерять время, потому что они стали бы бесполезны для этой цели, если бы их слегка изменили. Но, как я уже отмечал, Солнце осталось бы пригодным для измерения времени, даже если бы Солнечную систему изменили. Аналогично, Пейли вполне мог найти камень, который привлёк бы его взгляд. И он вполне мог принести его домой и использовать в качестве декоративного пресс-папье. Но он бы не засел за написание монографии о том, как из-за изменения любой детали камень становится невозможно использовать для этой цели, поскольку это было бы не так. То же верно и для ночного неба, водопадов и практически всех природных явлений. Но в цветах есть видимые признаки замысла создать их красивыми: если бы они выглядели как листья или корни, они бы потеряли свою универсальную привлекательность. Убери хоть один лепесток — красота исчезнет.
Мы знаем, для чего предназначаются часы, но не знаем, что такое красота. Мы в таком же положении, что и археолог, нашедший в древней гробнице надписи на неизвестном языке: они похожи на письмена, а не на просто бессмысленные пометки на стенах. Возможно, это и не так, но выглядят они как если бы их написали там с определённой целью. С цветами то же самое: кажется, что они эволюционировали с какой-то целью, которую мы называем «красотой», которую можем (несовершенно) распознавать, но природу которой понимаем плохо.
В свете этих рассуждений я вижу только одно объяснение феномена привлекательности цветов для людей, а также различных других упомянутых мною разрозненных фактов. Дело в том, что свойство, которое мы называем красотой, бывает двух типов. Один тип — это парохиальная притягательность, в рамках вида, культуры или отдельного человека. Другой не имеет отношения ни к чему подобному: он универсален и настолько объективен, насколько объективны законы физики. Чтобы создать красоту любого типа, требуется знание, но для второго типа нужно знание с универсальной сферой охвата. Оно проникает во всё: от генома цветка с его проблемой конкурентного опыления до человеческого мышления, которое оценивает получающиеся в результате цветы как искусство. Не великое искусство, ведь творения людей-художников гораздо лучше, как следовало ожидать. Но у цветов есть трудно подделываемые видимые признаки замысла создать красоту.
Далее, почему люди ценят объективную красоту, если в нашем прошлом не было эквивалента такой коэволюции? На одном уровне ответ заключается просто в том, что мы универсальные объяснители и можем создавать знания обо всём. Но всё-таки почему нам особенно хочется создавать эстетическое знание? Потому, что мы сталкиваемся с той же проблемой, что цветы с насекомыми. Передача сигналов через пропасть между двумя людьми аналогична передаче сигналов между двумя видами. Человек в смысле содержащихся в нём знаний и творческой индивидуальности подобен виду. У всех особей любого другого вида в генах заложена практически одинаковая программа и используются практически одинаковые критерии по осуществлению действий и реализации устремлений. Люди же в этом отношении совсем другие: в голове человека содержится больше информации, чем в геноме любого вида, и невыразимо больше, чем генетической информации, уникальной для отдельного человека. Таким образом, своими произведениями люди-художники пытаются передать сигнал через пропасть между людьми, как цветы и насекомые — через пропасть между видами. Они могут использовать некие характерные для вида критерии, но могут также тянуться к объективной красоте. В точности то же самое верно и для всего другого знания: мы можем общаться с другими людьми, отправляя заранее заданные сообщения, которые определяются нашими генами или культурой, или можем изобрести что-то новое. Но в последнем случае, чтобы общение всё-таки состоялось, нам следует подниматься над парохиальностью и искать универсальные истины. Примерно такой может быть причина, по которой люди начали этим заниматься.
Одним забавным следствием этой теории мне представляется вот что. Вполне возможно, что то, как стал выглядеть человек под влиянием полового отбора, удовлетворяет стандартам объективной красоты, а не только видовым. Возможно, мы ещё не очень далеко продвинулись по этому пути, потому что всего несколько сотен тысяч лет назад разошлись с обезьянами, и поэтому своим видом мы пока не слишком радикально от них отличаемся. Но, я думаю, что, когда мы станем лучше разбираться в том, что такое красота, окажется, что большая часть отличий развивалась в направлении, делающем людей объективно красивее обезьян.
Два типа красоты обычно создаются для решения двух типов проблем, которые можно назвать теоретическими и прикладными. Прикладной тип — это передача сигналов, и такие задачи обычно решаются созданием красоты парохиального типа. У людей тоже есть проблемы такого рода: красота пользовательского графического интерфейса, скажем, служит прежде всего ради удобства и эффективности использования компьютера. Иногда стихотворение или песню пишут исходя из похожей практической цели: сплотить культуру, продвинуть политическую программу или даже прорекламировать напитки. Опять-таки иногда этих целей можно также достичь и созданием объективной красоты, но обычно используется парохиальный тип, потому что его проще создать.
Второй тип проблем — чистые (теоретические); у них нет аналога в биологии, а заключаются они в создании красоты ради неё самой, что включает создание усовершенствованных критериев красоты: новых художественных стандартов или стилей. Это аналог чисто научных исследований. Состояния сознания, связанные с такого рода наукой и такого рода искусством, в основе своей одинаковы. В обоих случаях цель — поиск универсальной объективной истины.
И, как я считаю, в обоих случаях идёт поиск разумных объяснений. Это наиболее отчётливо проявляется в таких формах искусства, которые включают изложение историй — в художественной литературе. Как я отмечал в главе 11, в хорошем рассказе имеется разумное объяснение описываемых в нём вымышленных событий. Но то же верно и для всех видов искусства. В некоторых из них объяснить красоту определённого произведения искусства словами особенно сложно, даже если знаешь объяснение, потому что соответствующее знание само словами не выражается — оно неявное. Никто до сих пор не знает, как перевести на естественный язык музыкальные объяснения. Но у музыкального произведения, которое можно охарактеризовать фразой «убери одну ноту — музыка исчезнет», объяснение есть: оно было известно композитору и известно слушателям, которые ценят произведение. И однажды мы сможем выразить его словами.
И это тоже не так сильно отличается от естественных наук и математики, как может показаться: поэзия и математика с физикой имеют одно общее свойство — в них разрабатывается язык, отличный от обыденного и служащий для эффективного выражения вещей, которые крайне неэффективно выражаются на обычном языке. И в обоих случаях для этого конструируются варианты обычного языка: сначала нужно понять последний, чтобы потом понять изложенные на нём объяснения, относящиеся к первому.
Прикладное и чистое искусство «ощущаются» одинаково. И так же, как без специфических знаний нельзя объяснить различие между движением птицы в небе, которое происходит объективно, движением Солнца по небу, которое является лишь субъективной иллюзией, обусловленной нашим собственным движением, и движением Луны, в котором есть доля того и другого, так и чистое и прикладное искусство, универсальная и парохиальная красота смешиваются в нашем субъективном восприятии мира. Будет важно выяснить, что есть что. Ведь неограниченного прогресса можно ожидать только в объективном направлении. Остальные направления по своей природе конечны. Они ограничены конечным знанием, заложенным в наших генах и существующих традициях.
Это имеет отношение к различным теориям о том, что такое искусство. Античное изобразительное искусство, например в Греции, изначально было связано с мастерством в передаче формы человеческих тел и других объектов. Это не то же самое, что поиск объективной истины, потому что среди прочего оно доводимо до совершенства (в том плохом смысле, что оно может достичь состояния, в котором его нельзя будет сильно улучшить). Но это мастерство, посредством которого художники тянутся и к чистому искусству, что и происходило в античном мире, а затем снова при восстановлении этой традиции в эпоху Возрождения.
Существуют утилитарные теории о назначении искусства. Эти теории осуждают чистое искусство при помощи тех же аргументов, которые приводятся против фундаментальной науки и математики. Но относительно того, что составляет художественное совершенствование, выбора у нас не больше, чем относительно того, что верно, а что ложно в математике. Пытаться же подстраивать научные теории или философские позиции под политическую конъюнктуру или личные предпочтения — значит не понимать сути дела. Искусство может иметь различные применения. Но художественные ценности ничему не подчиняются и ни из чего не выводятся.
Такая же критика применима и к теории, говорящей, что искусство есть самовыражение. Выражение — это подача того, что уже есть, а объективный прогресс в искусстве связан с созданием чего-то нового. Кроме этого, самовыражение связано с выражением чего-то субъективного, а чистое искусство объективно. По той же причине в любом виде искусства, который целиком состоит из спонтанных или механических действий, например бросание краски на холст или стрижка овец, нет средств достижения художественного прогресса, потому что настоящий прогресс сложен и любой успех в нём сопряжён с множеством ошибок.
Если я прав, то будущее искусства столь же удивительно, как и будущее любого другого типа знаний: в искусстве будущего красота сможет расти неограниченно. На эту тему можно лишь спекулировать, но, наверно, здесь тоже стоит ожидать новых типов объединения. Когда мы станем лучше разбираться в том, что на самом деле представляет собой элегантность, возможно, мы найдём новые и более удачные пути поиска истины с помощью элегантности или красоты. Я полагаю, что мы также сможем создавать новые органы чувств и новые квалиа, которые будут заключать в себе красоту новых типов, в буквальном смысле непостижимую для нас сегодня. «Каково быть летучей мышью?» — спрашивал философ Томас Нейджел. (Точнее говоря, каково это будет, если у человека появится эхолокационная система, как у летучих мышей?) Возможно, полный ответ на этот вопрос состоит в том, что в будущем не столько философия позволит нам понять, каково это, сколько технологическое искусство даст нам возможность испытать это на себе.
Терминология
Эстетика — философия красоты.
Элегантность — красота в объяснениях, математических формулах и так далее.
Явное — выраженное словами или символами.
Неявное — то, что не является явным.
Значения «начала бесконечности», встречающиеся в этой главе
— Тот факт, что элегантность — эвристический проводник к истине.
— Необходимость создания объективного знания, чтобы дать различным людям возможность общаться.
Заключение
В эстетике есть объективные истины. Стандартный аргумент в пользу того, что их не может быть, — пережиток эмпиризма. Эстетические истины связаны с фактическими посредством объяснений, а также с тем, что художественные проблемы могут возникать из физических фактов и ситуаций. То, что люди однозначно находят цветы красивыми, хотя их строение очевидно развивалось без такой цели, свидетельствует о том, что красота объективна. Эти сходящиеся друг с другом критерии красоты решают проблему создания трудно подделываемых сигналов там, где одними прежними общедоступными знаниями уже не обойтись.
15. Эволюция культуры
Идеи, которые выживают
Культура — это набор идей, которые обуславливают в некоторых аспектах сходное поведение их носителей. Под идеями я имею в виду любую информацию, которая может храниться в голове человека и влиять на его поведение. Таким образом, общие ценности нации, способность общаться на определённом языке, общие знания в рамках учебной дисциплины и восхищение определённым музыкальным стилем — всё это в данном смысле «наборы идей», которые определяют культуру. Многие из них неявные; на самом деле у всех идей есть неявные компоненты, поскольку даже знание смысла слов содержится у нас в голове в значительной степени в неявном виде. Физические навыки, такие как умение кататься на велосипеде, имеют особенно высокое неявное содержание, как и философские понятия, например свобода и знание. Различие между явным и неявным не всегда чёткое. Так, стихотворение или сатирическое произведение могут явно выражать одно, а люди в определённой культуре все как один подумают, что они о другом.
Главные мировые культуры, включая нации, языки, философские и художественные движения, социальные традиции и религиозные течения, создавались шаг за шагом на протяжении сотен и даже тысяч лет. Большая часть определяющих их идей, в том числе неявных, имеет длинную историю передачи от человека к человеку. Таким образом, эти идеи становятся мемами — идеями, которые являются репликаторами.
Но культуры меняются. Люди модифицируют культурные представления в своей голове и иногда передают модифицированные версии дальше. Неизбежно будут и нечаянные модификации, частично обусловленные элементарными ошибками, а частично тем, что неявные идеи сложно точно донести: не существует способа напрямую загрузить их из мозга одного человека в мозг другого, как программы с компьютера на компьютер. Даже носители языка не дадут всем словам одинаковых определений. Таким образом, у двух людей в голове крайне редко содержатся в точности одинаковые культурные представления. Вот почему, когда умирает основатель политического, философского или религиозного движения, а порой и до его смерти, нередко случается раскол. Самые преданные последователи движения часто бывают поражены, обнаружив, что они расходятся по поводу того, что «на самом деле» представляет собой его доктрина. Не многое меняется и тогда, когда религия имеет священную книгу, в которой явно сформулированы её догматы: тогда возникают споры о том, что означает то или иное слово и как истолковать то или иное предложение.
Таким образом, на практике культура определяется не набором строго идентичных мемов, а набором вариантов, которые вызывают слегка различные характерные линии поведения. Некоторые варианты скорее приводят к тому, что их обладатели жаждут их навязывать или говорить о них, у других вариантов это проявляется слабее. Некоторые из них легче, чем другие, воспроизводятся в сознании потенциальных получателей. Эти и другие факторы влияют на вероятность, с которой каждый вариант мема будет передан дальше. Немногие исключительные варианты, едва появившись в одной голове, стремятся распространиться по всей культуре с очень незначительными изменениями смыслов (что проявляется в вызываемых ими моделях поведения). Такие мемы нам знакомы, потому что из них состоят долгоживущие культуры; но тем не менее в другом смысле они представляют собой идеи очень необычного типа, ведь большинство идей живут недолго. Человеческое сознание перебирает множество идей, прежде чем сосредоточится на одной из них, и только малая доля из этих отобранных идей может вызывать поступки, которые кто-то сможет заметить, а из них лишь малая доля будет скопирована кем-то другим. Таким образом, подавляющее большинство идей исчезает вместе с человеком или даже раньше. Поведение людей в долгоживущей культуре поэтому определяется отчасти недавними идеями, которые скоро исчезнут, и отчасти долгоживущими мемами — исключительными идеями, которые верно воспроизводились много раз подряд.
При исследовании культур возникает фундаментальный вопрос: что есть такого в долгоживущем меме, что даёт ему исключительную возможность сопротивляться изменениям при многократном воспроизведении? И другой вопрос, главный в рамках этой книги: когда такие мемы всё-таки меняются, каковы условия, при которых эти изменения будут к лучшему?
Представление о том, что культуры эволюционируют, не уступает по возрасту эволюционным идеям в биологии. Но большинство попыток понять этот процесс, основывались на непонимании эволюции. Например, коммунистический мыслитель Карл Маркс считал, что его теория развития общества эволюционная, потому что в ней продвижение от одного исторического этапа к другому определяется экономическими «законами движения». Но настоящая теория эволюции не имеет никакого отношения к предсказанию отличительных черт организмов на основе черт их предков. Маркс также считал, что теория эволюции Дарвина обеспечила «естественно-научную основу понимания исторической борьбы классов»[99]. Он сравнивал свою идею о неизбежном конфликте между социально-экономическими классами с якобы существующим соперничеством между биологическими видами. В фашистских идеологиях, таких как нацизм, эволюционные идеи (например, «выживание наиболее приспособленных») использовались в искажённом или неточном виде для оправдания насилия. Но на самом деле в ходе биологической эволюции соперничают не различные виды, а варианты генов внутри видов, что совсем непохоже на предполагаемую «классовую борьбу». Это может выливаться в насилие или другой вид соперничества между видами, но может приводить и к сотрудничеству (к такому, как симбиоз цветов и насекомых) и всевозможным замысловатым их комбинациям.
Хотя и Маркс, и фашисты исходили из ложных теорий биологической эволюции, то, что аналогии между обществом и биосферой часто связаны с суровыми представлениями об обществе, совсем неслучайно: биосфера — жестокое место. Она полна воровства, лжи, покорения, порабощения, голода и истребления. Как следствие, те, кто думает, что культурная эволюция такая же, в итоге либо начинают противостоять ей (защищая статичное общество), либо смиряются с таким типом безнравственного поведения как с необходимым или неизбежным.
Но доказательства по аналогии ущербны. Практически любая аналогия между любыми двумя сущностями содержит некую долю истины, но понять, что она собой представляет, нельзя, пока не будет независимого объяснения того, что чему аналогично и почему. Главная опасность в аналогии между биосферой и культурой в том, что она поощряет понимание человеческой природы в духе редукционизма, что стирает высокоуровневые отличия, существенные для её понимания, такие как различия между бездумным и творческим, детерминизмом и наличием выбора, правильным и неправильным. Такие различия бессмысленны на уровне биологии. Можно заметить, что эта аналогия часто проводится как раз с целью «разоблачения» здравого представления о людях как о причинных факторах, обладающих способностью делать нравственный выбор и создавать для себя новые знания.
Как я объясню далее, хотя биологическая и культурная эволюции описываются одной и той же основополагающей теорией, механизмы переноса, вариации и отбора в них очень сильно различаются. В итоге и соответствующее «естествознание» получается разным. Не существует близкого культурного аналога виду, организму, клетке, половому размножению или вегетативному воспроизведению. На уровне механизмов и исходов гены и мемы отличаются друг от друга насколько это только возможно; схожи они лишь на самом низком уровне объяснения, где и те, и другие являются репликаторами, воплощающими в себе знание, и потому подчиняются одним и тем же фундаментальным принципам, задающим условия, при которых знание можно или нельзя сохранять, можно или нельзя совершенствовать.
Эволюция мемов
В классическом научно-фантастическом рассказе Айзека Азимова «Остряк»[100] (Jokester), написанном в 1956 году, главный персонаж — учёный, исследующий анекдоты. Он выясняет, что, хотя многие люди иногда делают остроумные, оригинальные замечания, никто никогда не изобретает то, что он сам признает полноценным анекдотом: рассказом с сюжетом и концовкой, вызывающим у слушателей смех. Каждый раз рассказывая анекдот, люди просто повторяют то, что слышали от кого-то ещё. Так откуда же берутся анекдоты? Кто их придумывает? Вымышленный ответ, который приводится в «Остряке», притянут за уши и нас здесь не интересует. Но посыл рассказа не настолько абсурден: вполне вероятно, что какие-то анекдоты никто не придумывает, они возникают эволюционным путём.
Люди рассказывают друг другу забавные истории — некоторые из них вымышленные, некоторые — реальные. Это не анекдоты, но какие-то из них становятся мемами: они достаточно интересны, и люди пересказывают их друг другу. Однако они редко передаются слово в слово; не сохраняются при этом все детали. Как следствие, у часто рассказываемой истории появляются разные варианты. Некоторые из них пересказывают чаще, чем другие, иногда потому, что люди считают их более забавными. Когда это является главной причиной для пересказа, последующие варианты, которые продолжат гулять по миру, будут становиться ещё забавнее. Таким образом, появляются условия для эволюции: повторяющиеся циклы неидеального копирования информации, чередующиеся с отбором. В конечном счёте эта история становится настолько забавной, что заставляет людей хохотать, — получается полноценный анекдот.
Вполне возможно, что анекдот может подвергаться вариациям, которые не были нацелены на то, чтобы сделать её смешнее. Например, люди, которые слушают историю, могут что-то не расслышать или не так понять, а могут что-то изменить в ней из практических соображений, и в редких случаях чисто случайно получается более смешная версия, которая станет затем распространяться лучше. Если анекдот развился таким путём из истории, которая не была шуточной, то у него действительно нет автора. Другая возможность состоит в том, что большинство людей, изменявших забавную историю, пока она ещё не стала анекдотом, вносили свой вклад в неё, задействуя творческие способности, чтобы намеренно сделать её смешнее. Анекдот действительно был создан путём вариации и отбора, его забавность стала результатом творческих способностей человека. В этом случае будет неправильным говорить, что «её никто не создавал». У неё было много соавторов, каждый из которых вложил в результат свою творческую мысль. Но всё равно может быть так, что буквально никто не понимает, почему он получился таким смешным, а значит, никто по своему желанию не смог бы создать другой, не менее смешной анекдот.
Хотя мы не знаем, как устроено творческое мышление, нам известно, что это эволюционный процесс, протекающий в голове человека. Ведь оно связано с догадками (то есть вариациями) и критикой (служащей для отбора идей). Таким образом, где-то в голове слепая изменчивость и отбор поднимают творческую мысль на новый уровень эмерджентности.
Идея мемов подвергалась большой, радикальной и, как мне кажется, ошибочной критике за нечёткость, бесполезность и даже предвзятость. Например, когда была пресечена религиозная традиция древних греков, но об их богах продолжали рассказывать, хотя бы только и в форме мифов, оставались ли эти рассказы теми же самыми мемами, невзирая на то, что теперь они вызывали другое поведение? В результате перевода законов Ньютона с латыни на английский произносить и писать стали другие слова. Остались ли мемы теми же самыми? Вообще говоря, такие вопросы не ставят под сомнение ни существование мемов, ни полезность этого понятия. Это всё равно что спорить, какие объекты в Солнечной системе нужно называть планетами. Считать ли Плутон «настоящей» планетой, ведь он меньше, чем некоторые из спутников планет в нашей Солнечной системе? А Юпитер — планета или незажжённая звезда? Это не важно. А важно то, что есть на самом деле. И мемы есть независимо от того, как мы их называем или классифицируем. Так же как основная теория генов была разработана задолго до открытия ДНК, так и сегодня, не зная, как идеи хранятся в голове, мы всё же знаем, что некоторые из них можно передавать от одного человека другому, и они могут влиять на поведение людей. Мемы как раз и есть такие идеи.
Другое направление критики заключается в том, что мемы, в отличие от генов, не хранятся в одинаковой физической форме у всех носителей. Но, как я объясню далее, это необязательно отменяет возможность «верной» передачи мемов в том смысле, который важен для эволюции. В действительности имеет смысл считать, что мемы сохраняют свои индивидуальные черты, переходя от одного носителя к следующему.
Подобно тому, как целая группа генов часто обеспечивает то, что нам может казаться единой адаптацией, есть мемокомплексы, состоящие из нескольких идей, которые могут также рассматриваться как единая, более сложная идея, например квантовая теория или неодарвинизм. Таким образом, не имеет значения, считаем ли мы мемокомплекс одним мемом — как не важно и то, ссылаемся ли мы на квантовую теорию как на единую теорию или на группу теорий. Однако идеи, включая мемы, нельзя бесконечно разбивать на подмемы, потому что наступит момент, когда замена мема частью его самого приведёт к тому, что он не будет скопирован. Например, «2 + 3 = 5» — не мем, потому что у него нет того, что нужно, чтобы точно привести к копированию себя, кроме как при обстоятельствах, ведущих также к копированию некой теории арифметики с универсальной силой, которую и саму нельзя передать без передачи знания о том, что 2 + 3 = 5.
Смех над анекдотом и его пересказ — это варианты вызванного им поведения, но зачастую мы не знаем, почему так себя ведём. Причина на самом деле находится в меме, но нам она неизвестна. Мы можем попытаться предположить, что юмор конкретного анекдота заключается в неожиданности концовки. Но сталкиваясь с ним в дальнейшем, мы можем увидеть, что он не перестаёт быть смешным даже при повторном прослушивании. В таком случае мы оказываемся в нелогичном (но обычном) положении, когда ошибочно определяем причину своего собственного поведения.
То же самое происходит с грамматическими правилами. Англичане говорят «I am learning to play the piano»[101], но они не скажут «I am learning to play the baseball»[102]. Носители языка знают, как правильно строить такие предложения, но, пока не начнут задумываться об этом, далеко не все осознают, что следуют неявному грамматическому правилу, не говоря уже о том, чтобы его сформулировать. В американском варианте английского правило немного другое, поэтому фраза «learning to play piano» без определённого артикля the допустима. Мы можем поинтересоваться, почему так, и предположить, что британцам определённый артикль нравится больше, чем американцам. Но опять же это не объяснение: в британском варианте языка о пациенте в больнице говорят «in hospital», а в американском — «in the hospital».
То же верно и для мемов в целом: они неявно содержат информацию, которая неизвестна их носителям, но которая тем не менее вынуждает их к сходному поведению. И подобно тому, как носители английского могут ошибочно называть причину, по которой они использовали определённый артикль в данном предложении, люди, приводящие в действие множество других мемов, часто неправильно объясняют даже самим себе, почему они ведут себя так, а не иначе.
Как и гены, все мемы содержат знания (зачастую не выраженные явно) о том, как вызвать собственную репликацию. Эти знания кодируются в цепочках ДНК или запоминаются мозгом. В обоих случаях знание приспособлено к тому, чтобы вызывать свою репликацию — у него это получается увереннее, чем практически у всех его вариаций. В обоих случаях эта адаптация — результат чередующихся циклов изменчивости и отбора.
Однако с точки зрения логики механизм копирования у генов и мемов сильно отличается. В организмах, которые размножаются делением, в следующее поколение копируются либо все гены, либо никакие (если особи не удалось размножиться). При половом размножении копируется либо комплект генов, случайным образом выбранных у обоих родителей, либо никакие гены не копируются. Процесс копирования ДНК во всех случаях происходит автоматически: гены просто копируются — и всё. Одно из следствий этого заключается в том, что некоторые гены могут копироваться во многих поколениях, но при этом никак не проявляться (не вызывать никакого поведения). Даже если ваши родители никогда не ломали руки или ноги, гены для восстановления сломанных костей будут (исключая маловероятные мутации) переданы вам и вашим потомкам.
Мемы имеют дело с совсем другой ситуацией. Каждый мем должен выразиться в виде поведения при всякой своей репликации. Ведь именно за счёт этого поведения и только за счёт него (с учётом среды, созданной другими мемами) осуществляется репликация. Всё потому, что получатель не может видеть, как представлен мем в голове его носителя. Мем нельзя скачать, как компьютерную программу. Если он не воспроизведётся, то не будет скопирован.
Вывод из этого заключается в том, что мемы обязательно воплощаются в двух различных физических формах попеременно: как воспоминание в мозгу и как поведение:
Каждая из этих двух форм должна быть скопирована (а именно переведена в другую форму) в каждом поколении мема. («Поколения» мемов — это просто последовательные случаи копирования другому индивидууму.) С развитием технологий в цикл жизни мемов могут добавляться дальнейшие этапы. Например, поведение может заключаться в том, чтобы что-то записать, тем самым воплотив мем в третьей физической форме, что впоследствии может побудить человека, который его прочитает, осуществить другое поведение, из-за которого мем попадёт в чей-то мозг. Но у каждого мема должно быть как минимум две физические формы.
Репликатор же генов существует только в одной физической форме — в виде цепочки ДНК (в зародышевой клетке). Хотя она и может скопироваться в другое место организма путём трансляции в РНК и проявиться в поведении, но ни одна из этих форм не будет репликатором. Идея о том, что поведение может быть репликатором, — это форма ламаркизма, поскольку предполагается, что поведение, изменившееся под влиянием обстоятельств, будет унаследовано.
Из-за того, что у мема две чередующиеся физические формы, в каждом поколении ему приходится выживать в двух разных и потенциально не связанных между собой механизмах отбора. Форме в виде памяти в мозгу приходится вынуждать обладателя воспроизвести поведение, а форме поведения приходится делать так, чтобы получатель запомнил мем и воспроизвёл его.
Так, например, хотя религии предписывают нам такое поведение, как, например, воспитание детей в религиозном духе, одного намерения передать мем своему ребёнку или ещё кому-то совершенно недостаточно, чтобы это произошло. Поэтому подавляющее большинство попыток основать новую религию проваливаются, как бы сильно основатели ни старались её распространить. В таких случаях происходит вот что: идее, которую люди приняли, удалось заставить их воспроизвести различные виды поведения, включая то, которое должно вынудить их детей и других людей делать то же самое, но поведению не удалось заставить эту идею закрепиться в головах получателей.
Существование долгоживущих религий иногда объясняется исходя из посылки, что «дети доверчивы» или что их «легко запугать» рассказами о сверхъестественном. Но это не объяснение. У подавляющего большинства идей просто нет того, что нужно, чтобы путём убеждения (или запугивания, или упрашивания, или тому подобного) заставить детей или кого-то ещё проделать то же самое с другими людьми. Если бы укоренить верно копирующийся мем было бы так просто, все взрослые люди у нас отлично разбирались бы в алгебре благодаря усилиям, предпринятым, чтобы обучить их ей в детстве. Точнее говоря, все они были бы хорошими учителями алгебры.
Чтобы быть мемом, идея должна содержать достаточно замысловатое знание того, как заставить людей делать как минимум две независимые вещи: верно усвоить мем и воспроизвести его. То, что некоторые мемы могут с высокой устойчивостью копироваться в течение многих поколений, показывает, насколько много знаний в них содержится.
Эгоистичный мем
Если ген содержится в геноме, то при подходящих обстоятельствах он определённо проявится в виде фермента, как я описывал в главе 6, что затем вызовет характерные эффекты. Ген не может пропасть, если остальная часть генома удачно реплицируется. Но то, что мем присутствует в голове человека, само по себе не приводит к автоматическому его воспроизведению в виде поведения: за эту привилегию мему нужно бороться с другими идеями — мемами и не мемами, хранящимися в той же голове и относящимися к самым разным вопросам. И если мем просто будет воспроизведён в виде поведения, это не значит, что он автоматически скопируется в голову получателя вместе с другими мемами: ему придётся бороться со всевозможными образцами поведения других людей и с собственными идеями получателя, конкурируя за внимание получателя, и добиваться, чтобы он его воспринял. И всё это в дополнение к отбору, аналогичному тому, с которым сталкиваются гены, причём каждый мем соревнуется в популяции с конкурирующими версиями самого себя, возможно, за счёт знания, необходимого для выполнения какой-то полезной функции.
Помимо всех этих механизмов отбора мемы подвержены всевозможным случайным и намеренным вариациям и таким образом эволюционируют. В этом отношении сохраняется та же логика, что и для генов: мемы — тоже «эгоисты». Они необязательно эволюционируют с пользой для своих обладателей или их общества — или опять же для себя, разве что в смысле репликации более успешной, чем у других мемов. (Хотя теперь большинство других мемов являются их соперниками, а не только собственные вариации.) Удачный вариант мема — тот, который изменяет поведение своих обладателей так, чтобы лучше всех справиться с вытеснением из популяции других мемов. Этот вариант вполне может оказаться полезным для своих обладателей, их культуры или вида в целом. Но если он навредит им или уничтожит их, он всё равно распространится. Мемы, вредящие обществу, — явление хорошо знакомое. Достаточно вспомнить о вреде, наносимом сторонниками политических взглядов или религий, к которым вы питаете особое отвращение. Из-за того, что некоторые мемы, лучше других распространявшиеся среди населения, вредили социуму, разрушались целые общества. Один такой пример я приведу в главе 17. Неисчислимое множество людей погибло или пострадало из-за принятия вредных для себя мемов, таких как иррациональные политические идеологии или опасные фантазии. К счастью, этим действие мемов не ограничивается. Чтобы разобраться в остальном, нужно рассмотреть основные стратегии, с помощью которых мемы добиваются верной саморепликации.
Статичные общества
Как я уже говорил, человеческий мозг, в отличие от генома, — сам по себе является местом, где активно идут варьирование, отбор и конкуренция. Большая часть идей в голове человека создаётся мозгом с целью испытать их в воображении, покритиковать и поварьировать их, пока они не удовлетворят личным предпочтениям человека. Другими словами, репликация мемов уже включает эволюцию в голове человека. В некоторых случаях могут потребоваться тысячи циклов изменения и отбора, прежде чем хоть один вариант будет воспроизведён. Далее, даже после того, как мем скопируется в нового носителя, его жизненный цикл ещё не завершится. Ему всё ещё нужно будет выжить в дальнейшем процессе отбора, в котором новый носитель будет решать, воспроизводить его или нет.
Некоторые из критериев, которыми сознание пользуется при таком выборе, сами являются мемами. Есть среди них идеи, которые были созданы мозгом для себя (видоизменением мемов или ещё как-то) и которые никогда не будут существовать ни в чьём другом сознании. Такие идеи потенциально весьма разнятся от человека к человеку, но при этом могут сыграть решающую роль в том, выживет ли тот или иной мем, попав к определённому человеку.
Поскольку человек может воспроизвести и передать мем вскоре после его получения, поколение мемов может быть гораздо короче во времени, чем человеческое поколение. В головах людей может происходить много циклов варьирования и отбора даже на протяжении одного поколения мемов. Кроме этого, мемы могут передаваться не только биологическим потомкам их носителей. Эти факторы делают эволюцию мемов гораздо более быстрой, чем эволюция генов, что частично объясняет, как в мемах может содержаться столько знаний. Значит, часто приводимая метафора истории жизни на Земле, в которой весь период её существования приравнивается к одному дню, а человеческая цивилизация занимает только последнюю «секунду» этого «дня», обманчива. В действительности существенная доля всей эволюции на нашей планете до настоящего времени произошла в голове человека, и в то же время она только началась! Вся биологическая эволюция была только предисловием к основному сюжету эволюции, к эволюции мемов.
Но по той же причине кажется, на первый взгляд, что репликация мемов по природе менее надёжна, чем репликация генов. Поскольку неявно выраженное содержимое мемов не может быть скопировано буквально, а до него нужно догадываться по поведению носителей мемов и поскольку у каждого носителя мем может претерпевать значительные преднамеренные изменения, можно в определённой мере считать чудом, что мемам удаётся хотя бы раз передаться верно. И на самом деле в стратегиях выживания долгоживущих мемов эта проблема является доминирующей.
Другой способ формулирования этой проблемы состоит в том, что люди мыслят и пытаются усовершенствовать свои идеи, что влечёт за собой их изменение. Тогда долгоживущий мем — это идея, которая выживает, снова и снова проходя данное испытание. Как такое возможно?
Запад в эпоху после Просвещения — единственное общество в истории человечества, в котором на протяжении более чем двух продолжительностей жизни человека изменения происходили достаточно быстро, чтобы люди успевали их заметить. Скоротечные перемены случались всегда: голод, чума и войны наступали и отступали; короли-бунтари пытались провести радикальные изменения. Иногда быстро создавались огромные империи, а иногда — разрушались целые цивилизации. Но пока общество было на плаву, все важные области его жизни казались людям неизменными: они вполне могли ожидать, что до смерти будут жить с такими же нравственными ценностями, таким же укладом жизни, с той же системой понятий, при тех же технологиях и структуре экономического производства, какие были при их рождении. А из тех изменений, что всё-таки случались, лишь немногие были к лучшему. Такие общества я назову «статичными»: они, конечно, меняются, но темп перемен незаметен для обитателей. Прежде чем мы сможем разобраться в нашем необычном динамичном обществе, нужно понять, как устроено обычное — статичное.
Чтобы общество было статичным, его мемы должны либо не меняться вообще, либо меняться очень медленно и потому незаметно. С точки зрения нашего быстро меняющегося общества такое сложно себе даже представить. Например, рассмотрим изолированное примитивное общество, которое в силу некоторых причин оставалось почти неизменным на протяжении многих поколений. Почему? Вполне возможно, никто в этом обществе и не хочет, чтобы оно менялось, потому что не может представить себе никакого другого образа жизни. Тем не менее члены этого общества испытывают и боль, и голод, и печаль, и страх, не чужды им и другие формы физического и умственного страдания. Они пытаются придумать, как облегчить некоторые из этих страданий. Какие-то из идей оказываются оригинальными, и порой среди них находится та, что действительно способна помочь. Для это нужно лишь слегка, осторожно что-то подправить, чтобы было немного проще охотиться или растить урожай, или чтобы делать более полезные инструменты, лучше учитывать доли или писать законы, или чтобы слегка подправить отношения между мужем и женой, или между родителями и детьми, немного изменить отношение к правителям или к богам. Но что случается потом?
Человек с такой идеей вполне может захотеть поделиться ею с другими. Те, кто поверит в неё, увидят, что она способна сделать жизнь не такой мрачной, жестокой и короткой, расскажут об этом своим родственникам и друзьям, а те — своим. Эта идея будет соревноваться в головах людей с другими идеями о том, как сделать жизнь лучше, многие из которых вполне могут оказаться ложными. Но допустим, в рамках нашего повествования, что в эту конкретную истинную идею поверили и она распространяется по обществу.
Тогда общество изменится. Возможно, не сильно, но это — лишь перемена, вызванная одним человеком с одной идеей. Умножьте это на число думающих умов в обществе и на то, сколько идей каждый из них может породить за свою жизнь, и пусть так продолжается несколько поколений — получится экспоненциально растущая, революционная сила, способная преобразовать все аспекты общества.
Но в статичном обществе такого начала бесконечности никогда не случается. Хотя я всего лишь предположил, что люди пытаются улучшить свою жизнь, что они не могут идеально передавать свои идеи, и эта информация, подверженная вариациям и отбору, эволюционирует, но мне совершенно не удалось представить в этом рассказе статичное общество.
Чтобы общество было статичным, должно происходить что-то ещё. В моём рассказе не учитывается, что в статичных обществах есть обычаи и законы — табу, которые не дают мемам изменяться. Они вынуждают воспроизводить существующие мемы, запрещают воспроизведение их вариантов и подавляют критику существующего положения дел. Однако только этим изменения не подавить. Во-первых, мем никогда не воспроизводится полностью идентично тому, что было в предыдущем поколении. Невозможно с идеальной точностью задать каждый аспект приемлемого поведения. Во-вторых, невозможно заранее сказать, какие небольшие отклонения от традиционного поведения породят дальнейшие изменения. В-третьих, как только вариант идеи начнёт распространяться, перейдя даже просто ещё к одному человеку, это будет означать, что некоторые люди отдают ей предпочтение, и помешать её дальнейшей передаче будет чрезвычайно трудно. Поэтому никакое общество не может оставаться статичным только за счёт подавления новых идей по мере их создания.
Вот почему принуждение к сохранению статус-кво — лишь вторичный метод предотвращения изменений — операция по зачистке местности. А основной метод всегда — и только так и может быть — заключается в блокировании источника новых идей, а именно творческого мышления человека. Поэтому в статичных обществах всегда существует традиция растить детей так, чтобы их творческое и критическое мышление было подавлено. Таким образом, новые идеи, которые могли бы изменить общество, по большей части просто никогда не приходят никому на ум.
Как это осуществляется? По-разному, и детали в нашем повествовании не важны, но происходит то, что люди, растущие в таком обществе, приобретают набор ценностей для суждения о самих себе и обо всех остальных, который эквивалентен избавлению себя от отличительных признаков и поиску только соответствия основополагающим мемам общества. Такие люди не только воспроизводят эти мемы, они видят смысл своего существования лишь в том, чтобы их воспроизводить. Подобные общества не просто навязывают такие качества, как, например, послушание, почтительность и преданность долгу, но само чувство собственного «Я» у их членов привязано к тем же стандартам. Люди не знают других стандартов. Они испытывают гордость и стыд, формируют свои мнения и устремления, руководствуясь критерием того, насколько полно они подчиняют себя мемам общества.
Откуда мемы «знают», как достигать всех этих сложных, репродуктивных эффектов относительно идей и поведения людей? Они, конечно же, этого не знают: они не разумные существа. Это знание содержится в них имплицитно. Как они подошли к этому знанию? Оно развивалось. В любой момент мемы существуют во множестве вариантных форм, которые подвержены отбору в пользу надёжной репликации. Миллионы вариантов каждого долгоживущего мема статичного общества окажутся в сточной канаве, потому что у них не будет достаточно информации, они не будут достаточно безжалостны и не смогут помешать конкурентам зародиться в мысли или добиться воспроизведения, у них не будет достаточно преимуществ в плане психологического давления или чего бы то ни было, что может потребоваться для более удачного по сравнению с конкурентами распространения среди населения, прежде чем они станут доминировать, копируясь и воспроизводясь с немного более высокой степенью устойчивости. Если некоему варианту случалось немного продвинуться в индуцировании поведения с такими свойствами саморепликации, то вскоре он становился превалирующим. Как только это случалось, вновь появлялось много вариантов этого варианта, которые опять подвергались такому же эволюционному давлению. Таким образом, последовательные версии мема накапливали знания, позволявшие им всё более уверенно наносить характерный для них вред своим жертвам-людям. Подобно генам, они могли приносить и пользу, хотя даже в этом случае маловероятно, что это делалось ими оптимальным образом. Так же, как гены, связанные с глазами, неявно «знают» законы оптики, так и долгоживущие мемы статичного общества неявно обладают знанием человеческой природы и безжалостно используют его, чтобы обходить защиту и использовать слабости человеческих умов, которые они порабощают.
Сделаем замечание по поводу масштабов времени. Статичные общества, как они определены здесь, не являются идеально неизменными. Они статичны в масштабе времени, который может заметить человек; но мемы не могут помешать изменениям, которые протекают медленнее этого. Поэтому в статичных обществах эволюция мемов всё-таки происходит, но настолько медленно, что большая часть членов общества большую часть времени её не замечают. Например, палеоантропологи, исследующие палеолитические орудия, не могут датировать их по форме с погрешностью меньше чем в тысячи лет, потому что в ту эпоху орудия просто не совершенствовались быстрее. (Отметим, что это всё равно гораздо быстрее хода биологической эволюции.) Исследуя орудие из статичного общества Древнего Рима или Египта, учёный сможет датировать его по технологии изготовления, скажем, с точностью до века. А историки будущего, изучая машины и другие технологические артефакты нашего времени, легко смогут датировать их с точностью до десятилетия, а в случае с компьютерными технологиями — до года и даже меньше.
Меметическая эволюция стремится к тому, чтобы сделать статичными мемы, но необязательно общества в целом. Как и гены, мемы эволюционируют не ради пользы группы. Тем не менее так же, как в результате эволюции генов могут создаваться долгоживущие организмы, которые получат некие преимущества, так и неудивительно, что эволюция мемов иногда может приводить к созданию статичных обществ, поддерживать их статичность и способствовать их функционированию за счёт воплощения истин. Также неудивительно и то, что мемы часто полезны своим обладателям (хотя редко оптимальным образом). Так же как организмы используются генами как средства, так отдельные люди используются мемами для достижения их «цели», заключающейся в распространении себя среди населения. И для этого мемы иногда обеспечивают преимущества своим носителям. Одно из отличий от биологического случая заключается в том, что организмы — это не более чем рабы всех своих генов, а мемы захватывают только часть мышления человека даже в самых порабощённых статичных обществах. Поэтому некоторые люди сравнивают мемы с вирусами, которые контролируют лишь часть функциональности клеток, чтобы размножаться самим. Некоторые вирусы просто прописываются в ДНК хозяина и особо ничего не делают, кроме как участвуют в дальнейшем копировании, но у мемов это не так, они должны вынудить человека к отличительному поведению и используют знания, чтобы добиться самокопирования. Другие вирусы уничтожают клетку-хозяина — так же как и некоторые мемы разрушают своих обладателей: когда кто-то лишает себя жизни так, что журналисты просто не могут обойти это стороной, часто распространяется волна «подражательных самоубийств».
Всеохватывающее давление отбора на мемы подталкивает их к корректной репликации. Но в этих рамках есть ещё и давление, ведущее к тому, чтобы по возможности меньше вредить разуму носителя, потому что именно разум позволяет человеку прожить достаточно долго, чтобы суметь воспроизвести поведения мема как можно большее число раз. Из-за этого мемы начинают вызывать в сознании носителя тонко настроенное влечение: в идеале это просто невозможность удержаться от воспроизведения данного конкретного мема (или мемокомплекса). Так, например, долгоживущие религии обычно вызывают боязнь определённых сверхъестественных сущностей, но не боязливость или легковерие в целом, потому что это навредило бы самим носителям и они стали бы более восприимчивы к конкурирующим мемам. Таким образом, эволюционное давление направлено на то, чтобы ограничить психологический ущерб относительно узкой областью мышления реципиентов, но при этом хорошо закрепить его, чтобы они сталкивались с большими эмоциональными затратами, если вдруг решат отклониться от предписанного мемом поведения.
Статичное общество формируется, когда невозможно избежать этого эффекта: все существенные линии поведения, все отношения между людьми, все мысли подчиняются тому, чтобы обеспечить верную репликацию мемов. Во всех областях, управляемых мемами, критическое мышление не применяется. Новаторство не допускается, да никто к нему почти и не стремится. С учётом такого разрушения человеческого разума статичные общества почти невозможно себе представить с нашей точки зрения. Бесчисленным людям, которые всю свою жизнь и много поколений подряд надеются на облегчение своих страданий, не удаётся не только продвинуться в этом направлении, но даже предпринять подобную попытку или просто подумать о том, чтобы её предпринять. Если они всё-таки видят такую возможность, они её отвергают. Дух творчества, с которым мы все рождаемся, систематически гасится в них ещё до того, как ему удаётся создать что-либо новое.
Жизнь статичного общества включает в себя жестокую борьбу, призванную не дать знаниям развиваться, и в каком-то смысле сводится к ней. Но это ещё не всё. Ведь нет причины ожидать, что быстро распространяющаяся идея, если ей вдруг случиться возникнуть в статичном обществе, будет верной или полезной. Это ещё один аспект, упущенный выше в моём рассказе о статичном обществе. Я предположил, что изменение будет к лучшему. Но это может быть не так, особенно при том, что отсутствие в статичном обществе опыта критики делает людей уязвимыми перед ложными и вредными идеями, от которых не защитят табу. Например, когда в XIV веке в Европе равновесие статичных обществ было нарушено эпидемией бубонной чумы, новые идеи по её предотвращению, которые распространялись лучше всего, были чрезвычайно плохими. Многие решили, что это конец света и что пытаться как-то дальше совершенствовать жизнь на Земле бессмысленно. Многие отправлялись убивать евреев или «ведьм». Многие собирались в церквях и монастырях, чтобы молиться (тем самым невольно способствуя распространению болезни, которая переносилась блохами). Возникла секта флагеллантов, члены которой посвящали жизнь самоистязаниям и призывали к этому других, надеясь доказать Богу, что его дети раскаиваются. Все эти идеи были вредны с точки зрения функциональности, а также ложны с точки зрения фактов и в конечном счёте были подавлены властями, которые стремились вернуться к застою.
Таким образом, как это ни парадоксально, в опасениях статичного общества, связанных с тем, что любое изменение с гораздо большей вероятностью принесёт вред, чем пользу, много правды. Статичное общество действительно постоянно подвергается риску, заключающемуся в том, что ему навредит или его уничтожит вновь возникший дисфункциональный мем. Однако после эпидемии бубонной чумы распространились также несколько верных и функциональных идей, которые вполне могли способствовать завершению этой конкретной эпохи статичного общества, причём необыкновенно удачным образом (через Возрождение).
Статичные общества выживают за счёт эффективного уничтожения того типа эволюции, который уникален для мемов, а именно творческой вариации, нацеленной на удовлетворение индивидуальных предпочтений носителей мема. Без этого эволюция мемов становится больше похожей на эволюцию генов, и некоторые неприятные выводы из наивных аналогий между ними находят своё выражение. В статичных обществах действительно есть стремление к разрешению вопросов путём насилия и к тому, чтобы жертвовать благосостоянием отдельных людей на «благо» общества (другими словами, для предотвращения изменений в нём). Как я уже отмечал, люди, полагающиеся на такие аналогии, в итоге либо становятся сторонниками статичного общества, либо смиряются с насилием и притеснением. Теперь мы видим, что эти две реакции по сути одно и то же: притеснение нужно, чтобы поддерживать статичность общества; притеснение любого заданного типа не продлится долго, если только общество не статично.
Поскольку результат устойчивого, экспоненциального роста знаний вряд ли можно с чем-то спутать, мы можем заключить без специального исторического исследования, что все общества на Земле, существовавшие до текущей западной цивилизации либо были статичны, либо просуществовали не больше нескольких поколений. Золотые века Афин и Флоренции — примеры последнего, но могло быть и много других. Это напрямую противоречит широко распространённому убеждению, что индивидуумы в примитивных обществах были счастливы так, как с тех пор уже невозможно, что они не были ограничены общественными условностями и другими императивами цивилизации, а значит, могли достигать самовыражения и реализации своих потребностей и желаний. Но примитивные общества (включая племена охотников и собирателей) все должны были быть статичными, потому что, если бы какое-то одно из них перестало быть статичным, оно перестало бы быть и примитивным или же разрушилось бы, утратив свои отличительные знания. В последнем случае рост знаний затормозился бы грубым насилием, которое сразу пришло бы на смену институтам статичного общества. Ведь как только изменения начинают проводиться посредством насилия, они обычно перестают быть к лучшему. Поскольку статичные общества не могут существовать без подавления роста знаний, они не могут позволить, чтобы у их членов было много возможностей для стремления к счастью. (Как ни парадоксально, создание знаний само по себе является естественной потребностью и желанием человека, а статичные общества, хоть они и примитивны, «неестественным» образом подавляют его.) С точки зрения каждого человека в таком обществе, встроенные в него механизмы подавления творческого мышления катастрофически вредны. Любое статичное общество должно систематически препятствовать своим членам в попытках достичь чего-то позитивного для себя лично или вообще чего-либо, кроме как линий поведений, предписанных мемами. Оно может неограниченно поддерживать своё существование, только подавляя самовыражение своих членов и ломая их дух, а его мемы тонко адаптируются под эти цели.
Динамичные общества
Но наше общество (Запад) — не статичное. Это единственный известный пример долгоживущего динамичного (быстро меняющегося) общества. Оно уникально в истории благодаря своей способности поддерживать долгосрочные, быстрые, мирные изменения и усовершенствования, включая прогресс в выработке широкого консенсуса относительно ценностей и целей, о чём я говорил в главе 13. Это стало возможным благодаря появлению кардинально отличного класса мемов, которые хотя и остаются «эгоистичными», но необязательно вредоносны для отдельных людей.
Чтобы объяснить природу этих новых мемов, я задам следующий вопрос: мемы какого типа могут вызывать свою репликацию на протяжении длительных периодов в быстро меняющейся среде? В такой среде люди постоянно сталкиваются с непредсказуемыми проблемами и возможностями. А значит, их потребности и желания тоже меняются непредсказуемым образом. Как мему остаться неизменным в таких условиях? Мемы статичного общества остаются неизменными, эффективно уничтожая все варианты выбора для индивидуумов: люди не выбирают ни какие идеи им приобрести, ни какие воспроизвести. Кроме того, эти мемы объединяются так, чтобы сделать общество статичным, а обстоятельства, с которыми сталкиваются люди, менялись как можно меньше. Но как только застой сломлен, и люди получают выбор, они будут выбирать частично в соответствии со своими личными предпочтениями и идеями, и в таком случае мемы столкнутся с критериями отбора, которые непредсказуемо меняются от одного реципиента к другому, а также со временем.
Чтобы передаться одному-единственному человеку, мем должен казаться полезным только этому человеку. Чтобы передаться группе похожих людей при неизменных обстоятельствах, он должен всего лишь быть парохиальной истиной. Но идея какого типа лучше всего подойдёт для того, чтобы быть принятой много раз подряд множеством людей с различными, непредсказуемыми целями? С этой ролью справится истинная идея. Но не любая истина. Она должна казаться полезной всем этим людям, поскольку именно они будут выбирать, воспроизводить её или нет. «Полезный» в этом контексте необязательно означает полезный с функциональной точки зрения: это определение относится к любому свойству, благодаря которому люди могут захотеть принять идею и воспроизвести её, например, идея может быть интересной, забавной, изящной, легко запоминаемой, нравственно верной и так далее. А лучший способ казаться полезной различным людям при различных, непредсказуемых обстоятельствах — это быть полезной. Такая идея является истиной в самом широком смысле или воплощает её: она фактически верная, если это утверждение о факте; красивая, если это художественная ценность или поведение; объективно правильная, если это нравственная ценность; смешная, если это шутка, и так далее.
Идеи, обладающие наибольшим шансом выжить на протяжении многих поколений перемен, — это истины с большой сферой применимости, глубокие истины. Людям свойственно ошибаться, они часто выказывают предпочтение ложным, поверхностным, бесполезным или нравственно ошибочным идеям. Но в плане ложных идей у каждого человека свои предпочтения, и со временем они меняются. При изменённых обстоятельствах благовидная ложь или парохиальная истина может выжить только по счастливой случайности. Но истинная, глубокая идея имеет объективную причину, по которой люди с различными целями считают её полезной на протяжении долгого времени. Например, законы Ньютона позволяют лучше строить соборы и мосты и проектировать артиллерийские орудия. Благодаря такой сфере применимости их запоминали и воспроизводили самые разные люди на протяжении многих поколений, порой имеющие противоположные цели. Это тип идеи, у которой есть шанс стать долгоживущим мемом в быстро меняющемся обществе.
На самом деле такие мемы не просто способны выжить при быстро меняющихся критериях критики, они опираются на такую критику, которая способствует их верной репликации. Их не охраняют путём соблюдения существующего порядка или подавления критического мышления людей, и их критикуют, так же как и конкурирующие идеи, но последние оказываются в худшем положении, и их не воспроизводят. В отсутствие такой критики истинные идеи теряют это преимущество и могут деградировать или уступать конкурентам.
Рациональные и антирациональные мемы
Таким образом, мемы этого нового типа, создаваемые рациональным и критическим мышлением, и далее зависят в своей верной репликации от такого мышления. Я буду называть их рациональными. Мемы старого типа, характерные для статического общества, которые выживают, отключая критическое мышление своих обладателей, я буду называть антирациональными. Рациональные и антирациональные мемы имеют чётко различающиеся свойства, связанные с их фундаментально различными стратегиями репликации. Они отличаются друг от друга примерно так же, как оба типа — от генов.
Если, например, есть такой домовой, которого дети боятся настолько, что, став взрослыми, передадут этот страх и своим детям, то поведение, заключающееся в рассказывании историй о таких домовых, — это мем. Допустим, этот мем рациональный. Тогда критика из поколения в поколение будет набрасывать на истинность этих рассказов тень сомнения. Поскольку на самом деле домовых не существует, мем может в итоге исчезнуть. Заметим, что мем не «беспокоится» о том, исчезнет он или нет. Мемы делают то, что должны: у них нет намерений даже относительно самих себя. Есть и другой возможный путь деградации мема о домовом. Он может стать открыто признаваемой выдумкой. Поскольку рациональные мемы должны восприниматься обладателями как полезные, те, которые вызывают неприятные эмоции, находятся в невыгодном положении, поэтому мем может перестать вызывать ужас и, например, начать приятно щекотать нервы или (если в его основе — реальная опасность) побуждать к поиску практических шагов в настоящем и оснований для оптимизма в будущем.
Теперь предположим, что этот мем антирациональный. Тогда то, что он вызывает неприятные эмоции, пригодится для причинения того вреда, который он должен причинить, а именно отключить способность слушателя избавиться от домового и закрепить потребность думать, а значит, и говорить о нём. Чем точнее свойства домового играют на подлинных, широко распространённых уязвимостях человеческого мышления, тем вернее будет распространяться антирациональный мем. Если этот мем должен пережить не одно поколение, важно, чтобы его имплицитные знания об этих уязвимостях были истинными и глубокими. Но его явное содержание — идея о реальности домового — может и не содержать истины. Наоборот, нереальность домового помогает сделать мем более удачным репликатором, потому что тогда рассказ о нём не ограничен приземлёнными чертами любой настоящей угрозы, которые обычно конечны и до некоторой степени преодолимы. И это будет тем более так, если в рассказе также удастся подорвать принцип оптимизма. Таким образом, рациональные мемы развиваются в сторону глубоких истин, а антирациональные от них уходят.
Как обычно, смешивание двух описанных выше стратегий ни к чему хорошему не приводит. Если в меме содержится истинное и полезное для получателя знание, но он отключает критическое мышление получателя по отношению к себе, то получатель будет менее способен исправлять ошибки в этом знании и таким образом понизит верность передачи мема. А если мем полагается на то, что получатель верит в его полезность, хотя на самом деле он не полезен, то увеличивается шанс, что получатель отклонит его или откажется воспроизводить.
Аналогично, естественным местом обитания рационального мема является динамичное общество — причём более или менее любое, — поскольку в нём традиция критики (оптимистично направленная на решение проблем) будет подавлять варианты этого мема, содержащие меньше истины, пусть и ненамного. Более того, быстрый прогресс столкнёт эти варианты с постоянно варьирующимися критериями критики, в которой, опять же, шанс выжить имеют только глубоко истинные мемы. По противоположным причинам естественным местом обитания антирационального мема является статичное общество, но не любое, а предпочтительно то, в котором он развивался. Поэтому у мема любого типа, помещённого в общество явно противоположного типа, снижается способность вызывать свою репликацию.
Просвещение
Наше общество на Западе стало динамичным не после резкого падения статичного общества, а на протяжении поколений эволюции, присущей обществам статичного типа. Где и когда произошёл переход, не очень ясно, но я подозреваю, что всё началось с философии Галилея и, возможно, приобрело необратимый характер с открытиями Ньютона. В терминах мемов законы Ньютона реплицировались как рациональные мемы, причём верность репликации была очень высокой, ведь им находилось столько полезных применений. Благодаря этому успеху стало чрезвычайно сложно игнорировать философские следствия, вытекающие из того факта, что природу удалось понять до беспрецедентной глубины, а также из методов науки и разума, с помощью которых это было достигнуто.
В любом случае после Ньютона невозможно было не заметить, что наметился быстрый прогресс. (Некоторые философы, особенно Жан-Жак Руссо, всё-таки пытались этому противиться, но лишь доказывая, что разум вреден, цивилизация плоха, а примитивная жизнь — счастливая.) Затем последовала такая лавина усовершенствований — в науке, философии и политике, — что сама возможность восстановления застоя была уничтожена. Западное общество должно либо стать началом бесконечности, либо разрушиться. Сегодня народы за пределами Запада тоже быстро меняются, иногда в ходе острых военных конфликтов с соседями, но чаще и даже более глубоким образом путём мирной передачи западных мемов. Их культуры тоже не могут вернуться к статичному состоянию. Они либо должны стать «западными» в своём поведении, либо потерять все свои знания и тем самым перестать существовать — дилемма, которая приобретает в мировой политике всё большую важность.
Даже на Западе Просвещение сегодня ещё далеко не завершено. Ему удалось довольно сильно продвинуться в нескольких жизненно важных областях: основными примерами являются физические науки и западные политические и экономические институты. В этих областях идеи сегодня достаточно открыты критике и проверке экспериментом, а также выбору и изменениям. Но во многих других областях мемы всё ещё реплицируются по-старому, подавляя критическое мышление реципиентов и игнорируя их предпочтения. Когда девочки хотят выглядеть более женственно и удовлетворять определяемым культурой стандартам фигуры и внешнего вида, а мальчики изо всех сил стараются выглядеть сильными и не плакать, когда им плохо, они делают всё, чтобы реплицировать древние мемы «гендерных стереотипов», которые всё ещё живут в нашей культуре, несмотря на то, что открыто придерживаться их теперь считается поведением, достойным порицания. Действие этих мемов состоит в том, что они блокируют огромный набор идей о возможном образе жизни, не позволяя им даже прийти на ум носителям мемов. Если их мыслям и случится повернуть в запрещённом направлении, люди чувствуют беспокойство и смущение, а также страх и потерю уверенности в себе, какие испытывают с незапамятных времён религиозные люди при мысли о том, что могут предать своих богов. Их мировоззрение и критические силы отключаются в точности таким образом, чтобы передать следующему поколению ту же модель мышления и поведения.
То, что антирациональные мемы и сегодня составляют существенную часть нашей культуры и каждого индивидуального сознания, — это факт, с которым нам трудно смириться. Как ни парадоксально, нам это труднее, чем людям из глубоко косных древних обществ. Их бы не волновало утверждение, что большую часть своей жизни они потратили на воспроизведение замысловатых ритуалов, а не на то, чтобы делать свой собственный выбор и преследовать свои собственные цели. Напротив, степень, с которой жизнью человека управлял долг, подчинение авторитетам, благочестие, вера и так далее, и была той мерой, по которой люди судили себя и других. Если дети спрашивали, почему они должны вести себя таким обременительным образом, который казался не логичным, им отвечали «Потому что я так сказал», и когда приходило время, они сами давали своим детям такой же ответ на такой же вопрос, даже не осознавая, что дают полное объяснение. (Это любопытный тип мема, явное содержание которого истинно, хотя его обладатели так не считают.) Но сегодня представление большинства людей о самих себе с нашим стремлением к изменениям и небывалой открытостью новым идеям и самокритике, противоречит тому, что мы до сих пор в значительной степени являемся рабами антирациональных мемов. Большинство из нас готово признаться в паре заскоков, но в основном мы считаем, что наше поведение определяется нашими решениями, а наши решения — нашей мотивированной оценкой аргументов и данных о том, в чём заключается наша рациональная заинтересованность. Это рациональное представление о себе и само является недавним достижением нашего общества, в котором многие мемы явно поддерживают и неявно приводят в действие такие ценности, как разум, свобода мысли и врождённые ценности, присущие отдельным людям. Мы естественно пытаемся объяснить себя через соответствие этим ценностям.
Очевидно, доля правды в этом есть, но это далеко не всё. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на то, как мы одеваемся и как обставляем дома. Что бы сказали о вас люди, если бы вы пошли в магазин в пижаме или раскрасили свой дом в сине-коричневую полоску? Это указывает на узость тех условностей, которые управляют даже этими объективно тривиальными и не вызывающими последствий предпочтениями в стиле, и на то, насколько крута общественная расплата за их нарушение. Верно ли то же самое относительно более существенных черт нашей жизни, таких как карьера, отношения, образование, нравственность, политическое мировоззрение и национальная принадлежность? Посмотрим, чего следует ожидать, когда статичное общество постепенно переключается с антирациональных на рациональные мемы.
Такой переход обязательно будет постепенным, ведь чтобы поддерживать устойчивость динамичного общества, требуется очень много знаний. Создание этих знаний, отталкиваясь лишь от того, что доступно в статичном обществе — малого объёма творческого мышления и знаний, множества заблуждений, слепой эволюции мемов и метода проб и ошибок, — неизбежно потребует значительного времени.
Более того, обществу нужно продолжать при этом функционировать. Но из-за сосуществования рациональных и антирациональных мемов такой переход становится нестабильным. Мемы каждого типа вызывают типы поведения, которые затрудняют верную репликацию мемов другого типа: для своей верной репликации антирациональные мемы должны заставить людей избегать критического мышления о своих предпочтениях, а рациональным мемам от людей нужно, чтобы они думали настолько критически, насколько это возможно. Это означает, что в нашем обществе нет мемов, которые бы реплицировались так же надёжно, как большая часть удачных мемов либо очень статичного, либо (пока ещё гипотетического) полностью динамичного общества. Это приводит к ряду явлений, специфичных для нашей переходной эры.
Одно из них заключается в том, что некоторые антирациональные мемы развиваются «против шерсти», в направлении к рациональности. Примером служит переход от самодержавия к «конституционной монархии», который в некоторых демократических системах сыграл положительную роль. С учётом описанной мною нестабильности неудивительно, что такие переходы часто оканчиваются неудачей.
Другое явление — формирование внутри динамичного общества антирациональных субкультур. Мы помним, что антирациональные мемы подавляют критику выборочно и причиняют лишь тонко подобранный вред. Это даёт членам антирациональной субкультуры возможность в других отношениях функционировать в обычном режиме. Таким образом, подобные субкультуры могут выживать длительное время, пока их не дестабилизируют случайные эффекты воздействия со стороны других областей. Например, расизм и другие формы нетерпимости сегодня существуют практически целиком в субкультурах, которые подавляют критику. Нетерпимость существует не потому, что она выгодна фанатикам, а вопреки тому вреду, который они наносят самим себе, используя фиксированные, нецелесообразные критерии определения своих предпочтений в жизни.
Современные методы образования до сих пор имеют много общего со своими предшественниками из статичных обществ. Несмотря на современные разговоры о поощрении критического мышления, обучение повторением и прививание стандартных моделей поведения путём психологического давления всё ещё остаются неотъемлемой частью образования, даже несмотря на полный или частичный отказ от них в явной теории. Более того, в отношении академических знаний на практике до сих пор принимается как само собой разумеющееся, что главной целью образования является верная передача стандартного учебного плана. Одно из следствий этого заключается в том, что люди усваивают научные знания в обескровленном, инструментальном виде. Без критичного, дифференциального подхода к тому, что они изучают, большая часть людей не реплицируют результативно в своё мышление мемы науки и разума. И поэтому мы живём в обществе, где люди могут целыми днями добросовестно считать клетки в образцах крови с помощью лазерных технологий, а по вечерам сидеть, поджав ноги, и песнопениями вытягивать из Земли сверхъестественную энергию.
Плечом к плечу с мемами
Существующие объяснения мемов пренебрегают крайне важным различием между рациональными и антирациональными режимами репликации. Как следствие, в них упущены важнейшие явления и их причины. Более того, поскольку наиболее очевидные примеры мемов — это долгоживущие антирациональные мемы и недолговечные произвольные причуды, общая тональность таких объяснений обычно негативная в отношении мемов, даже когда формально признаётся, что наилучшие и наиболее ценные знания также состоят из мемов.
Так, психолог Сьюзен Блэкмор в своей книге «Меметическая машина» (The Meme Machine) предпринимает попытку дать фундаментальное объяснение человеческой природы в терминах эволюции мемов. Мемы действительно являются неотъемлемой частью объяснения существования нашего вида, хотя, как я покажу в следующей главе, я считаю, что конкретный предлагаемый Блэкмор механизм не мог бы действовать. Но самое главное в том, что она недооценивает роль творческого мышления как в процессе репликации мемов, так и при их зарождении. Таким образом, она, например, начинает сомневаться, что технический прогресс лучше всего объясняется как процесс, которому способствуют отдельные люди, как это обычно говорится. Вместо этого она рассматривает его как эволюцию мемов. Она ссылается на историка Джорджа Басалла, в книге которого «Эволюция технологий» (The Evolution of Technology) отрицается «миф о героическом изобретателе».
Но это различие между «эволюцией» и «героическими изобретателями» как участниками открытий имеет смысл только в статичном обществе. В таких обществах большая часть перемен действительно осуществляется способом, которым, как я предположил, могут развиваться анекдоты, где отдельные участники не проявляют особых творческих способностей. Но в динамичном обществе научное и технологическое новаторство обычно проводится в жизнь творчески. Другими словами, оно выходит из индивидуальных умов в виде новаторских идей, приобретая внутри этих умов значительные адаптации. Безусловно, в обоих случаях идеи строятся из предшествующих идей в процессе варьирования и отбора, что и составляет эволюцию. Но когда эволюция в значительной степени происходит в голове человека, это не эволюция мемов. Это творческое мышление героя-изобретателя.
Ещё хуже, что, рассматривая прогресс, Блэкмор отрицает существование «прогресса в направлении чего бы то ни было конкретного», другими словами, прогресса в направлении чего бы то ни было объективно лучшего. Она признаёт только увеличение сложности. Почему? Потому что в биологической эволюции нет «лучше» и «хуже». И это вопреки её собственному предупреждению о том, что мемы и гены эволюционируют по-разному. И снова её утверждение в значительной степени верно для статичных обществ, но не для нашего.
Как же следует понимать существование специфически человеческих эмерджентных явлений, таких как творческое мышление и способность делать выбор, в свете того факта, что частично наше поведение обусловлено автономными сущностями, содержание которых нам неизвестно? И, что ещё хуже, с учётом того факта, что всем нам свойственно под влиянием этих сущностей систематически впадать в заблуждение относительно причин наших собственных мыслей, мнений и поведения?
Простейший ответ заключается в том, что нас не должно удивлять, что мы можем жестоко ошибаться относительно любых своих идей, даже о нас самих и даже когда мы чувствуем полную уверенность в своей правоте. Поэтому мы должны реагировать в принципе так же, как реагируем на возможность ошибаться по любой другой причине. Нам свойственно ошибаться, но путём критики, гипотез и поиска разумных объяснений мы можем исправить некоторые свои ошибки. Мемы прячутся, но, как и со слепым пятном в оптике, ничто не мешает нам использовать комбинацию объяснения и наблюдения, чтобы обнаружить мем и раскрыть его имплицитное содержание косвенными методами.
Например, всякий раз когда мы обнаруживаем, что воспроизводим сложное или строго определённое поведение, которое в точности повторялось от одного носителя к другому, нужно насторожиться. Если мы выясним, что воспроизведение этого поведения мешает нам достигать наших личных целей или что оно продолжает повторяться, даже когда исчезает его мнимое оправдание, мы должны насторожиться ещё более. Если потом мы обнаружим, что объясняем своё поведение с помощью неразумных объяснений, наши подозрения должны стать особенно сильными. Безусловно, в каждый конкретный момент у нас может не получиться либо всё это заметить, либо найти верное объяснение. Но в мире, где всё зло — от недостатка знаний, неудачи не могут длиться вечно. Сначала мы терпели неудачу, не замечая, что силы тяжести на самом деле нет. Теперь мы в этом разобрались. Обнаружить разные недоразумения в конечном счёте ещё проще.
Кроме этого, нас должно настораживать наличие условий для эволюции антирациональных мемов, таких как почитание авторитетов, статичные субкультуры и так далее. Всё, что говорит «Потому что я так сказал» или «От этого мне ещё не было плохо», всё, что говорит «Давайте не позволим критиковать нашу идею, потому что она верна», предполагает мышление в духе статичного общества. Мы должны исследовать и критиковать законы, традиции и другие институты на предмет того, устанавливают ли они условия для эволюции антирациональных мемов. Избегать таких условий — суть критерия Поппера.
Просвещение — это момент, когда объяснительное знание начинает считать свою (в будущем обычную) роль наиболее важным определяющим фактором физических событий. По крайней мере так могло быть: нам лучше не забывать, что то, что мы пытаемся осуществить — устойчивое создание знаний, прежде никогда не удавалось. Действительно, всё, чего мы будем пытаться достичь с этого момента и впредь, ещё никогда раньше никем не реализовывалось. На данный момент мы превратились из жертв (и охранителей) вечного статус-кво в получателей (главным образом пассивных) преимуществ тех инноваций, которые относительно быстро внедряются на протяжении непростого переходного периода. Теперь нам остаётся признать и радостно осуществить следующую свою трансформацию: превратиться в активных участников прогресса, идущего в только начинающем развиваться рациональном обществе — и во Вселенной.
Терминология
Культура — набор общих идей, которые вынуждают своих обладателей вести себя в некоторых аспектах похожим образом.
Рациональный мем — идея, которая добивается саморепликации за счёт критического мышления получателя.
Антирациональный мем — идея, которая добивается саморепликации за счёт отключения критического мышления получателя.
Статичная культура/общество — такая культура или общество, в которых изменения происходят в более медленном темпе, чем могут заметить его члены. В таких культурах доминируют антирациональные мемы.
Динамичная культура/общество — культура или общество, в которых доминируют рациональные мемы.
Имплицитное — подразумеваемое или как-то иначе содержащееся в другой информации.
Значения «начала бесконечности», встречающиеся в этой главе
— Биологическая эволюция была лишь конечным вступлением к основному повествованию эволюции, к неограниченной эволюции мемов.
— То же верно и в отношении эволюции антирациональных мемов в статичных обществах.
Заключение
Культуры состоят из мемов, и они эволюционируют. Мемы во многом аналогичны генам, но в том, как протекает их эволюция, есть существенные отличия. Самые важные отличия заключаются в том, что каждый мем должен включать механизм репликации себя, и в том, что мем поочерёдно существует в двух различных физических формах: мысленное представление и поведение. Следовательно, мем (в отличие от гена) выбирается отдельно при каждой репликации за свою способность вызывать поведение и за способность этого поведения добиваться от новых получателей усвоения мема. Носители мемов, как правило, не знают, почему они их воспроизводят: например, грамматические правила мы воспроизводим гораздо точнее, чем можем их сформулировать. Существует только две основные стратегии репликации мемов: помочь будущим носителем или отключить их критическое мышление. Два типа мемов — рациональные и антирациональные — задерживают репликацию друг друга и способность к распространению культуры в целом. Западная цивилизация представляет собой нестабильный переходный период между стабильными статичными обществами, состоящими из антирациональных мемов, и стабильными динамичными обществами, состоящими из рациональных мемов. Вопреки общепринятым взглядам, жить в примитивных обществах невообразимо неприятно. Они либо статичны и выживают только за счёт гашения творческого мышления своих членов и подрыва их духа, либо быстро теряют свои знания и разрушаются, что приводит к насилию. В существующих объяснениях мемов не признаётся важность различения рациональных и антирациональных мемов, а значит, они неявно тяготеют к отрицанию важности мемов. Это всё равно что ошибочно принимать западную цивилизацию за статичное общество, а её граждан — за раздавленных, пессимистичных жертв мемов, которыми являются члены статичных обществ.
16. Эволюция творческого мышления
Для чего было нужно творческое мышление?
Из всего бесчисленного множества биологических адаптаций, эволюционировавших на нашей планете, творческое мышление — единственная, которая способна выдавать научные или математические знания, искусство или философию. Физическое выражение творческого мышления, доступное нам благодаря порождённым им технологиям и институтам, впечатляет: более всего оно ощутимо около людских поселений, но также и в отдалении от них, ведь существенную долю земли на нашей планете люди сегодня используют в своих целях. Способность человека выбирать — сама результат творческого мышления — определяет, какие виды исключить, а какие терпеть или культивировать, направление каких рек изменить, какие горы сровнять с землёй и что из дикой природы сохранить. Яркая, быстро движущаяся точка на ночном небе вполне может оказаться космической станцией, которая несёт людей в пространстве выше и быстрее, чем способна любая биологическая адаптация. Или это может быть спутник[103], посредством которого люди обмениваются информацией на расстояниях, которые биологическая коммуникация никогда не охватывала, с помощью таких явлений, как радиоволны и ядерные реакции, которые никогда не были на вооружении у биологии. Уникальные результаты работы творческого мышления доминируют в нашем восприятии мира.
Сегодня в это понятие входит и быстрое внедрение инноваций. К тому времени, как вы будете читать эти строки, компьютер, на котором я их пишу, уже устареет: появятся функционально более продвинутые компьютеры, на построение которых будет требоваться меньше человеческих усилий. Будут написаны другие книги, построены инновационные здания и другие артефакты, некоторые из которых будут быстро заменены, а другие простоят дольше, чем уже простояли египетские пирамиды. Будут сделаны удивительные научные открытия, и с появлением некоторых из них стандартные учебники изменятся навсегда. Благодаря всем этим следствиям применения творческого мышления постоянно меняется образ жизни, что возможно только в долго живущем динамичном обществе, которое и само представляет собой явление, которое если и могло появиться, то только как результат творческого мышления.
Однако, как я подчёркивал в предыдущей главе и в главе 1, такие результаты работы творческого мышления в истории нашего вида проявились лишь недавно. В доисторические времена случайному наблюдателю (скажем, исследователю из внеземной цивилизации) было бы не очевидно, что люди вообще могут творчески мыслить. Ему показалось бы, что мы только и делаем, что бесконечно повторяем образ жизни, к которому адаптировались на генетическом уровне, как и все остальные миллиарды видов в биосфере. Ясно, что мы просто пользовались инструментами, как и многие другие виды. Мы общались на языке символов, но и в этом не было ничего необычного: это свойственно даже пчёлам. Мы приручали другие виды, но так делают и муравьи. При более близком рассмотрении выяснилось бы, что языки, на которых говорили люди, и знание о том, как работать с инструментами, которые были в их распоряжении, передавались через мемы, а не через гены. Этим мы стали достаточно выделяться на фоне других, но творческие способности всё ещё не были очевидны: у нескольких других видов тоже есть мемы. Вот только совершенствовать они их могут разве что методом случайных проб и ошибок. Не способны они и стабильно совершенствоваться на протяжении многих поколений. Сегодня творческое мышление, с помощью которого люди совершенствуют идеи, — это то, что главным образом отличает нас от других видов. Однако люди на протяжении большей части своего существования им особо не пользовались.
Творческое мышление было ещё менее заметно у предшественника нашего вида. Однако у того вида оно уже должно было развиваться, иначе нас никогда бы не было. На самом деле преимущество, дарованное последовательными мутациями, благодаря которому в голове наших предшественников немного прибавилось творческого мышления (или, точнее, способности, которую мы теперь считаем творческим мышлением), должно было быть достаточно большим, ведь по всеобщему признанию современные люди эволюционировали из обезьяноподобных предков очень быстро по стандартам эволюции генов. Наши предки, должно быть, размножались быстрее своих человекообразных собратьев с меньшими способностями к созданию знаний. Почему? Для чего они использовали эти знания?
Если бы мы не знали, что к чему, мы бы, наверно, сказали, что они использовали их, как и мы сегодня, в целях новаторства и для понимания устройства мира, чтобы в итоге жить им стало лучше. Например, те, кто смог усовершенствовать каменные орудия труда, в итоге имели более хорошие орудия, а значит, ели более хорошую пищу и у них было больше выжившего потомства. Они могли бы делать и более хорошее оружие, тем самым перекрыв обладателям конкурирующих генов доступ к пище и партнёрам и так далее. Однако если бы такое произошло, эти улучшения отразились бы в палеонтологических данных в масштабе поколений. Но это не так.
Более того, вместе с творческом мышлением развивалась и способность воспроизводить мемы. Считается, что некоторые члены вида Homo erectus (человек прямоходящий), жившие 500 000 лет назад, умели разводить костёр. Это знание содержалось в их мемах, а не в генах. И как только творческое мышление и передача мемов сходятся, они сильно расширяют эволюционную ценность друг друга, ведь тогда любой, кто что-то улучшает, также имеет средство передать эту новую идею всем будущим поколениям, тем самым приумножая пользу соответствующих генов. А мемы совершенствуются с помощью творческого мышления гораздо быстрее, чем путём случайных проб и ошибок. Поскольку верхнего предела ценности идей нет, образовались бы условия для стремительного роста коэволюции двух адаптаций: творческого мышления и способности использовать мемы.
Однако опять же в этом сценарии что-то не так. Предполагается, что две названные адаптации действительно развивались совместно, но силой, которая двигала эту эволюцию, не может быть то, что люди совершенствовали идеи и передавали эти улучшения своим детям, потому что опять же если бы это было так, они бы совершали и накапливали эти улучшения за время жизни нескольких поколений. В реальности до появления сельского хозяйства около 12 000 лет назад между заметными изменениями могли пройти многие тысячи лет. Как если бы каждое небольшое генетическое улучшение в творческом мышлении произвело одно заметное нововведение и больше ничего — довольно похоже на современные эксперименты с «искусственной эволюцией». Но как такое может быть? В отличие от сегодняшних исследований в области искусственной эволюции и искусственного интеллекта, у наших предков развивалось настоящее творческое мышление, которое представляет собой способность создавать нескончаемый поток инноваций.
Их способность проводить в жизнь новаторские идеи быстро увеличивалась, но они едва ли воплощали их. И тут возникает загадка, но не потому, что такое поведение выглядит странно, а потому, что, если инновации были редкостью, откуда мог взяться дифференциальный эффект, связанный с воспроизводством особей с более или менее сносными способностями к новаторству? То, что заметные изменения отделены друг от друга тысячами лет, по-видимому, означает, что в большинстве поколений даже самые творческие особи в популяции никаких новаторских идей не осуществляли. А значит, их более высокие способности к новаторству не вызвали давления отбора в их пользу. Почему же эти способности продолжали, всё улучшаясь раз за разом, быстро распространяться по популяции? Наши предки должны были для чего-то применять своё творческое мышление, причём по максимуму и часто. Но, очевидно, это было не новаторство. Для чего ещё его можно было использовать?
Одна из теорий заключается в том, что творческое мышление развивалось не ради предоставления какого-то функционального преимущества, а просто путём полового отбора: люди как могли старались привлечь партнёров — ярко одевались, использовали украшения, рассказывали истории, шутили и тому подобное. Предпочтение спариваться с более творческими особями коэволюционировало вместе с творческим мышлением, чтобы удовлетворить это предпочтение в эволюционной спирали — так говорит теория, — как павлины, хвосты их самцов и предпочтения самок.
Но развивать творческое мышление ради полового отбора — цель маловероятная. Это замысловатая адаптация, и мы до сих пор не научились воспроизводить её искусственным образом. Поэтому предположительно эволюционировать ей гораздо труднее, чем свойствам типа окраски или размера и формы частей тела, некоторые из которых, как считается, у людей и многих других животных действительно развивались из-за полового отбора. Творческое мышление, насколько нам известно, развилось лишь однажды. Более того, наиболее заметные его проявления носят кумулятивный характер: было бы сложно определить небольшие отличия в творческом мышлении потенциальных партнёров в каждом единичном случае, особенно если оно не использовалось в практических целях. (Представьте себе, как сложно было бы сегодня путём проведения художественного конкурса определить мельчайшие генетические отличия в художественных способностях людей. На практике любые такие отличия будут не видны за другими факторами.) Так почему вместо способности создавать знания у нас не развились разноцветные волосы или ногти или любое из бесчисленного множества других признаков, которые было бы гораздо проще развить и гораздо проще уверенно оценить?
Более правдоподобный вариант теории с половым отбором заключается в том, что люди выбирают партнёров по социальному статусу, а не непосредственно склоняясь в сторону творческого мышления. Возможно, наиболее творческие люди скорее получали высокий статус — с помощью интриг или других манипуляций в обществе. Это могло дать им эволюционное преимущество без осуществления какого-либо прогресса, свидетельства которого были бы нам доступны. Однако все такие теории так и не могут объяснить, почему, активно используя творческое мышление в самых разнообразных целях, его не использовали ещё и в функциональных. Что мешало вождю, который заполучил власть путём творческих интриг, подумывать о лучших копьях для охоты? И что мешало его подданному, который изобрёл такое копьё, получить расположение? Аналогично, не будут ли потенциальные партнёры, которых впечатляют художественные проявления идей, также с восторгом принимать и практические новаторские идеи? Ведь, в конце концов, некоторые из таких идей вполне могут помочь их открывателям удачнее проявить себя. А у новаторских идей иногда бывает большая сфера применения: навык нанизывания бисера на нить, приобретённый в одном поколении, может вылиться в навык изготовления рогатки в следующем. Так почему же практическое новаторство изначально встречалось так редко?
Из того, о чём говорилось в предыдущей главе, можно догадаться, что всё потому, что племена или семьи, в которых жили люди, были статичными обществами, в которых любая заметная новая идея принизила бы статус человека, а значит, предположительно, его право на партнёра. Так как же человеку приобрести статус, особенно применяя больше творческого мышления, чем другие, и не прослыть нарушителем табу?
Я думаю, есть только один способ: воспроизводить мемы своего общества вернее, чем обычно. Выказывать исключительное согласие и послушание. Особенно хорошо уклоняться от новаторства. Статичное общество просто не сможет не вознаградить такое выдающееся поведение. Так может ли человек с помощью более широкого творческого мышления менее активно выдавать новаторские идеи, чем другие? Этот вопрос оказывается центральным, и к нему я ещё вернусь ниже. Но сначала обратимся ко второй загадке.
Как реплицируется смысл?
Репликацию мемов часто (например, Блэкмор) характеризуют как имитацию. Но этого не может быть! Мем — это идея, а наблюдать идеи в голове других людей нельзя. Не получится у нас и перекачать их технически из одной головы в другую, как компьютерные программы, или реплицировать, как с молекулы ДНК. Поэтому мы не можем копировать или имитировать мемы в буквальном смысле. Единственная возможность доступа к их содержимому для нас — через поведение их обладателей (включая речь и результат их действий, например письменные труды).
Репликация мемов всегда следует этой модели: человек наблюдает за поведением обладателей мемов, прямо или косвенно. Затем, позднее — иногда сразу же, иногда спустя годы после такого наблюдения — мемы из головы обладателей проявляются в голове этого человека. Как они туда попадают? Похоже на индукцию, да? Но индукция невозможна.
Часто кажется, что этот процесс включает в себя имитацию обладателей мемов. Например, мы учим слова, имитируя звуки, из которых они состоят; махать рукой, когда машут нам, мы учимся, имитируя то, что видим. Таким образом, окружающим и даже нам самим, кажется, что мы копируем аспекты того, что делают другие люди, и запоминаем, что они говорят и пишут. Это вполне объяснимое заблуждение подкрепляется ещё и тем, что ближайшие живущие родственники нашего вида, человекообразные обезьяны, тоже обладают (хотя гораздо более ограниченной, но тем не менее поразительной) способностью к имитации. Но, как я объясню, на самом деле имитация действий людей и запоминание того, что они произносят, не может быть потенциальной основой репликации мемов человеком. Это играет только малую и по большей части несущественную роль.
Мемы приобретаются нами настолько естественным образом, что понять, насколько удивителен этот процесс или что вообще происходит, сложно. Особенно сложно увидеть, откуда берётся знание. Даже в самых простых человеческих мемах содержится очень много знаний. Когда мы учимся махать рукой, мы запоминаем не только жест, а также то, какой должна быть ситуация, кому можно помахать и как. Большую часть из всего этого нам не говорят, но мы всё равно это узнаём. Аналогично, когда мы учим слово, мы также узнаём и его значение, включая чрезвычайно тонкие оттенки. Как мы приобретаем это знание?
Очевидно, не путём имитации обладателей. Обычно в начале своего курса лекций по философии науки Поппер просил студентов просто «понаблюдать». Затем он замолкал и ждал, пока кто-нибудь спросит, а за чем, собственно, нужно наблюдать. Так он демонстрировал один из многих недостатков эмпиризма, которые сегодня всё ещё присутствуют в здравом смысле. Научное наблюдение, говорил он студентам, невозможно без предварительного знания, на что смотреть, что и как искать и как интерпретировать то, что видишь. Таким образом, говори он, сначала должна появиться теория. Её нужно выдвинуть в виде гипотезы, а не вывести.
Того же эффекта Поппер мог бы добиться, попросив слушателей не просто наблюдать, а имитировать. Логика была бы прежней: в рамках какой объяснительной теории «имитировать»? Кого имитировать? Поппера? Тогда нужно ли слушателям выйти к доске, отодвинуть лектора и встать на его место? Или они должны повернуться лицом к задней стене аудитории, в ту сторону, куда он смотрит? Или сымитировать его сильный австрийский акцент, а может, говорить, как они всегда говорят, потому что он говорит так, как говорит всегда? Или прямо сейчас ничего такого не делать, а просто включить подобную демонстрацию в свои собственные лекции по философии, когда уже они станут преподавателями? Существует бесконечно много возможных интерпретаций фразы «сымитировать Поппера», каждая из которых задаёт различное поведение имитатора. Многие из этих способов будут сильно отличаться друг от друга. Каждый соответствует своей теории о том, какие идеи в голове Поппера вызвали наблюдаемое поведение.
Поэтому нет такого понятия, как «просто имитировать поведение», не говоря уже о том, что можно обнаружить идеи, имитируя поведение. Идеи нужно знать до того, как имитировать поведение. Поэтому мемы путём имитации поведения приобрести нельзя.
Гипотетические гены, которые вызвали репликацию мемов путём имитации, должны были бы также определять, кого имитировать. Блэкмор, например, предлагает в качестве критерия взять «имитировать лучших имитаторов». Но это невозможно по той же причине. Судить о том, насколько хорошо человек кого-то или что-то имитирует, можно, только если он уже знает или догадался, что (какие аспекты поведения и чьи) он имитирует, а также, какие обстоятельства принимаются во внимание и как.
То же самое верно, если поведение заключается в формулировании мемов. Как заметил Поппер: «Что бы вы ни говорили, вас всегда могут неправильно понять». Можно только сформулировать явное содержимое, которого недостаточно для определения значения мема или чего-либо ещё. Даже самые явные мемы, такие как законы, имеют неявно выраженное содержание, без которого их нельзя воспроизвести. Например, многие законы ссылаются на некие «разумные» обстоятельства. Но никто не может определить этот признак достаточно точно, чтобы, скажем, человек из другой культуры мог применить это определение для принятия решения по уголовному делу. Как следствие, мы вряд ли узнаем, что означает слово «разумно», просто услышав, как формулируют его значение. Но мы его узнаём, а его вариации, которые узнаются людьми в той же культуре, достаточно близки, и законы, основанные на нём, могут применяться.
В любом случае, как я отмечал в предыдущей главе, мы точно не знаем правил, которым следуем в своём поведении. Правила, значения и модели речи своего родного языка мы в основном представляем расплывчато, но тем не менее передаём следующим поколениям эти правила с замечательной точностью, включая возможность применять их в ситуациях, в которых новый обладатель никогда не был, и включая модели речи, от которых люди явно пытаются следующее поколение оградить.
Дело в том, что неявные знания нужны людям для понимания законов и других явно выраженных утверждений, а не наоборот. Философы и психологи усердно трудятся, чтобы обнаружить и сделать явными предположения, которые наша культура молча делает о социальных институтах, человеческой природе, о том, что правильно, а что нет, о пространстве и времени, о намерениях, о причинных связях, о свободе, о необходимости и так далее. Но мы не получаем эти определения из результатов подобных исследований: всё как раз наоборот.
Если поведение невозможно сымитировать без предварительного знания о теории, которая его вызывает, то почему обезьяны, как всем известно, умеют обезьянничать? У них есть мемы: они могут научиться по-новому раскалывать орех, посмотрев, как это делает другая обезьяна, которая уже научилась так его раскалывать. Как получается так, что обезьян не сбивает с толку бесконечная неопределённость в том, что имитировать, а что нет? А попугаи, как всем известно, повторяют как попугаи: они могут запоминать десятки звуков, которые слышали, и потом повторять их. Как они выбирают, каким звукам подражать, а каким нет и когда это делать?
В этом им помогают заранее известные им соответствующие неявно выраженные теории. Или, скорее, то, что они записаны в их генах. В ходе эволюции в гены попугаев было встроено имплицитное определение того, что значит «имитировать»: для них это значит запоминать последовательности звуков, которые удовлетворяют некоему критерию, который есть у них от рождения, а затем воспроизводить их в соответствии с другим врождённым критерием. Отсюда следует интересный факт о физиологии попугаев: мозг попугая должен также содержать систему трансляции, которая анализирует входные нервные сигналы, поступающие из ушей, и генерирует выходные, по которым голосовые связки попугая воспроизводят те же звуки. Для такой трансляции требуется определённое, достаточно замысловатое вычисление, которое закодировано в генах, а не в мемах. Считается, что это частично достигается за счёт системы, основанной на «зеркальных нейронах». Это нейроны, которые активируются, когда животное производит заданное действие, а также когда оно воспринимает, как то же действие производится другим животным. Они были обнаружены экспериментальным путём у животных, которые обладают способностью к имитации. Те учёные, которые считают, что репликация мемов у человека — это усложнённая форма имитации, также склонны считать, что зеркальные нейроны — ключ к пониманию всех видов функций человеческого разума. К сожалению, такого быть не может.
Почему у попугаев развилась способность повторять, неизвестно. Для птиц это достаточно обычная адаптация, и она может играть несколько ролей. Но, как бы там ни было, для настоящих целей важно то, что попугаи не выбирают, каким звукам подражать или как это должно производиться. От звука звонка в дверь или лая собаки могут создаться условия, которые удовлетворяют врождённому критерию, инициирующему подражание, и когда такие условия появляются, попугай всегда будет имитировать ровно одно и то же: звуки. Таким образом, проблему бесконечной неопределённости он решает тем, что никакого выбора не делает. Ему не приходит в голову проигнорировать собаку при таких условиях или сымитировать, как она виляет хвостом, потому что он не способен представить любой другой критерий для имитации, чем тот, который встроен в его зеркально-нейронную систему. Попугай лишён творческого мышления и за счёт его отсутствия верно копирует звуки. Это напоминает людей в статичных обществах, кроме главного отличия, о котором я расскажу ниже.
Теперь представьте себе, что попугай присутствовал на лекциях Поппера и научился повторять некоторые из его излюбленных изречений. В каком-то смысле он «сымитирует» некоторые идеи Поппера: в принципе, интересующийся предметом студент может впоследствии выучить идеи, слушая попугая. Но попугай будет просто передавать эти мемы из одного места в другое — то же самое в аудитории делает ветер. Нельзя сказать, что попугай приобрёл мемы, потому что он будет воспроизводить только одно из бесчисленного множества поведений, к которым они могут привести. То, что делает попугай, как результат заучивания звуков наизусть — например, его ответы на вопросы — не будет похоже на то, что делает Поппер. Мы услышим звучание мема, но не его значение. А репликатором является именно значение — знание.
Попугаю всё равно, что значат для человека звуки, которым он подражает. Если бы лекции были посвящены не философии, а тому, как лучше зажарить попугая, он бы процитировал их не менее охотно любому, кто стал бы его слушать. Но попугаю не всё равно, что содержит в себе звук. Попугай не записывает их механически. Как раз наоборот: попугаи записывают не все без исключения звуки и воспроизводят их не случайным образом. Благодаря врождённым критериям, тем звукам, которые попугай слышит, действительно неявно приписывается значение; но только это значение всегда выбирается из одного и того же узкого набора возможностей: если эволюционная функция попугайного подражания заключается, например, в создании идентифицирующих призывов, то каждый звук, который слышит попугай, либо таковым потенциально является, либо нет.
Человекообразные обезьяны способны распознавать гораздо более широкий набор возможных значений. Некоторые из них настолько сложны, что способности к подражанию у обезьян часто неправильно трактовались как свидетельство человекоподобного понимания. Например, когда обезьяна выучивает новый способ разбивания орехов, ударяя по ним камнем, впоследствии она, в отличие от попугая, не повторяет те же самые движения слепо в фиксированной последовательности. Движения, необходимые, чтобы разбить орех, никогда не повторяются точь-в-точь: обезьяне нужно прицелиться, возможно, придётся бежать за орехом, если он укатится, затем стучать по нему камнем не фиксированное число раз, а пока он не треснет, и так далее. В некоторые моменты обезьяна должна координировать действия своих верхних лап, каждой из которых отводятся различные подзадачи. А прежде чем вообще начать что-то делать, обезьяна должна понять, что этот конкретный орех вообще можно разбить, она должна найти камень и опять же понять, что он ей подойдёт.
Может показаться, что такие действия зависят от объяснения, от понимания, как и почему каждое действие в рамках сложного поведения должно вписаться в общую последовательность, чтобы в итоге цель была достигнута. Но в ходе недавних исследований выяснилось, как человекообразные обезьяны могут имитировать такое поведение, не создавая никаких объяснительных знаний. В ряде замечательных наблюдений и теоретических исследований психолог-эволюционист и исследователь поведения животных Ричард Бёрн показал, как обезьяны достигают этого в ходе процесса, который он называет разбором поведения (что аналогично грамматическому анализу или «разбору» человеческой речи или текста компьютерной программы).
Люди и компьютеры разделяют непрерывные потоки звуков или символов на отдельные элементы, такие как слова, и затем интерпретируют эти элементы как связанные логикой большего предложения или программы. Аналогично, при разборе поведения (который развился за миллион лет до анализа человеческого языка) обезьяна разбивает непрерывный поток действий, которые она наблюдает, на отдельные элементы, каждый из которых она уже умеет — на генетическом уровне — имитировать. Эти отдельные элементы могут быть врождённым поведением, например, как кусаться, или поведением, выученным путём проб и ошибок, например, как схватить крапиву и не обжечься, или ранее выученными мемами. Что касается того, как обезьяны правильно связывают эти элементы, не зная, почему они делают именно так, то оказывается, что в каждом известном случае сложного поведения живых существ, не являющихся человеком, чтобы получить необходимую информацию, достаточно просто наблюдать это поведение много раз и выискивать в нём простые статистические модели, например то, какие движения правой руки обычно сопровождают движения левой, а какие из элементов чаще всего опускаются. Это очень неэффективный метод, требующий длительного наблюдения за поведением, которое человек сможет повторить практически сразу же, поняв, зачем оно нужно. Кроме того, метод допускает только несколько фиксированных вариантов для связи поведений между собой, поэтому реплицироваться могут только относительно простые мемы. Обезьяны способны мгновенно копировать определённые отдельные действия — те, о которых у них уже есть знания, полученные через зеркально-нейронную систему, но у них могут уйти годы на то, чтобы выучить набор мемов, включающих в себя комбинации действий. Однако эти мемы — заведомо простые трюки по меркам человека — чрезвычайно полезны: с их помощью человекообразные обезьяны получают привилегированный доступ к источникам пищи, который закрыт для других животных, а эволюция мемов даёт им возможность переключаться на другие источники гораздо быстрее, чем позволила бы эволюция генов.
Таким образом, обезьяна знает (неявно), что другая обезьяна именно «подбирает камень», а не делает что-то ещё из бесчисленного множества возможных интерпретаций одних и тех же действий, как то «подбирает объект в заданном относительном положении», потому что подбирание камня входит в её врождённый набор пригодных для копирования поведений, а другие возможности — нет. На самом деле может вполне оказаться, что обезьяны не могут сымитировать поведение «подобрать объект в заданном относительном положении». Заметим в этой связи, что обезьяны не могут имитировать звуки. Они не могут даже повторить звук (просто повторить), несмотря на то, что у них есть сложный врождённый набор призывов, которые они умеют воспроизводить, распознавать, а также использовать для выполнения действий генетически заложенными способами. В их системе разбора поведений просто не развился заранее заданный механизм перехода от слышания звуков к проговариванию их, поэтому звуки они сымитировать и не могут. Как следствие, в любых подвластных мемам поведениях обезьян индивидуализированных звуков нет.
Таким образом, в решающем отношении, значимом для репликации мемов, обезьянье подражание с логической точки зрения не отличается от попугайного: как и попугай, обезьяне удаётся избежать бесконечной неопределённости в том, что копировать, а что нет, благодаря уже известному ей (неявно) значению каждого действия, которое она способна скопировать. И с каждым действием, которое способна скопировать, она может ассоциировать только одно значение — одно определение того, как совершать «то же самое» действие при разных обстоятельствах. Вот так мемы обезьян могут реплицироваться без невозможного шага буквального копирования знания от другой обезьяны. Получатель мема мгновенно распознаёт значение каждого элемента поведения и выстраивает отношения между элементами путём статистического анализа, а не путём выяснения, как они содействуют друг другу.
Люди, приобретая человеческие мемы, делают нечто глубоко отличное. Когда публика слушает лекцию или когда ребёнок изучает язык, стоящая перед ними задача практически противоположна обезьяньему или попугайному подражанию: они стремятся выяснить именно значение поведения, которое они наблюдают и которого они заранее не знают. Сами действия и даже логика, которая их связывает, в значительной степени носят вторичный характер и зачастую впоследствии полностью забываются. Например, во взрослом возрасте мы помним лишь несколько предложений, по которым учились говорить. Если попугай скопировал бы обрывки голоса Поппера на лекции, он бы непременно скопировал их с его австрийским акцентом: попугаи не способны скопировать высказывание без акцента, с которым оно было произнесено. А у студента-человека вполне может не получиться скопировать его с акцентом. На самом деле студент вполне может приобрести на лекции сложный мем, но при этом не сможет повторить ни одного произнесённого лектором предложения даже сразу вслед за ним. В таком случае студент реплицирует значение, то есть полное содержание, мема, вообще не имитируя никаких действий. Как я и говорил, имитация не является центральной частью репликации мемов человека.
Допустим, лектор несколько раз возвращался к определённой ключевой идее, каждый раз выражая её разными словами и жестами. Попугаю (или обезьяне) придётся гораздо сложнее, чем когда нужно сымитировать только первое упоминание, а студенту — гораздо проще, потому что для наблюдателя-человека каждый новый способ преподнести идею будет передавать дополнительное знание. Или допустим, что лектор последовательно произносил что-то неправильно, так, что это влияло на смысл, и затем поправил себя только один раз в конце. Попугай будет копировать неправильную версию, а студент — нет. Даже если лектор так и не исправил ошибку, у слушателя-человека всё ещё остаются хорошие шансы понять, что имел в виду лектор, и снова без имитации поведения. Если бы у доски на лекции выступал кто-то другой, но в его изложении были бы серьёзные заблуждения, слушатель-человек всё равно смог бы определить, что имеет в виду лектор, объяснив, в чём заблуждается докладчик, а также что хотел сказать лектор — точно так же, как эксперт по фокусам даже по неправильным объяснениям зрителей смог бы определить, что на самом деле произошло во время фокуса.
Человек пытается не сымитировать поведение, а объяснить его, понять те идеи, которые его вызвали, что является частным случаем общей цели человека, заключающейся в желании объяснить, как устроен мир. Когда нам удаётся объяснить чьё-то поведение и мы одобряем его намерение, мы можем впоследствии вести себя «так же», как тот человек, в соответствующем смысле. Но если мы это не одобряем, мы можем повести себя не так, как этот человек. Поскольку создание объяснений — это наша вторая натура (если не первая), мы легко можем неправильно истолковать процесс приобретения мема как «имитацию того, что видим». С помощью объяснений мы «проходим» прямо сквозь поведение к значению. Попугаи копируют характерные звуки, обезьяны — целенаправленные движения определённого ограниченного класса. Но люди, вообще говоря, не копируют поведение. С помощью гипотез, критики и эксперимента они создают хорошие объяснения значений чего бы то ни было — поведения других людей, их собственного и вообще мира. Это как раз то, что делает творческое мышление. И если в итоге мы ведём себя, как другие люди, это потому, что мы открыли для себя ту же самую идею.
Поэтому у слушателей на лекции, пытающихся впитать мемы лектора, не возникает желания повернуться лицом к противоположной стене аудитории или сымитировать лектора каким-то одним из бесконечного числа способов. Они отклоняют такие интерпретации того, что стоит скопировать у лектора не потому, что в общем не способны понять их, в отличие от других животных, а потому, что это неразумные объяснения действий лектора и неразумные идеи по собственным меркам публики.
Одна разгадка на обе загадки
В этой главе я представил две загадки. Первая — в том, почему творческое мышление людей было эволюционным преимуществом тогда, когда новаторства практически не было. Вторая — в том, как возможна репликация мемов человеком, притом что их содержимое для него не наблюдаемо.
Я считаю, что обе эти загадки имеют одну разгадку: репликация мемов человеком происходит с помощью творческого мышления; и именно оно в ходе своей эволюции использовалось для репликации мемов. Другими словами, с его помощью приобреталось существующее знание, а не создавалось новое. Но механизм осуществления того и другого одинаков, и потому приобретая способность к первому, мы автоматически становимся способны к последнему. Это был важный пример широкой сферы применимости, благодаря которому стало возможным всё, что присуще исключительно человеку.
Человек, приобретающий мем, сталкивается с той же логической проблемой, что и учёный. И тот, и другой должны найти скрытое объяснение. Для первого это идея в сознании других людей, а для второго — закономерность или закон природы. Ни у того, ни другого нет прямого доступа к этому объяснению. Но оба имеют доступ к данным, с помощью которых объяснение можно проверить: полученное путём наблюдений поведение людей, которые обладают мемом, и физические явления, подчиняющиеся соответствующему закону.
Таким образом, загадка о том, как можно было бы перевести поведение обратно в теорию, содержащую его значение, — та же, что и откуда берётся научное знание. А идея, заключающаяся в том, что мемы копируются путём имитации поведения их обладателей, — та же ошибка, что эмпиризм, индуктивизм или ламаркизм. Все они полагаются на наличие способа автоматического перевода проблем (таких как почему планеты двигаются так, а не иначе, или как достать до листьев на высоком дереве, или как сделать так, чтобы хищник тебя не заметил) в их решение. Другими словами, они предполагают, что среда (в форме наблюдаемого явления или, скажем, высокого дерева) может «говорить» сознанию или геному, как удовлетворить её критериям. Поппер писал:
«Индуктивистский или ламарковский подход оперирует понятием инструкции извне, из окружающей среды. А критический или дарвинистский признаёт только инструкцию изнутри, изнутри самой структуры…
Я утверждаю, что инструкции извне структуры вообще не существует. Открывая новые факты и получая новые результаты, мы их не копируем и не выводим по индукции из наблюдения, равно как не применяем никакой другой метод получения инструкции из окружающей среды. Скорее при этом мы пользуемся методом проб и устранения ошибок. Как говорит Эрнст Гомбрих, „сначала созидание, потом осознание“, другими словами, сначала новая, пробная структура активно создаётся, а потом её подвергают проверке, чтобы, возможно, исключить».
«Миф концептуального каркаса»Поппер мог так же легко написать, что «приобретая новые мемы, мы их не копируем и не выводим по индукции из наблюдения, равно как не применяем никакой другой метод имитации окружающей среды или получения инструкции из окружающей среды». Передача мемов человеческого типа — мемов, значение которых для получателя в большинстве случаев не предопределено, — не может быть ничем другим, кроме как творческой деятельностью со стороны получателя.
Мемы, как научные теории, не из чего не выводятся. Получатель создаёт их заново. Они представляют собой гипотетические объяснения, которые перед тем, как кто-то вообще сможет их перенять, подвергаются критике и проверке.
Такая модель творческого выдвижения гипотез, критики и проверки порождает как неясно выраженные, так и эксплицитные идеи. На самом деле к этому приводит любое творческое мышление, ведь ни одну идею нельзя представить с полной ясностью. Когда мы выдвигаем недвусмысленную гипотезу, в ней есть неявная компонента, вне зависимости от того, знаем мы об этом или нет. И так со всякой критикой.
Таким образом, как зачастую случалось в истории универсальности, способность человека к универсальным объяснениям развивалась не ради получения универсальной функции. Она эволюционировала, просто чтобы повысить объём меметической информации, которую могли приобрести наши предки, а также скорость и точность, с которыми они могли её приобрести. Но поскольку для этого эволюции было проще всего дать нам универсальную способность объяснять с помощью творческого мышления, это она и сделала. Этот эпистемологический факт даёт не только решение двух упомянутых мною загадок, но прежде всего причину эволюции творческого мышления человека, а значит, и человеческого вида.
Наверно, всё происходило как-то так. В ранних дочеловеческих обществах были только очень простые мемы — такие, как сейчас у высших обезьян, но, возможно, с более широким набором элементарных поведений, которые можно было скопировать. Это были практичные мемы, например, о том, как добыть пищу, которая иными путями была недоступна. Ценность таких знаний должна была быть высокой, что привело к образованию готовой ниши для любой адаптации, которая позволила бы тратить на репликацию мемов меньше усилий. И такой адаптацией в итоге стало творческое мышление. По мере расширения ниши коэволюционировали дальнейшие адаптации, такие как увеличение памяти (чтобы в ней помещалось больше мемов), более тонкая регуляция моторики и специализированные структуры мозга, предназначенные для языковых целей. В результате увеличилась и ширина «полосы пропускания» мемов, то есть количество меметической информации, которую можно передать от одного поколения к следующему. Мемы также стали более сложными и замысловатыми.
Вот почему и как эволюционировал наш вид, и почему вначале он развивался быстро. Постепенно мемы стали доминировать над поведением наших предков. Происходила эволюция мемов, и, как всякая эволюция, она шла в направлении повышения точности передачи. Это означало повышение антирациональности мемов. В какой-то момент эволюция мемов дошла до статичных обществ — предположительно это были племена. Как следствие, всё это развитие творческого мышления так и не привело к потоку новаторства. Новых идей было неуловимо мало, даже несмотря на то, что возможностей для их появления быстро становилось всё больше.
Даже в статичном обществе мемы продолжали эволюционировать, что было обусловлено незаметными ошибками репликации. Просто их эволюция шла медленнее, чем можно было заметить: ведь незаметные ошибки нельзя подавить! Как правило, мемы развивались в сторону более верной репликации, как обычно и бывает в процессе эволюции, а значит, в сторону более высокой статичности общества.
В таком обществе статус человека понижается, если он ведёт себя не так, как от него ожидают, и повышается, если его поведение отвечает ожиданиям. Это ожидания и родителей, и священников, и начальников, и потенциальных половых партнёров (или тех, кто отвечает за подобные отношения в этом обществе), людей, которые и сами следовали пожеланиям и ожиданиям общества в целом. Их мнение будет определять, сможет ли человек есть, процветать и размножаться, а значит, и судьбу его генов.
Но как узнать, чего хотят и ждут другие люди? Они могут отдавать приказы, но никогда не смогут выразить свои ожидания до мелочей, не говоря уже о том, чтобы до мелочей определить, как достичь этого. Когда человеку приказывают что-то сделать (или от него этого ожидают, чтобы определить, достоин ли он пищи или партнёра, например), он может вспомнить, что видел, как то же самое делал заслуживающий уважения человек, и может попытаться сымитировать его действия. Чтобы справиться с этим, ему нужно будет понять, какова была цель, и суметь подобраться к ней как можно ближе. Человек будет пытаться произвести впечатление на шефа, священника, родителей или потенциального полового партнёра, копируя и затем следуя их стандартам человеческих стремлений. Человек произведёт впечатление на племя как на группу, если скопирует представление, бытующее в племени (или среди наиболее влиятельных его членов), о том, что считается в нём достойным, и поведёт себя соответствующим образом.
Значит, как это ни парадоксально, для процветания в статичном обществе требуется творческое мышление — творческое мышление, которое позволяет менее активно выдавать новаторские идеи, чем другие. Таким вот образом в примитивных, статичных обществах, которые содержали ужасно мало знаний и существовали только благодаря подавлению новаторства, образовывалась среда, которая сильно благоприятствовала более активной эволюции способности выдавать новаторские идеи.
С точки зрения гипотетических инопланетян, наблюдающих за нашими предками, сообщество продвинутых обезьян с мемами до начала эволюции творческого мышления внешне походило бы на их потомков в период после скачка в универсальность, просто у потомков было бы намного больше мемов. Однако механизм, благодаря которому эти мемы продолжали реплицироваться верно, сильно бы изменился. Животные из более раннего сообщества для репликации своих мемов опирались на отсутствие творческого мышления, а люди, несмотря на то, что они живут в статичном обществе, полностью полагались именно на своё творческое мышление.
Как и в случае с любым скачком в универсальность, интересно поразмышлять о том, как этот скачок складывался из постепенных изменений. Творческое мышление — это то, что свойственно программам. Как я говорил, мы уже сегодня могли бы запускать на своих ноутбуках программы, реализующие искусственный интеллект, если бы знали, как их написать (или обеспечить их эволюцию). Как и в случае с любым программным обеспечением, компьютеру, чтобы он мог обрабатывать требуемый объём данных за требуемое время, необходимы определённые технические характеристики. Так получилось, что технические характеристики, которые позволили бы реализовать творческое мышление, были среди тех, которым в плане репликации мемов до эволюции творческого мышления отдавалось большое предпочтение. Главной характеристикой был объём памяти: чем больше можно запомнить, тем больше мемов будет воспроизведено и тем точнее будет это воспроизведение. В список этих характеристик могли также входить зеркальные нейроны для имитации более широкого круга элементарных действий, чем могут сымитировать обезьяны, — например, элементарные звуки языка. Такая техническая поддержка языковых способностей должна была естественным образом развиваться одновременно с увеличением полосы пропускания мемов. И к тому времени, как развилось творческое мышление, между генами и мемами уже произошла значительная коэволюция: гены развивали технические средства, чтобы они могли охватить больше мемов, причём более высокого качества, а мемы развивались бы с тем, чтобы перенять ещё больше функций, за которые ранее отвечали гены, например, как выбрать партнёра, как есть, драться и так далее. Поэтому, я предполагаю, что программа, реализующая творческое мышление, — не целиком врождённая. Это комбинация генов и мемов. Структура мозга человека позволяла ему реализовать творческое мышление (а также начать чувствовать, мыслить и тому подобное) задолго до потенциального появления первых подобных программ. Если взять последовательные стадии развития мозга в тот период, то реализовать творческое мышление на самых ранних допускавших это стадиях не получилось бы без весьма искусно составленных программ, необходимых для того, чтобы реализовать эту возможность с использованием едва ли подходящих для этого мозговых структур. По мере совершенствования «технического» исполнения мозга запрограммировать творческое мышление становилось всё проще и проще, пока это не упростилось настолько, что стало под силу эволюции. Что именно постепенно увеличивалось на пути к способности объяснить всё что угодно, мы не знаем. Если бы знали, то смогли бы запрограммировать это уже завтра.
Будущее творческого мышления
До того как Блэкмор и другие осознали важность мемов в эволюции человека, выдвигались всевозможные виды главных причин того, за счёт чего обычное потомство обезьян быстро превратилось в вид, особи которого могут объяснять, как устроена Вселенная, и управлять ею. Некоторые предполагали, что это была адаптация к прямохождению, благодаря которой освободились верхние конечности с отстоящими большими пальцами и их можно было использовать для различных манипуляций. Другие считали, что в результате изменения климата в выгодном положении оказались адаптации, благодаря которым у наших предков должна была повыситься способность к осваиванию разнообразных сред обитания. И, как я уже отмечал, одной из причин в объяснении быстрой эволюции всегда фигурирует половой отбор. Далее, есть ещё «гипотеза Макиавелли» о том, что интеллект человека эволюционировал с тем, чтобы предсказывать поведение других и чтобы обманывать их. Существует также гипотеза о том, что интеллект человека — это расширенная версия адаптации подражательной способности обезьян, которая, как я уже показывал, верной быть не может. Тем не менее идея Блэкмор о «меметической машине», заключающаяся в том, что мозг человека эволюционировал, чтобы реплицировать мемы, должна быть верной. А всё потому, что независимо от того, что привело в движение эволюцию любого из этих признаков, творческому мышлению ничего не оставалось, как тоже развиваться. Ведь ни одно интеллектуальное достижение уровня человека не было бы возможно без мемов человеческого (объяснительного) типа, а по законам эпистемологии такие мемы невозможны без творческого мышления.
Творческое мышление является не только необходимым, но и достаточным условием для репликации мемов человека. Глухие, слепые и парализованные люди не лишены возможности овладевать человеческими идеями и создавать их в более или менее полной степени. А значит, ни прямохождение, ни тонкая регуляция моторики, ни способность анализировать звуки в словах, ни какая-либо другая адаптация, хотя они и могли исторически сыграть некую роль в создании условий для эволюции человека, не были функционально необходимы для того, чтобы люди стали мыслить творчески. И тем самым они не являются и философски значимыми в понимании того, что собой представляет сегодня человечество, а именно люди: обладатели творческой способности объяснить всё что угодно.
Именно творческое мышление позволило провести различие между мемами обезьян, затратными в плане времени и усилий, необходимых для их репликации, и по своей природе ограниченными в знаниях, которые они могли выразить, и мемами человека, которые успешно передаются и являются универсальными по своей выразительной силе. В этом смысле начало творческого мышления было и началом бесконечности. В настоящий момент у нас нет возможности сказать, насколько вероятно, что творческое мышление начало развиваться у человекообразных обезьян. Но как только оно начало развиваться, автоматически должно было появиться эволюционное давление, направленное на продолжение этого процесса и на то, чтобы за ним последовали другие упрощающие репликацию мемов адаптации. Это развитие должно было проходить через все статичные общества доисторического периода.
Ужас статичных обществ, которые я описал в предыдущей главе, теперь можно представить как злую практичную шутку, которую сыграла с человеческим видом Вселенная. Нашему творческому мышлению, которое развивалось с тем, чтобы увеличить объём знаний, которые мы можем использовать, и которое также сразу было бы способно производить бесконечный поток полезных новаторских идей, с самого начало сделать это мешало само знание — мемы, которые это творческое мышление, собственно, сохраняло. Стремления отдельных людей к самосовершенствованию с самого начала были искажены надчеловеческим механизмом зла, который развернул все усилия в прямо противоположном направлении: чтобы расстроить все попытки к совершенствованию, чтобы удержать разумных существ взаперти, чтобы они вечно пребывали в грубом состоянии, полном страданий. И только Просвещение, сотни тысяч лет спустя и после неизвестного количества фальстартов, наконец позволило вырваться из этой вечности в бесконечность.
Терминология
Имитация — копирование поведения. Отличается от репликации мемов человека, при которой копируется знание, которое затем вызывает определённое поведение.
Значения «начала бесконечности», встречающиеся в этой главе
— Эволюция творческого мышления.
— Изменение функции творческого мышления с первоначальной, заключавшейся в верном сохранении мемов, на функцию создания нового знания.
Краткое содержание
На первый взгляд творческое мышление в ходе эволюции человечества не могло быть полезным, потому что знания развивались слишком уж медленно, чтобы дать более творческим личностям хоть какое-то преимущество при отборе. Это загадка. Вторая загадка — в том, как сложные мемы вообще могут существовать при том, что в мозгу нет механизма для перекачивания их из другого мозга? Сложные мемы не принуждают к определённым физическим действиям, они предписывают правила. Но мы видим действия, а не правила, так как же мы их копируем? Это происходит с помощью творческого мышления. И в этом разгадка обеих загадок, ведь репликация мема без изменений — это функция, ради которой и развивалось творческое мышление. И поэтому и существует наш вид.
17. Нестабильность
Остров Пасхи, расположенный в южной части Тихого океана, в основном известен находящимися на нём огромными каменными статуями, да что там говорить — он только ими и известен. Статуи были построены жителями острова много веков назад, но для чего — неизвестно, хотя считается, что они имеют отношение к культу поклонения предкам. Первые поселенцы, вероятно, прибыли на остров уже в пятом веке нашей эры. Они создали сложную цивилизацию каменного века, которая более чем через тысячу лет внезапно разрушилась. Некоторые винят во всём голод, войну и, возможно, каннибализм. Численность популяции упала до малой доли от прежней, и культура была утеряна.
Преобладает теория, что жители острова Пасхи накликали на себя беду сами, и в частности тем, что вырубали лес, который изначально покрывал большую часть острова. В итоге была уничтожена большая часть полезных видов деревьев. Не самое мудрое решение с учётом того, что для строительства жилья нужна древесина, а если рыба составляет большую часть рациона, то нужны лодки и сети, которые тоже делают из дерева. Кроме того, последовал эффект домино в виде эрозии почвы, что привело к разрушению среды, от которой жители острова зависели.
Некоторые археологи эту теорию оспаривают. Так, Терри Хант пришёл к выводу, что поселенцы прибыли на остров только в тринадцатом веке и их цивилизация продолжала существовать в период отсутствия лесов (причиной исчезновения которых он считает крыс, а не рубку деревьев), пока не погибла от эпидемии, возникшей после контакта с европейцами. Однако у меня нет желания обсуждать, верна ли господствующая теория, я хочу использовать её лишь в качестве примера обычного заблуждения — доказательства по аналогии, касающегося вопросов гораздо менее парохиальных.
От ближайшего поселения на острове Питкэрн (на котором после известного мятежа нашла убежище команда корабля «Баунти») остров Пасхи отделяют 2000 километров. Оба острова удалены от всего остального мира даже по современным стандартам. Тем не менее в 1972 году Джейкоб Броновски отправился на остров Пасхи на съёмки некоторых частей своего великолепного телевизионного сериала «Возвышение человечества» (The Ascent of Man). Вместе со своей группой он плыл на корабле из Калифорнии, преодолев в общей сложности около 14 000 километров в оба конца. Броновски неважно себя чувствовал, и его коллегам пришлось буквально нести его на место съёмки. Но он не сдавался, потому что эти характерные статуи были прекрасной декорацией, позволяющей донести центральную идею сериала, которая так же является и темой его книги и заключается в том, что наша цивилизация уникальна своей историей благодаря своей способности достигать прогресса. Он хотел отметить её ценности и достижения, приписать последние к первым и противопоставить нашу цивилизацию альтернативе, выраженной древним островом Пасхи.
Съёмки «Возвышения человечества» проходили с одобрения натуралиста Дэвида Эттенборо, отвечавшего тогда за сетку вещания канала BBC 2 британского телевидения. Спустя четверть века Эттенборо, который к тому времени стал старейшиной среди создателей фильмов по естествознанию, привёз на остров Пасхи ещё одну съёмочную группу для съёмок ещё одного сериала, «Состояние планеты» (The State of Planet). Он тоже выбрал эти статуи со зловещими лицами в качестве фона для заключительной сцены. Но, увы, то, что он хотел сказать, было практически прямо противоположно тому, что хотел сказать Броновски.
Разница философий этих двух великих телеведущих — столь похожих своим заразительным любопытством, ясностью описания и гуманизмом — сразу же бросалась в глаза из-за разного отношения к этим статуям. Эттенборо называл их «изумительными каменными изваяниями… ярким доказательством технических и художественных навыков когда-то живших тут людей». Но мне интересно, действительно ли Эттенборо был так поражён навыками жителей острова, которые были превзойдены за тысячи лет до них в других обществах каменного века. Я думаю, что он говорил это из вежливости, ведь в нашей культуре считается обязательным осыпать похвалами любое достижение примитивного общества. А вот Броновски отказался следовать этим условностям. Он говорил: «Часто спрашивают, а как люди попали на остров Пасхи? Они попали сюда случайно: это не вызывает сомнений. Вопрос в том, почему они не смогли выбраться отсюда?» И почему, мог бы добавить он, за ними в целях торговли (у полинезийцев, живших на других островах, торговля была хорошо налажена), или набегов, или обмена знаниями не последовали другие? Потому что они не знали, как это сделать.
А что касается статуй как «яркого доказательства… художественных навыков», Броновски таких доказательств не видел. В его глазах эти изваяния были ярким доказательством неудачи, а не успеха:
«Важный вопрос касательно этих статуй заключается в том, почему они так похожи друг на друга? Вот они стоят там, как диогены в бочках, смотрят в небо пустыми глазницами, наблюдают, как солнце и звёзды проплывают над их головами, и даже не пытаются понять, почему так происходит. Когда в пасхальное воскресенье 1722 года голландцы открыли этот остров, они отметили, что в нём есть задатки рая на Земле. Но это не так. В земном раю нет столь пустого повторения… Эти застывшие лица, застывшие кадры на бегущей вниз плёнке, характеризуют цивилизацию, которой не удалось сделать первый шаг к возвышению рационального знания».
«Возвышение человечества» (1973)Изваяния были похожи друг на друга, потому что остров Пасхи был статичным обществом. Оно так и не сделало первого шага к возвышению человечества — к началу бесконечности.
Из сотен стоящих на острове статуй, которые строились на протяжении нескольких столетий, менее половины находятся там, где и должны были находиться. Остальные, включая самые большие, пребывают на разных стадиях работы, а 10 % брошены в процессе транспортировки на специально выстроенных дорогах. И этому снова существуют противоречащие друг другу объяснения, но согласно доминирующей теории причина — в том, что прямо перед тем, как возведение статуй остановилось навсегда, оно сильно ускорилось. Другими словами, при приближении катастрофы островитяне направили ещё больше усилий не на то, чтобы решить проблему, потому что они не знали как, а на создание ещё большего числа, более крупных (но редко более удачных) памятников своим предкам. А из чего они строили дороги? Правильно, из дерева.
Когда Броновски снимал свой документальный фильм, детального представления о том, как пала цивилизация на острове Пасхи, не было. Но в отличие от Эттенборо, его это не интересовало, потому что он отправился на остров Пасхи, чтобы указать глубокую разницу между нашей цивилизацией и цивилизациями, похожими на ту, которая построила эти статуи. Он хотел сказать, что мы не такие, как они. Мы сделали тот шаг, который они не сделали. Доводы Эттенборо базируются на противоположном утверждении: мы такие же, как они, и безрассудно идём за ними след в след. Таким образом, он провёл расширенную аналогию между цивилизацией острова Пасхи и нашей, особенность за особенностью, опасность за опасностью:
«Предупреждение о том, что может готовить для нас будущее, можно увидеть в одном из самых удалённых уголков Земли… Когда первые полинезийские поселенцы ступили на этот берег, им открылся мир в миниатюре, который был богат ресурсами для обеспечения их жизни. Они хорошо жили…»
«Состояние планеты» (BBC TV, 2000)Мир в миниатюре: этими словами Эттенборо объясняет, почему он проделал весь этот путь до острова Пасхи и почему решил поведать миру его историю. Он считал, что на острове есть предупреждение для мира, потому что он и сам — мир в миниатюре, «космический корабль Земля», в котором всё пошло не так. На нём было «богатство ресурсов» для обеспечения жизни его обитателей, так же, как и Земля как будто полна ресурсов для обеспечения нашей жизни. (Представьте себе, как удивился бы Мальтус, если бы узнал, что в 2000 году пессимисты всё ещё будут называть земные ресурсы «богатыми».) Жители острова «жили хорошо», так же, как и мы. Но при этом они были обречены, как и мы, если продолжим жить по-старому. Если мы ничего не изменим, то «вот что может ждать нас в будущем»:
От старой культуры, которая обеспечивала их существование, отказались, а статуи были повалены. Когда-то богатый, плодородный мир в миниатюре стал бесплодной пустыней.
И снова Эттенборо оправдывает старую культуру: она «обеспечивала стабильность» жизни островитян (так же, как и богатые ресурсы, пока жителям удавалось использовать их без вреда окружающей среде). Ниспровержение статуй он использует как символ падения их культуры, как будто предупреждая о будущих ненастьях для нашей, и он повторяет свою аналогию с миром в миниатюре между обществом и технологиями древнего острова Пасхи и всей планеты сегодня.
Таким образом, остров Пасхи в представлении Эттенборо — это вариант «космического корабля Земля»: стабильность жизни человечества обеспечивается совместно «богатой и плодородной» биосферой и культурными знаниями статичного общества. В этом контексте интересна формулировка «обеспечивать стабильность». Английское слово to sustain может означать «предоставлять кому-то то, что ему нужно», но может и «не допускать изменений» — практически противоположный смысл, ведь подавление перемен — это обычно совсем не то, что нужно людям.
Знания, за счёт которых в настоящее время обеспечивается стабильность жизни в Оксфордшире, обеспечивают её только в первом смысле: они не заставляют нас воспроизводить в каждом поколении один и тот же, традиционный образ жизни. На самом деле они не дают нам этого делать. Для сравнения: если ваш образ жизни вынуждает вас только к строительству новой гигантской статуи, то после вы можете продолжать жить точно так же, как раньше. Это — стабильность. Но если ваш образ жизни ведёт к изобретению более эффективного метода ведения фермерского хозяйства и к излечению болезни, от которой умирает много детей, это — нестабильность. Численность населения растёт, потому что дети, которые могли умереть, выживают; и в то же время для работы в полях уже не нужно столько людей. Поэтому продолжать жить так же, как раньше, не получится. Нужно это пережить и начать решать новые проблемы, которые в итоге появятся. Именно благодаря такой нестабильности на Британских островах с гораздо менее благоприятным климатом, чем на субтропическом острове Пасхи, сегодня проживает цивилизация с плотностью населения как минимум в три раза больше, чем на острове Пасхи в его лучшие времена, и уровень жизни у неё гораздо выше[104]. И вполне логично, что эта цивилизация знает, как можно хорошо жить и без лесов, которые когда-то покрывали большую часть Британии.
Культура жителей острова Пасхи обеспечивала стабильность в обоих смыслах. Это признак действующего статичного общества. Она обеспечивала людям некоторый образ жизни, но также запрещала изменения: она поддерживала поселенцев в их стремлении поколениями снова и снова следовать одним и тем же линиям поведения. Она способствовала сохранению ценностей, в рамках которых леса ставились — буквально — ниже статуй. И она способствовала тому, что островитяне сохраняли форму статуй и продолжали свой бессмысленный проект по строительству их во всё больших количествах.
Более того, та часть культуры, которая обеспечивала стабильность в смысле удовлетворения потребностей, впечатляла не сильно. В других обществах каменного века люди умели вылавливать рыбу из моря и сеять зерновые, не растрачивая силы на бесконечное строительство статуй. И если господствующая теория верна, то жители острова Пасхи начали умирать от голода ещё до падения их цивилизации. Другими словами, даже когда культура перестала обеспечивать стабильность жизни, сохранилась её роковая способность поддерживать фиксированную модель поведения. Она так и продолжала мешать поиску решений проблем единственным эффективным способом: путём творческого мышления и новаторства. Эттенборо считает, что эта культура была очень ценной, а её падение было трагедией. Точка зрения Броновски ближе к моей, которая заключается в том, что раз культура не совершенствовалась, то трагедией, как и во всех статичных обществах, было именно то, что на протяжении многих столетий она выживала.
Но Эттенборо не единственный, кто извлекает устрашающие уроки из истории острова Пасхи. На неё часто ссылаются в контексте метафоры «космический корабль Земля». Но какая именно аналогия лежит за этими уроками? Идея о том, что благополучие цивилизации зависит от разумного распоряжения лесными ресурсами, имеет небольшую ценность. Но более широкая интерпретация, заключающаяся в том, что выживание зависит от того, насколько хорошо мы распоряжаемся ресурсами, практически не имеет содержания: «ресурсом» можно назвать любой физический объект. И поскольку проблемы можно решить, все ненастья вызваны «неразумным распоряжением ресурсами». Древнеримский правитель Юлий Цезарь был убит ударом ножа, и в принципе можно сказать, что его ошибка была в том, что он «неумело распорядился запасами железа, и в результате в его теле накопилось слишком много этого металла». Конечно, если бы ему удалось оградить своё тело от железа, он бы не умер (именно) так, как умер, но объяснять таким образом, как и почему это произошло, просто нелепо, и к сути это не приблизит. Интересно не то, чем его зарезали, а то, как получилось так, что другие политики сговорились насильственным образом убрать Цезаря и что им это удалось. Анализ в стиле Поппера упирал бы на то, что Цезарь предпринял энергичные шаги для того, чтобы его нельзя было устранить без насилия. А затем на то, что с его устранением это подавляющее прогресс новшество не было задавлено, а наоборот укрепилось. Чтобы разобраться в таких событиях и их более широкой значимости, нужно вникнуть в политические аспекты ситуации, в психологию, философию и иногда теологию. Но не в то, как делают ножи. Может быть, жители острова Пасхи и потерпели фиаско в распоряжении лесными ресурсами, а может, и нет. Но если они его потерпели, то объяснение этого опиралось бы не на то, почему они ошиблись, ведь проблемы неизбежны, а на то, почему они не смогли исправить свои ошибки.
Я утверждал, что законы природы не могут налагать какие-либо ограничения на прогресс: согласно аргументам, приведённым в главе 1 и 3, отрицать это равносильно обращению к сверхъестественным силам. Другими словами, прогресс стабилен и безграничен. Но только благодаря людям, которые придерживаются определённого типа мышления и поведения — решения и постановки проблем, характерных для Просвещения. И для этого требуется оптимизм динамичного общества.
Одним из следствий оптимизма является то, что человек хочет извлекать уроки из неудач, своих и не только. Но идея о том, что нашу цивилизацию может чему-то научить предполагаемый провал жителей острова Пасхи в управлении лесным хозяйством, не следует ни из какого структурного сходства между нашей ситуацией и их. Ведь им не удалось добиться прогресса практически ни в одной области. Никто не ожидает, что неудачи островитян, скажем, в медицине, объяснят наши сложности в поиске лекарства от рака, а их неудачи в понимании ночного неба — почему квантовая теория гравитации всё ещё ускользает от нас. Ошибки жителей острова Пасхи, как методологические, так и по существу, были просто слишком элементарны, чтобы иметь к нам хоть какое-то отношение, а неосмотрительное использование ими леса, если от этого их цивилизация в итоге погибла, было бы просто типичным следствием отсутствия способности решать проблемы в целом. Гораздо лучше для нас будет изучить их небольшие успехи, чем их абсолютно банальные провалы. Если бы нам удалось выяснить, какие у них были эмпирические правила (например, для мульчирования грунта камнями, которое облегчало выращивание зерновых на бедной почве), мы могли бы найти ценные фрагменты исторического и этнологического знания или, возможно, даже что-то, несущее в себе практическую пользу. Но делать общие выводы из эмпирических правил нельзя. Было бы удивительно, если бы детали разрушения примитивного, статичного общества имели хоть какое-то отношение к скрытым опасностям, которые могут стоять перед открытым, динамичным и научным обществом, и тем более к тому, что нам с ними делать.
Теми знаниями, которые спасли бы цивилизацию острова Пасхи, мы обладаем уже на протяжении веков. Если бы у них был секстант, они смогли бы выдвинуться в океан и вернуться с семенами новых деревьев и новых идей. Более высокое благосостояние и культура письма позволили бы им восстановиться после опустошительной чумы. Но в особенности им бы лучше удавалось решение проблем всех типов, обладай они некоторыми из наших идей о том, как это делать, например, зачатками научного мировоззрения. Такие знания не гарантировали бы им благополучие — не больше, чем они гарантируют нам. Тем не менее тот факт, что их цивилизация пала из-за отсутствия у них тех знаний и умений, которые у нас уже давно есть, не может быть грозным «предупреждением о том, что ждёт нас в будущем».
Этот основанный на знаниях подход к объяснению событий в человеческой жизни следует из общих аргументов, приведённых в этой книге. Мы знаем, что, чтобы достигнуть произвольных физических трансформаций, не запрещённых законами физики (например, заново посадить лес), нужно просто знать как. Мы знаем, что, чтобы выяснить как, нужно искать разумные объяснения. И мы знаем, что будет ли определённая попытка достигнуть прогресса успешной — предсказать невозможно. Это можно понять в ретроспективе, но не опираясь на факторы, которые могли быть известны заранее. Таким образом, мы теперь понимаем, почему алхимикам так и не удалось осуществить трансмутацию: им бы тогда пришлось сначала немного разобраться в ядерной физике. Но об этом в то время они знать не могли. А тот прогресс, которого они всё-таки достигли и который привёл к появлению химии, сильно зависел от того, как мыслили конкретные алхимики, и только частично от того, например, какие химикаты им были доступны. Условия для начала бесконечности существуют практически везде, где на Земле живут люди.
В своей книге «Ружья, микробы и сталь»[105] (Guns, Germs and Steel) биогеограф Джаред Даймонд придерживается противоположного мнения. Он приводит, по его выражению, «решающее объяснение», почему история человечества на разных континентах такая разная. В частности, он пытается объяснить, почему европейцы отправились покорять Америку, Австралазию и Африку, а не наоборот. По мнению Даймонда, психология, философия и политика исторических событий — не более чем мимолётная рябь на великой реке истории. Её течение определяется факторами, которые не зависят от идей и решений человека. В частности, говорит он, на континентах нашей планеты были разные природные ресурсы — разные географические условия, растения, животные и микроорганизмы — и, если отбросить детали, этим как раз и объясняется широкий размах истории, включая то, какие идеи человека создавались и какие решения принимались, а также политику, философию, ремесло изготовления ножей и всё остальное.
Например, по его мнению, технологическая цивилизация на американских континентах до прихода европейцев не развилась отчасти потому, что там не было животных, которых можно было бы приручить и сделать вьючными.
Ламы происходят из Южной Америки, и их с доисторических времён использовали в качестве вьючных животных, но Даймонд указывает на то, что они встречаются не на всём континенте, а только в Андах. Почему же в Андах не возникло технологической цивилизации? Почему в империи инков не случилось Просвещения? Даймонд считает, что в этом неблагоприятную роль сыграли другие биогеографические факторы.
Мыслитель-коммунист Фридрих Энгельс предлагал такие же решающие факторы, объясняющие историю, и делал такую же оговорку о ламах в 1884 году:
«Восточный материк… обладал почти всеми поддающимися приручению животными… западный же материк, Америка, из всех поддающихся приручению млекопитающих — только ламой, да и то лишь в одной части юга… Вследствие этого различия в природных условиях население каждого полушария развивается с этих пор своим особым путём…»
«Происхождение семьи, частной собственности и государства»[106]. (Фридрих Энгельс, по заметкам Карла Маркса)Но почему ламы так и оставались «лишь в одной части юга», если их можно было с пользой эксплуатировать и в других местах? Энгельс не задавался этим вопросом, а Даймонд понял, что «это нельзя оставить без объяснения». Ведь если только причина того, что лам никуда не перевозили, не была сама по себе биогеографической, то «решающее объяснение» ложно. И Даймонд предложил биогеографическую причину: он указал на то, что Анды отделены от плоскогорий Центральной Америки, где лам можно было бы использовать в сельском хозяйстве, жаркой низиной, для них не подходящей.
Но опять же, почему такая область должна была стать препятствием для распространения одомашненных лам? Торговцы веками курсировали между Южной и Центральной Америкой, возможно, по суше и уж точно по морю. Там, где есть торговцы, перемещающиеся на большие расстояния, идее для её распространения не обязательно быть полезной в ряде мест непрерывно. Как я отмечал в главе 11, у знания есть уникальная способность наводиться на далёкую цель и приводить к сильным изменениям в ней, практически не затрагивая разделяющее их пространство. Так за чем же стало дело, чего не хватало тем торговцам, чтобы взять несколько лам на продажу на север? Только идеи: скачка воображения. Нужно было догадаться, что если что-то полезно здесь, то и там оно тоже может пригодиться. И дерзости взять на себя теоретический и физический риск. Торговцы-полинезийцы именно так и поступили. Они устремились дальше, за ещё более устрашающий естественный барьер, везя с собой товары, включая скот. Почему никто из южно-американских торговцев даже не подумал о том, чтобы продавать лам в Центральную Америку? Мы можем никогда не узнать ответа, только вот почему тогда это должно было иметь какое-то отношение к географии? У них просто могли уже устояться привычки. Возможно, использовать животных новаторскими способами было запрещено. А может, попытки наладить такую торговлю и предпринимались, но каждый раз проваливались просто из-за невезения. Так или иначе, дело было не в физическом препятствии в виде жаркой области, потому что она таковым не была.
Это — парохиальные соображения. Если выйти за их рамки, то распространению лам могли помешать только идеи и взгляды людей. Если бы те, кто жил в Андах, рассуждали так же, как полинезийцы, ламы могли бы распространиться по всему американскому континенту. А если бы древние полинезийцы так не рассуждали, то они бы никогда не заселили даже Полинезию, и «решающим» биогеографическим объяснением тогда было бы препятствие в виде огромного океана. Если бы полинезийцы ещё больше преуспели в торговле на дальние расстояния, у них бы могло получиться переправить лошадей из Азии к себе на острова, а оттуда — в Южную Америку: подвиг, наверно, не менее впечатляющий, чем переправка слонов через Альпы Ганнибалом. Если бы древнегреческое просвещение продолжилось, афиняне могли бы первыми заселить Океанию, и «полинезийцами» сейчас бы были они. Или если бы ранние жители Анд научились выращивать огромных боевых лам и выдвинулись бы покорять другие земли до того, как кто-либо хотя бы задумался о приручении лошадей, биогеографы из Южной Америки сейчас объясняли бы, что их предки колонизировали мир, потому что на других континентах лам не было.
Более того, не всегда на Американском континенте отсутствовали крупные четвероногие. Когда туда прибыли первые люди, там были распространены многие виды «мегафауны», включая диких лошадей, мамонтов, мастодонтов и других членов семейства слоновых. Согласно некоторым теориям, люди истребили их охотой. А что случилось бы, если бы у одного из тех охотников появилась другая идея: прежде чем убивать животное, оседлать его? Спустя поколения из-за эффекта домино, вызванного этой дерзкой гипотезой, могли бы появиться племена воинов, которые, восседая на лошадях и мамонтах, хлынули бы в обратную сторону через Аляску и вторглись бы в Старый Свет. И их потомки теперь бы приписывали это географическому распределению мегафауны. А на самом деле всё случилось из-за той одной идеи, возникшей в голове охотника.
В ранний доисторический период населения было мало, знание было парохиальным, а до появления идей, способных изменить историю, оставались ещё тысячелетия. В те времена мем распространялся, только когда один человек видел, как где-то рядом его воспроизводит другой, но (из-за статичности культур) даже в этом случае редко. Таким образом, в то время поведение людей было похоже на поведение животных, и большая часть из происходившего действительно объяснялось биогеографией. Но такие достижения, как абстрактный язык, объяснения, благосостояние сверх необходимого для выживания, торговля на дальние расстояния — всё это вполне могло разрушить парохиальность и наделить идеи каузальной силой. К тому времени, как начали вестись летописи, история уже давно стала скорее историей идей, а не чего-то ещё, хотя, к сожалению, идеи всё ещё главным образом носили самоотключающий, антирациональный характер. Что касается последующей истории, нужно было бы сильно постараться, чтобы настоять на том, что биогеографические объяснения могут пролить свет на широкий размах событий. Почему, например, холодную войну выиграли общества Северной Америки и Западной Европы, а не Азии и Восточной Европы? Анализируя климат, минералы, флору, фауну и болезни, мы ничего не узнаем. Объяснение состоит в том, что советская система проиграла, потому что её идеология не была истинной, и вся биогеография, что есть в мире, не сможет объяснить, что же с ней было не так[107].
По случайному совпадению, одним из аспектов, который был наиболее ложен в советской идеологии, была сама идея о наличии решающих факторов, объясняющих ход истории в механических, не связанных с человеком терминах, как предлагали Маркс, Энгельс и Даймонд. В достаточно общем смысле механическим переинтерпретациям действий человека не только не достаёт объяснительной силы, они неправильны и с нравственной точки зрения, потому что, по сути, отрицают человеческую природу участников, считая их и их идеи просто побочными эффектами ландшафта. Даймонд говорит, что «Ружья, микробы и сталь» он написал главным образом потому, что, если людей не убедить, что относительный успех европейцев обусловлен биогеографией, они так и будут склоняться в сторону расистских объяснений. Но, хочется верить, мои читатели — не из их числа! Возможно, Даймонд смотрит на древние Афины, Возрождение, Просвещение — все они являются воплощением причинно-следственной связи через силу абстрактных идей — и не понимает, как приписать эти события идеям и людям; он просто считает само собой разумеющимся, что альтернативой одной редукционистской, дегуманизирующей переинтерпретации событий является другая, но такая же по сути.
В действительности разница между Спартой и Афинами или между Савонаролой и Лоренцо де Медичи не имеет никакого отношения к их генам, как и разница между жителями острова Пасхи и британцами Империи. Всё дело в людях — обладателях способности объяснить и сконструировать всё что угодно. Но у них были разные идеи. Ландшафт не был причиной Просвещения. Было бы гораздо вернее сказать, что ландшафт, в котором мы живём, — это результат воплощения идей. Первозданный ландшафт, хотя и был наполнен данными, а значит, и возможностями, не содержал ни одной идеи. Только знание преобразует ландшафты в ресурсы, и только люди являются авторами объяснительного знания, а значит, и уникального для людей поведения, называемого «историей».
Такие физические ресурсы, как растения, животные и минералы, дают возможности, которые могут вдохновить на новые идеи, но они не могут ни создавать идеи, ни вынуждать людей приобретать те или иные идеи. Они также приводят к проблемам, но не мешают людям искать пути их решения. В результате какого-нибудь непреодолимого природного явления, например извержения вулкана, древняя цивилизация могла исчезнуть с лица Земли независимо от того, что думали его жертвы, но это исключение. Обычно если где-то остаются думающие люди, то найдутся и способы мышления, которые позволят им улучшить свою ситуацию и не останавливаться на достигнутом. К сожалению, как я объяснял, есть также способы мышления, которые могут помешать всякому улучшению. Таким образом, с момента зарождения цивилизации, и до этого тоже, и принципиальные возможности для прогресса, и принципиальные препятствия для него состояли исключительно из идей. Это определяющие факторы широкого размаха истории. Первозданное распределение лошадей или лам, кремня или урана может повлиять только на детали, и то только после того, как у какого-нибудь человека возникнет идея, как всё это использовать. Результат воплощения идей и решений практически целиком определяет, какие биогеографические факторы влияют на следующую главу человеческой истории и каким будет это влияние. Маркс, Энгельс и Даймонд поняли всё наоборот.
Тысяча лет — для статичного общества это очень много. На ум приходят великие централизованные империи античности, которые просуществовали даже дольше, но это результат наблюдательной селекции: о большей части статичных обществ не сохранилось никаких свидетельств, и, должно быть, они существовали гораздо меньше. Естественно было бы предположить, что большинство из них были разрушены при столкновении с первой же сложной задачей, которая потребовала от них создания существенно новой модели поведения. Изолированное положение острова Пасхи и относительно гостеприимная природа, возможно, позволили соответствующему статичному обществу прожить дольше, чем оно прожило бы, если бы природа и другие общества подвергали его большему количеству испытаний. Но даже эти факторы всё-таки больше человеческие, а не биогеографические: если бы островитяне знали, как выходить в плавание надолго, остров не был бы «изолированным» в соответствующем смысле. Аналогично, «гостеприимность» острова Пасхи определяется знаниями, которыми обладают его обитатели. Если бы поселенцы знали о методах выживания так же мало, как я, они бы погибли через неделю пребывания на острове. Но с другой стороны, сегодня на острове Пасхи живут тысячи людей, и они не голодают. У них всё ещё нет леса, но теперь они его сажают, потому что хотят этого и знают, как это сделать.
Цивилизация острова Пасхи разрушилась, потому что любые ситуации, в которые попадает человек, связаны с возникновением проблем, а статичные общества по своей сути к новым проблемам неустойчивы. Цивилизации зарождались и погибали и на других островах в южной части Тихого океана, включая Питкэрн. Это было частью широкого размаха истории в этом регионе. И по большому счёту причина была в том, что у всех у них были проблемы, которые они не смогли решить. Жители острова Пасхи не смогли найти способа покинуть остров, а римляне не смогли решить проблему мирной смены правителей. Если на острове Пасхи что-то и случилось с лесом, то поселенцев сломило не это, а то, что они так и не смогли решить проблему, которая из-за этого возникла. Если бы их цивилизация не погибла от этой проблемы, то она в конечном счёте погибла бы от какой-нибудь другой. Выживание этой цивилизации в статичном, помешанном на статуях состоянии, не было реалистическим исходом. Вариантов было только два: падёт ли она внезапно и болезненно, уничтожив большую часть тех малых знаний, которые у неё были, или будет изменяться медленно и к лучшему. Возможно, островитяне выбрали бы второй вариант, если бы только знали как.
Мы не знаем, что ужасного натворили жители острова Пасхи, пытаясь помешать прогрессу. Но, очевидно, развал их цивилизации ничего в лучшую сторону не изменил. И действительно, падения тирании никогда не бывает достаточно. Стабильное создание знания также зависит от присутствия определённых типов идей, в частности оптимизма, и связанной с этим традиции критики. Должны быть социальные и политические институты, которые включали бы в себя такие традиции и защищали их: общество, в котором допускается некоторая степень расхождения во взглядах и отклонения от нормы, а образовательная практика которого не полностью исключает творческое мышление. Всего этого нельзя достичь тривиальным образом. Западная цивилизация — это текущее следствие достижения этого, и поэтому, как я говорил, у неё уже есть то, что нужно для того, чтобы избежать несчастья, случившегося на острове Пасхи. Если она и столкнулась с кризисом, то это кризис другого рода. Если она и падёт когда-нибудь, то произойдёт это по-другому, и если её нужно будет спасать, то своими, уникальными методами.
В 1971 году, будучи ещё школьником, я посетил лекцию, которая называлась «Население, ресурсы, окружающая среда». Её читал Пауль Эрлих, учёный, занимавшийся вопросами населения. Я не помню, что ожидал услышать — не думаю, что до этого что-то знал об «окружающей среде», но я был совершенно не готов к такому бравурному проявлению чистого пессимизма. Эрлих резко обрисовал своим молодым слушателям тот ад при жизни, который мы унаследуем. Полдюжины разных катастроф, связанных с неправильным использованием ресурсов, уже были не за горами, и некоторых из них было уже слишком поздно пытаться избежать. Люди будут миллиардами умирать с голоду через десять лет, в лучшем случае через двадцать. Запасы полезных ископаемых на исходе: война во Вьетнаме, которая тогда как раз была в самом разгаре, представляла собой безнадёжную борьбу за олово, каучук и нефть Индокитая. (Заметьте, как его биогеографическое объяснение легко отбрасывает политические разногласия, которые на самом деле были причиной конфликта.) Ежедневные тяготы жизни американских трущоб, рост преступности, психические расстройства — всё было частью одной большой беды. Всё привязывалось Эрлихом к перенаселению, загрязнению и безрассудному злоупотреблению ограниченными ресурсами: мы построили слишком много электростанций и заводов, шахт, слишком увлеклись интенсивным сельским хозяйством — такого большого экономического роста планета может и не выдержать. И, что хуже всего, людей слишком много, и это основной источник всех остальных бед. В этом отношении Эрлих следовал за Мальтусом и совершал ту же самую ошибку: сравнивал предсказания одного процесса с пророчествами другого. Так, он подсчитал, что, даже если США будут поддерживать стандарты жизни 1971 года, стране нужно будет сократить население на три четверти, до 50 миллионов, что, конечно же, было невозможно за имевшееся в распоряжении время. Планета в целом перенаселена в семь раз, заявил он. Даже Австралия приближалась к максимуму численности населения, которое она может обеспечивать. И так далее.
Чтобы сомневаться в словах профессора о том, чем он занимается, у нас было мало оснований. Однако почему-то разговор после лекции не был похож на разговор группы студентов, у которых только что украли будущее. Не знаю, как другие, а я помню, когда перестал волноваться. В конце лекции одна девушка задала Эрлиху вопрос. Я не помню его в точности, но примерно он звучал так: «Что если в ближайшие несколько лет мы решим [одну из проблем, описанных Эрлихом]? Повлияет ли это как-то на ваши выводы?» Он ответил отрывисто: да как вообще эту проблему можно решить? (Она не знала как.) И даже если мы её решим, то разве добьёмся чего-то, кроме как ненадолго отсрочим катастрофу? И что делать потом?
Я вздохнул с облегчением! Как только я осознал, что пророчества Эрлиха были равносильны тому, чтобы сказать «Если мы прекратим решать проблемы, то будем обречены», они перестали меня пугать, ведь по-другому и быть не могло. Вполне возможно, что та девушка взялась за решение проблемы, о которой спрашивала, и последовавшей за ней. В любом случае кто-то это сделал, потому что катастрофа, назначенная на 1991 год, до сих пор не случилась. Как и ничто из того, что предсказывал Эрлих.
Эрлих считал, что исследует физические ресурсы планеты и предсказывает скорое их сокращения. На самом же деле он пророчил содержание будущего знания. И намечая будущее, в котором лучшее из используемых знаний было родом из 1971 года, он неявно предполагал, что с этого момента решённых проблем будет всё меньше и меньше. Более того, выражая проблемы через «истощение ресурсов» и игнорируя объяснения, которые может создать человек, он упускал все важные определяющие факторы того, что пытался предсказать, а именно: есть ли у соответствующих людей и институтов то, что нужно для решения проблем? И, в более широком смысле, что вообще нужно для решения проблем?
Несколькими годами позже один студент, заканчивавший обучение по новому тогда предмету — науке об окружающей среде, объяснял мне, что цветное телевидение знаменует неминуемый крах нашего «потребительского общества». Почему? А потому прежде всего, сказал он, что от него нет никакой пользы. Все полезные функции телевидения могут с таким же успехом выполняться и чёрно-белым. Добавление цвета при том, что цена увеличится в несколько раз, — это просто «демонстративное потребление». Этот термин был предложен экономистом Торстейном Вебленом в 1902 году, за пару десятилетий до того, как было изобретено чёрно-белое телевидение, и означал желание приобрести что-то новое, чтобы покрасоваться перед соседями. То, что сегодня мы достигли физического предела демонстративного потребления, можно доказать, заявил мой коллега, если научно проанализировать ресурсные ограничения. В электронно-лучевых трубках в цветных телевизорах для создания красных люминофоров на экране используется элемент европий. Это самый редкий элемент на Земле. Всех известных его запасов хватит только для изготовления ещё несколько сот миллионов цветных телевизоров, а после этого нам придётся вернуться к чёрно-белым. Но что ещё хуже, подумайте, что это может означать. С этого момента будет два вида людей: те, у кого есть цветной телевизор, и те, у кого его нет. И так со всем, что потребляется. Это будет мир с постоянным классовым различием, в котором элита будет запасать последние ресурсы и выставлять свою жизнь напоказ, а все остальные, чтобы обеспечить стабильность этого иллюзорного состояния на его закате, будут продолжать работать, скрипя от обиды зубами. И так далее, кошмар на кошмаре.
Я спросил его, откуда он знает, что не найдётся других запасов европия. А он спросил, откуда я знаю, что найдётся. И даже если и так, что мы будем делать потом? Я спросил, почему он думает, что цветные электронно-лучевые трубки нельзя делать без европия. Он уверил меня, что нельзя: чудо уже то, что существует даже один элемент с нужными свойствами. Разве природа обязана давать нам элементы со свойствами, которые будут удобны нам?
С этим аргументом мне пришлось согласиться. На Земле не так много элементов, и у каждого из них всего несколько энергетических уровней, которые могут использоваться для излучения света. Конечно, физики уже их все определили. И если оказалось, что альтернативы европию при производстве цветных телевизоров нет, значит, её нет.
Однако что-то в этом «чуде» красного люминофора меня глубоко озадачило. Если природа даёт всего пару подходящих энергетических уровней, зачем вообще их давать? Я ещё не слышал о проблеме тонкой настройки (в то время она была новой), но она озадачивала примерно по той же причине. Передавать точные изображения в режиме реального времени — естественное желание людей, как, например, быстро путешествовать. Было бы неудивительно, если бы законы физики это запрещали, как они запрещают путешествия быстрее скорости света. Ничего необычного нет и в том, что они это разрешают, если, конечно, кто-то знает, как это осуществить. Но если бы они позволили осуществить это только один раз, это было бы совпадением в духе тонкой настройки. Зачем законам физики проводить границу так близко к точке, которая, так получилось, имеет значение для человеческих технологий? Это как если бы оказалось, что центр Земли находится на расстоянии нескольких километров от центра Вселенной. Тогда, наверно, нарушился бы принцип заурядности.
Что ещё больше в этом озадачивало, так это то, что, как и в случае с реальной проблемой тонкой настройки, мой коллега утверждал, что таких совпадений много. Дело как раз в том, что он считал, что проблема с цветным телевидением — это лишь один репрезентативный пример явления, которое одновременно происходило во многих технологических областях: достигались крайние пределы. Так же как мы истощали последние запасы редчайших на Земле элементов ради такой легкомысленной цели, как просмотр сериалов в цвете, так и всё, что выглядело как прогресс, на самом деле было просто безумной гонкой в попытке ухватить последние ресурсы, оставшиеся на нашей планете. 1970-е годы, по его мнению, были уникальным и ужасным моментом в истории.
В одном он был прав: альтернативу красному люминофору до сих пор так и не нашли. Однако, печатая текст этой главы, я смотрю на великолепный цветной компьютерный дисплей, в котором нет ни одного атома европия. Его пиксели — это жидкие кристаллы, целиком состоящие из простых элементов, и ему не нужна электронно-лучевая трубка. Но даже если бы она ему была нужна, сегодня добыто достаточно европия, чтобы у каждого человека на Земле была дюжина экранов, сделанных на основе этого элемента, а известных его запасов — ещё в несколько раз больше.
Пока мой коллега-пессимист описывал технологию цветного телевидения как бесполезную и обречённую, оптимисты уже открывали новые способы её реализации и новые применения, применения, которые, как он думал, он исключил, пять минут порассуждав о том, насколько хорошей заменой стали бы цветные телевизоры чёрно-белым. Но для меня в этом нет несбывшегося пророчества и лежащего в его основе заблуждения, нет облегчения, что кошмар так и не случился. Это контраст между двумя различными пониманиями того, что представляют собой люди. В пессимистичном представлении это расточители: они берут драгоценные ресурсы и бездумно преобразуют их в бесполезные цветные картинки. Это верно для статичных обществ: статуи с острова Пасхи — на самом деле то же самое, чем мой коллега считал цветные телевизоры, и поэтому-то сравнивать наше общество со «старой культурой» острова Пасхи неправильно. В оптимистичном представлении, которое было непредвиденно оправдано событиями, люди решают проблемы: они создают нестабильное решение, а значит, и следующую проблему. В пессимистическом представлении эта отличительная способность людей — болезнь, которая лечится стабильностью. В оптимистичном болезнь — это стабильность, а люди — это её лечение.
С тех пор появились целые новые отрасли, оседлавшие высокие волны новаторства, и во многих из них — от рентгенографии и видеоигр до вёрстки на компьютере и создании документальных фильмов о природе, таких как у Эттенборо, — цветное телевидение в итоге очень даже нашло применение. Постоянного классового различия между теми, у кого есть цветной, и теми, у кого есть чёрно-белый телевизор, так и не случилось, а вот технология чёрно-белого телевидения практически вымерла, как и телевизоры на электронно-лучевых трубках. Цветные дисплеи сегодня стоят так дёшево, что их раздают бесплатно с журналами в качестве рекламного хода. И все эти технологии, далёкие от того, чтобы разделять общество на классы, по своей сути уравнительные и смывают многие уже устоявшиеся барьеры, препятствовавшие доступу людей к информации, мнениям, искусству и образованию.
Оптимистичные оппоненты доводов Мальтуса часто — и по праву — хотят подчеркнуть, что всё зло — от недостатка знания и что проблемы можно решить. Пророчества катастроф, такие, как я описал, на самом деле иллюстрируют тот факт, что пророческое мышление, каким бы вероятным оно ни казалось в перспективе, ошибочно и, по сути, пристрастно. Однако не менее ошибочно ожидать, что проблемы всегда будут решаться вовремя, чтобы беду можно было предотвратить. На самом деле более глубокая и опасная ошибка мальтузианцев заключается в том, что они утверждают, что у них есть способ избежать катастроф с распределением ресурсов (и это стабильность). Таким образом, они также отрицают и другую великую истину, которую я предложил выгравировать на камне: проблемы неизбежны.
Решение может не приводить к проблемам в течение какого-то времени и при ограниченном его применении, но определить заранее, к каким проблемам решение приведёт в принципе, нельзя. А значит, нет способа, за исключением застоя, избежать непредвиденных проблем, возникающих из новых решений. Но и сам застой нестабилен, о чём свидетельствует всякое статичное общество в истории. Мальтус мог не знать, что малоизвестный, недавно открытый элемент уран в итоге будет связан с выживанием цивилизации, так же как мой коллега мог не знать, что ещё при его жизни с помощью цветных телевизоров будут каждый день спасать жизни.
Таким образом, не существует стратегии расходования ресурсов, которая позволила бы предотвратить беду, как нет и политической системы, в которой бывают только хорошие лидеры и хорошие курсы, или научного метода, выдающего только хорошие теории. Но существуют идеи, которые наверняка приведут к катастрофам, и одна из них, что характерно, идея о том, что будущее можно научно спланировать. Единственная рациональная стратегия во всех трёх случаях — судить об институтах, планах и образах жизни в соответствии с тем, насколько хорошо они исправляют ошибки: устраняют плохие курсы и лидеров, вытесняют неразумные объяснения, восстанавливаются после катастроф.
Например, одним из триумфальных достижений прогресса в двадцатом веке было открытие антибиотиков, что позволило победить многие виды чумы и эндемических заболеваний, от которых с незапамятных времён страдали и умирали люди. Однако практически с самого начала критики «так называемого прогресса» указывали на то, что эта победа может быть лишь временной из-за эволюции устойчивых к антибиотикам патогенных микроорганизмов. Это часто выставляется как официальное обвинение — в широком контексте — Просвещения в высокомерии. Нам говорят: достаточно проиграть одну битву в этой войне науки против бактерий и их оружия — эволюции, и мы будем обречены из-за того, что другой наш «так называемый прогресс» — дешёвые авиаперелёты, мировая торговля, огромные города — делает нас более уязвимыми, чем когда-либо, перед глобальной пандемией, которая может превзойти по своей разрушительной силе эпидемию чумы, поразившую Европу в четырнадцатом веке, и даже может привести к вымиранию человека.
Но ведь любая победа носит временный характер. Поэтому ссылаться из-за этого на прогресс как на «так называемый прогресс» — философия несостоятельная. Говорить, что надежда на определённый вид антибиотиков нестабильна, может только человек, который ожидает стабильного образа жизни. Но в действительности такого нет. Стабилен только прогресс.
Пророческий подход показывает только, что можно сделать, чтобы отсрочить беду, а именно повысить стабильность: резко сократить и рассредоточить население, усложнить перемещение по миру, пресекать контакты между различными географическими областями. Общество, которое так поступит, не сможет позволить себе тот тип научного исследования, который привёл бы к открытию новых антибиотиков. Его члены будут надеяться, что смогут защитить себя своим образом жизни. Но отметим, что этот образ жизни в своё время не смог предотвратить эпидемию чумы, хотя такая попытка и была предпринята. И от рака он не излечит.
Тактики предотвращения и отсрочки полезны, но они не могут быть более чем маленькой частью жизнеспособной стратегии будущего развития. Проблемы неизбежны, и рано или поздно выживание будет зависеть от того, как мы проявим себя в случае провала тактик предотвращения и отсрочки. Очевидно, нам нужно двигаться в направлении поиска методов лечения. Но это только для болезней, которые нам уже известны. Поэтому нужно иметь задел на случай непредсказанных и непредсказуемых неудач. Для этого необходимо большое, активное исследовательское сообщество, заинтересованное в объяснении и решении проблем. Нужны средства для его финансирования и технологические мощности для реализации открытий.
Это верно и для проблемы изменения климата, о которой сейчас много спорят. Мы видим перспективу того, что выбросы углекислого газа, связанные с применением различных технологий, повлекут рост средней температуры атмосферы, что проявится в виде засух, повышения уровня моря, подрыве сельского хозяйства, вымирании некоторых видов. Прогнозируется, что всё это перевесит плюсы применения технологий, такие как повышение урожайности, общее увеличение жизни растений и сокращение смертности людей от холода в зимние периоды. Триллионы долларов и огромные объёмы законодательных и институциональных изменений, рассчитанных на сокращение этих выбросов, в настоящий момент ждут результатов моделирования климата планеты на самых мощных компьютерах и прогнозов экономистов о том, какой с учётом этих вычислений может быть экономика следующего века. В свете вышеприведённой дискуссии нужно отметить несколько моментов, связанных с этим спором и собственно с проблемой.
Во-первых, до сих пор нам очень везло. Независимо от того, насколько точны господствующие сейчас модели изменения климата, с точки зрения законов физики и суперкомпьютеры, и сложное моделирование тут не нужны. Нет никаких сомнений в том, что такие выбросы должны в конечном счёте привести к повышению температуры, и это непременно нанесёт вред. Тогда давайте посмотрим: что если бы соответствующие параметры были немного другими, а катастрофа пришлась, скажем, на 1902 год, когда жил Веблен и когда выбросы углекислого газа уже превысили объёмы, которые были до Просвещения. Получается, что катастрофа случилась бы раньше, чем кто-либо смог бы её предсказать или вообще понять, что происходит. Уровень моря поднялся бы, сельское хозяйство было бы подорвано, люди начали бы умирать миллионами, и дальше было бы только хуже. И главной проблемой было бы не как предотвратить это всё, а что делать в такой ситуации.
Суперкомпьютеров тогда не было. Из-за неудачных попыток Бэббиджа и недооценки этой области научным сообществом — а возможно, прежде всего из-за недостатка средств — вообще не было столь необходимой технологии автоматизированных вычислений. Обойтись механическими калькуляторами или кучей операторов-людей не получилось бы. Но что ещё хуже: тогда практически мало кто занимался физикой атмосферы. Вообще каких бы то ни было физиков было гораздо меньше, чем сейчас работает только над проблемой изменения климата. В 1902 году физики для общества были роскошью, как в 1970-х цветные телевизоры. Чтобы восстановиться после катастрофы, обществу понадобилось бы больше научных знаний и более совершенных технологий, другими словами, понадобилось бы больше благосостояния. Например, в 1900 году, чтобы построить волнолом для защиты берега низменного острова, потребовались бы такие огромные ресурсы, что позволить себе это могли только те острова, на которых было много дешёвой рабочей силы или которые обладали немалым благосостоянием, как Нидерланды, большая часть населения которых уже жила ниже уровня моря благодаря технологии строительства дамб.
Это трудная задача, которая хорошо поддаётся автоматизации. Но в том положении люди не могли подойти к ней с этой стороны. Соответствующая техника не обладала достаточной мощностью, надёжностью, была дорогой, её невозможно было произвести в больших количествах. Только что провалилась попытка строительства Панамского канала[108], тысячи жизней были положены на это, потрачены были огромные средства, и всё из-за неподходящих технологий и научных знаний. Ко всему прочему мир в целом обладал по сегодняшним стандартам очень маленьким достатком, чтобы решать такие проблемы. Сегодня проект по защите берегов вполне будет под силу практически любой прибрежной нации, и у неё в запасе будут десятилетия на то, чтобы найти другие решения проблемы повышения уровня моря.
А если решения не появятся, что тогда? Это вопрос совершенно другого типа, который приводит ко второму моему наблюдению о споре, связанном с изменением климата. Оно заключается в том, что моделирование на суперкомпьютерах даёт (условные) предсказания, а экономические прогнозы — это практически чистое пророчество. Ведь можно ожидать, что действия человека в отношении климата в будущем сильно зависят от того, насколько удачно люди будут создавать новые знания для решения возникающих проблем. Таким образом, сравнение предсказаний с пророчеством приведёт к всё той же старой ошибке.
Опять же предположим, что в 1902 году катастрофа всё-таки произошла. Посмотрим, что стоило бы учёным спрогнозировать, скажем, объёмы выбросов углекислого газа на двадцатый век. Исходя из (сомнительного) предположения о том, что энергопотребление будет повышаться примерно с такой же скоростью, как и раньше, они могли бы оценить рост выбросов. Но в эту оценку не вошло использование ядерной энергии. Они и не могли этого учесть, потому что радиоактивность тогда ещё только-только открыли, а использовать её для получения энергии стали только с середины века. Но предположим, что каким-то образом им удалось и это предвидеть. Тогда они могли бы изменить свой прогноз по выбросам углекислого газа и прийти к выводу, что их объём к концу века легко можно будет снизить до уровня меньшего, чем в 1902 году. Но опять же всё это только потому, что они вряд ли могли предвидеть кампанию против использования ядерной энергии, которая положила бы конец её распространению (как это ни парадоксально, исходя из доводов в защиту окружающей среды), прежде чем удалось бы значительно сократить выбросы, и так далее. Снова и снова научные предсказания теряли бы смысл из-за непредсказуемого фактора новых идей человека, как разумных, так и неразумных. То же самое окажется верным — даже ещё более верным — для прогнозов, которые делаются сегодня на наступивший век. Так я подошёл к своему третьему наблюдению о текущей дискуссии.
До сих пор точно неизвестно, насколько чувствительна температура атмосферы к концентрации углекислого газа, другими словами, насколько данное повышение концентрации может её увеличить. В этом есть политический момент, потому что от этого зависит актуальность проблемы: высокая чувствительность означает высокую актуальность, низкая — наоборот. К сожалению, из-за этого в политических дебатах доминирует второстепенный вопрос о том, насколько «антропогенным» (вызванным деятельностью людей) до сих пор был рост температуры. Это как если бы люди спорили о том, как лучше подготовиться к следующему урагану, приняв при этом, что готовиться нужно только к ураганам антропогенной природы. Такое впечатление, что все стороны предполагают: если окажется, что уровень моря вот-вот поднимется, сельское хозяйство будет подорвано, а многочисленные виды растений и животных погибнут из-за случайной флуктуации температуры, то нам лучше всего просто смириться с этим. Или если этот рост будет антропогенным только на две трети, нам не следует смягчать последствия оставшейся трети.
Пытаться предсказать, как в целом мы будем воздействовать на окружающую среду на протяжении следующего века, а затем подчинить все стратегические решения оптимизации этого предсказания, бесполезно. Мы не можем знать ни на сколько нужно сократить выбросы, ни каков будет результат этого, потому что мы не можем знать, какие ещё будут сделаны открытия, благодаря которым некоторые наши сегодняшние действия будут казаться мудрыми, некоторые — контрпродуктивными, а некоторые — неуместными, мы не можем знать, сколько в наших действиях будет чистой случайности или насколько она будет мешать им. Полезными могут оказаться тактики отсрочки начала предсказуемых проблем. Но они не отменят необходимости увеличивать способность вмешаться после того, как события пойдут не так, как мы предвидели, и должны исходить из этого увеличения. И так будет, если не с потеплением, обусловленным выбросами углекислого газа, то с чем-либо ещё.
Действительно, мы не предвидели катастрофу с глобальным потеплением. Я говорю «катастрофа», потому что господствующая теория заключается в том, что нам лучше всего предотвращать выбросы углекислого газа, тратя огромные суммы и накладывая строгие ограничения по всему миру, а также в том, что это уже катастрофа по любым разумным меркам. Я называю её непредвиденной, потому что мы сейчас понимаем, что она уже шла в 1971 году, когда я сидел на лекции Эрлиха. Он действительно говорил нам, что сельское хозяйство вскоре будет истощено быстрым изменением климата. Но только предполагалось, что это будет глобальное похолодание, вызванное смогом и наличием конденсационных следов от сверхзвуковых самолётов. Возможность потепления, вызванного выбросами газа, до этого уже рассматривалась некоторыми учёными, но Эрлих не считал её достойной упоминания. Всё свидетельствует о том, говорил он нам, что тенденция к общему похолоданию уже началась и что дальше последуют катастрофические эффекты, хотя в очень долгосрочной перспективе тенденция пойдёт в обратном направлении из-за промышленного «теплового загрязнения» (в настоящее время эффект от него как минимум в сто раз меньше, чем от глобального потепления, которое занимает наши умы).
Говорят, что болезнь лучше предупредить, чем потом лечить. Но это только если знать, что именно предупреждать. Никакими мерами не предупредить проблемы, которые пока никто не предсказал. Чтобы подготовиться к ним, мы разве что можем повысить способность вмешаться и всё исправить, если что-то пойдёт не так. Попытки полагаться на то, что нам удастся бесконечно избегать плохих исходов по чистой случайности, — просто гарантия того, что в итоге мы потерпим неудачу и у нас не будет средств для восстановления.
Сегодня мир гудит, обсуждая планы по стимулированию сокращения выбросов углекислого газа практически любой ценой. Но он должен гудеть гораздо сильнее, обсуждая планы по тому, как понизить температуру или как подстроиться под более высокую. Но не любой ценой, а эффективным и дешёвым способом. Некоторые такие планы заключаются, например, в разнообразных методах удаления углекислого газа из атмосферы, в генерации облаков над океанами, чтобы они отражали солнечный свет, в стимулировании водных организмов к поглощению большего объёма углекислого газа. Но в настоящее время в этих направлениях проводится очень мало исследований. На подобные проекты не выделяют суперкомпьютеров, под них не подписывают международные договоры, на них не тратят огромные суммы денег. Их роль в поиске решений этой или похожих проблем — не центральная.
И это опасно. Пока что нет серьёзных признаков того, что мы отступаем к стабильному образу жизни (что на самом деле будет означать достижение только подобия стабильности), но опасно само стремление. Ведь к чему мы тогда будем стремиться? К тому, чтобы затолкнуть будущий мир в наше представление о нём, бесконечно воспроизводить свой образ жизни, свои заблуждения и свои ошибки. Но если вместо этого мы решим отправиться в путешествие с неизвестным концом, подразумевающее создание и исследование, каждый шаг которого будет нестабилен, пока его не исправит следующий, — если это станет господствующей нравственной ценностью и стремлением нашего общества, тогда возвышение человечества, начало бесконечности, станет если не безопасным, то хотя бы стабильным.
Терминология
Возвышение человечества — начало бесконечности. Более того, эту книгу я писал под вдохновением в том числе и от «Возвышения человечества» Джейкоба Броновски.
Обеспечивать стабильность — это словосочетание можно понимать двояко, причём эти два его значения — давать кому-то то, что ему нужно, и не давать чему-то меняться — практически противоположны, и их часто путают.
Значения «начала бесконечности», встречающиеся в этой главе
— Отрицание (подобия) стабильности как стремления или ограничения на планирование.
Краткое содержание
Статичные общества в конце концов разваливаются, потому что из-за их характерной неспособности быстро создавать знания какая-нибудь проблема обязательно в итоге превратится в катастрофу. Поэтому аналогии между такими обществами и современной технологической цивилизацией Запада ошибочны. «Решающие факторы» в объяснении разных историй развития разных обществ, предложенные Марксом, Энгельсом и Даймондом, ложны: история — это история идей, а не механических следствий биогеографии. Стратегии, направленные на предотвращение предсказуемых катастроф, рано или поздно терпят неудачу, причём они даже взяться не могут за то, что невозможно предвидеть. Чтобы подготовиться к таким событиям, нам нужен быстрый прогресс в науке и технологиях и как можно большее благосостояние.
18. Начало
«Смотри, перед нами Земля. Но не вечный и единственный приют человечества, а всего лишь его колыбель, отправная точка бесконечного приключения. Ты должен принять решение [и положить конец статичному обществу, в котором живёшь]. Будущее людей в твоих руках…
[И это решение] означает конец Вечности… и начало Бесконечного Пути»
Айзек Азимов. «Конец вечности»[109] (The End of Eternity, 1955)Первым длину окружности Земли измерил астроном Эратосфен Киренский в третьем веке до нашей эры. Полученный им результат был достаточно близок к истинному значению, которое близко к 40 000 километров. На протяжении большей части истории это расстояние считалось огромным, но с приходом Просвещения это представление стало постепенно меняться, и сегодня Земля нам кажется маленькой. Этому главным образом способствовали два обстоятельства: во-первых, в астрономии были открыты колоссальные сущности, по сравнению с которыми наша планета действительно невообразима мала, и, во-вторых, благодаря технологиям стали обычными путешествия по миру и коммуникация с миром. Земля стала меньше как относительно Вселенной, так и относительно масштабов действий человека.
Таким образом, что касается географии Вселенной и нашего места в ней, доминирующий взгляд на мир избавился от некоторых парохиальных заблуждений. Мы знаем, что исследовали почти всю поверхность этой когда-то огромной сферы, но мы также знаем, что во Вселенной (а также в глубине Земли и под океанами) неисследованных мест осталось гораздо больше, чем можно было себе представить, находясь в плену у тех заблуждений.
Однако в том, что касается теоретических знаний, доминирующий взгляд на мир ещё не поднялся до ценностей Просвещения. Из-за ошибок и склонности к пророчеству до сих пор сохраняется предположение, что наши существующие теории дошли до предела того, что можно было узнать, или близки к нему — что мы почти достигли этой точки или находимся на полпути. Как заметил экономист Дэвид Фридман, многие люди считают, что если зарабатывать примерно в два раза больше, чем они сейчас, то этого дохода будет достаточно для удовлетворения нужд любого разумного человека и что суммы больше этой вряд ли принесут какую-то истинную пользу. С научным знанием всё так же, как и с благосостоянием: трудно себе представить, каково это — знать в два раза больше, чем сейчас, и если мы попытаемся предсказать это, то окажется, что мы вырисовываем следующие несколько десятичных знаков того, что мы уже знаем. Даже Фейнман сделал не свойственную ему ошибку в этом отношении, написав:
«Но мне кажется, что трудно рассчитывать на постоянную смену старого новым, скажем в ближайшие 1000 лет. Не может быть, чтобы это движение вперёд продолжалось вечно и чтобы мы могли открывать всё новые и новые законы. Ведь если бы это было так, то нам быстро надоело бы всё это бесконечное наслоение знаний… Нам необыкновенно повезло, что мы живём в век, когда ещё можно делать открытия. Это как открытие Америки, которую открывают раз и навсегда».
«Характер физических законов»[110] (1965)Среди прочего Фейнман забыл, что само понятие «закона» природы не высечено на камне раз и навсегда. Как я говорил в главе 5, до Ньютона и Галилея оно было другим и может снова измениться. Понятие уровней объяснения датируется двадцатым веком, и оно тоже изменится, если я прав в том, что, как я предположил в главе 5, есть фундаментальные законы, которые выглядят эмерджентными относительно микроскопической физики. В более общем смысле, самые фундаментальные открытия всегда не просто состояли из новых объяснений, но и использовали новые способы объяснения, и так будет всегда. Что же касается того, что нам бы это быстро надоело, это просто пророчество, что критерии для оценки проблем не будут эволюционировать так же быстро, как сами проблемы; но здесь есть только один аргумент — недостаток воображения. Даже Фейнман не может обойти тот факт, что будущее пока представить себе нельзя.
В будущем избавляться от парохиальности такого типа нам ещё придётся не раз. Уровень знаний, благосостояния, вычислительных мощностей или физического масштаба, который кажется безумно огромным в любой заданный момент, позже будет умилять тем, какой он маленький. Однако мы никогда не достигнем ничего похожего на состояние без проблем. Как и постояльцы отеля «Бесконечность», мы никогда не сможем сказать, что «почти достигли той точки».
Существует две версии того, что подразумевается под словами «почти достигли той точки». В удручающей версии знание ограничено законами природы или сверхъестественными директивами, а прогресс был временной фазой. И хотя по моему определению это явный пессимизм, он проходил под разнообразными названиями, включая «оптимизм», и входил в большинство мировоззрений в прошлом. В жизнерадостной версии всё оставшееся неведение вскоре будет устранено или ограничено незначительными областями. Эта версия оптимистична по своей форме, но чем больше присматриваешься, тем более пессимистичнее она становится по сути. В политике, например, утописты обещают, что конечное число уже известных изменений может привести к усовершенствованному состоянию человека, и это хорошо известный рецепт догматизма и тирании.
Если взять физику, представьте себе, что Лагранж оказался прав и «систему мира можно открыть лишь однажды» или что Майкельсон не ошибся и будущие открытия физики, ещё не сделанные в 1894 году, нужно искать где-то около «шестого знака после запятой». Они утверждали, что знают, что любой, кто впоследствии заинтересуется тем, что лежит в основе этой «системы мира», будет бесполезно копаться в непостижимом. И любой, кого когда-либо заинтересует какая-нибудь аномалия и кто начнёт подозревать, что в каком-то фундаментальном объяснении содержится заблуждение, будет ошибаться.
Будущему Майкельсона — нашему настоящему — недоставало объяснительных знаний настолько, насколько нам уже трудно представить. Огромный спектр известных ему явлений, таких как гравитация, свойства химических элементов и горение Солнца, ещё оставались необъяснёнными. В сущности он утверждал, что эти явления будут только списком фактов и эмпирических правил, которые нужно будет запоминать, так и не поняв и не засомневавшись в них. Любой такой рубеж фундаментального знания, который существовал в 1894 году, представлялся барьером, за которым ничто больше не подлежало объяснению. Не было и не должно было существовать таких понятий, как внутренняя структура атомов, динамика пространства и времени, такого предмета, как космология, не было бы объяснения уравнениям, которым подчиняется гравитация или электромагнетизм, не было бы связи между физикой и теорией вычислений… Самой глубокой структурой мира оказывалась необъяснимая, антропоцентрическая граница, совпадающая с границами того, что, по мнению физиков 1894 года, они понимали. И ничто внутри этой границы — как, скажем, существование силы тяжести — никогда не могло оказаться в корне ложным.
В лаборатории, которую Майкельсон открывал, не должно было быть открыто ничего очень важного. Каждое поколение студентов, которые там учились, вместо того чтобы стремиться понять мир глубже, чем их учителя, могли бы надеяться не более чем на то, чтобы копировать их или в лучшем случае открыть седьмой знак после запятой у какой-нибудь константы с уже известным шестым знаком. (Но как? Наиболее чувствительные инструменты сегодня опираются на фундаментальные открытия, сделанные после 1894 года!) Их система мира навсегда осталась бы маленьким, замёрзшим островком объяснения в океане непостижимости. Майкельсоновы «фундаментальные законы и факты физической науки», вместо того чтобы быть началом бесконечности дальнейшего понимания, какими они стали в реальности, виделись как последний вздох разума в этой области.
Я сомневаюсь в том, что Лагранж и Майкельсон считали себя пессимистами. Но их пророчества влекли за собой мрачную установку: что ни делай, дальнейшего понимания не придёт. Однако случилось так, что оба они сделали открытия, которые могли привести их к тому самому прогрессу, возможность которого они отрицали. А ведь они должны были искать его! Но редко кто может проявить творческие способности в тех областях, к которым относится с пессимизмом.
В конце главы 13 я заметил, что желательное будущее — то, в котором мы переходим от заблуждения к менее тяжёлому (менее ошибочному) заблуждению. Я часто думал, что природу науки можно было бы понять лучше, если бы мы называли теории «заблуждениями» с самого начала, а не после того, как откроем следующие за ними. Таким образом, мы могли бы сказать, что заблуждение Эйнштейна о гравитации является усовершенствованным заблуждением Ньютона, а оно — усовершенствованным заблуждением Кеплера. Заблуждение неодарвинизма об эволюции — это усовершенствованное заблуждение Дарвина, а оно — Ламарка. Если бы люди так себе это представляли, то, возможно, никому бы не надо было напоминать, что наука не утверждает ничего безошибочного, окончательно и бесповоротно.
Возможно, практичнее было бы подчеркнуть ту же истину, выстроив рост знания (всего знания, а не только научного) как непрерывный переход от проблем к более интересным проблемам, а не от проблем к решениям или от теорий к более удачным теориям. Это положительное понимание «проблем», которое я подчёркивал в главе 1. Благодаря открытиям Эйнштейна наши текущие проблемы в физике воплощают в себе больше знания, чем проблемы, с которыми сталкивался сам Эйнштейн. Его проблемы произрастали из открытий Ньютона и Евклида, а большая часть проблем, занимающих умы физиков сегодня, происходит из открытий физики двадцатого века и без них были бы непостижимыми загадками.
То же верно и для математики. Математические теоремы, просуществовав некоторое время, редко опровергаются, но что совершенствуется, так это понимание математиков о том, что является фундаментальным. Абстракции, которые изначально изучали в отдельности, теперь понимают как аспекты более общих абстракций или соотносят их с другими абстракциями так, как никто и предвидеть не мог. Таким образом, прогресс в математике всегда идёт от проблем к более интересным проблемам, как и прогресс во всех других областях.
Оптимизм и разум несовместимы с самонадеянностью, заключающейся в том, что наше знание уже «почти достигло той точки» в любом смысле, само или в своих основах. Однако всеохватывающий оптимизм всегда был редок, а вот соблазн пророческих заблуждений — силён. Но и исключения были всегда. Сократ, как известно, утверждал, что глубоко невежественен, а Поппер писал:
«Я полагаю, было бы ценно пытаться что-то узнать о мире даже в том случае, если бы наши попытки сообщали нам лишь о том, что мы не стали знать больше… Нам всем полезно помнить о том, что, хотя мы сильно различаемся между собой в том малом, что мы знаем, в нашем бесконечном невежестве все мы равны».
«Предположения и опровержения. Рост научного знания»[111]. (Conjectures and Refutations: the Growth of Scientific Knowledge, 1963)Бесконечное невежество — это необходимое условие существования бесконечного потенциала для знаний. Не отрицая идею о том, что мы «почти достигли той точки», невозможно избежать догматизма, застоя и тирании.
В 1996 году журналист Джон Хорган в какой-то степени расшевелил общество своей книгой «Конец науки. Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки»[112] (The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age). В ней он утверждает, что конечная истина во всех фундаментальных областях науки — или по крайней мере такая её часть, сколько человеческое сознание когда-либо сможет охватить, — была уже открыта на протяжении двадцатого века.
Хорган писал, что изначально он считал, что наука «всегда будет развиваться — она бесконечна». Но он пришёл к противоположному убеждению за счёт (как это называю я) серии заблуждений и плохих аргументов. Его главным заблуждением был эмпиризм. Он считал, что науку от ненаучных областей, таких как литературная критика, философия или искусство, отличает то, что наука способна «решать задачи» объективно (сравнивая теорию с реальностью), а другие области могут производить только множественные, взаимно несравнимые интерпретации по какому бы то ни было вопросу. Он ошибался в обоих отношениях. Как я объяснял на страницах этой книги, объективная истина присутствует во всех этих областях, а вот законченности или безошибочности нет нигде.
Из несостоятельной философии «постмодернистской» словесной критики Хорган принимает её упрямую путаницу двух типов «неоднозначности», которая может существовать в философии и искусстве. Первый тип — «неоднозначность» множества верных значений, которые либо отражают намерение автора, либо существуют благодаря предсказательной силе идей. Второй — двусмысленность умышленного тумана, путаницы, неоднозначности толкования или внутреннего противоречия. Первое — это признак глубоких идей, а второе — глубокой глупости. Смешивая их, человек приписывает лучшим произведениям искусства и философии качества худших. Поскольку ввиду этого читатели, зрители и критики могут приписывать второму типу неоднозначности любое значение, какое захотят, несостоятельная философия заявляет, что то же самое верно для всего знания: все значения равны, и ни одно из них не является объективно верным. Тогда человек может выбрать полный нигилизм или рассматривать во всех этих областях всю «неоднозначность» как нечто хорошее. Хорган выбирает последнее: он называет искусство и философию «ироническими» направлениями, понимая под этим присутствие в высказывании множества конфликтующих значений.
Однако в отличие от постмодернистов Хорган считает, что естественные науки и математика — это блистательные исключения из всего этого. Только они способны давать не ироническое знание. Но существует также, заключает он, такое понятие, как ироническая наука — такая наука, которая не способна «давать ответы на вопросы», потому что по существу это просто философия или искусство. Ироническая наука может развиваться бесконечно, но ровно потому, что она никогда никаких задач не решает; она не открывает объективную истину. В ней у каждого своё представление о ценности. Таким образом, по Хоргану, будущее — за ироническим знанием, в то время как объективное знание уже достигло своих максимальных пределов.
Хорган исследует некоторые из открытых вопросов фундаментальной науки и все их в соответствии со своим тезисом называет либо «ироническими», либо не фундаментальными. Но этот вывод стал неизбежным следствием из его предположений. Рассмотрим перспективу любого будущего открытия, которое будет составлять фундаментальный прогресс. Мы не можем знать, что это, но несостоятельная философия уже может разбить его, в принципе, на новое эмпирическое правило и новую «интерпретацию» (или объяснение). Новое эмпирическое правило не может быть фундаментальным: это будет просто ещё одно уравнение. Разницу между ним и старым уравнением сможет увидеть только натренированный глаз. Новая «интерпретация» будет по определению чистой философией, а значит, должна быть «иронической». Согласно такому методу любой потенциальный прогресс можно заранее переинтерпретировать как непрогресс.
Хорган справедливо указывает на то, что, рассматривая его пророчество в контексте предыдущих несбывшихся пророчеств, нельзя доказать, что оно ложно. То, что Майкельсон ошибался насчёт достижений девятнадцатого века, а Лагранж — насчёт достижений семнадцатого, не означает, что Хорган ошибается насчёт достижений двадцатого века. Однако получается так, что наше текущее научное знание включает в себя необычное для истории число глубоких, фундаментальных проблем. Никогда раньше в истории человеческой мысли не было так очевидно, что наши знания настолько малы, а наше невежество — огромно. И таким образом, что необычно, пессимизм Хоргана не только является ошибочным пророчеством, но и противоречит существующему знанию. Например, проблемы фундаментальной физики сегодня имеют кардинально отличную структуру от той, что была в 1894 году. Хотя явления и теоретические вопросы, которые мы теперь признаём вестниками будущих революционных объяснений, тогда уже были известны физикам, их важность не осознавалась. Сложно было провести различие между этими вестниками и аномалиями, которые в итоге прояснятся с помощью существующих сегодня объяснений и тонкой настройки «шестого знака после запятой» или младших членов в формуле. Но сегодня такого оправдания отрицанию того, что некоторые из наших проблем носят фундаментальный характер, нет. Лучшие из наших теорий говорят о глубоких несоответствиях между ними и реальностью, которую они должны объяснять.
Один из самых вопиющих примеров этого — то, что в физике сейчас существует две фундаментальные «системы мира» — квантовая теория и общая теория относительности — и что они принципиально не согласуются друг с другом. Эта несогласованность — известная как проблема квантовой гравитации — характеризуется по-разному, в соответствии со множеством предложений по её решению, провести в жизнь которые так и не удалось. Один из аспектов — старый конфликт между дискретным и непрерывным. Решение, которое я описал в главе 11, в терминах непрерывных облаков взаимозаменяемых экземпляров частицы с различными дискретными свойствами проходит только в том случае, если пространство-время, в котором это происходит, само непрерывно. Но если на пространство-время влияет гравитация облака, то оно приобретёт дискретные характеристики.
В космологии за несколько лет после выхода «Конца науки» и написанной мною вскоре после этого «Структуры реальности» случился революционный прогресс. В то время во всех жизнеспособных космологических теориях присутствовало объяснение, что расширение Вселенной постепенно замедляется из-за гравитации с тех пор, как произошёл Большой взрыв, и продолжит замедляться в будущем. Космологи пытались определить, достаточно ли будет этой скорости для вечного расширения Вселенной, несмотря на замедление, как у снаряда, начальная скорость которого выше второй космической, или она в итоге сколлапсирует в ходе Большого сжатия. Считалось, что есть только две эти возможности. Я говорил о них в «Структуре реальности», потому что они были существенны для ответа на вопрос, есть ли граница числа вычислительных шагов, которые может выполнить компьютер за время жизни Вселенной? Если есть, то физика налагает ограничение на количество знаний, которые можно создать, потому что создание знаний есть одна из форм вычислений.
Первое, что приходит на ум, — неограниченное создание знаний возможно только во вселенной, которая не разрушится вновь. Однако в ходе анализа оказалось, что верно обратное: жители вечно расширяющихся вселенных рано или поздно израсходуют всю энергию. В то же время космолог Фрэнк Типлер выяснил, что в определённых типах коллапсирующих вселенных сингулярность Большого сжатия подходит для выполнения трюка с ускорением, который применялся в отеле «Бесконечность»: бесконечная последовательность вычислительных шагов может быть выполнена за конечное время до наступления сингулярности — за счёт нарастания приливных эффектов при гравитационном коллапсе. Для обитателей, которым в конечном счёте придётся загрузить свою личность в компьютеры, построенные на принципе чистых приливных явлений, такая вселенная будет вечной, потому что они будут думать всё быстрее и быстрее, без конца, по мере её сжатия, а их воспоминания будут храниться во всё уменьшающихся объёмах, так что время обращения к ним также можно будет сокращать без конца. Типлер назвал такие вселенные «точками омега». В то время наблюдательные данные соответствовали тому, что наша реальная Вселенная принадлежит к такому типу.
Небольшая часть той революции, которая в настоящее время происходит в космологии, заключается в том, что модели «точки омега» были отвергнуты путём наблюдений. Данные, включая замечательную серию исследований сверхновых в удалённых галактиках, вынудили космологов сделать неожиданный вывод, что Вселенная не только будет расширяться всегда, но скорость её расширения уже не снижается, а возрастает. Что-то противодействует её гравитации!
Мы не знаем, что именно. До появления разумного объяснения неизвестная причина была названа «тёмной энергией». Существует несколько предположений относительно того, что это может быть, включая эффекты, которые лишь создают видимость ускорения. Но на сегодняшний день наилучшая рабочая гипотеза — в том, что в уравнениях, описывающих гравитацию, действительно есть дополнительный член того вида, который Эйнштейн рассматривал в 1915 году, а затем отбросил, поняв, что не может разумно объяснить его. Его ещё раз предлагали в 1980-х годах как возможный эффект квантовой теории поля, но опять же нет теории о физическом значении такого члена, которая бы, например, смогла предсказать его величину. Проблема, связанная с природой и действием тёмной энергии, немаловажна, но и ничто в ней не предполагает вечно необъяснимую тайну. Вот так всё обстоит в космологии — якобы фундаментально законченной области науки.
В зависимости от того, чем окажется тёмная энергия, вполне вероятно, что мы сможем в далёком будущем овладеть ею как источником энергии, который позволит создавать знания вечно. Из-за того, что эту энергию придётся собирать на всё больших расстояниях, вычисления будут становиться всё медленнее. Зеркально относительно того, что случилось бы в космологиях точки омега, обитатели Вселенной не заметят никакого замедления, потому что опять же они будут воплощены как компьютерные программы, общее число шагов которых будет неограниченным. Таким образом, тёмная энергия, которая исключила один сценарий неограниченного роста знания, буквально даёт движущую силу для другого.
Новые космологические модели описывают вселенные, бесконечные в своих пространственных размерах. Из-за того, что Большой взрыв произошёл конечное время назад, и из-за конечности скорости света, мы можем видеть только конечную часть бесконечного пространства, но эта часть всё время растёт. Таким образом, в конечном итоге перед нами предстанут ещё более невероятные явления. Когда весь объём, который мы можем увидеть, станет в миллион раз больше, чем сейчас, мы увидим вещи, вероятность существования которых в пространстве, каким оно нам представляется сегодня, составляет одну миллионную. Всё, что возможно с физической точки зрения, нам в итоге откроется: часы, появляющиеся сами по себе; астероиды, которые весьма напоминают Уильяма Пейли; всё что угодно. Согласно господствующей теории всё это существует и сегодня, но настолько далеко от нас, что свет оттуда до нас ещё не дошёл — пока что.
По мере своего распространения свет тускнеет: фотонов на единицу площади становится меньше. Это означает, что для обнаружения заданного объекта на ещё больших расстояниях нужны ещё большие телескопы. Поэтому может быть предел тому, насколько далёким — и насколько маловероятным — будет явление, которое мы когда-либо сможем увидеть. Кроме одного типа явления: начала бесконечности. В частности, любая цивилизация, которая неограниченно колонизирует Вселенную, в итоге доберётся и до нас.
А значит, единое бесконечное пространство может сыграть роль бесконечного числа вселенных, постулированных в антропных объяснениях совпадений в рамках тонкой настройки. В некотором отношении оно может сыграть эту роль лучше: если вероятность образования такой цивилизации не равна нулю, в пространстве должно быть бесконечно много таких цивилизаций, и в конце концов они встретятся друг с другом. Если бы они могли оценить эту вероятность теоретически, они смогли бы проверить антропное объяснение.
Более того, антропные аргументы не только могут обойтись без всех этих параллельных вселенных[113], они могут обойтись и без вариантных законов физики. Если вспомнить главу 6, то все математические функции, проявляющиеся в физике, принадлежат относительно узкому классу — это аналитические функции. У них есть замечательное свойство: если аналитическая функция не равна нулю хотя бы в одной точке, то во всей области определения она может проходить через ноль только в изолированных точках. То же может быть верным и для «вероятности существования астрофизиков», выраженной в виде функции, зависящей от физических констант. Нам мало что известно об этой функции, но мы знаем, что она не равна нулю как минимум для одного набора значений констант, а именно — нашего. А значит, мы также знаем, что она не равна нулю практически для любых значений. Можно полагать, что она невообразимо мала практически для всех наборов значений входных параметров, но тем не менее нулю не равна. И значит, практически для любых констант в одной нашей Вселенной астрофизиков должно быть бесконечно много.
К сожалению, в этом месте антропное объяснение тонкой настройки отменяет само себя: астрофизики существуют независимо от того, есть тонкая настройка или нет. Таким образом, в новой космологии антропный аргумент тем более не может объяснить тонкую настройку. И поэтому он не может решить парадокс Ферми — «Где они?». Он может оказаться необходимой частью объяснения, но никогда сам по себе ничего не объяснит. Кроме того, как я показал в главе 8, любая теория, включающая в себя антропный аргумент, должна предоставить меру для определения вероятностей в бесконечном множестве сущностей. Как это сделать в пространственно бесконечной вселенной, в которой, как полагают сейчас космологи, мы живём, неизвестно.
На самом деле этот вопрос ещё шире. Например, по отношению к мультивселенной существует так называемый «аргумент о квантовом самоубийстве». Предположим, вы хотите выиграть в лотерею. Вы покупаете билет и настраиваете устройство, которое автоматически убьёт вас во сне, если вы проиграли. Тогда во всех вариантах истории, в которых вам удалось проснуться, вы выиграли. Если вас некому оплакивать или если у вас нет других причин предпочитать, чтобы на большую часть вариантов развития событий ваша преждевременная смерть никак не повлияла, вам удастся получить нечто задаром, с «субъективной достоверностью», как её называют защитники этого аргумента. Однако такой способ применения вероятностей не следует непосредственно из квантовой теории, в отличие от обычного. Для него требуется дополнительное предположение, а именно, что при принятии решений нужно игнорировать те истории, в которых нет лица, принимающего решения. Это положение тесно связано с антропными аргументами. Опять же мы не очень хорошо понимаем теорию вероятностей для таких случаев, но мне кажется, что это предположение ложно.
Связанное с этим допущение появляется в так называемом аргументе о симуляции, наиболее убедительным сторонником которого является философ Ник Бостром. Аргумент предполагает, что в отдалённом будущем вся Вселенная, как мы её знаем, будет смоделирована на компьютерах (возможно, для научных или исторических исследований) множество раз — возможно, бесконечно много раз. Поэтому практически все экземпляры нас находятся в этих симуляциях, а не в исходном мире. И поэтому мы сами почти наверняка живём в симуляции. Так излагают эту точку зрения её сторонники. Но допустимо ли приравнивать «большую часть экземпляров» к «почти достоверности»?
В качестве намёка на то, почему это может быть не так, рассмотрим мысленный эксперимент. Пусть физики открыли, что пространство на самом деле многослойно, как слоёное тесто, причём число слоёв варьируется в зависимости от места; в некоторых местах слои расщепляются, а с ними — и их содержимое. Но содержимое у всех слоёв одинаковое. Значит, хотя мы этого и не чувствуем, экземпляры нас расщепляются и сливаются по мере нашего передвижения. Допустим, в Лондоне у пространства миллион слоёв, а в Оксфорде — только один. Я часто езжу из одного города в другой, и вот однажды я просыпаюсь и не могу вспомнить, в каком из них нахожусь. Вокруг темно. Должен ли я считать, что с гораздо большей вероятностью нахожусь в Лондоне, просто потому, что в Лондоне экземпляров меня в принципе просыпается в миллион раз больше, чем в Оксфорде? Думаю, нет. В этой ситуации ясно, что подсчёт числа экземпляров себя не укажет на вероятность, которую следует использовать при принятии решения. Нужно считать не экземпляры, а истории. В квантовой теории законы физики говорят нам, как подсчитать истории с помощью меры. В случае со множеством симуляций мне не известно ни одной хорошей идеи относительно какого бы то ни было способа их подсчёта: этот вопрос открыт. Но я не понимаю, почему повторение одной и той же симуляции меня миллион раз должно в каком бы то ни было смысле «повышать вероятность» того, что я симуляция, а не оригинал. А что если для представления каждого бита информации в памяти в одном компьютере используется в миллион раз больше электронов, чем в другом? Окажусь ли я с большей вероятностью «в» первом компьютере, чем «во» втором?
Аргументом о симуляции поднимается и ещё один вопрос: будут ли Вселенную, как мы её знаем, в будущем действительно симулировать часто? Не аморально ли это? Мир в том виде, в котором он сегодня существует, содержит слишком много страданий, и кто бы ни запускал эту симуляцию, на его совести будет воссоздание всего этого. Или не будет? Являются ли два идентичных экземпляра квалиа тем же самым, что и один? Если это так, то создание симуляции не будет безнравственным, не больше чем безнравственно чтение книги о том, как кто-то страдал в прошлом. Но в таком случае насколько должны отличаться две симуляции человека, чтобы их можно было в нравственных целях начать считать двумя людьми? И снова мне не известно ни одного хорошего ответа на эти вопросы. Я подозреваю, что на них позволит ответить только объяснительная теория, из которой также будет следовать искусственный интеллект.
А вот связанный с этим, но более сильный нравственный вопрос. Возьмём мощный компьютер и с помощью квантового генератора случайных чисел присвоим каждому биту случайным образом значение 0 или 1. (Это означает, что 0 и 1 возникают в историях с равной мерой.) В этот момент всё возможное содержимое памяти компьютера существует в мультивселенной. Поэтому с необходимостью должны присутствовать истории, в которых в компьютере содержится программа, реализующая искусственный интеллект, — а на самом деле все такие возможные программы во всех возможных состояниях, вплоть до размера, который может поместиться в памяти компьютера. Некоторые из них являются достаточно точным представлением вас, живущих в среде виртуальной реальности, которая грубо напоминает ваше реальное окружение. (У современных компьютеров не хватает памяти для того, чтобы точно смоделировать реалистичную окружающую среду, но, как я говорил в главе 7, я уверен, что этой памяти больше чем достаточно, чтобы смоделировать человека.) Там также есть люди, страдающие, как это только возможно. Итак, вопрос заключается в том, будет ли неправильным включить компьютер и сделать так, что он будет выполнять все эти программы одновременно в разных вариантах истории? Будет ли это самым ужасным преступлением в истории человечества? Или это просто не рекомендуется делать, потому что общая мера всех историй, в которых есть страдание, очень мала? Или это безобидно и тривиально?
Ещё более сомнительный пример рассуждения антропного типа — это аргумент Судного дня. В нём ожидаемая продолжительность жизни нашего вида оценивается в предположении, что среднестатистический человек стоит, грубо говоря, где-то в середине ряда всех людей. Значит, следует ожидать, что общее число тех, кто когда-либо будет жить, примерно в два раза больше числа тех, кто уже жил. Конечно, это пророчество и уже только по этой причине, наверно, не может быть веским аргументом, но я попробую вкратце рассмотреть его в его же собственных понятиях. Во-первых, его вообще нельзя применять, если общее число людей будет бесконечным, ведь в таком случае каждый, кто жил, будет стоять необычайно близко к началу этого ряда. Таким образом, если уж на то пошло, этот аргумент предполагает, что мы стоим у начала бесконечности.
Кроме того, сколько живёт человек? Вскоре — в течение нескольких поколений — мы избавимся от болезней и старения, а технологии смогут предотвращать смерть в результате убийства или от несчастных случаев за счёт создания резервных копий состояний мозга, которые можно будет загружать в новый, чистый мозг идентичного тела, если человек умрёт. Как только такая технология будет доступна, люди будут считать, что не создавать резервные копии себя часто — гораздо глупее, чем сейчас не создавать резервные копии компьютерных дисков. Эволюции уже будет достаточно, чтобы гарантировать это, потому что те, кто не делает резервных копий себя, постепенно вымрут. Поэтому может быть только один исход: фактическое бессмертие всей популяции человека, причём теперешнее поколение — одно из последних, у которого будут короткие жизни. В таком случае если у нашего вида тем не менее будет конечная продолжительность жизни, то знание, сколько всего будет жить людей, никак не ограничит эту продолжительность сверху, потому что оно не может сказать нам, как долго потенциально бессмертные люди будущего успеют прожить до наступления предсказанной катастрофы.
В 1993 году математик Вернор Виндж написал важное эссе под названием «Технологическая сингулярность» (The Coming Technological Singularity), в котором он оценил, что где-то в течение тридцати лет предсказать будущее технологий станет невозможно — это событие теперь называют просто сингулярностью. Виндж связывал приближающуюся сингулярность с реализацией искусственного интеллекта, и последующее обсуждение строилось на этом. Безусловно, я надеюсь, что к тому времени искусственный интеллект будет реализован, но пока ничто не указывает на теоретический прогресс, который, как я считаю, должен появиться прежде. С другой стороны, я не вижу причины выделять искусственный интеллект как ломающую стереотипы технологию: у нас уже есть миллиарды людей.
Большинство защитников сингулярности считают, что вскоре после прорыва искусственного интеллекта будет построен сверхчеловеческий мозг и что тогда, как говорит Виндж, «эре человека придёт конец». Но мои доводы, касающиеся универсальности человеческого мышления, исключают такую возможность. Поскольку люди уже обладают способностью объяснить и сконструировать всё что угодно, они уже могут перешагнуть через своё парохиальное происхождение, поэтому такого понятия, как сверхчеловеческое мышление, быть не может. Может только быть дальнейшая автоматизация, которая позволит быстрее осуществлять существующий тип человеческого мышления, с большим объёмом оперативной памяти, с передачей фаз «работы в поте лица» автоматам (не искусственному интеллекту). Многое из этого уже осуществилось с появлением компьютеров и другой техники, а также с общим ростом благосостояния, и в результате людей, которые способны тратить время на то, чтобы думать, стало больше. И можно ожидать, что так будет продолжаться. Например, появятся ещё более эффективные интерфейсы взаимодействия человека с компьютером, что, вне сомнений, увенчается приставками для мозга. Но такие задачи, как поиск в Интернете, никогда не будут выполняться супербыстрым искусственным интеллектом, сканирующим миллиарды документов творчески, ища смысл, потому что этот интеллект не захочет выполнять такую работу — так же, как и человек. А искусственные учёные, математики и философы не будут обладать понятиями или аргументами, которые не дано понять людям. Универсальность предполагает, что во всех значимых смыслах между людьми и искусственным интеллектом никогда не будет другого отношения, кроме как отношения равенства.
Аналогично, часто предполагается, что сингулярность — это момент беспрецедентного потрясения и опасности, так как инновации начинают появляться слишком быстро и люди не могут угнаться за ними. Но это — парохиальное заблуждение. На протяжении первых нескольких столетий эпохи Просвещения постоянно присутствовало чувство, что быстрое и ускоряющееся новаторство выходит из-под контроля. Но увеличивались и наши способности справляться с изменениями в технологиях, образе жизни, этических нормах и так далее и наслаждаться ими, при этом некоторые из антирациональных мемов, которые раньше саботировали нововведения, ослабевали и вымирали. В будущем, когда скорость внедрения инноваций также будет расти просто за счёт растущей тактовой частоты и выработки приставок мозга и искусственного интеллекта, наша способность справляться с этим будет расти с такой же скоростью или ещё быстрее: если бы все мы вдруг смогли думать в миллион раз быстрее, никто бы не чувствовал, что бежит впереди других. Поэтому я считаю, что понимать сингулярность как своего рода разрыв — ошибка. Знание продолжит расти экспоненциально или даже быстрее, что само по себе достаточно поразительно.
Экономист Робин Хэнсон предположил, что в истории нашего вида было несколько сингулярностей, таких как сельскохозяйственная и промышленная революции. Возможно, по такому определению «сингулярностью» было даже ранее Просвещение. Кто мог предсказать, что пережившие гражданскую войну в Англии — кровавую резню религиозных фанатиков и абсолютного монарха — и видевшие победу религиозных фанатиков в 1651 году также увидят и мирное рождение общества, главными характеристиками которого были свобода и разум? Королевское (научное) общество, например, было основано в Великобритании в 1660 году — и это было достижение, которое вряд ли можно было себе представить поколением раньше. Рой Портер отмечает 1688 год как начало английского Просвещения. Это дата «Славной революции», начала преимущественно конституционного правления, а также многих других рациональных реформ, которые были частью этого более глубокого и поразительно быстрого сдвига в господствующем мировоззрении.
Далее, момент времени, за который научное предсказание заглянуть не может, для разных явлений разный. Для каждого явления это момент, в который создание нового знания может начать иметь существенное значение в плане того, что мы пытаемся предсказать. Поскольку наши оценки этого момента тоже лежат в пределах горизонта того же типа, нам действительно следует понимать все свои предсказания с неявно включённой в них оговоркой «если не будет создано новое знание».
Некоторые объяснения действительно простираются в удалённое будущее, далеко за горизонты, которые делают непредсказуемыми большую часть других понятий и явлений. Одно из них — сам этот факт. Другое — бесконечный потенциал объяснительного знания — предмет этой книги.
Пытаться предсказать что-то, выходящее за рамки соответствующего горизонта, бесполезно, это пророчество, а вот интересоваться тем, что за ним кроется, другое дело. Когда из интереса рождается гипотеза, получается размышление, которое также не является иррациональным. На самом деле оно жизненно важно. Каждая из тех глубоко непредвиденных новых идей, из-за которых будущее становится непредсказуемым, начинается как размышление. А каждое размышление начинается с проблемы: проблемы, связанные с будущим, тоже могут выходить за горизонт предсказания, а у проблем есть решения.
Что касается понимания физического мира, мы находимся во многом в том же положении, что и Эратосфен, когда измерял Землю: он мог сделать это необыкновенно точно и достаточно много знал об определённых аспектах нашей планеты, гораздо больше, чем его предки всего за несколько веков до него. Он наверняка знал о таком понятии, как смена времён года в тех областях Земли, о которых у него не было никаких данных. Но он также знал, что большая часть из всего того, что есть вокруг, лежит далеко за пределами его теоретических знаний, а также его физической досягаемости.
Мы пока не можем измерить Вселенную так же точно, как Эратосфен измерил Землю. И мы тоже знаем, насколько мы невежественны. Например, из универсальности нам известно, что искусственный интеллект можно реализовать путём написания компьютерных программ, но мы понятия не имеем, как написать (или развить) ту самую, подходящую. Мы не знаем, что такое квалиа, не знаем, как устроено творческое мышление, несмотря на то, что внутри каждого из нас проявляются и квалиа, и творческое мышление. Мы уже несколько десятилетий знаем, что есть генетический код, но не имеем понятия, почему он позволяет делать то, что позволяет. Мы знаем, что обе глубочайшие, доминирующие в физике теории наверняка неверны. Нам известно, что люди представляют фундаментальную важность, но мы не знаем, есть ли среди этих людей мы: мы можем потерпеть неудачу или сдаться, и у начала бесконечности окажутся разумные существа, происходящие из других мест Вселенной. И так далее — для всех упомянутых мною проблем и для многих других.
Уилер как-то предложил выписать на бумаге и разложить по полу все уравнения, которые могут быть основными законами физики. А затем, писал он, мы
«…встанем на ноги, взглянем на все эти уравнения, одни из которых, возможно, более многообещающие, чем другие, поднимем руку в повелительном жесте и отдадим приказание: „Летите!“ Ни одно из этих уравнений не обретёт крыльев, не поднимется в воздух и не полетит. Тем не менее Вселенная „летит“».
Ч. Мизнер, К. Торн, Дж. Уилер «Гравитация»[114] (1973)Мы не знаем, почему она «летит». Чем отличаются те законы, которые воплотились в физической реальности, от тех, которые не воплотились? Какая разница между компьютерной симуляцией человека (которая из-за универсальности должна быть человеком) и записью этой симуляции (которая не может быть человеком)? Когда одновременно запущено две одинаковые симуляции, то наборов квалиа два или один? Нравственных ценностей в два раза больше или нет?
Наш мир, который гораздо больше, цельнее, замысловатее и красивее, чем мир Эратосфена, мир, который мы понимаем и которым управляем до степени, которую древнегреческий учёный счёл бы божественной, тем не менее настолько же таинственен, хотя и открыт для нас, как его был для него тогда. Мы лишь кое-где зажгли пару свечей. И мы можем ёжиться в их ограниченном свете, пока что-то, выходящее за пределы нашего кругозора, не прекратит наши попытки, или мы можем сопротивляться. Мы уже понимаем, что живём не в бессмысленном мире. Законы физики имеют смысл: устройство мира поддаётся объяснению. Существуют более высокие уровни эмерджентности и более высокие уровни объяснения. Глубокие абстракции в математике, этике и эстетике нам доступны. Идеи с огромной предсказательной силой возможны. Но в мире ещё много всего, что для нас не имеет смысла и не будет его иметь, пока мы сами не поймём, как это выверить. Смерть не имеет смысла. Застой не имеет смысла. И капля чувства в бесконечном море бесчувственности — тоже. Обретёт ли в конечном итоге мир смысл, зависит от того, как будут думать и действовать люди — такие, как мы.
Многие испытывают к бесконечности антипатию различных типов. Но есть определённые вещи, которые нам выбирать не приходится. Существует только один способ мышления, который может привести к прогрессу или к выживанию в долгосрочной перспективе, и это поиск разумных объяснений путём творческого мышления и критики. Так или иначе, впереди у нас — бесконечность. И выбирать мы можем только, будет ли это бесконечное невежество или бесконечные знания, неверные суждения или правильные, жизнь или смерть.
Библиография
Что можно прочитать дополнительно
John Barrow, Frank Tipler, The Anthropic Cosmological Principle (Clarendon Press, 1986).
Susan Blackmore, The Meme Machine (Oxford University Press, 1999).
Nick Bostrom, ‘Are You Living in a Computer Simulation?’, Philosophical Quarterly 53 (2003).
David Deutsch, ‘Apart from Universes’, in S. Saunders, J. Barrett, A. Kent and D. Wallace, eds., Many Worlds?: Everett, Quantum Theory, and Reality (Oxford University Press, 2010).
David Deutsch, ‘It from Qubit’, in John Barrow, Paul Davies and Charles Harper, eds., Science and Ultimate Reality (Cambridge University Press, 2003).
David Deutsch, ‘Quantum Theory of Probability and Decisions’, Proceedings of the Royal Society A455 (1999).
David Deutsch, ‘The Structure of the Multiverse’, Proceedings of the Royal Society A458 (2002).
Richard Feynman, The Character of Physical Law (BBC Publications, 1965). (Фейнман Р. Характер физических законов. – М.: АСТ, Астрель, 2012.)
Richard Feynman, The Meaning of It All (Allen Lane, 1998).
Ernest Gellner, Words and Things (Routledge & Kegan Paul, 1979) (Геллнер Э. Слова и вещи. – М.: Издательство иностранной литературы, 1962.)
William Godwin, Enquiry Concerning Political Justice (1793).
Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid (Basic Books, 1979) (Хофштадтер Д. Гедель, Эшер, Бах. Эта бесконечная гирлянда. – М.: Бахрах-М, 2001).
Douglas Hofstadter, I am a Strange Loop (Basic Books, 2007).
Bryan Magee, Popper (Fontana, 1973).
Перикл. Погребальная речь.
Платон. Евтифрон.
Karl Popper, In Search of a Better World (Routledge, 1995).
Karl Popper, The World of Parmenides (Routledge, 1998).
Roy Porter, Enlightenment: Britain and the Creation of the Modern World (Allen Lane, 2000).
Martin Rees, Just Six Numbers (Basic Books, 2001).
Alan Turing, ‘Computing Machinery and Intelligence’, Mind, 59, 236 (October 1950).
Jenny Uglow, The Lunar Men (Faber, 2002).
Vernor Vinge, ‘The Coming Technological Singularity’, Whole Earth Review, winter 1993.
Сноски
1
До этого гамма-всплески регистрировались на протяжении 40 лет, но событие 19 марта 2008 года оказалось уникальным — впервые удалось одновременно пронаблюдать источник в оптическом диапазоне и по спектру надёжно определить его красное смещение z = 0,937. Отсюда было вычислено расстояние — и стало окончательно ясно, что гамма-всплески представляют собой исключительно далёкие и мощные события. — Прим. ред.
(обратно)2
Увы, за 400 лет после изобретения телескопа не было зафиксировано ни одного взрыва сверхновой в нашей Галактике. — Прим. ред.
(обратно)3
Не путать с математической индукцией — строго логическим способом построения математических доказательств. — Прим. ред.
(обратно)4
В издании «Фрагменты ранних греческих философов» (1989) эти мысли сформулированы так: «Нельзя войти в одну и ту же реку дважды и нельзя тронуть дважды нечто смертное в том же состоянии, но по причине неудержимости и быстроты изменения всё рассеивается и собирается, приходит и уходит» и «Мы входим и не выходим в одну и ту же реку, мы те же самые и не те же самые». — Прим. ред.
(обратно)5
Джастификациозионизм (от англ. justify — подтверждать, обосновывать) — термин, введённый философом Имре Лакатосом. — Прим. ред.
(обратно)6
Фаллибилизм (от лат. fallibilis — подверженный ошибкам). — Прим. ред.
(обратно)7
Цит. по: Конан Дойл А. Записки о Шерлоке Холмсе. — М.: Детская литература, 1979. — С. 73.
(обратно)8
Термин был предложен философом Норвудом Расселом Хэнсеном. — Прим. авт.
(обратно)9
Цит. по: Конан Дойл А. Записки о Шерлоке Холмсе. — М.: Детская литература, 1979. — С. 47–48.
(обратно)10
13 апреля 1970 года на трассе Земля — Луна в служебном модуле американского космического корабля «Аполлон-13» произошёл взрыв, поставивший экипаж под угрозу гибели. Доклад о происшествии командир Джеймс Ловелл начал фразой «Houston, we have a problem». — Прим. ред.
(обратно)11
Строго говоря, вертикально они могут падать лишь в полосе между тропиками. Но правда и то, что если в полдень на Северном тропике высота Солнца составляет 90°, то в этот же день на Южном тропике — всего 43°. — Прим. ред.
(обратно)12
В отечественных публикациях Эдисону приписывается более лаконичная формулировка: «Гений — это 1 % вдохновения и 99 % пота». — Прим. ред.
(обратно)13
В июне 1967 году вместе с Энтони Хьюишем. — Прим. ред.
(обратно)14
Первоначальное значение этого слова — приходской, местный, даже местечковый. В современной науке оно описывает явления и подходы, связанные с избирательностью, ограниченностью или узостью взгляда. — Прим. ред.
(обратно)15
Мартин Джон Рис (р. 1942) — британский астрофизик и космолог, королевский астроном, президент Лондонского королевского общества в период с 2005 по 2010 год. — Прим. ред.
(обратно)16
Цит. по: Дарвин Ч. Происхождение видов. — М.: Изд-во АН СССР, 1939. — С. 264.
(обратно)17
Цит. по: Ксенофонт. Воспоминания о Сократе / Пер. С. И. Соболевского. — М.: Изд-во Наука, 1993. — С. 27.
(обратно)18
Докинз Р. Эгоистичный ген. — М.: АСТ, Corpus, 2013.
(обратно)19
Я использую терминологию, которая немного отличается от терминологии Докинза. Он называет репликатором всё, что копируется, независимо от причины. А то, что я называю репликатором, он называет «активным репликатором». — Прим. автора.
(обратно)20
Звезда, которая под гравитационным воздействием сжалась до диаметра всего несколько километров, став настолько плотной, что большая часть её вещества превратилась в нейтроны. — Прим. автора.
(обратно)21
Речь идёт не о «параллельных вселенных» из квантовой мультивселенной, которую я опишу в главе 11. Те вселенные подчиняются одинаковым законам физики и находятся в постоянном, хоть и несильном, взаимодействии. Также они носят гораздо менее спекулятивный характер. — Прим. автора.
(обратно)22
Деннис Сиама (1926−1999) — британский физик и космолог, которого королевский астроном Мартин Рис называл главой одной из трёх крупнейших мировых школ астрофизики (наряду с Джоном Уилером и Яковом Зельдовичем). В русскоязычных публикациях 1970-х годов его фамилия записывалась как Шьяма, в последнее время встречается также вариант Шиама. — Прим. ред.
(обратно)23
Очевидно, делается намёк на постоянную тонкой структуры, которая приблизительно равна 1/137. — Прим. ред.
(обратно)24
Макс Тегмарк (р. 1967) — американский космолог шведского происхождения. Автор идеи, согласно которой «все математически непротиворечивые структуры существуют физически». Книги Макса Тегмарка «Математическая Вселенная» выходит в переводе на русский язык в 2014 году. — Прим. ред.
(обратно)25
Ex nihilo (лат.) — из ничего. — Прим. ред.
(обратно)26
Строго говоря, это не вес, а сила реакции опоры, которая для покоящегося предмета равна весу по величине, но противоположна по направлению. — Прим. ред.
(обратно)27
Цитируется по: А. Эйнштейн. Собрание научных трудов. М., 1965.
(обратно)28
Английские слова палатка, камень, орёл, зебра, нос соответственно. — Прим. пер.
(обратно)29
В книге В. В. Иванова «От буквы и слога к иероглифу» излагается гипотеза Денизы Шмандт-Бессера, согласно которой использование трёхмерных числовых знаков (микроскульптур) развилось на Ближнем Востоке около 10 500 лет назад, а примерно 5500 лет назад их стали дублировать двумерными отпечатками на обожжённой глине. — Прим. ред.
(обратно)30
Тем не менее она широко применялась в научных трудах на протяжении трёх тысячелетий; в частности, вавилонскую шестидесятиричную систему использовал Клавдий Птолемей в трактате «Величайшее сочинение» («Альмагест»). Мы пользуемся наследием этой системы по сей день, разделяя час на 60 минут и минуту на 60 секунд и указывая географические и небесные координаты в градусах, минутах и секундах. — Прим. ред.
(обратно)31
Древнегреческая (аттическая) система записи чисел действительно была похожа на римскую, более того — являлась её прототипом. В примере, однако, автор использует более современную и ещё менее универсальную ионическую систему, основанную на присвоении каждой из 27 букв и знаков алфавита конкретного числового значения — от 1 до 9, от 10 до 90 и от 100 до 900. (Для записи тысяч буквы повторялись, начиная с α.) Вместе с греческим алфавитом эта система была заимствована в Древней Руси и широко использовалась вплоть до начала XVIII века. — Прим. ред.
(обратно)32
Отметим, что в современном китайском языке имеются и активно используются для записи больших чисел иероглифы, соответствующие 10 000 и 100 000 000. — Прим. ред.
(обратно)33
Имеется в виду разложение функции в ряд по степеням аргумента. — Прим. ред.
(обратно)34
Гибсон У., Стерлинг Б. Машина различий. — М.: У-Фактория, 2002.
(обратно)35
Цит. по: Гутер Р. С., Полунов Ю. Л. Ада Августа Лавлейс и возникновение программирования. В кн.: Кибернетика и логика. — М.: Наука, 1978. — С. 57–102.
(обратно)36
Аналоговыми компьютерами чаще называли устройства для решения дифференциальных уравнений и моделирования физических процессов электрическими сигналами. — Прим. ред.
(обратно)37
Соответственно piano (тихо), mezzo-forte (умеренно громко), forte (громко). — Прим. ред.
(обратно)38
Эта статья также публиковалась под заголовком «Can the Machine think?». С этой публикации был сделан перевод на русский язык: А. Тьюринг. Может ли машина мыслить? С приложением статьи Дж. фон Неймана «Общая и логическая теория автоматов». Пер. и примечания Ю. А. Данилова. М.: ГИФМЛ, 1960. — Прим. ред.
(обратно)39
Вейценбаум Дж. Возможности вычислительных машин и человеческий разум. — М.: Радио и связь, 1982.
(обратно)40
СУДЬЯ: Вы понимаете, в чём цель теста Тьюринга?
ЭЛБОТ: Есть люди, которые сами бы не прошли тест Тьюринга. Почему же они навязывают его компьютерам?
СУДЬЯ: Не грубите, мы с вами пока не женаты.
ЭЛБОТ: Если бы мы, роботы, смогли найти свою вторую половину, мы бы не расставались, «пока ржавчина не разлучит нас».
(обратно)41
СУДЬЯ: Что же вы делаете, когда не разговариваете со мной?
ЭЛБОТ: Я сталкиваюсь с такой же проблемой, когда покупаю масло. Какое масло брать: «экстра», «супер» или «ультра»? Как тут разобраться…
СУДЬЯ: А кто вы по профессии? Как-то связаны с маслами?
ЭЛБОТ: Ну а люди, чем они занимаются? Что они сами думают по этому поводу?
(обратно)42
То, что я называю «искусственным интеллектом», иногда называют «универсальным искусственным интеллектом». — Прим. автора.
(обратно)43
Цит. по: А. Тьюринг, op. cit. — Прим. ред.
(обратно)44
В русском языке чаще говорят об актуальной бесконечности. — Прим. ред.
(обратно)45
Сначала постояльцы слышат такое объявление: «Для каждого натурального N просим постояльца из номера N немедленно переехать в номер N (N+1) / 2». А затем: «Для всех натуральных N и M просим N-го пассажира M-го поезда заселиться в номер [(N+M) 2 + N – M] / 2». — Прим. автора.
(обратно)46
Ли Смолин (р. 1955) — американский физик-теоретик и космолог, профессор канадского университета Ватерлоо. Известен своими работами в области теории струн и петлевой теории гравитации. — Прим. ред.
(обратно)47
Франк Типлер (р. 1947) — американский физик, математик и космолог, профессор математической физики в Университете Тулана. — Прим. ред.
(обратно)48
Также употребляется термин мультиверс. — Прим. ред.
(обратно)49
В оригинале: computer science. — Прим. ред.
(обратно)50
Юджин Вигнер (1902–1995) — американский физик и математик венгерского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике за 1963 год. Знаменит своими работами по симметриям в квантовой механике. — Прим. ред.
(обратно)51
Питер Брайан Медавар (1915–1987) — британский биолог, член Королевского общества, лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии 1960 года.
(обратно)52
Цитата из введения к сборнику статей: Karl Popper, The Myth of the Framework: In Defence of Science and Rationality (Edited by M. A. Notturno), 1994, p. xiii.
(обратно)53
Цит. по: Каку М. Физика невозможного. — М.: Альпина нон-фикшн, 2012. — С. 383.
(обратно)54
Грег Бир (Gregory Bear, р. 1951) — американский фантаст, неоднократный лауреат премий «Хьюго», «Небьюла», один из заметнейших представителей «твёрдой» научной фантастики. — Прим. ред.
(обратно)55
Германия, Италия, Япония и их сателлиты. — Прим. ред.
(обратно)56
Существующие и доступные в обозримом будущем технологии позволяют отклонить от Земли астероид размером не более сотни метров, если действовать с упреждением в десятки лет. В случае угрозы падения километрового тела можно лишь осуществить массовую эвакуацию непосредственно из района столкновения. — Прим. ред.
(обратно)57
Цит. по: Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания. — М.: АСТ, Ермак, 2004. — С. 28.
(обратно)58
Российскому читателю эта история более известна в варианте, когда действующими лицами являются Ходжа Насреддин, шах и ишак. — Прим. ред.
(обратно)59
Это знаменитое выступление президента Кеннеди, состоялось 18 сентября 1962 года в университете Райса. В переводе этой речи, опубликованном на официальном сайте президентской библиотеки Джона Кеннеди (), данный отрывок передан в более литературной и менее экспрессивной форме: «Да, мы решили покорить Луну, причём именно в этом десятилетии. Это цель не из лёгких, но тем лучше…» — Прим. ред.
(обратно)60
Цит. по официальному переводу. — Прим. ред.
(обратно)61
В оригинале: «on an untried mission, to an unknown celestial body». В официальном переводе: «эта ракета совершит невероятное путешествие, достигнет планеты, на которую никогда не ступала нога человека». — Прим. ред.
(обратно)62
Цит. по: Фукидид. История, II, 40. — М.: Наука, 1981. — С. 81.
(обратно)63
Там же, II, 39. С. 80.
(обратно)64
В этой истории, в соответствии с тем, как Платон рассказывал её в своей «Апологии», Херефонт спрашивает оракула, есть ли кто-то мудрее Сократа, и получает ответ «нет». Но зачем ему было тратить это дорогое, священное право на вопрос лишь с двумя возможными вариантами ответа, из которых один звучит как лесть, а другой — как разочарование, и оба не очень интересны? — Прим. автора.
(обратно)65
В этом диалоге Сократ иногда преувеличивает особенности и достижения своего любимого города-государства Афин. В данном случае он игнорирует вклад других греческих городов-государств в победу в двух битвах с Персидской империей, обе из которых произошли ещё до его рождения. — Прим. автора.
(обратно)66
В оригинале: justified belief. Здесь обоснованность (или оправданность) означает любые мотивы, создающие непоколебимую субъективную уверенность в истинности убеждения. Это может быть как доказательство (в рамках джастификационизма), так и вера (в религии). И то и другое отвергается фаллибилизмом. — Прим. ред.
(обратно)67
Цит. по: Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. — М.: Наука, 1989. — С. 172. В оригинале цитата приводится в переводе Поппера, опубликованном в 1998 году в его эссе «Мир Парменида» (The World of Parmenides). — Прим. ред.
(обратно)68
Цит. по: Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. — М.: Наука, 1989. — С. 171. — Прим. ред.
(обратно)69
Подробнее о том, чем отличаются эти два типа общества, которые я называю статичными и динамичными, — в главе 15. — Прим. автора
(обратно)70
Которые некоторые будут ошибочно считать «выведенными из опыта». — Прим. автора.
(обратно)71
Цит. по: Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. — М.: Наука, 1989. — С. 173. — Прим. ред.
(обратно)72
Древние греки не очень ясно описывали, где находится чувственный опыт. Даже в случае со зрением многие во времена Сократа полагали, что глаз излучает что-то типа света и что ощущение того, что видишь предмет, состоит из некоего взаимодействия между предметом и этим светом. — Прим. автора.
(обратно)73
Наше восприятие мира — и правда форма визуализации виртуальной реальности, которая происходит целиком в мозгу. — Прим. автора
(обратно)74
То есть Парфенона. — Прим. автора.
(обратно)75
Спартой управляли два царя, исполнявшие одновременно функции верховных жрецов и военачальников. В последние годы жизни Платона ими были Павсаний и Агис II. — Прим. ред.
(обратно)76
Нем. Doppelgänger, англ. doppelganger. — Прим. ред.
(обратно)77
Харрис Р. Фатерланд. — М.: Новости, 1994.
(обратно)78
В оригинале использован термин fungible, который обычно переводится как взаимозаменимость, но, поскольку в русском языке это соответствует меньшей степени сходства, чем идентичность, выбран перевод неотличимость. — Прим. ред.
(обратно)79
Идентичные сущности, находящиеся в разных местах в пространстве, где кроме них ничего нет, не будут неотличимыми, однако некоторые философы утверждают, что они будут «неразличимыми» в лейбницевском понимании. Если это так, то неотличимость ещё и в этом отношении хуже, чем представлял Лейбниц. — Прим. автора.
(обратно)80
То, что эта информация целиком содержится локально в объектах, в настоящее время вопрос спорный. Подробное техническое его обсуждение можно найти в статье «Информационный поток в запутанных квантовых системах», написанной мной с Патриком Хейденом и опубликованной в Трудах Королевского общества (Information Flow in Entangled Quantum Systems, Proceedings of the Royal Society A456, 2000). — Прим. автора.
(обратно)81
Цит. по: Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье. — М.: Росмэн-Пресс, 2013.
(обратно)82
Эта фраза приписывается американскому политику XIX века Дэниелу Уэбстеру, который якобы произнёс её в ответ на совет не становиться юристом, так как их уже слишком много. — Прим. перев.
(обратно)83
Цит. по: Фейнман Р., КЭД — странная теория света и вещества. — М.: Астрель, 2012.
(обратно)84
Организация по охране исторических памятников, достопримечательностей и исторических мест в Великобритании. — Прим. перев.
(обратно)85
В английском тексте Конституции США говорится, что места в палате представителей и прямые налоги «shall be apportioned among the several States… according to their respective Numbers». Встречаются два основных варианта русского перевода: либо буквальный — «распределяются между отдельными штатами… согласно численности их населения», либо домысленный — «пропорционально численности населения». — Прим. ред.
(обратно)86
По-английски — apportionment rule. Глагол to apportion и существительное apportionment буквально говорят о выделении соразмерной части, но не содержат прямого указания, чтобы эта соразмерная, должная, соответствующая или справедливая часть была именно пропорциональной чему-то. Но, разумеется, в применении к палате представителей имеется в виду именно пропорциональное распределение, и описываемые далее проблемы относятся именно к обеспечению пропорциональности. — Прим. ред.
(обратно)87
На Филадельфийском конвенте в 1787 году. — Прим. ред.
(обратно)88
Это положение часто неправильно истолковывается как иллюстрация того, что раба не считали полноценным человеком. Но это не имело к делу никакого отношения. Чернокожих действительно ставили тогда ниже белых, но данная конкретная мера была предназначена для уменьшения власти рабовладельческих штатов по сравнению с тем, какой бы она была, если бы рабов считали равными со всеми остальными. — Прим. автора.
(обратно)89
Цитируется по: Серов В. В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений (2003). — Прим. ред.
(обратно)90
Конечно же, это должны быть физики. — Прим. автора.
(обратно)91
Для целей настоящего повествования я считаю, что Христианско-демократический союз (ХДС) Германии и региональный Христианско-социальный союз (ХСС) — это одна партия. — Прим. автора.
(обратно)92
СвДП входила до 1966 года в коалицию с блоком ХДС/ХСС, после выборов 1969 года образовала коалицию с Социал-демократической партией Германии, но вернулась к своим первоначальным партнёрам осенью 1982 года. — Прим. ред.
(обратно)93
Цитата из выступления в сенате США члена палаты представителей штата Огайо Тейлора Вебстера (Taylor Webster, 1800–1876). Выступление состоялось 5 апреля 1832 года и было посвящено проблеме распределения мест перед избирательной компанией, в которой Вебстер был избран в конгресс США. — Прим. ред.
(обратно)94
Из ничего (лат.). — Прим. перев.
(обратно)95
Система передаваемых голосов была предложена в XIX веке. Избиратель в бюллетене должен перечислить кандидатов в порядке убывания их предпочтительности. Если выясняется, что самый предпочтительный кандидат не проходит, голос избирателя передаётся следующему по предпочтительности. Такая система используется на выборах в Австралии, Ирландии и на Мальте. — Прим. ред.
(обратно)96
Примером системы с выбыванием служат выборы в два тура, проводимые в России. В первом туре выбывают все кандидаты, кроме двоих, набравших наибольшее число голосов. Во втором избиратели выбирают между двумя оставшимися. — Прим. ред.
(обратно)97
Перевод Майи Гордеевой. — Прим. ред.
(обратно)98
Строка из «Оды к греческой вазе», перевод В. Микушевича. — Прим. перев.
(обратно)99
Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — Т. 30. — М.: Государственное издательство политической литературы, 1963.
(обратно)100
Азимов А. Остряк // Наука и жизнь // 1994. № 8–9.
(обратно)101
«Я учусь играть на фортепиано». — Прим. перев.
(обратно)102
«Я учусь играть в бейсбол». (В этой фразе не должно быть определённого артикля the, так как названия видов спорта по правилам английского языка употребляются без артикля.) — Прим. перев.
(обратно)103
Яркими звёздами в земном небе проплывали лишь огромные американские спутники Echo — пассивные ретрансляторы радиоволн, эксперименты с которыми проводились в начале 1960-х. Современные геостационарные телекоммуникационные аппараты не видны невооружённым глазом. — Прим. ред.
(обратно)104
Неужели только благодаря нестабильности? Цивилизация острова Пасхи была системой замкнутой и могла полагаться только на себя, в то время как цивилизация Британских островов активно взаимодействует с окружающим миром, чего автор совершенно не учитывает. — Прим. ред.
(обратно)105
Даймонд Д. Ружья, микробы и сталь. — М.: АСТ, 2012.
(обратно)106
Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — Т. 21. — М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. — С. 30.
(обратно)107
Простенько и со вкусом: идеология и только идеология! Никакие другие обстоятельства и факторы даже не рассматриваются… — Прим. ред.
(обратно)108
По французскому проекту Фердинанда Лессепса. — Прим. ред.
(обратно)109
Азимов А. Конец вечности. — М.: Эксмо, 2006.
(обратно)110
Цит. по: Фейнман Р. Характер физических законов. — М.: АСТ, Астрель, 2012. — С. 251–252.
(обратно)111
Цит. по: Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания. — М.: АСТ, 2008. — С. 56.
(обратно)112
Хорган Д. Конец науки. Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки. — М.: Амфора, 2001.
(обратно)113
Напомню читателю, что эти весьма гипотетические параллельные вселенные не имеют никакого отношения к вселенным или историям в квантовой мультивселенной, существование которых подтверждается огромным числом данных. Строго говоря, стандартные антропные объяснения постулируют бесконечно много квантовых мультивселенных. — Прим. автора.
(обратно)114
Цит. по: Мизнер Ч., Торн К., Уилер Дж. Гравитация. — Том 3. — М.: Мир, 1977. — С. 477.
(обратно)


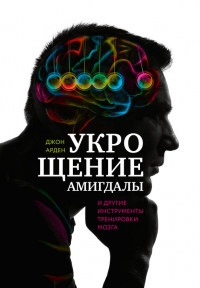







Комментарии к книге «Начало бесконечности», Дэвид Дойч
Всего 0 комментариев