Мишель Пастуро Синий. История цвета
© Editions du Seuil, 2006
© Н. Кулиш, пер. с французского, 2015
© ООО «Новое литературное обозрение», 2015
Введение Цвет и историк
Цвет – не столько природное явление, сколько сложная культурная конструкция, которая сопротивляется любой попытке обобщения, кроме анализа. Тот, кто берется его исследовать, неизбежно сталкивается со множеством трудноразрешимых проблем. Вероятно, именно поэтому так мало серьезных работ, посвященных цвету, и еще меньше тех, где автор критически и тщательно исследует феномен цвета в исторической перспективе. Зато много таких, где авторы, произвольно оперируя категориями пространства и времени, предпочитают исследовать сомнительную универсальную или архетипическую истинность цвета. Между тем для историка ее просто не существует. Цвет – прежде всего факт общественной жизни. Нет транскультурной истинности цвета, как бы ни старались уверить нас в обратном некоторые книги, опирающиеся на превратно понятые положения нейробиологии или – что еще хуже – скатывающиеся в псевдонаучную эзотерическую психологию. К сожалению, библиография по истории цвета катастрофически переполнена подобного рода трудами.
В таком положении дел отчасти виноваты сами историки, поскольку они редко уделяли внимание цвету. Однако у этого невнимания есть свои причины, которые сами обладают ценностью исторического факта. В основном они обусловлены трудностями, возникающими при попытке рассмотреть цвет как полноправный объект исторического исследования. Эти трудности бывают трех типов.
Во-первых, это проблемы идентификации: мы видим цвета, пришедшие из прошлого, такими, какими их сохранило для нас время, а не в их первоначальном состоянии; вдобавок мы видим их при свете, часто не имеющем ничего общего с условиями освещения, которые были известны тогда; и наконец, за долгие десятилетия у нас выработалась привычка изучать изображения и объекты далекого прошлого по черно-белым фотографиям и, несмотря на появление цветной фотографии, наш тип восприятия и осмысления в какой-то мере все еще остается черно-белым.
Далее, существуют трудности методологические: как только речь заходит о цвете, перед историком встает множество самых разных проблем – физических, химических, технических, связанных со свойствами материалов, а также иконографических, идеологических, связанных с эмблематикой и символикой. Как классифицировать все эти проблемы? В какой очередности задавать главные вопросы? Какую систему оценок принять для изучения цветных изображений и предметов? Ни один исследователь, ни один научный коллектив, ни одна методика до сих пор не справились с этими трудностями: все они склонны выбирать из многообразия фактов и проблем, относящихся к цвету, только то, что необходимо для подтверждения выдвигаемой ими теории, и игнорировать все то, что заставляет в ней усомниться. Такой подход нельзя не назвать порочным. Тем более что, когда мы имеем дело с целыми историческими эпохами, часто возникает соблазн механически перенести на предметы и изображения информацию, которую мы черпаем из текстовых источников, хотя – по крайней мере на начальном этапе исследования – правильнее было бы действовать по примеру исследователей первобытного общества (которые, не располагая никакими текстами, должны анализировать наскальные рисунки): отыскать в самих этих изображениях и предметах присущие им смысл, логику, систему, изучая, например, какие элементы повторяются в них чаще, какие – реже, как они располагаются, как группируются, каково пропорциональное соотношение между верхом и низом, правой и левой частями, передним планом и фоном, центром и периферией. То есть провести внутренний структурный анализ, с которого должно было бы начинаться изучение изображения или предмета в цветовом аспекте (но из сказанного не следует, что процесс изучения должен на этом закончиться).
Третий тип трудностей – гносеологического порядка. Мы не можем применять к изображениям, памятникам и предметам, созданным в прошедшие века, наши современные определения, концепции и классификации цвета. У обществ прошлого эти критерии были иными (а у будущих обществ, возможно, появятся свои…). Исследуя артефакт, историк (а историк искусства, возможно, чаще других) постоянно рискует допустить анахронизм. Но когда речь идет о цвете, о его определениях и классификациях, этот риск значительно возрастает. Вспомним, например, что долгое время черный и белый считались хроматическими цветами; что до XVII века люди не знали о существовании цветового спектра и спектрального порядка цветов; что только тогда, в XVII веке, возникло и начало закрепляться разделение цветов на основные и дополнительные, а окончательно оно было признано лишь в XIX веке; что противопоставление холодных и теплых оттенков – чистая условность, которая менялась от эпохи к эпохе (например, в Средние века синий считался теплым цветом) и от общества к обществу. Спектр, цветовой круг, концепция основных цветов, закон одновременного контраста, палочки и колбочки в светочувствительном слое сетчатки – не вечные истины, а всего лишь этапы непрерывно развивающейся истории познания. Поэтому не следует обращаться с ними бесцеремонно и своевольно.
В моих предыдущих работах я не раз останавливался на этих гносеологических, методологических и идентификационных проблемах, а потому мне не хотелось бы уделять им здесь слишком много внимания[1]. Пусть в этой работе по необходимости и затрагиваются некоторые из них, все же наша главная тема – другая. И это не место изображений или произведений искусства в истории цветов, которую во многом еще только предстоит написать. Однако мы часто будем опираться на разнообразные документальные материалы, чтобы рассмотреть историю цветов во всех ее аспектах и наглядно доказать, что она отнюдь не ограничивается сферой искусства. История цветов не дублирует историю искусства, это нечто иное, нечто гораздо более масштабное. И напрасно авторы большинства работ по историческим проблемам цвета ограничивали область исследования живописью, искусством или, в редких случаях, наукой[2]. На самом деле надо было обратиться к совершенно другой области.
Потому что история цвета – это всегда история общества. В самом деле, для историка, так же как, впрочем, для социолога и антрополога, цвет – явление прежде всего социальное. Именно общество «производит» цвет, дает ему определение и наделяет смыслом, вырабатывает для него коды и ценности, регламентирует его применение и его задачи. Именно общество, а вовсе не художник и не ученый, и уж тем более не система органов человека и не созерцаемая нами картина природы. Проблемы цвета – прежде всего социальные, ибо человек живет не обособленно, а внутри общества. Если мы не признаем это, то можем легко скатиться к примитивной нейробиологии или опасному сциентизму, и тогда все наши старания создать историю цветов неминуемо потерпят крах.
Чтобы выполнить свою миссию, историк цвета должен проделать двойную работу. С одной стороны, ему нужно смоделировать то, что могло быть миром цвета для различных обществ, предшествовавших нашему, включая все составляющие этого мира – лексику и подбор названий, химию красок и разнообразную технику окрашивания, регламентацию ношения одежды и коды, которые лежат в ее основе, место, отводимое цвету в повседневной жизни и в материальной культуре, декреты правителей, нравоучения духовных лиц, теории ученых, творения художников. Областей для сбора и анализа данных очень много, и всюду возникают самые разнообразные вопросы. С другой стороны, погрузившись в прошлое и замкнувшись в пределах одной-единственной культуры, историк должен изучить ее обычаи, коды и системы, выяснить причины изменений и исчезновений, исследовать инновации или взаимопроникновения, которые имели место во всех аспектах существования цвета, доступных исторической науке. И, как ни странно, вторая задача, быть может, труднее первой.
При этом двустороннем исследовании нельзя пренебрегать никакими фактами – ведь цвет по сути пронизывает собой весь комплекс жизненных явлений, все виды деятельности. Но есть сферы, где поиск оказывается особенно успешным. Например, лексика: здесь, как, впрочем, и везде, история слов неизменно обогащает наши знания о прошлом обширной и полезной информацией; если речь идет о цвете, она наглядно показывает нам, что в любом обществе изначальная функция цвета – классифицировать, метить, оповещать, вызывать ассоциации с чем-либо или противопоставлять чему-либо. Другой источник сведений – история красильного дела, тканей и одежды. Ведь именно в этой области одна группа проблем – вопросы химии и технологии, свойства материалов и тонкости ремесла – теснее всего связана с другой – проблемами социальными, идеологическими, вопросами эмблематики и символики. Для исследователя Средних веков, например, самые надежные, богатые и удобные в применении источники документального материала – это красильное дело, ткани и одежда, а не витраж, фреска или роспись по дереву, и даже не миниатюра (хотя, разумеется, он не может обойтись без них, и в его работе оба типа артефактов тесно связаны друг с другом).
Настоящая книга отнюдь не ограничивается эпохой Средних веков. Но, с другой стороны, она и не задумана как некая всеобщая и полная история цвета в обществах Западной Европы: ее задача – лишь расставить некоторые вехи. Для этого мы выбрали путеводной нитью историю синего цвета, от неолита до XX столетия. В самом деле, его история таит в себе немало загадок и неожиданностей: в культурах Античности роль синего цвета весьма незначительна; у римлян он даже считается неприятным и принижающим – это цвет варваров. А сегодня синий – любимейший цвет европейцев, в этом смысле он оставил далеко позади зеленый и красный. Значит, за минувшие столетия произошла полная переоценка ценностей. И цель настоящей книги – выявить эту переоценку. Вначале мы показываем, что общества античной эпохи и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием; затем он постепенно набирает популярность во всех областях жизни: с XII века синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными. Читатель увидит, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с этим цветом в разное время, вплоть до эпохи романтизма. И наконец, книга показывает триумф синего цвета в наши дни, еще раз напоминает о его многообразном использовании, о диапазоне его значений в прошлом и настоящем и задается вопросом о его роли в будущем.
Но цвет не может «найти себя» самостоятельно. Он может обрести смысл и начать полноценно «работать», только когда его ассоциируют с другими цветами или противопоставляют им. Вот почему всякому, кто пожелает говорить о синем, неизбежно придется вести речь и о других цветах. И в этой книге они будут присутствовать постоянно: не только зеленый и черный, с которыми долгое время сближали синий цвет, не только белый и желтый, которые часто составляли с ним контрастные пары, но также – и в особенности – красный, его многовековой антагонист, сообщник и соперник в культуре и в быту различных социумов Западной Европы.
Глава I Редкий цвет
От начала начал до XII века
Нельзя сказать, что традиция использования синего цвета в общественной, художественной и религиозной жизни восходит к незапамятным временам. На первых настенных изображениях, относящихся к эпохе позднего палеолита, когда люди еще вели кочевую жизнь, но человеческое общество уже сложилось, этот цвет отсутствует. Мы видим все оттенки красного, черного, коричневого, охрового, но синего нет совсем, зеленого – тоже, а белого очень мало. Через несколько тысячелетий, в эпоху неолита, когда люди начали вести оседлую жизнь и освоили технику окрашивания, они стали использовать красную и желтую краски, а синей пришлось ждать своей очереди еще очень долго. Этот цвет с самого рождения Земли широко представлен в природе, однако воспроизводить его, изготавливать для своих надобностей и свободно им пользоваться человек научился очень поздно и с большим трудом.
Возможно, именно поэтому в западной культурной традиции синий так долго оставался на втором плане и не играл практически никакой роли ни в общественной жизни, ни в религиозных обрядах, ни в художественном творчестве. По сравнению с красным, белым и черным, тремя «основными» цветами всех древних социумов, символическое значение синего было слишком бедным, чтобы содержать в себе или передавать важные понятия, вызывать глубокие чувства или производить сильное впечатление или чтобы с его помощью можно было создавать различные коды и системы, классифицировать, сближать или противопоставлять явления и выстраивать их иерархию (в любом обществе классификаторская функция цвета – главная), а также для того чтобы контактировать с потусторонним миром.
Второстепенная роль синего в жизни древних и то обстоятельство, что во многих древних языках трудно найти определение этого цвета, заставили ученых XIX века усомниться в том, что древние видели синий цвет или, во всяком случае, видели его таким, каким его видим мы. Сейчас подобные сомнения стали анахронизмом. Однако на удивление небольшое общественное и символическое значение, которое придавалось этому цвету в европейских социумах в течение долгих тысячелетий, от неолита до середины Средневековья, – неопровержимый исторический факт, и он нуждается в объяснении.
Белый и два его антагониста
У цвета всегда были особые отношения с тканью. Поэтому для историка, желающего уяснить себе место, роль и историю цвета в данном конкретном социуме, ткани и одежда – самая перспективная и многосторонняя область исследования, значительно более перспективная и многосторонняя, чем лексика, искусство или живопись. Мир тканей – это мир, в котором тесно переплетаются материальные, технические, экономические, социальные, идеологические и символические проблемы. Здесь представлено все, что влияет на судьбу цвета: химия красителей, техники окрашивания, товарообмен, коммерческие интересы, финансовые ограничения, классовые различия, идеологические направления, эстетические взгляды. Ткань и одежда, в совокупности представляющие собой область междисциплинарного исследования, будут постоянно появляться в этой книге.
Но если мы обратимся к социумам далекого прошлого, то не сможем ни изучить, ни даже выявить тесную взаимосвязь между цветом и одеждой, поскольку не располагаем ни артефактами, ни свидетельствами очевидцев. Современная наука утверждает, что окрашивание тканей стало применяться между шестым и четвертым тысячелетиями до нашей эры. Раскрашивание тела и предметов растительного происхождения (кусков дерева или древесной коры) – более древняя практика. Самые ранние фрагменты окрашенных тканей, дошедшие до нас, найдены не в Европе, а в Азии и Африке. В Европе первые такие артефакты появились только в конце четвертого тысячелетия до нашей эры[3]. И все они выдержаны в красных тонах.
Это обстоятельство примечательно. В Западной Европе вплоть до возвышения Рима выкрасить кусок ткани чаще всего (но не всегда) значило заменить его изначальный цвет на один из оттенков красного, от самых бледных охристых или розовых тонов до самых насыщенных пурпурных. Красящие вещества, прежде всего – марена, по-видимому, представляющая собой древнейший краситель, но также и другие растения, кермес и некоторые моллюски, легко и глубоко проникают в текстильные волокна и меньше других красителей страдают от солнца, воды, стирки и света. К тому же они позволяют добиться большего многообразия и яркости оттенков, чем красители других цветов. Итак, в течение нескольких тысячелетий окрашивание тканей – это окрашивание преимущественно в красный цвет. Факт, который находит подтверждение в латинском языке: слова coloratus(окрашенный) и ruber(красный) – синонимы[4].
Господство красного цвета, по-видимому, началось в глубокой древности, задолго до римлян. Это важнейший антропологический факт, который, как нам кажется, объясняет, почему длительное время в большинстве индоевропейских социумов у белого цвета было два антагониста – красный и черный, и вокруг этих трех «полюсов» вплоть до разгара Средних веков выстраивались все социальные коды и основные представления, связанные с цветом. Не будучи охотником за архетипами, историк в данном случае может с полным правом заявить, что в древних социумах красное долгие века олицетворяло окрашенную ткань, белое – ткань неокрашенную, но незапачканную или первозданно чистую, а черное – ткань неокрашенную и запачканную или попросту грязную[5]. Две основные шкалы измерения цвета в древности и в Средневековье – шкала яркости и шкала насыщенности – возможно, возникли из этого двойного противопоставления: с одной стороны, черного и белого (из-за разного отношения к свету, к его силе и чистоте), с другой стороны, белого и красного (из-за разного отношения к красителю, к его наличию или отсутствию, к его сочности, к его концентрированности). Черное – мрачное, красное – яркое, а белое – противоположно и тому и другому[6].
В этой системе с тремя полюсами и двумя шкалами нет места синему, впрочем, так же как и желтому и зеленому. Но сказанное вовсе не означает, что этих цветов не существует, вовсе нет. Они ощутимо присутствуют в окружающем мире, в повседневной жизни; но в плане символики, в социальном плане они не выполняют тех функций, которые выполняют три основных цвета. Как мы увидим, для историка представляет большую трудность понять, а затем доискаться причин, почему в Западной Европе в период между серединой XII и серединой XIII века на смену этой троичной схеме, сложившейся еще в доисторические времена и основанной на белом цвете и двух его антагонистах, приходят новые цветовые комбинаторики. Отныне синий, желтый и зеленый будут играть такую же важную роль, как белый, красный и черный. За несколько десятилетий западноевропейская культура перешла от спектральных систем на основе трех цветов к системам, основанным на шести цветах, – системам, по которым мы во многом продолжаем жить и сегодня.
Бытовые красители: вайда и индиго
Но вернемся к древним красителям. И отметим, что, если греки и римляне редко пользовались синей краской, о других народах этого сказать нельзя. Так, кельты и германцы употребляют в качестве красителя вайду, или синильник (лат. glastum, vitrum, isatis, waida), дикорастущее растение семейства крестоцветных, которое встречается на влажных глинистых почвах во многих регионах Европы с умеренным климатом. Красящее вещество (индиготин) содержится главным образом в листьях, но получение из них синей краски – долгий и сложный процесс. Мы еще поговорим об этом, когда дойдем до XIII века, когда мода на синие тона в одежде вызовет настоящую революцию в красильном деле и вайда превратится в ценную хозяйственную культуру.
А вот народы Ближнего Востока завозят из Азии и Африки краситель, долго остававшийся неизвестным в Европе: индиго. Эту краску добывают из листьев индигоноски, растения, которое насчитывает множество видов, но ни один из них не встречается в Европе. Индигоноска, растущая в Индии и на Ближнем Востоке, – это кустарник, достигающий максимум двух метров в высоту. Красящее вещество (индиготин), более действенное, чем вайда, получают из верхних молодых листочков. Оно придает шелковым, шерстяным и хлопчатобумажным тканям настолько насыщенный и стойкий синий цвет, что красильщику почти не приходится использовать протраву, чтобы закрепить краску в волокнах ткани: иногда достаточно просто опустить ткань в чан с индиго, а затем разложить на открытом воздухе для просушки. Если цвет оказывается слишком бледным, эту операцию повторяют несколько раз.
В тех краях, где растет индигоноска, использование пигмента индиго началось еще в эпоху неолита; благодаря этому кустарнику возникла мода на синий цвет в окрашивании тканей и в одежде[7]. В те же незапамятные времена или немногим позже индиго, в особенности индийский, становится экспортным товаром. Народы, упоминаемые в Библии, начали пользоваться этой краской задолго до рождения Христа; однако стоила она дорого и применялась только для высококачественных тканей. В Риме, напротив, использование этого красителя оставалось ограниченным, и причина была не только в дороговизне (индиго привозили издалека), но еще и в том, что в римском обществе синие тона были мало популярны, хотя нельзя сказать, что они полностью отсутствовали в повседневной жизни. Римлянам, а до них и грекам, был хорошо знаком азиатский индиго. Они умели отличать этот действенный краситель от вайды, которую производили кельты и германцы[8], и знали, что он происходил из Индии: отсюда и латинское название – indicum. Но они не знали о его растительном происхождении. Дело в том, что листья индиго измельчали и превращали в тестообразную массу, которую высушивали, а потом вывозили и продавали уже в виде небольших брикетов[9]. И покупатели в Европе принимали их за минералы. Вслед за Диоскоридом некоторые авторы утверждали, что индиго – полудрагоценный камень, разновидность лазурита. Вера в минеральное происхождение индиго просуществует в Европе до XVI века. Мы вернемся к этой теме позже, когда речь пойдет о синих красителях в Средние века.
В Библии часто говорится о тканях и одеждах, реже – о красках и цветах. Во всяком случае, сведения о цветовых нюансах и о технике окрашивания весьма скудны. Здесь у историка возникают проблемы лексического свойства, и ему приходится с большой осторожностью относиться к разным по языку и по времени переводам библейских текстов, которыми пользуется он сам и которыми пользовались цитируемые или комментируемые им авторы (например, Отцы Церкви). Потому что описания цветов в Библии на разных языках не совпадают и вдобавок с каждым новым переводом становятся все подробнее и точнее. А в переводах сплошь и рядом встречаются неточности, отсебятина и смысловые сдвиги. Обратимся, например, к переводу на средневековую латынь: там, где в древнееврейском, арамейском или греческом текстах речь идет лишь о веществе, о свете, о плотности или же о высоком качестве, в латинском появляется множество цветовых характеристик предмета. Там, где в древнееврейском тексте сказано «блистающий», в латинском часто используется определение candidus(белоснежный), или даже ruber(красный). Там, где в древнееврейском тексте сказано «грязный» или «темный», в латинском сказано nigerили viridis, а на местных наречиях – «черный» или «зеленый». Там, где в древнееврейском или греческом текстах сказано «бледный», в латинском сказано или albus, или viridis, а на местных наречиях – «белый» или «зеленый». Где в древнееврейском тексте сказано «богатый», в латинском – purpureus, а на местных наречиях – «пурпурный». В переводах Библии на французский, немецкий, английский языки слово «красный» часто употребляется для передачи определения, которое в греческом или древнееврейском оригинале не имеет цветовой характеристики, но связано с представлениями о богатстве, мощи, величии или красоте, или даже любви, смерти, крови, огне. А значит, вместо того чтобы углубляться в символику цветов, историку надо проводить тщательнейшее эвристическое и филологическое исследование всякий раз, когда он обращается к тексту Священного Писания[10].
Все эти трудноразрешимые проблемы объясняют, почему нам так непросто определить место, которое синий цвет занимает в Библии и у народов, упоминаемых в Библии. Очевидно, его место не столь значительно, как у красного, белого или черного. Но добавить к этому очевидному факту хоть что-нибудь – задача почти невыполнимая. Казус с одним древнееврейским словом, вызвавшим ожесточенные дискуссии, доказывает, насколько опасны могут быть попытки передать современной терминологией цвета то, что в древних текстах обозначало лишь вещество или свойство. В древнееврейском тексте Библии часто встречается слово tekhelet. Некоторые переводчики, филологи и толкователи решили, что оно обозначает оттенок цвета – глубокую, насыщенную синеву. Другие, более осмотрительные исследователи, поняли это слово как обозначение вещества, красителя животного происхождения, «взятого из моря», возможно, какой-то особой разновидности моллюска семейства мурицевых или багрянок; однако у них не вызвало сомнений утверждение, что это вещество красило именно в синий цвет[11]. А между тем, не только из мурекса, но ни из одного вида моллюсков, служивших в библейские времена источником сырья для красильщиков Восточного Средиземноморья, нельзя получить стойкую, яркую краску определенного цвета. Цвет, который производят эти моллюски, варьируется от красного до черного, включая все оттенки синего и фиолетового, и даже еле уловимые блики и отсветы, которые вписываются в желто-зеленую гамму. Вдобавок, уже после того, как краска въедается в волокна ткани, цвет продолжает меняться, и эти изменения со временем не прекращаются: главная особенность всех пурпурных тканей древности – невозможность определить их изначальный цвет. Перевод понятия tekheletкак «синий» или даже попытка ассоциировать это вещество с синим цветом с филологической точки зрения – рискованная гипотеза, а с исторической – попросту анахронизм.
Краски для живописи: лазурит и медная лазурь
О драгоценных камнях в Библии сказано больше, чем о красках. Но и в этом случае при переводе и интерпретации текста у исследователя сплошь и рядом возникают вопросы. Например, сапфир, чаще других упоминаемый в книгах Ветхого Завета[12], не всегда соответствует камню, известному нам под этим названием, и порой у него больше общего с лазуритом. Такую же путаницу мы наблюдаем у греков и римлян, а также в раннем Средневековье: большинство энциклопедий и трактатов о целительных свойствах драгоценных камней хорошо знают эти два минерала (которые, как правило, считают равноценными) и четко различают их, но под одними и теми же названиями могут подразумевать то сапфир, то лазурит (azurium, lazurium, lapis lazuli, lapis Scythium, sapphirum)[13]. И тот и другой применяются в создании украшений и великолепных произведений искусства, но лишь лазурит дает краску, которой пользуются художники.
Лазурит, как и индиго, пришел в Европу с Востока. Это очень твердый камень, который сегодня считается полудрагоценным; в естественном состоянии он насыщенного синего цвета, с желтовато-белыми крапинками или прожилками. Древние принимали их за золото (на самом деле это серный колчедан), что поднимало престиж камня и увеличивало его цену. Наиболее значительные месторождения лазурита находились в Сибири, Китае, Тибете, а также в Иране и Афганистане – в эпоху Античности и в Средние века камень поставлялся в Западную Европу преимущественно из этих двух стран. Лазурит стоил очень дорого, потому что он был редким и его привозили издалека, к тому же из-за чрезвычайной твердости этого минерала его было очень трудно добывать. Переработка самородного лазурита в пигмент, применяемый в живописи, была очень длительным и сложным процессом: камень надо было не только измельчить, но предварительно освободить от примесей, оставив только синие частицы, которых в нем меньше всего. Греки и римляне не сумели освоить эту технику: зачастую они даже не удаляли примеси, а растирали минерал целиком. Вот почему в их живописи синий цвет получается не таким чистым и ярким, как в Азии или, позднее, на мусульманском Востоке и на христианском Западе. Средневековые художники изобрели способ очистки лазурита с применением воска и вымачивания измельченного камня в воде[14].
Пигмент, изготовленный на основе лазурита, дает множество разнообразных и ярких оттенков синего цвета. Эта краска не блекнет на свету, но не годится для обширных поверхностей, поэтому ее чаще использовали для малых форм: именно она подарит средневековым миниатюрам их чудесную синеву. При этом из-за высокой цены краской покрывали только ту часть изображения, которая должна была привлекать к себе особое внимание[15]. Однако наибольшее распространение в Античности и в Средневековье получил более дешевый синий пигмент, так называемая медная лазурь. Это минерал, основной карбонат меди, который встречается в природе не в виде камня, а в виде кристаллов. Он не такой стойкий, как лазурит, и часто меняет цвет на зеленый или черный, а при его изготовлении надо быть очень внимательным: если растереть минерал слишком мелко, краска выходит блеклой; а если частицы слишком крупные, они плохо соединяются с вяжущей субстанцией, и покрытие выходит зернистым. Греки и римляне импортировали медную лазурь из Армении (lapis armenus), с острова Кипр (caeruleum Сyprium) и с Синайского полуострова. В Средние века этот минерал добывали в горах Германии и Богемии: отсюда и его название – «горная синева»[16].
Древние умели изготавливать и искусственные краски – из медных опилок, смешанных с песком и поташом. В частности, египтянам на основе подобных силикатов меди удалось создать синие и сине-зеленые оттенки дивной красоты; мы видим их на предметах, найденных в гробницах (статуэтках, фигурках, бусинах). Вдобавок они часто бывают покрыты прозрачной глазурью, которая делает их похожими на драгоценности[17]. Египтяне, как и другие народы Ближнего и Среднего Востока, верили, что синий цвет приносит благополучие и отгоняет злые силы. Его использовали в погребальных ритуалах, чтобы он мог стать защитой усопшему в загробном мире[18]. Нередко схожие свойства приписывали и зеленому цвету, поэтому в гробницах он присутствует наряду с синим.
В Древней Греции синий ценился не так высоко и встречался гораздо реже, даже с учетом того, что в архитектуре и скульптуре, где у греков часто применялись многоцветные росписи, фон, на котором выделяются рельефные фигуры, иногда бывает синим (как, например, на нескольких фризах Парфенона)[19]. Доминирующие цвета здесь – красный, черный, желтый и белый; к ним следует добавить еще и золотой[20]. Для римлян, в еще большей степени, чем для греков, синий – мрачный, восточный, варварский цвет; им пользовались редко и неохотно. В своей «Естественной истории», в знаменитой главе, посвященной изобразительному искусству, Плиний Старший утверждает, что лучшие живописцы используют только четыре краски: белую, желтую, красную и черную[21]. Исключением является только мозаика: придя с Востока, она принесла с собой более оживленную цветовую гамму, в которой больше зеленых и синих цветов и которая впоследствии найдет себе место в византийском и раннехристианском западном искусстве. В мозаике синий – не только цвет воды, он используется как фон и нередко символизирует свет[22]. Все это люди вспомнят в Средние века.
Видели ли синий цвет древние греки и римляне?
Опираясь на тот факт, что синие тона относительно редко встречаются в изобразительном искусстве Античности, а главное, на лексику древнегреческого и латинского языков, филологи позапрошлого века выдвинули предположение, что греки, а вслед за ними и римляне, вообще не различали синий цвет[23]. В самом деле, и в греческом, и в латинском языках трудно подыскать для этого цвета точное и широко распространенное название, в то время как для белого, красного и черного цветов имеется по несколько обозначений. В греческом, цветовой лексике которого понадобилось несколько веков, чтобы сформироваться окончательно, для определения синего цвета чаще всего используются два слова: glaukosи kyaneos. Последнее, по-видимому, произошло от названия какого-то минерала или металла; корень у него не греческий, и ученым долго не удавалось прояснить его смысл. В гомеровскую эпоху этим словом обозначали и голубой цвет глаз, и черный цвет траурных одежд, но никогда – синеву неба или моря. Впрочем, из шестидесяти прилагательных, которые используются для описания природных стихий и пейзажа в «Илиаде» и «Одиссее», лишь три являются определениями цвета[24]; а вот эпитетов, относящихся к свету, напротив, очень много. В классическую эпоху словом kyaneosобозначали темный цвет, и не только темно-синий, но также и фиолетовый, черный, коричневый. По сути, это слово передает не столько оттенок, сколько настроение. А вот слово glaukos, которое существовало еще в архаическую эпоху, у Гомера используется весьма часто и обозначает то зеленый цвет, то серый, то синий, а порой даже желтый или коричневый. Оно передает не столько оттенок цвета, сколько его блеклость или слабую насыщенность: поэтому им определяли и цвет воды, и цвет глаз, а также листьев или меда[25].
И наоборот, чтобы обозначить цвет предметов, растений и минералов, которые, казалось бы, могут быть только синими, греческие авторы используют названия совсем других цветов. Например, ирис, барвинок и василек могут быть названы красными (erythros), зелеными (prasos) или черными (melas)[26]. При описании моря и неба упоминаются самые разные цвета, но в любом случае они не относятся к синей цветовой гамме. Вот почему в конце XIX и начале XX века ученых занимал вопрос: видели ли древние греки синий цвет или, по крайней мере, видели ли они его так же, как мы сегодня? Некоторые отвечали на этот вопрос отрицательно, выдвигая теории об эволюции цветовосприятия: по их мнению, люди, принадлежащие к обществам технически и интеллектуально развитым – или претендующим быть таковыми, как, например, современные западные общества, – гораздо лучше умеют различать большинство цветов и давать им точные названия, чем те, кто принадлежит к «примитивным» или древним обществам[27].
Эти теории, сразу после их появления вызвавшие ожесточенную полемику и имеющие сторонников даже в наши дни[28], кажутся мне необоснованными и некорректными. Мало того что они опираются на весьма туманный и опасный принцип этноцентризма (на основе каких критериев то или иное общество можно назвать «развитым» и кто вправе давать такие определения?), они еще путают зрение (явление преимущественно биологическое) с восприятием (явлением преимущественно культурным). К тому же они игнорируют тот факт, что в любую эпоху, в любом обществе, для любого человека между «реальным» цветом (если слово «реальный» действительно что-то значит), воспринимаемым цветом и названием цвета есть разница – и порой огромная. Если в цветовой лексике древних греков нет определения синего цвета или определение это весьма приблизительное, надо, прежде всего, изучить этот феномен в рамках самой лексики, ее формирования и ее функционирования, затем – в рамках идеологии обществ, которые эту лексику используют, а не искать связь с нейробиологическими особенностями людей, составлявших эти общества. Зрительный аппарат древних греков абсолютно идентичен зрительному аппарату европейцев ХХ столетия. Но проблемы цвета отнюдь не сводятся к проблемам биологического или нейробиологического свойства. Во многом это проблемы социальные и идеологические.
Та же трудность при определении синего цвета встречается в классической, а затем и в средневековой латыни. Конечно, здесь имеется целый набор названий (caeruleus, caesius, glaucus, cyaneus, lividus, venetus, aerius, ferreus), но все эти определения полисемичные, неточные, и в их употреблении нет логики и последовательности. Взять хотя бы наиболее часто встречающееся – caeruleus. Если исходить из этимологии (cera– воск), оно обозначает цвет воска, то есть нечто среднее между белым, коричневым и желтым. Позже его начинают применять к некоторым оттенкам зеленого или черного, и только потом – к синей цветовой гамме[29]. Такая неточность и непоследовательность лексики отражает слабый интерес к синему цвету римских авторов, а затем и авторов раннего христианского Средневековья. Вот почему в лексике средневековой латыни легко прижились два новых слова, обозначающих синий цвет: одно пришло из германских языков (blavus), другое – из арабского (azureus). Эти два слова в итоге вытеснят все остальные и окончательно закрепятся в романских языках. Так, во французском языке (как и в итальянском и испанском) слова, которыми чаще всего обозначают синий цвет, произошли не от латинского, а от немецкого и арабского – bleuот blauи azurот lazaward[30].
Отсутствие слов для определения цвета или их неточность, их эволюция во времени, частота употребления – и особенности лексической структуры в целом – вся эта совокупность данных представляет огромный интерес для того, кто изучает историю цвета.
Если, вопреки мнению некоторых ученых позапрошлого столетия, римляне все же различали синий цвет, то относились они к нему в лучшем случае равнодушно, а в худшем – враждебно. Это и понятно: синий для них – главным образом цвет варваров, кельтов и германцев, которые, по свидетельствам Цезаря и Тацита, раскрашивали тело синей краской для устрашения врагов[31]. Овидий говорит, что стареющие германцы, желая скрыть седину, подкрашивают волосы соком вайды. А Плиний Старший утверждает, будто жены бриттов красят свои тела в темно-синий цвет тем же самым красителем (glastum) перед тем, как предаться ритуальным оргиям; из этого он делает вывод, что синий – это цвет, которого следует опасаться и избегать[32].
В Риме синюю одежду не любили, она считалась эксцентричной (особенно в период Республики и при первых императорах) и символизировала траур. Кроме того, этот цвет, светлый оттенок которого казался резким и неприятным, а темный – пугающим, часто ассоциировался со смертью и загробным миром[33]. Голубые глаза считались чуть ли не физическим недостатком. У женщины они свидетельствовали о склонности к пороку[34]; голубоглазый мужчина считался женоподобным, похожим на варвара и попросту смешным. И, разумеется, в театре эта особенность внешности часто использовалась для создания комических персонажей[35]. Так, например, Теренций награждает нескольких своих героев голубыми глазами и при этом – или вьющимися рыжими волосами, или огромным ростом, или тучностью – и то, и другое, и третье в Риме эпохи Республики считалось изъяном. Вот как он описывает персонажа своей комедии «Свекровь», написанной около 160 года до нашей эры: «Высокий, рыжий, толст, голубоглаз, кудряв, / Лицо в веснушках»[36].
Правда ли, что в радуге отсутствует синий цвет?
Споры о том, были ли способны греки и римляне различать синий цвет, вызваны исключительно особенностями лексики у древних, или, если говорить конкретнее, неточностями в определении цвета. Но исследователи также могли бы – и должны были – принять к сведению научные труды античной эпохи, в которых речь идет о природе цвета и о цветоощущении[37]. Конечно, таких текстов немного, и цвета не рассматриваются в них по отдельности; более того, при обилии трактатов (главным образом греческих), посвященных физике света, проблемам оптики, зрительной системе человека или глазным болезням, книг о цветоощущении поразительно мало. Но работа в этом направлении все же ведется[38]– и в дальнейшем ее продолжат арабские исследователи, а после них – ученые западноевропейского Средневековья[39]. И хотя собственно о синем цвете в этих сочинениях ничего не сказано, стоит вспомнить их основные положения.
Некоторые теории греческих, а затем римских ученых, посвященные зрительной системе человека, сложились в незапамятные времена и от столетия к столетию почти не менялись; другие возникли позже и развивались более динамично. Среди них выделяются три теории[40]. Сторонники первой вслед за Пифагором утверждают, что из человеческого глаза исходят потоки лучей, которые распознают сущность и «свойства» видимых предметов – а среди этих «свойств» фигурирует, разумеется, и цвет. Другие вслед за Эпикуром считают, что, напротив, это сами предметы испускают световые потоки или некие частицы, которые достигают глаза. Наконец, третья, самая поздняя теория, получившая широкое распространение в IV–III веках до нашей эры, восходит к Платону[41]. По ней цветовое зрение – это, с одной стороны, результат действия некоего зрительного «огня», исходящего от глаза, а с другой – результат действия световых потоков, исходящих от видимого предмета; частицы потоков зрительного огня и частицы световых потоков, испускаемых предметом, могут быть разной величины: в зависимости от того, как соотносятся по размеру первые и вторые, глаз видит тот или иной цвет. Таким образом, третья теория соединяет в себе две первоначальные гипотезы. Несмотря на дополнения, внесенные в эту гибридную теорию Аристотелем (о влиянии окружающей среды и вещества, из которого состоит предмет, о роли личности и характера смотрящего)[42], которые должны были бы дать толчок мыслителям последующих эпох – и несмотря на появление новых знаний о структуре человеческого глаза, о природе различных его частей, о мембранах и жидкостях, о роли зрительного нерва, которому придавал такую важность Гален во II веке нашей эры, – именно эта гибридная теория (цветоощущение как результат двоякого процесса – испускания лучей и их поглощения), унаследованная от Платона и греческих ученых эпохи эллинизма[43], будет господствовать в Западной Европе вплоть до начала Нового времени.
В этой теории ничего не говорится конкретно о синем цвете, но, вполне в духе Аристотеля, она настаивает на том, что всякий цвет – это движение: как и свет, цвет движется и приводит в движение все, чего ни коснется. Таким образом, цветовое зрение есть весьма динамичное действие, порождаемое столкновением двух световых потоков.
При чтении отдельных естественно-научных или философских текстов напрашивается вывод (хотя он не был четко сформулирован ни одним древним или средневековым автором): для возникновения «феномена цвета» необходимы три составляющие – луч света, предмет, на который падает этот свет, и человеческий взгляд, действующий одновременно как передатчик и как приемник[44]. Кроме того, складывается впечатление, что все авторы уверены: когда на цвет никто не смотрит, он перестает существовать[45]. Допустив некоторый анахронизм (и значительно все упростив), мы могли бы отметить, что эта почти «антропологическая» концепция цветоощущения, разработанная за двадцать столетий до Гете, поддерживает его позицию в споре с Ньютоном.
Если труды греческих и римских авторов, посвященные природе цвета и цветовому зрению, весьма немногочисленны, то всевозможных трактатов о радуге написано очень много, и они привлекают внимание самых выдающихся ученых. Причем в их числе не только пространные описания, поэтические опыты и рассуждения о символике цветов, но также и тексты, имеющие подлинную научную ценность, как, например, «Метеорологика» Аристотеля[46]. В таких работах речь идет о кривизне дуги, о ее положении относительно солнца, о природе облаков и, главное, об отражении и преломлении лучей света[47]. И пусть авторы этих трактатов, мягко говоря, не придерживаются единого мнения, всех их объединяет страсть к познанию, упорное стремление обосновать свою точку зрения. В частности, они пытаются установить, сколько цветов можно различить в радуге, а затем, выделив эти цвета и дав им названия, пытаются определить их последовательность. Одни считают, что цветов всего три, другие – что их четыре или пять. И лишь один автор, Аммиан Марцеллин, утверждает, что в радуге целых шесть цветов. Но ни у кого из этих ученых мы не находим ни полной, ни даже частичной последовательности цветов, которая отдаленно напоминала бы реальный солнечный спектр: само собой, время для таких открытий еще не пришло. И вдобавок они дружно игнорируют один из цветов радуги – синий. Никто из античных авторов не упоминает его: Ксенофан и Анаксимен (VI век до н. э.), а позднее Лукреций (98–55 годы до н. э.) различают в радуге красный, желтый и фиолетовый цвета; Аристотель (384–322 годы до н. э.) и большинство его учеников – красный, желтый или зеленый и фиолетовый; Эпикур (341–270 годы до н. э.) – красный, зеленый, желтый и фиолетовый; Сенека (4 год до н. э. – 64 год) – пурпурный, фиолетовый, зеленый, оранжевый и красный; Аммиан Марцеллин (ок. 330–400 годов) – пурпурный, фиолетовый, зеленый, оранжевый, желтый и красный[48]. Все они, или почти все, объясняют появление радуги эффектом рассеяния, которое претерпевает солнечный свет при прохождении через влагу, среду более плотную, чем обычный воздух. Разногласия наблюдаются преимущественно в таких вопросах, как отражение и преломление света или поглощение световых лучей, их яркость и различный угол падения.
Эти умозрительные построения, эти развернутые, пространные доказательства выдвигаемых гипотез, эти чередования цветов, увиденных в радуге, – все это впоследствии подхватит арабская, а затем и средневековая западноевропейская наука. Так, в XII веке величайшие ученые, комментируя «Метеорологику» Аристотеля и труды арабских оптиков, главным образом Ибн аль-Хайсама, в свою очередь пустятся в бесконечные спекуляции о радуге. Роберт Гроссетест[49], Джон Пэкхэм[50], Роджер Бэкон[51], Дитрих Фрейбергский[52], Витело[53]– каждый внесет свою лепту в общее дело развития науки, но ни один не сумеет описать радугу такой, какой мы видим ее сегодня, а главное, не заметит среди ее многоцветия даже намека на синий.
Раннее Средневековье: о синем цвете – или очень мало, или ничего
В символике и в представлениях раннего западноевропейского Средневековья синий остается таким же малозначимым и малопрестижным цветом, каким он был в Древнем Риме. Если он и привлекает к себе внимание, то гораздо реже и гораздо меньше, чем три главных цвета, на которых, как и в Античности, построены все коды общественной и религиозной жизни: белый, черный и красный. Он играет даже менее важную роль, чем зеленый, цвет растительности, цвет судьбы и надежды, который иногда становится «посредником» между тремя основными цветами. Синий не значит ничего или очень мало; если о нем и упоминают как о цвете неба, то крайне редко: у многих авторов небо чаще описывается как белое, красное или золотистое, а не синее.
Несмотря на то что в символике синий занимает очень скромное место, он все же присутствует в повседневной жизни: например, в тканях и одежде эпохи Меровингов. Это наследие предков-варваров, оставшееся от времен, когда кельты и германцы красили вайдой в синий цвет повседневную одежду и некоторые предметы обихода, сделанные из кожи. Но с наступлением эпохи Каролингов эта практика уходит в прошлое. Императоры, владетельные князья и их приближенные перенимают древнеримские обычаи: предпочтение отдается красному, белому или пурпурному; в ходу также зеленый, который любят сочетать с красным; сейчас, в нашем современном восприятии такое сочетание цветов выглядит резким, прямо-таки нестерпимым контрастом, а человеку раннего Средневековья оно казалось вполне естественным[54]. Что же касается синего, то при дворе о нем не вспоминают, у князей он в пренебрежении и носят его только крестьяне и прочие простолюдины. Так будет продолжаться до XII века.
Предпочтения в одежде наглядно показывают, насколько скромное положение занимает синий цвет в быту людей раннего Средневековья; но есть области, где он напрочь отсутствует: это антропонимика, топонимика, богослужение, мир символов и эмблем. Ни в латыни, ни позднее в народных языках мы не находим ни одного человеческого имени, ни одного географического названия, которое было бы образовано от слова или хотя бы корня слова, обозначающего синий цвет. Этот цвет слишком беден символическими и социальными коннотациями, чтобы вдохновить кого-либо на подобный акт творчества[55]. Зато имена и названия, образованные от слов «красный», «белый» и «черный», встречаются сплошь и рядом, лишний раз показывая нам, как невообразимо долго три основных цвета древних удерживали лидерство в средневековом обществе. Даже религия не в силах справиться с этим наследием Античности, хотя в христианстве, которое безраздельно властвует над социальной, нравственной, интеллектуальной и культурной жизнью людей, существует особое почитание неба и божественного света. Более тысячи лет, то есть до синего фона витражей середины XII века, синий цвет практически отсутствовал в жизни Церкви и в христианской литургии. Отсутствие синего в системе богослужебных цветов представляет особый интерес, и эту тему стоит рассмотреть подробнее. У нас будет возможность поговорить и о других цветах и об их символике, поскольку историю синего нельзя рассматривать в отрыве от истории остальных цветов.
В раннехристианскую эпоху в облачениях священников и церковном убранстве заметно преобладание белых или неокрашенных тканей; священники совершают богослужение в своей обычной одежде. Со временем белого в храмах поубавится, и постепенно он превратится в исключительный атрибут Пасхи и других важнейших праздников. И вот уже многие авторы высказывают мысль, что самый главный цвет для Церкви – белый[56]. Это прежде всего цвет Пасхи, а также цвет обращения в христианство[57]. Однако придать ткани настоящий, ровный белый цвет технически очень сложно, и сияющая пасхальная белизна чаще представляет собой не сиюминутную реальность, а далекую, труднодостижимую перспективу. Эти технические трудности будут преодолены не ранее XIV века; а пока что в Европе раннего Средневековья выбелить можно только льняную ткань, но и это очень долгий, трудоемкий процесс. Для шерсти часто используют естественные красители, ее раскладывают на траве и «отбеливают» с помощью утренней росы, то есть воды, сильно насыщенной кислородом, и солнечного света. Но для этого нужно очень много времени и очень много места, а зимой такое отбеливание вообще невозможно. Вдобавок белый цвет, полученный при такой обработке ткани, по сути нельзя назвать белым: он нестойкий, и в скором времени окрашенная ткань вновь становится беловато-серой, желтой или светло-бежевой. Вот почему белые ткани и белые облачения, которые принято использовать во время литургии в храмах раннесредневековой Европы, редко когда можно с полным правом назвать окрашенными в белый цвет. Применение в качестве красителей растений (из рода мыльнянок), стирка в воде с золой или даже глиной, смешанной с минералами (магнезия, мел, свинцовые белила), придает белым тканям сероватые, зеленоватые или синеватые отсветы и приглушает их сияющую белизну[58].
Рождение богослужебных цветов
Начиная с эпохи Каролингов, а быть может, даже несколько ранее (с VII века, когда Церковь ввела в свой обиход некое подобие роскоши), в тканях для церковного убранства и облачениях священников стали использовать золото и яркие цвета. Однако единого правила их использования не было, в каждой епархии это решали по-своему. Основные правила богослужения определял епископ, и рассуждения о символике цвета, которые изредка попадаются в литературе того времени, или не имели никакого практического значения, или отражали практику, действующую в одной или нескольких епархиях. Вдобавок следует отметить, что в дошедших до нас нормативных текстах редко идет речь о выборе цвета[59]. Церковные соборы, прелаты и теологи вспоминают о цвете лишь для того, чтобы осудить ношение полосатых, пестрых или слишком ярких одежд, борьбу с которыми Церковь будет вести и в дальнейшем, вплоть до Тридентского собора[60], и напомнить о главенстве белого цвета с точки зрения христологии. Белый – цвет невинности, чистоты, цвет крещения, обращения в христианство, цвет радости, Воскресения, славы и вечной жизни[61].
В начале второго тысячелетия появляется больше текстов о религиозной символике цветов[62]. Авторы этих анонимных трактатов, время и место создания которых трудно установить, заняты теоретическими рассуждениями, но не говорят о роли цвета в богослужебных правилах какой-либо епархии или всей Церкви вообще. Они рассматривают определенное число цветов – семь, восемь или двенадцать; это больше, чем требовалось современной им христианской обрядности, да и впоследствии тоже. Историку сложно определить, насколько эти тексты могли повлиять на реальные правила богослужения. Но для нас наиболее интересно, что ни в одном из них не только не рассматривается, но даже не упоминается синий цвет. Его словно не существует вообще. И это притом, что неизвестные авторы подробно обсуждают три оттенка красного (ruber, coccinus, purpureus), два оттенка белого (albusи candidus), два оттенка черного (aterи niger), а также зеленый, желтый, фиолетовый, серый и золотой. Но о синем – ни слова. В последующие столетия картина не меняется.
Начиная с XII века самые видные богословы, писавшие о литургии (Гонорий Августодунский, Руперт Дойцкий, Гуго Сен-Викторский, Жан Авраншский, Жан Белет[63]), все чаще говорят в своих сочинениях о цвете. По отношению к трем основным цветам они единодушны: белый означает чистоту и невинность[64], черный – воздержание, покаяние и скорбь[65], красный – кровь, пролитую Христом и за Христа, Страсти Христовы, мученичество, самопожертвование и божественную любовь[66]. Иногда они рассуждают и о других цветах: зеленом (это «промежуточный» цвет, medius color), фиолетовом (для них это своего рода «получерный», subniger, а отнюдь не смесь красного и синего), а также изредка упоминают серый и желтый. Но о синем – ни слова. Для них его просто не существует.
Синего цвета не существует и для того, чьи суждения о богослужебных цветах будут определять религиозную обрядность вплоть до Тридентского собора – для кардинала Лотарио Конти ди Сеньи, который позднее станет папой Иннокентием III. Около 1194–1195 годов, еще будучи кардиналом-диаконом, Лотарио ди Конти, которого Целестин III временно отстранил от дел папской курии, написал несколько трактатов, один из которых, знаменитый «О Таинстве Святого Алтаря» («De Sacro Altaris Mysterio»), посвящен мессе[67]. Юношеское творение будущего папы, по обыкновению того времени, изобилует компиляциями и цитатами. Но именно в этом его ценность для нас: кардинал Лотарио кратко пересказывает и дополняет то, что было написано до него на интересующую нас тему. Вдобавок в трактате есть немало подробностей о тканях, которые использовались в Римской епархии для церковного убранства и облачений священников до его собственного понтификата. В те времена другие епархии по желанию могли ввести у себя правила, существовавшие в Риме (многие литургисты и канонисты советовали поступать именно так), но ничто не обязывало их к этому, ибо римские правила еще не стали нормой для всего христианского мира; зачастую епископы и верующие придерживались местных традиций – так, например, было в Испании и на Британских островах. Однако авторитет Иннокентия III был настолько велик, что в течение XIII века ситуация стала меняться. В людях крепло убеждение: то, что принято в Риме, для остальных епархий – закон. А сочинения папы, даже самые ранние, стали каноническими. Так случилось и с трактатом о мессе. Главу о цветах богослужения стали цитировать и пересказывать многие авторы XIII века; более того, в других епархиях, даже весьма удаленных от Рима, ее приняли как руководство к действию. Медленно, но верно, дело шло к унификации правил богослужения. Посмотрим, что написано в трактате будущего папы о цветах.
Белый, будучи символом чистоты, подходит для праздников, посвященных ангелам, девам и исповедникам, для Рождества и Крещения Господня, Великого четверга, Пасхи, Вознесения и Дня всех святых. Красный – символ крови, пролитой Христом и за Христа, пригоден для праздников апостолов и мучеников, Воздвижения и Пятидесятницы. Черный, цвет скорби и покаяния, следует использовать для заупокойной мессы, Рождественского поста, Дня святых Невинных Младенцев Вифлеемских и в течение Великого поста. А зеленый надлежит использовать в те дни, для которых не подходят ни белый, ни красный, ни черный, ибо – и для историка цвета это чрезвычайно важное замечание – «зеленый цвет является средним между белизной (albedinem), чернотой (nigredinem) и краснотой (ruborem)» (Цит. по Ткаченко А.А. Эмблематика литургических цветов в трактате Дж. Лотарио (папы Иннокентия III) «О святом таинстве алтаря» // Signum. 2005. Вып. 3. С. 40. – Прим. ред.). Автор добавляет, что черный иногда можно заменить фиолетовым, а зеленый – желтым[68]. Однако он, как и его предшественники, абсолютно ничего не говорит о синем.
Это умолчание кажется странным, поскольку именно тогда, в последние годы XII века, синий цвет уже начал свою экспансию: за несколько десятилетий он успел пробраться в церковь – его можно увидеть на витражах, эмалях, алтарных образах, тканях, облачениях священников. Но он не включен в систему богослужебных цветов и не попадет в нее никогда. Эта система сложилась слишком рано, чтобы в ней могло найтись хоть какое-то, пусть даже самое скромное, место для синего цвета. Ведь и в наши дни католическая месса построена на трех «первичных» цветах древних социумов: белом, черном и красном; правда, по будням их дозволено «разбавлять» зеленым.
Прелаты-хромофилы и прелаты-хромофобы
Итак, синий цвет не предусмотрен кодом богослужебных цветов. А вот в изобразительном искусстве раннего Средневековья дело обстоит не так просто и однозначно. Пусть синий цвет присутствует далеко не всюду и не всегда, зато порой ему достается весьма важная роль. Здесь следует выделить три периода. В раннехристианскую эпоху синий цвет используется главным образом в мозаике, в сочетании с зеленым, желтым и белым; и в мозаичных композициях его всегда можно четко отличить от черного, чего не скажешь о настенных росписях того же времени или о миниатюрах более поздних веков. Долгое время в иллюминированных рукописях лишь изредка попадается синий цвет, причем исключительно темно-синий; этот цвет обычно фигурирует на втором плане или на периферии – у него нет своей символики, поэтому он не участвует в формировании смысла произведений искусства и культовых изображений. Впрочем, до самого X или даже XI столетия на многих миниатюрах он полностью отсутствует, особенно на Британских островах и на Пиренейском полуострове.
Зато на миниатюрах, созданных в Каролингской империи, уже начиная с IX века синий встречается все чаще и чаще: это и цвет фона, на котором фигуры властителей выглядят особенно величественными, и один из небесных цветов, указывающий на присутствие или на вмешательство Всевышнего, а иногда уже и цвет одежд некоторых персонажей (императора, Пресвятой Девы, того или иного святого). Но в этих случаях речь идет не о яркой, сияющей синеве, а о тусклом темно-синем цвете, с серым или фиолетовым оттенком. На рубеже второго тысячелетия синие тона на миниатюрах становятся более светлыми и менее насыщенными; при этом на некоторых изображениях они начинают все чаще выступать в роли самого настоящего «света», перемещаясь с заднего плана ближе к зрителю, чтобы «подсветить» сцены, разворачивающиеся на переднем плане. Пройдет чуть меньше столетия, и эту двойную роль – божественного света и фона, на котором выделяются фигуры персонажей, синий цвет начнет играть в витражном искусстве XII века. Светлый, сияющий синий цвет, очень устойчивый, в сочетании не с зеленым, как это было принято в живописи раннего Средневековья, а с красным цветом.
Традиция делать фон миниатюры синим связана с новой теологией света, которая зародилась на исходе каролингской эпохи, но окончательно утвердилась только в первой половине XII века. Мы еще вернемся к этому и увидим, как в культуре Западной Европы синий постепенно превратился в цвет небес, цвет Пресвятой Девы, а затем в королевский цвет. Но сейчас надо подробно остановиться на том, как возрастающий интерес к синему цвету вписывался в ожесточенные споры по поводу цвета и его места в убранстве храма и богослужении, которые в течение Средних веков и даже позднее снова и снова вспыхивали между служителями Церкви.
В самом деле, пусть для ученых синий был прежде всего светом, но не все богословы и далеко не все прелаты соглашались с этим утверждением. Многие, подобно Клавдию Туринскому в IX, а затем святому Бернарду Клервоскому в XII веке, считали, что цвет – не разновидность света, а род материи, и посему являет собой нечто низменное, бесполезное и презренное. Эти дискуссии, начавшиеся еще на закате эпохи Каролингов, в период иконоборчества, в которое был втянут весь западно-христианский мир, периодически разгорались с новой силой. Прелаты-хромофилы и прелаты-хромофобы сходились в жестоком противостоянии. Например, в 1120–1150-х годах между монахами аббатств Клюни и Сито бушевала настоящая война. Полезно будет рассмотреть здесь позиции обеих сторон; они очень важны для истории цвета, причем не только в период от раннего Средневековья до XII века, но, как мы увидим, и в более позднее время: в XVI веке, в эпоху Реформации[69].
Согласно средневековой теологии, в мире, доступном нашим ощущениям, свет – единственное явление, которое одновременно и видимо, и нематериально. Свет – это «зримость неизреченного» (Блаженный Августин), а значит, эманация божества. Тут возникает вопрос: если цвет – это свет, может быть, и он тоже нематериален? Или же он есть материя, всего лишь оболочка, в которой предстают нам объекты? Для Церкви этот вопрос очень важен. Если цвет – это свет, то он по самой своей природе причастен к божественному. А следовательно, дать цвету больше места в земном мире – в частности, в храме – значит оттеснить тьму ради торжества света, то есть Бога. Стремление к цвету и стремление к свету неразрывно связаны друг с другом. Если же, напротив, цвет – материальная субстанция, всего лишь оболочка, то он ни в коей мере не является эманацией божества: это бесполезное украшение, которое человек добавил к божественному Творению. Его нужно отбросить, изгнать из храма, ибо оно не только суетно, но и вредно, поскольку загораживает transitus, путь, который ведет человека к Богу.
Вопросы, оживленно обсуждавшиеся в VIII–IX веках или даже ранее – в середине XII столетия, продолжают вызывать бурную полемику. Ведь дело тут не только в теологии или философии: все эти вопросы тесно связаны с повседневной жизнью, с выполнением религиозных обрядов и с художественным творчеством. Ответы на них определяют роль цвета в привычном поведении истинного христианина и в окружающей его среде, в обстановке тех мест, которые он посещает, в изображениях, которые он созерцает, в одежде, которую он носит, в предметах, которые ему приходится держать в руках. А главное, они определяют место и роль цвета в церковном убранстве, а также в изобразительном искусстве и в религиозных обрядах.
Есть прелаты-хромофилы, которые приравнивают цвет к свету, и прелаты-хромофобы, для которых цвет – это материя. Среди первых самая видная фигура – аббат Сугерий, в 1130–1140 годах руководивший строительством базилики Сен-Дени и придававший цвету большое значение. Для него, как и для великих аббатов монастыря Клюни в течение двух предыдущих столетий, ничто не может быть слишком прекрасным для дома Божьего. Все искусства и ремесла, все материальные носители, живопись, витражи, эмали, ткани, украшения из драгоценных камней и металлов должны способствовать превращению базилики в подлинный храм цвета, ибо свет, красота и роскошество, потребные для богопочитания, прежде всего выражаются через цвета[70]. И с этого времени главным цветом будет считаться синий, ибо, как и золото, синева есть свет, божественный свет, небесный свет, свет, на фоне которого запечатлено все сотворенное. С этого времени в западноевропейском искусстве свет, золото и синева на несколько веков станут почти что синонимами.
Эта концепция цвета, в особенности синего, неоднократно встречается в сочинениях Сугерия, в частности в трактате «Об освящении церкви Сен-Дени» («De consecratione»)[71]. Для этого прелата, мечтающего построить церковь из драгоценных камней – как небесный Иерусалим в видениях пророка Исайи (Исайя 60:1–6) и святого Иоанна Богослова (Откровение 21:9-27), сапфир – прекраснейший из камней, и синий цвет постоянно уподобляется ему. Этот цвет настраивает на благочестивый лад и дает свету Божьему без помех проникать в храм[72]. Позже идеи Сугерия будут подхвачены многими другими прелатами и в следующем столетии получат зримое воплощение в строительстве готических храмов. Самый яркий пример, пожалуй, – Святая капелла (Сент-Шапель) в Париже, задуманная и построенная в середине XIII столетия как святилище света и цвета. Однако синева здесь отличается от синевы в церквах XII века, она не такая сияющая и, как в большинстве готических храмов, часто представлена в сочетании с красным, что порой сообщает ей лиловатый оттенок.
Однако взгляды Сугерия разделяли не все. Начиная с эпохи Каролингов и до самой Реформации существовали прелаты – строители храмов, которые проявляли себя убежденными хромофобами. Их, по-видимому, было меньше, чем хромофилов, но они могли сослаться на авторитет и на личный пример многих видных прелатов и прославленных богословов, начиная с самого святого Бернарда. Для аббата монастыря Клерво цвет – прежде всего материя, а не свет. Это лишь оболочка, украшение, суетный атрибут, от которого надо освободиться, который надо изгнать из храма[73]. Этим объясняется отсутствие цвета в убранстве большинства цистерцианских храмов. Бернард Клервоский не только иконоборец (единственное изображение, которое, по его мнению, допустимо в церкви, – это распятие), но еще и непримиримый хромофоб, и у него немало последователей, прелатов, принадлежащих не к одному только цистерцианскому ордену и объявивших беспощадную войну роскоши. В XII веке таких прелатов еще достаточно много, хотя их точка зрения уже перестала быть доминирующей. Как и святой Бернард, они, отвергая цвет, основываются на предложенной кем-то этимологии латинского слова color, которая производит его от глагола celare– «скрывать»: цвет – это то, что скрывает, отвлекает, обманывает[74]. А значит, от него надо отказаться. Таким образом, в XII веке наличие или отсутствие цветов, которые монахам и мирянам дозволено (или не дозволено) было видеть в церкви, могло зависеть от личной позиции того или иного прелата или богослова по отношению к цвету[75]. В следующем веке такого уже не будет.
Глава II Новый цвет
XI–XIV века
На рубеже первого и второго тысячелетий, и в особенности начиная с XII века, синий в западноевропейской культуре перестает быть второстепенным и редко используемым цветом, каким он был в Древнем Риме и в эпоху раннего Средневековья. Отношение к нему изменяется на прямо противоположное: очень скоро синий становится модным, аристократичным цветом, а по мнению некоторых авторов – даже прекраснейшим из цветов. За несколько десятилетий его экономическая ценность многократно увеличивается, его все активнее используют в одежде, он занимает все большее место в художественном творчестве. Такая внезапная и разительная перемена свидетельствует о полной реорганизации, происшедшей в иерархии цветов, а значит, в социальных кодах, в системах мышления и восприятия.
Этот новый цветовой порядок, первые признаки которого можно заметить уже в конце XI века, конечно же, не сводится к изменению статуса синего. Он затрагивает все цвета. Но для историка судьба синего и его поразительный успех в различных областях жизни – своего рода путеводные нити, помогающие изучить этот масштабный культурный сдвиг.
Роль Пресвятой Девы
Раньше всего интерес к синим тонам проявляется в изобразительном искусстве, на рубеже XI–XII веков. Нельзя сказать, разумеется, что прежде художники никогда не использовали этот цвет. Мы уже говорили о том, как широко он был представлен в раннехристианской мозаике, да и на миниатюрах Каролингской эпохи его можно встретить достаточно часто. Но до XII века синий, как правило, остается вспомогательным цветом или находится на периферии изображения; по своему символическому значению он сильно проигрывает трем «основным цветам» всех древних социумов – красному, белому и черному. А потом, всего за несколько десятилетий, все вдруг меняется: синий обретает новый статус в живописи и в иконографии, все чаще появляется на гербовых щитах и парадных одеждах. Мы возьмем в качестве примера одеяние Пресвятой Девы: по его изменениям легко проследить особенности и предпосылки этого удивительного феномена.
Дева Мария далеко не всегда изображалась в голубом одеянии: только с XII века западноевропейские живописцы стали ассоциировать ее образ преимущественно с этим цветом, так что он даже превратился в один из ее неотъемлемых атрибутов. Отныне он будет фигурировать или на ее мафории (самый распространенный вариант), или на тунике, или (это более редкий случай) вся ее одежда будет решена в сине-голубых тонах. Раньше Пресвятую Деву изображали в одеждах разных цветов, но чаще всего темных оттенков: в черном, сером, коричневом, фиолетовом. Цвет ее одежд должен был ассоциироваться со скорбью, трауром. Дева Мария носит траур по сыну, умершему на кресте. Эта традиция возникла еще в раннехристианскую эпоху – во времена Империи римляне нередко надевали черные или темные одежды по случаю кончины родственников или друзей[76] – и продолжалась в эпоху Каролингов и Оттонов. Однако в первой половине XII века темных тонов становится все меньше, и постепенно атрибутом скорбящей Богоматери становится единственный цвет: синий. Вдобавок он приобретает более светлый оттенок, становится привлекательным: из тусклого и угрюмого, каким он оставался долгие столетия, синий мало-помалу превращается в ясный и жизнерадостный. Мастера витражей и миниатюристы стараются привести этот новый цвет, цвет Богоматери, в соответствие с новым представлением о свете, которое возникло у прелатов, строивших соборы, и у жертвователей под влиянием современного богословия.
Широчайшее распространение культа Пресвятой Девы приводит к тому, что новый оттенок синего занимает все большее место в художественном творчестве. Около 1140 года, во время реконструкции базилики Сен-Дени, мастера витражей создают знаменитый цвет, известный под названием «синий цвет Сен-Дени». Несколькими годами позднее эти же мастера переберутся из Сен-Дени на другие строительные площадки, к западу, и «синий цвет Сен-Дени» превратится в «синий цвет Шартра» и «синий цвет Ле-Мана»[77]; а затем, во второй половине XII и в первые годы XIII века, он еще появится на витражах многих соборов.
В этой синеве витражей отразилось новое представление о небе и о свете. Однако на протяжении последующих десятилетий будут востребованы самые разные оттенки синего: в искусстве XIII века преобладают более темные или более насыщенные его тона. Это явление, обусловленное проблемами технического и финансового свойства (вместо кобальта строителям все чаще приходится использовать медь или марганец), в итоге приведет к изменению эстетических принципов: готический синий цвет на витражах Сент-Шапель, созданных в 1250 году, имеет мало общего с романским синим цветом на витражах Шартра, созданных ста годами ранее[78].
В эту же эпоху эмальеры стараются воспроизвести цвет, изобретенный стекловарами. Так новые тона синего перебираются с витражей на церковную (чаши, дискосы, дарохранительницы, ковчежцы с мощами) и домашнюю (миски для полоскания рук перед едой) утварь. Позднее в иллюминированных рукописях художники часто будут располагать миниатюры то на красном, то на синем фоне, создавая эффект сближения либо контраста. А еще позже, в первые десятилетия XIII века, кое-кто из сильных мира сего по примеру Царицы Небесной начнет облачаться в лазурные одежды: два или три поколения назад это было бы немыслимо. Людовик Святой стал первым королем Франции, который делал это регулярно.
Итак, новая традиция – изображать Деву Марию в синих одеждах – немало поспособствовала тому, что в обществе произошла переоценка этого цвета. Далее мы увидим, как эта переоценка сказалась на окраске тканей и расцветке одежды. А сейчас, чтобы больше не возвращаться к этой теме, напомним, как эволюционировал прозрачно-синий цвет Богоматери, когда завершилась готическая эпоха, время его наивысшей славы.
Хотя даже в наши дни, еще относительно недавно, синий цвет считался атрибутом Богоматери, искусство готики не сумело окончательно закрепить за ней этот цвет. В эпоху барокко приходит новая мода: Пресвятая Дева обретает золотой цвет, ибо теперь считается, что цвет золота – это сияние божественного света. Эта мода достигнет своего апогея в XVIII веке и продержится вплоть до середины следующего столетия. Однако после принятия догмата о Непорочном Зачатии, согласно которому Дева Мария в момент зачатия по особой милости Господа была очищена от первородного греха (догмат был окончательно принят папой Пием IX в 1854 году), иконографическим цветом Богоматери стал белый, символ чистоты и девственности. Отныне, впервые с раннехристианской эпохи, иконографический цвет Пресвятой Девы совпал с ее богослужебным цветом. Ведь еще с V века в отдельных епархиях, а начиная с понтификата Иннокентия III (1198–1216) – в большей части западно-христианского мира, праздники Богоматери ассоциировались с белым цветом[79].
Итак, на протяжении веков одеяние Богоматери многократно меняло цвет: наглядным свидетельством этого может служить деревянная скульптура из липы, созданная на рубеже первого и второго тысячелетий и до сих пор хранящаяся в Льежском музее. Эта романская Дева Мария, как часто случалось в то время, была изображена в черном одеянии. Затем, в XIII столетии, согласно канонам готической иконографии и теологии, его перекрасили в небесно-синий цвет. Однако в конце XVII века скульптуре, подобно многим другим произведениям искусства, придали «барочный» облик: ее покрыли позолотой. Этот цвет она сохраняла два столетия, до 1880 года, когда в соответствии с догматом о Непорочном Зачатии ее перекрасили в белый цвет. Эти четыре слоя краски различного цвета, которыми за тысячу лет успела покрыться небольшая деревянная скульптура, превращают ее в уникальный документ истории искусства и символики.
О чем говорят гербы
О новой роли синего цвета в XII–XIII веках свидетельствуют не только произведения искусства и культовые изображения. Затронуты все области жизни социума, серьезно меняются воззрения и вкусы, наблюдаются важные последствия в экономике. Во многих случаях изменение отношения к синему цвету можно изучать напрямую, а иногда фактические данные приходится расшифровывать. Характерный пример – гербы, которые в течение XII века появились в Западной Европе и стали быстро распространяться в разных странах и социальных группах. Геральдика – область, где историк, привыкший оперировать цифрами и символами, чувствует себя в родной стихии. К тому же статистическое изучение гербов может стать отправной точкой для различных исследований, посвященных частоте использования и символическому значению цветов. Особенность и преимущество гербов по сравнению с другими «цветными» артефактами заключаются в том, что их палитра не ведает нюансов. Цвета в геральдике – это абстрактные, концептуальные, абсолютные цвета, и художник вправе воспроизводить их как ему вздумается, в зависимости от материала и носителей, с которыми он работает. Например, на гербе короля Франции – «лазурный щит, усыпанный золотыми лилиями» – лазурь (так во французской геральдике называется синий цвет) может выглядеть и как голубой, и как просто синий, и как темно-синий цвет; для узнаваемости и для символического значения герба это совершенно неважно. Впрочем, многие средневековые гербы известны нам не по цветным изображениям, а только по описаниям на языке геральдики, которые мы находим в гербовниках или литературных текстах. В этих текстах никогда не уточняются оттенки цвета, а колористические термины сводятся к чистым категориям[80]. Поэтому ограничения или случайные помехи, обусловленные свойствами носителей, техническими возможностями живописцев или красильщиков, химическим составом пигментов или красителей, воздействием времени или художественным поиском, не стоит принимать в расчет, когда занимаешься статистическим исследованием цветов и частоты их применения в средневековой геральдике. Этим гербы выгодно отличаются от всех остальных артефактов.
Так вот, статистическое исследование выявляет постоянный рост использования «лазури» в европейских гербах в период с середины XII века, когда они только появились, до начала XV века. Если к 1200 году коэффициент частоты составляет всего 5 %, то после 1250 года он доходит до 15 %, к 1300 году достигает 25 %, а к 1400 году – 30 %[81]. Иными словами, если в конце XII века синий встречается лишь в одном гербе из двадцати, то в начале XV – уже примерно в одном из трех. Поистине впечатляющий рост.
К общей картине, основанной на изучении гербов всех регионов Западной Европы, следует добавить некоторые географические нюансы. Например, «лазурь» в Восточной Франции встречается чаще, чем в Западной, в Нидерландах чаще, чем в Германии, в Северной Италии чаще, чем в Южной. Кроме того, следует подчеркнуть, что вплоть до XVI века в тех странах Европы, где много «лазури» (всех оттенков синего), обнаруживается мало «черни» (черного и темно-серого) – и наоборот[82]. В установлениях геральдики (как и в некоторых других установлениях) синий и черный порой выступают в одной и той же роли.
Итак, до середины XIII века лазурь крайне редко можно было увидеть на гербах отдельных индивидуумов или целых семей. То же самое следует сказать и о воображаемых гербах. Я уже не раз отмечал, что изучение гербов, которыми поэты и художники Средневековья наделяют своих вымышленных персонажей (героев эпических поэм и рыцарских романов, библейских персонажей или мифологических героев, святых и полубогов, олицетворения различных пороков и добродетелей и т. п.), может дать обширную и ценную информацию тому, кто исследует символику и мировосприятие Средневековья[83]. Здесь я не буду к этому возвращаться. Но по теме, которая занимает нас сейчас, – возрастающая популярность синего цвета в XII–XIII веках – вымышленные гербы, в особенности гербы в литературе, могут рассказать много важного и интересного. Например, в Артуровском цикле есть очень показательный в этом смысле сюжетный ход: плавный ритм повествования внезапно нарушается появлением таинственного рыцаря с «гладким» (то есть одноцветным[84]) гербом на щите, который преграждает путь герою и вызывает его на поединок. Эта сцена – своего рода пролог к другому, более важному событию: описывая цвет герба на щите таинственного рыцаря, автор дает нам понять, с кем мы имеем дело, и угадать, что будет дальше.
Так, во французских романах Артуровского цикла XII–XIII веков постоянно применяется цветовой код. Красный рыцарь – это, как правило, чужак, который замышляет недоброе (или же выходец из Потустороннего Мира)[85]. Черный рыцарь – один из главных персонажей, по какой-то причине скрывающий свое имя; он с одинаковой вероятностью может оказаться добрым или злым, поскольку в литературе этого типа черный цвет не всегда имеет негативное значение[86]. Белый рыцарь чаще бывает добрым; нередко это пожилой человек, друг или покровитель героя[87]. Наконец, Зеленый рыцарь – это, скорее всего, пылкий юноша, который своим дерзким или наглым поведением посеет смуту; он, как и черный рыцарь, может оказаться добрым или злым[88].
И вот что поразительно: вплоть до середины XIII века в этом хроматическом литературном коде напрочь отсутствует Синий рыцарь. Синий цвет здесь не значит ничего. Или по крайней мере он еще недостаточно интересен с точки зрения геральдики и символики, чтобы его можно было использовать для такого эффектного приема. Внезапное появление в повествовании Синего рыцаря не могло бы стать распознаваемым сигналом читателю или слушателю. Для этого еще слишком рано: экспансия синего цвета в социальных кодах и в символике еще не достигла максимума, а хроматический код рыцарских романов в основном успел сложиться до этой экспансии.
Однако в течение XIV века в этом коде все же происходят некоторые изменения (впервые мы их видим в гигантском анонимном романе «Персефорест», законченном незадолго до середины столетия[89]). Черный цвет теперь часто становится отрицательной характеристикой; зато красный перестал быть уничижительной. А главное, на сцену выходит синий. В романе действуют Синие рыцари – отважные, верные, благородные. Вначале это персонажи второго плана[90], но постепенно они становятся главными героями. А в период между 1361 и 1367 годами Фруассар даже сочиняет «Слово о Синем рыцаре». В эпоху Кретьена де Труа или двумя поколениями позже такого никто и представить себе не мог: ведь подобное название было бы совершенно бессмысленным[91].
От короля Франции до короля Артура: рождение «королевского синего»
В столь специфической области, как геральдика, успеху синего цвета содействовал совершенно исключительный «рекламный агент», сыгравший здесь для него такую же роль, какую в изобразительном искусстве сыграла Пресвятая Дева. Это был король Франции.
С конца XII века, или, возможно, даже раньше, гербом французского короля стал «лазурный щит, усыпанный золотыми лилиями», то есть голубое поле, на котором с равными промежутками размещены стилизованные желтые цветы. В ту эпоху король Франции был единственным европейским государем, на чьем гербе присутствовал синий цвет. Этот цвет, вначале династический и лишь впоследствии ставший геральдическим, вероятно, был избран несколькими десятилетиями ранее в честь Девы Марии, покровительницы французского королевства и династии Капетингов. Несомненно, ключевую роль в этом выборе сыграли Сугерий и святой Бернард Клервоский. И наверняка именно по их совету лилия, символ Богоматери, в царствование Людовика VI, а затем Людовика VII (1130–1140) стала эмблемой королей династии Капетингов, а в начале царствования Филиппа Августа[92](ок. 1180) превратилась в полноценную геральдическую фигуру.
Позднее, в XIII веке, авторитет французского короля возрос настолько, что многие знатные люди и семейства – сначала во Франции, а затем и по всему западно-христианскому миру – также ввели в свои гербы лазурный цвет. В это же время геральдическая лазурь – как королевская, так и феодальная – выходит за пределы собственно геральдики: помимо щитов и знамен, она используется при коронациях, посвящениях в епископский сан и других церемониях и празднествах, таких как торжественные въезды короля или принца и рыцарские турниры; она украшает парадные одежды[93], что в свою очередь способствует распространению моды на синие тона в XIII – ХIV веках.
К тому же прогресс в технике окраски тканей, достигнутый в начале ХIII века, отныне позволяет получить светлые и яркие оттенки синего вместо тусклых, иссиня-серых или блеклых тонов, какими приходилось довольствоваться в прошлые века[94]. И если раньше этот цвет использовался для рабочей одежды ремесленников и в особенности крестьян, то теперь в синие одежды облачаются аристократы и патриции[95]. В 1230–1250 годах даже короли, как, например, Людовик Святой[96]и Генрих III Английский, начинают одеваться в синее: государи предыдущего столетия вряд ли выбрали бы для себя такой цвет. Королям сразу же начинают подражать их придворные; более того, короля Артура, главного из легендарных королей Средневековья, с ХIII века также часто изображают в синих одеждах, и его гербом становится лазурный щит с тремя золотыми коронами, то есть цвета его герба такие же, как у короля Франции[97].
Не все государи Европы торопятся усвоить эту новую моду; она не сразу приживется в германских государствах и в Италии, где императорский пурпур какое-то время еще сопротивляется экспансии королевского синего цвета. Однако это сопротивление продлится недолго: на исходе Средневековья даже в Германии и Италии синий становится цветом королей, князей, феодалов и патрициев[98]– а красный остается лишь символом императорской и папской власти.
Вайда, «синее золото»
Бурному развитию моды на синее в ХIII веке способствуют два фактора: технические достижения в красильном деле и начало промышленного культивирования вайды. Вайда, дикорастущее растение семейства крестоцветных, произрастает во многих регионах Европы на влажных или глинистых почвах. Красящее вещество (индиготин) содержится главным образом в листьях. С 1230-х годов вайду, как и марену, начинают выращивать в промышленных масштабах, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны суконщиков и красильщиков. Изготовление синей краски – длительный, сложный процесс. Сначала собранные листья перемалывают в специальных мельницах. Полученную однородную массу выстаивают две-три недели, чтобы перебродила. Затем из нее формируют шары или круги диаметром в полфута (15–16 см)[99]. Потом эти заготовки долго сохнут под навесом на решетчатых лотках; через несколько недель их продают торговцу вайдой. А он уже превращает заготовки в краску. Это долгая, кропотливая, грязная работа (в помещении стоит тошнотворный запах), которую должны выполнять специально обученные люди. Вот почему синяя краска стоит дорого, хотя вайда растет на самых разных почвах, и при окрашивании нет или почти нет необходимости в закреплении: при окрашивании красной краской к этой процедуре приходится прибегать несколько раз. С 1220–1240 годов некоторые регионы Европы (Пикардия и Нормандия, Ломбардия, Тюрингия, графства Линкольншир и Сомерсетшир в Англии, окрестности Севильи в Испании) начинают специализироваться на выращивании вайды. Позже, примерно с середины ХIV века, главным центром культивирования вайды наряду с Тюрингией становится Лангедок. Вайда – источник богатства и процветания таких городов, как Тулуза и Эрфурт; на исходе Средних веков регионы Европы, которые производят вайду, живут как в сказке, потому что экспорт «синего золота» приносит огромные прибыли. В частности, вайду вывозят в Англию[100]и Северную Италию, чтобы удовлетворить сильно возросший спрос суконщиков на синюю краску – местного сырья уже не хватает, – а также в Византию и на мусульманский Восток. Но это изобилие будет недолгим. Сменится эпоха, и спрос на вайду станет сокращаться: с Антильских островов и из Нового Света в Европу начнут завозить индиго – краситель, близкий к вайде по химическому составу, но более эффективного действия. Мы к этому еще вернемся.
А пока задержимся в XIII веке, который оставил нам многочисленные свидетельства ожесточенных конфликтов между торговцами мареной (растением, из которого производят красную краску) и торговцами вайдой. В Тюрингии торговцы мареной однажды даже просят витражных мастеров изобразить чертей в синих одеждах, чтобы дискредитировать новую моду[101]. А севернее, в Магдебурге, крупнейшем центре торговли мареной во всей Германии и в славянских странах, на фресках, украшающих стены храма, уже не черти, а сам ад, обитель скорби и плача, изображен в синих тонах: вот как важно было дискредитировать модный цвет[102]. Напрасные старания: триумфального шествия вайды уже не остановить. К большому несчастью для торговцев мареной, с середины XIII века по всей Европе красное начинает отступать под натиском синего как в декоративных тканях, так и в одежде. Только в сегменте роскоши – шелках и знаменитых «алых сукнах»[103] – красное еще удерживает свои позиции. Но отчаянное сопротивление роскошных красных тканей будет продолжаться лишь до окончания Средних веков, а потом постепенно сойдет на нет[104].
Благодаря новой моде красильщики, специализирующиеся на синем цвете, постепенно захватывают лидерство в профессии, которое прежде принадлежало мастерам окрашивания в красное. Это происходит всюду, хотя и разными темпами: во Фландрии, Артуа, Лангедоке, Каталонии и Тоскане – очень рано, в Венеции, Генуе, Авиньоне, Нюрнберге и Париже – сравнительно поздно. Наше утверждение подкреплено документальными данными. По цеховым правилам каждый подмастерье, желающий открыть собственную мастерскую, должен был показать, насколько он искусен в своем ремесле, и создать некое образцовое изделие, так называемый шедевр. Например, чтобы стать мастером-красильщиком, надо было выкрасить несколько кусков ткани. Так вот, в Руане, Тулузе и Эрфурте начиная с XIV века финальным испытанием для претендента становится окрашивание в синий цвет. Причем это правило распространяется и на тех, кто работает в мастерской, занимающейся окрашиванием в красное. Между тем в Милане соответствующее правило начинает действовать лишь с XV века, а в Нюрнберге и Париже – с XVI[105].
Окрашивание в красное и окрашивание в синее
Как мы видим, среди красильщиков существует строгое и четкое разделение труда, и вся их профессиональная деятельность жестко регламентирована. Начиная с XIII века разработано множество документов, в которых описываются организации красильщиков, указывается местонахождение их мастерских, разъясняются их права и обязанности. Приводится перечень дозволенных и запрещенных красителей[106]. К сожалению, большинство этих текстов пока остаются неизданными, и средневековые красильщики, в отличие от суконщиков и ткачей, еще ждут своего историка[107]. В 1930–1970-е годы благодаря моде на исторические труды по экономике мы узнали многое о месте красильного дела в процессе производства сукна и о зависимости красильщиков от торговцев[108], но обобщающей работы, целиком посвященной этому ремеслу, до сих пор нет. Хотя в сохранившихся документах можно найти немало упоминаний о красильщиках. Неудивительно: ведь они занимали важное место в экономической жизни эпохи. Для средневековой Европы производство тканей – одна из главных отраслей промышленности, поэтому во всех текстильных городах действуют многочисленные и хорошо организованные объединения красильщиков. И у них часто возникают конфликты с другими ремесленными корпорациями, в частности с суконщиками, ткачами и кожевниками. Согласно цеховым статутам, предписывающим четкое разделение труда, красильщики имеют монополию на окрашивание тканей. Но бывает, что ткачи сами занимаются окрашиванием, хотя, за редкими исключениями, не имеют на это права. И начинаются конфликты, судебные разбирательства, и все это оставляет след в архивах, где историк цвета нередко может найти ценнейшие сведения. Например, из архивов мы узнаем, что в Средние века большинство тканей окрашивалось в куске и только шелк в нити, а шерсть в руне[109].
Иногда ткачи добиваются от городских властей или от местных сеньоров разрешения самостоятельно окрашивать ткани в цвет, недавно вошедший в моду, или красителем, который до сих пор применялся редко или не применялся вообще. Иными словами, они стремятся получить исключительное право на новинку, пусть и в обход существующих статутов и предписаний. То есть цех ткачей менее консервативен в данной области, чем цех красильщиков. Но красильщики в ярости: нарушена их монополия. Так, около 1230 года королева Бланка Кастильская разрешила парижским ткачам в двух мастерских заниматься окрашиванием в синий цвет, применяя в качестве красителя исключительно вайду. Эта мера была вызвана все возрастающим спросом на ткани синего цвета – цвета, который так долго оставался невостребованным, а теперь стал нужен всем. В результате между ткачами, красильщиками, королевскими чиновниками и городским советом разгорелся конфликт, длившийся несколько десятилетий. Его отголоски слышатся еще в 1268 году, в «Книге ремесел» парижского прево Этьена Буало, составленной по распоряжению Людовика Святого, чтобы закрепить статуты различных ремесленных корпораций Парижа: «Каждый парижский ткач может красить в своем доме во все цвета, кроме как вайдой. Окрашивать же вайдой можно только в двух домах, так как королева Бланка, да отпустит ей бог грехи, установила, что цех ткачей может иметь два дома, где можно заниматься ремеслом красильщиков и ткачей свободно. <…> Когда умирает ткач-красильщик, парижский прево по совету мастеров и присяжных ткачей должен назначить на его место другого ткача, который, так же как и первый, может окрашивать вайдой. В цехе ткачей нельзя окрашивать вайдой, кроме как в двух домах, и это пожаловала им королева Бланка, как выше сказано»[110].
С кожевниками, чье ремесло также считается зазорным (они используют в своей работе трупы животных), у красильщиков спор идет не из-за ткани, а из-за речной воды. Красильщикам и кожевникам, как, впрочем, и другим ремесленникам, для работы вода жизненно необходима. Но эта вода должна быть чистой. А если она будет загрязнена красками, кожевники не смогут вымачивать в ней кожи. И наоборот: если кожевники после вымачивания выливают воду в реку, для красильщиков речная вода становится непригодной. Отсюда бесконечные споры и судебные тяжбы, о которых можно узнать из многочисленных документов, хранящихся в архивах. Это всевозможные предписания, постановления и распоряжения властей, требующие от красильщиков (и других ремесленных корпораций) вывести производство за пределы города и городских предместий, потому что «занятие означенными ремеслами вызывает столь сильное зловоние и нуждается в веществах столь вредных для человеческого тела, что будет весьма разумно выбрать для сего занятия безопасные места, где оно не может быть пагубным для общего здоровья»[111].
В Париже, как и во всех крупных городах, запреты на размещение мастерских в густонаселенных районах вводятся в XV веке и, постоянно возобновляясь, действуют по XVIII век. Вот, например, что говорится в предписании городского совета Парижа 1533 года: «Воспрещается всем кожевникам, дубильщикам и красильщикам заниматься их ремеслом в домах, расположенных в городе или предместьях; предписывается им держать шерстомойни по течению реки Сены ниже Тюильри… воспрещается также выливать в реку дубильные растворы, краски или иные подобные нечистоты; не дозволяется им заниматься ремеслом нигде кроме мест, по ту сторону Шайо находящихся, на расстоянии не менее двух полетов стрелы от Парижа и предместий, под страхом изъятия всего их имущества, а также всего товара, и изгнания их за пределы королевства»[112].
Ожесточенные споры из-за речной воды возникают не только с представителями других ремесел: нередко у красильщиков случаются и междоусобицы. В большинстве текстильных городов действует четкое разделение красильщиков по окрашиваемым тканям (шерсть и лен, шелк, а в нескольких городах Италии еще и хлопок) и по используемым красителям или группам красителей. Согласно установленным правилам, мастер не имеет права работать с тканями или красками, на которые у него нет разрешения. Например, с XIII века красильщик, имеющий разрешение окрашивать в красный цвет, не может окрашивать в синий – и наоборот. Правда, «синие» красильщики часто окрашивают еще и в зеленые тона, а также в серое и черное, а «красные» работают со всеми оттенками желтого. Однако если в каком-либо городе «красные» доберутся до реки первыми, вода в ней заметно покраснеет, и «синие» смогут взяться за работу лишь спустя некоторое время. Это приводит к непрекращающимся ссорам и обидам, длящимся не одно столетие. Иногда, как в Руане в начале XVI века, городские власти пытаются ввести гибкий график доступа к реке, который меняется раз в неделю, чтобы каждый желающий, когда придет его очередь, мог пользоваться чистой водой[113].
А в некоторых городах Германии и Италии красильщики разделяются не только по цветам, но еще и по красителям: каждая группа может использовать один-единственный. Например, в Нюрнберге и Милане в XIV–XV веках «красные» красильщики делятся на тех, кто использует марену, производимую из растения, которое растет по всей Западной Европе, и потому стоящую не слишком дорого, и тех, кто использует кошениль, или кермес, который ввозится из Восточной Европы и с Ближнего Востока и стоит баснословных денег. Эти две категории ремесленников по-разному платят подати, за ними по-разному осуществляется надзор, они используют разные протравы, и клиентура у них тоже разная[114]. Во многих городах Германии (Магдебурге, Эрфурте[115], Констанце и особенно в Нюрнберге) среди «красных» и «синих» мастеров различают тех, кто окрашивает в обычные тона (Färberили, если тона блеклые или сероватые, Schwarzfärber), и красильщиков высшей категории (Schönfärber). Последние используют дорогостоящие красители, которые, благодаря их искусству, глубоко пропитывают волокна тканей. Это «красильщики, чьи цвета красивы, ярки и прочны»[116].
Запреты на смешивание и протравливание
Такая узкая специализация не слишком удивляет историка цвета. По-видимому, она связана с тем глубоким отвращением к смешиванию и смесям, которое пришло в Средние века из библейской культуры и стало неотъемлемым свойством средневекового менталитета[117]. Это отвращение проявляется сплошь и рядом, как в идеологии и символике, так и в повседневной жизни, а также материальной цивилизации Средних веков[118]. Смешивать, сливать, сплавлять или спаивать воедино – все эти манипуляции часто воспринимаются как дьявольское наущение, ибо они нарушают порядок и природу вещей, предустановленные Творцом. А на всех тех, кому по роду занятий приходится это делать (красильщиков, кузнецов, алхимиков, аптекарей), смотрят с опаской или с подозрением, ибо они, как принято думать, мошенничают с природными веществами. Да они и сами не решаются прибегать к некоторым манипуляциям: так, в красильных мастерских никогда не смешивают две краски, чтобы получить третью; наслаивать краски, перекрывать одну другой – сколько угодно, а вот смешивать – никогда. До XV века ни в одном руководстве по приготовлению красок, как для бытового окрашивания, так и для живописи, не указывается, что для получения зеленого цвета надо смешать синюю краску с желтой. Зеленые тона получают другими способами: или из пигментов и красителей, от природы имеющих зеленую окраску (зеленой глины, малахита, медной ржавчины, ягод крушины, листьев крапивы, сока порея), или из синих или черных красителей, подвергшихся специальной многоэтапной обработке, которая не связана со смешиванием. Впрочем, для людей Средневековья, не имеющих понятия о солнечном и цветовом спектрах, синий и желтый – цвета, имеющие совершенно разный статус, и, если поместить их на одной шкале, они окажутся очень далеко друг от друга; а следовательно, у них не может быть «промежуточной территории», которой стал бы зеленый[119].
В самом деле, на цветовой шкале, описанной Аристотелем и его последователями[120], а затем ставшей образцом для выстраивания большинства европейских палитр и хроматических систем, как минимум до XVI века желтый находится рядом с красным и белым, а зеленый рядом с синим и черным; их разделяет большое расстояние. А у красильщиков как минимум до XVI века чаны с синей и желтой красками стоят в разных помещениях: даже если пренебречь запретом, было бы физически очень сложно смешать эти две краски для получения зеленого цвета. Такие же сложности и запреты существуют и в отношении фиолетовых тонов; редко когда их получают путем смешивания синего и красного, то есть вайды и марены; как правило, фиолетовую краску делают из одной марены, подвергая окрашенную ткань особому воздействию, так называемому протравливанию[121]. Вот почему средневековые фиолетовые тона, как, впрочем, и античные, гораздо ближе к красному или черному, чем к синему цвету.
Здесь уместно будет напомнить, какие трудности возникали у красильщиков из-за необходимости протравливания, то есть применения некоей промежуточной субстанции (винного камня, квасцов, уксуса, мочи, извести и т. п.), помогающей пигменту глубже проникать в волокна ткани и закрепляться в них. Есть красители, при работе с которыми для получения яркого, насыщенного цвета требуется усиленное протравливание: это марена (красные тона) и церва (желтые тона). Другие же, напротив, нуждаются лишь в легком протравливании или могут вообще без него обойтись: это вайда, а впоследствии – индиго (в первую очередь синие, но также и зеленые, серые и черные тона). Отсюда и встречающееся во всех документах разделение красильщиков на «красных», то есть постоянно применяющих протравливание, и «синих», применяющих его лишь в отдельных случаях. Во Франции с позднего Средневековья существует и своя терминология: мастеров красильного дела здесь разделяют на «горячих» (тех, кому при первом погружении ткани в красильный чан приходится кипятить ее вместе с протравой) и «холодных», или «синильщиков» (тех, кто в этом не нуждается, а порой даже может окрашивать ткани в холодном растворе). И в каждом источнике снова и снова уточняется: мастер-красильщик может работать только по одной из этих специальностей. Вот как на это смотрели в Валансьене в начале XIV века: «И снова предписывается и постановляется: ни один синильщик не имеет права красить в кипящей протраве, и ни один горячий красильщик не имеет права красить вайдой»[122].
Всякий, кто занимается историей красильного дела тех далеких времен, наверняка обратит внимание на еще одно характерное проявление средневекового менталитета. Это касается густоты и насыщенности цвета. Изучение техники красильного дела, стоимости красителей и иерархии окрашенных тканей по принципу их привлекательности показывает, что насыщенность и яркость цвета ценится не менее высоко, нежели сам цвет. Привлекательный, дорогостоящий, престижный цвет – это цвет насыщенный, яркий, сияющий, который насквозь пропитывает волокна ткани и не блекнет от солнечного света, стирки и времени.
Эта система ценностей, отдающая предпочтение яркости и насыщенности перед богатством и изысканностью деталей, проявляется и во многих других областях, так или иначе связанных с цветом: в лексике (в частности, в применении префиксов и суффиксов), в правилах хорошего тона, художественных исканиях, законах против роскоши[123]. Отсюда и нечто совершенно несовместимое с нашим современным восприятием и нашей современной концепцией цвета: средневековым красильщиком и его клиентурой – а также средневековым живописцем и его публикой – насыщенный и глубокий цвет часто воспринимается как более близкий другому насыщенному и глубокому цвету, чем тому же тону, но только блеклому или менее концентрированному. Так, если речь идет о куске сукна, яркий, насыщенный синий цвет всегда воспринимается как более близкий столь же яркому и насыщенному красному, чем бледному, тусклому, водянистому синему. В средневековом цветовосприятии – и в экономических и социальных системах, на которых оно основано, – предпочтение всегда отдается шкале насыщенности или густоты, а не шкале нюансов и оттенков.
Все книги рецептов, написанные для красильщиков, в один голос твердят: мастер должен добиваться насыщенного, густого, стойкого цвета. И главное для достижения такого результата – протравливание. Однако у каждой мастерской свои профессиональные приемы и секреты, которые передаются из поколения в поколение, от мастера к ученику, как правило, на словах: перо и пергамент играют в этой преемственности лишь второстепенную роль.
Книги рецептов
До наших дней дошло множество книг с рецептами красок и протрав и указаниями для красильщиков. Эти документы, созданные на закате Средневековья и в XVI веке, весьма трудны для изучения[124]. И не только потому, что все они копируют друг друга, и в каждой следующей копии текст выглядит не так, как в предыдущей: иногда к записанным ранее рецептам добавляются новые, какие-то из них выбрасываются, текст может меняться, одно и то же вещество может называться по-разному или наоборот разные вещества могут носить одно и то же название. Но главная трудность в том, что конкретные практические советы постоянно соседствуют с туманными аллегориями и экскурсами в область символики. В одной фразе содержатся рассуждения о символике и «свойствах» четырех стихий (воды, земли, огня и воздуха) и технические указания – как заполнять котел, как чистить красильный чан. К тому же количества и пропорции необходимых средств всегда указываются приблизительно: «Возьми изрядную долю марены и разведи в некотором количестве воды; добавь малость уксуса и много винного камня…» Время кипячения, настаивания или вымачивания не указывается вообще, а когда указывается, то вызывает недоумение. Так, в одной книге с рецептами красок для живописи конца XII века говорится: чтобы приготовить зеленую краску, надо вымачивать медные опилки в уксусе или три дня, или девять месяцев[125]. Это типично для Средневековья: ритуал важнее результата, а критерий качества выше, чем фактор количества. В средневековой культуре «три дня» и «девять месяцев» по сути выражают одну и ту же идею: идею ожидания чего-то или рождения (либо возрождения) кого-то: в первом случае это соответствует времени смерти и воскресения Христа, во втором – появлению на свет ребенка.
Любая средневековая книга рецептов, для кого бы она ни предназначалась – для красильщиков, живописцев, врачей, аптекарей, поваров или алхимиков, – столько же похожа на аллегорический трактат, сколько на практическое руководство. У всех этих текстов схожее построение фразы, схожая лексика: употребляются одни и те же глаголы – взять, выбрать, сорвать, измельчить, истолочь, замочить, прокипятить, растворить, размешать, добавить, процедить. Всюду подчеркивается, насколько важно на каждом этапе не мешать времени выполнять его неторопливую работу (все попытки ускорить процесс бесполезны и безнравственны) и правильно выбирать сосуды: из глины, железа, олова, открытые или закрытые, большие или маленькие, той или иной формы, и для каждого есть свое название. То, что происходит внутри сосуда, – из разряда превращений: опасная, едва ли не дьявольская процедура; поэтому при выборе компонентов и обращении с ними надо быть максимально осторожным. И наконец, все книги рецептов с большим недоверием относятся к любым смесям и к использованию разных по происхождению компонентов: следует помнить, что минеральное – это не растительное, а растительное – не животное. Нельзя производить какие угодно манипуляции с какими угодно материалами: растительные материалы – чисты, а животные – нет; минеральное сырье – мертвое, а растительное и животное – живое. Зачастую, если вам нужно окрасить ткань или написать картину, самое важное – суметь добиться, чтобы вещество, которое считается живым, воздействовало на вещество, которое считается мертвым.
У средневековых книг рецептов столько общих свойств, что их можно было бы изучать все вместе, как некий особый литературный жанр. И хотя в этих текстах полно неясностей и ошибок, а датировать их, установить авторов, выяснить хронологическую последовательность источников очень сложно, они изобилуют ценной и разнообразной информацией. Многие из них до сих пор ждут своего издателя; некоторые все еще не обнаружены, другие пока не каталогизированы[126]. Их изучение помогло бы нам не только получить новые сведения о красильном деле, живописи, кухне и медицине Средних веков, но еще и лучше представить себе историю практического знания (правда, слово «практический» здесь, конечно же, надо употреблять с большой осторожностью) в Западной Европе после заката Античности и до XVIII века[127].
Но если мы сосредоточимся на красках, то с изумлением увидим, что вплоть до конца XIV века во всех книгах три четверти рецептов посвящены окрашиванию в красный цвет; позднее же рецепты, касающиеся синего, становятся все более и более многочисленными. А в начале XVIII века в руководствах по окрашиванию тканей «синих» рецептов уже больше, чем «красных»[128]. Такая же эволюция прослеживается и в трактатах и книгах рецептов для живописи: до эпохи Возрождения основное место в них занимают рецепты красных красок, затем синие начинают конкурировать с красными и в конце концов одерживают над ними верх. Это соперничество красного и синего – отнюдь не мелкий житейский казус: оно представляет собой важный аспект истории цветовосприятия в западноевропейских социумах начиная с XII–XIII веков. Мы еще поговорим об этом подробнее.
Cейчас, пока мы не располагаем обзорными трудами и просто достаточным количеством изданных текстов на данную тему, эти книги рецептов вызывают у историка красок одни и те же вопросы: какую пользу могли принести средневековым красильщикам эти книги, в которых больше абстрактных рассуждений, чем конкретных указаний, больше аллегорий, чем практических советов? Приходилось ли их авторам собственноручно окрашивать ткани? И кому были предназначены их рекомендации? Одни рецепты очень длинные, другие совсем короткие: означает ли это, что они адресованы разным аудиториям, что некоторые из них действительно применяются в красильнях, а другие живут самостоятельной жизнью без всякой связи с ремеслом и ремесленниками? И какую роль в их создании играли переписчики? Нашего сегодняшнего уровня познаний вряд ли хватит для вразумительного ответа. Но вот что интересно: те же или почти те же вопросы возникают и при изучении рецептов красок для живописи, области, в которой мы, к счастью, располагаем большей информацией: от нескольких художников остались не только картины, но и записи, содержащие рецепты красок[129]. И мы часто замечаем, что между первыми и вторыми, по крайней мере до XVII века, очень мало совпадений. Самый знаменитый пример – Леонардо да Винчи, автор незаконченного трактата о живописи, компилятивного и в то же время философского, и картин, которые ни в коей мере не являются претворением в жизнь рекомендаций, изложенных в этом трактате[130].
Новый цветовой порядок
Иконографический цвет Девы Марии, эмблематический цвет короля Франции и короля Артура, символический цвет королевской власти и просто модный цвет, синий все чаще ассоциируется в литературных текстах с такими понятиями, как радость, любовь, верность, покой и утешение. К концу Средневековья для некоторых авторов он становится самым прекрасным и благородным из цветов. В этом своем новом качестве он постепенно вытесняет красный, прежде игравший ту же роль. Уже во второй половине XIII века анонимный автор романа «Сон де Нансе», созданного в Лотарингии или в Брабанте и восхваляющего рыцарские добродетели, замечает: «Синий цвет утешает сердце, / Ибо он – император среди цветов»[131]. А вот что сказал несколько десятилетий спустя великий поэт и композитор Гийом де Машо (1300–1370): «Кто знает толк в цветах / И умеет распознать их смысл, / Превыше всех ценит / Нежную лазурь»[132].
Главное для историка – суметь объяснить эту внезапную моду на синее и понять причины, обусловившие коренные изменения в иерархии цветов. Быть может, все дело в техническом прогрессе, в новом способе изготовления красок, который позволил западноевропейским красильщикам сделать то, что их предшественникам не удавалось сделать в течение столетий, – придать сукну красивый, насыщенный, глубокий, стойкий и яркий синий цвет? А появление новых оттенков синего в тканях и одежде постепенно привело к тому, что этот цвет внедрился и в другие области жизни: с помощью неких новых технических приемов искусные мастера научились закреплять его на других носителях. Или все было наоборот: в обществе изменилось отношение к синему цвету, он стал востребованным, и это вызвало технический прорыв в красильном деле, а затем и в прочих ремеслах?[133]Другими словами, что было раньше: спрос или предложение? С чего все началось – с химии и технологии? Или же с идеологии и символики? Последний вариант представляется мне более вероятным.
Однако на все эти вопросы нельзя ответить однозначно, ибо во многих областях жизни химию трудно отделить от символики[134]. Но совершенно очевидно, что мода на синий цвет в XII–XIV веках – это отнюдь не малозначительная подробность тогдашнего быта, она отражает глубокие изменения в обществе, в его мышлении и восприятии. И удивительная судьба синего – не частный случай, а показатель того, что люди стали иначе смотреть на цвета и по-иному соотносить их друг с другом. На смену прежнему цветовому порядку, восходящему, быть может, еще к доисторическим временам, приходит новый.
Его главная особенность – упразднение старой триады «белый-красный-черный», о которой мы говорили в начале этой книги и которая безраздельно властвовала в культурах Древнего Востока, библейской и греко-римской, а затем – в Европе эпохи раннего Средневековья. Эта трехполюсная хроматическая система, существующая, по свидетельствам лингвистов и этнологов[135], также во многих цивилизациях Африки и Азии, была основана на антагонизме белого и двух других цветов, воспринимаемых как его противоположности. Это давало возможность свести все цвета к трем основным: так, желтый считался разновидностью белого, а с другой стороны, зеленый, синий и фиолетовый приравнивались к черному[136]. У многих древних народов общество делилось на три класса, которым давали названия цветов; на заре истории Рима его обитатели делились на albati, russati, virides– белых, красных и темных (об этом пишет Ж. Дюмезиль в своей книге «Индоевропейские ритуалы в Риме»)[137]. Влияние этой древнейшей хроматической системы прослеживается в средневековой литературе (особенно в героических сказаниях[138], но также и в рыцарских романах), топонимике и антропонимике, в сказках, баснях и фольклоре. Например, история Красной Шапочки, самая ранняя версия которой появилась, по-видимому, на рубеже первого и второго тысячелетий[139], вертится вокруг трех цветов: маленькая девочка в красном несет горшочек белого масла бабушке (она же – волк), одетой в черное. Такое же движение от цвета к цвету присутствует и в «Белоснежке», но там цвета распределены иначе: колдунья в черном приносит белолицей девушке красное (то есть отравленное) яблоко. Еще один вариант распределения цветов – в басне о вороне и лисице, возможно, самой древней из басен: черная птица роняет белый сыр, которым завладевает рыжая лисица. Можно привести множество примеров такого использования цветовой триады в сюжетах, восходящих к незапамятным временам, а также обнаружить символическое обыгрывание этой схемы в различных областях жизни[140]. Итак, в период между концом XI и серединой XIII века западноевропейская культура отходит от древней трехполюсной системы. Новому социальному порядку нужен новый цветовой порядок. Двух хроматических шкал и трех основных цветов уже недостаточно. Теперь западноевропейскому обществу требуются шесть основных цветов (белый, красный, черный, синий, зеленый, желтый), а также самые сложные их сочетания, чтобы создавать эмблемы, репрезентативные коды и символические системы – именно в этих трех сферах проявляется главная, классификаторская функция цвета. Среди таких новых сочетаний приобретает особое значение связка «красное-синее»: она позволяет красному, как некогда белому, обзавестись антагонистом – в данном случае эту роль играет синий. К двум известным с глубокой древности цветовым парам (белое-черное и белое-красное) добавляется третья: красное-синее. В XIII веке красный и синий начнут противопоставлять друг другу (чего прежде никогда не бывало), и это противопоставление просуществует до наших дней.
Глава III Высокоморальный цвет
XV–XVII века
С середины XIV века синий цвет в западноевропейской культуре вступает в новую фазу своей истории. Модному цвету, цвету Пресвятой Девы, королевскому цвету теперь приходится соперничать не только с красным, но и с черным: обычай одеваться в черное, появившийся на исходе Средневековья, будет распространяться все шире и доживет до начала современной эпохи. Однако эта конкуренция приносит синему не вред, а, напротив, одну лишь пользу. Цвет королей, цвет Богоматери наряду с черным становится цветом высокой морали. Эта новая роль синего в европейских социумах обусловлена двумя причинами, которые связаны с этикой и особенностями человеческого восприятия: очень сильным в эпоху позднего Средневековья морализаторским течением в общественной мысли и в еще большей степени – мнением вождей Реформации о том, какие задачи должен выполнять цвет в жизни общества, в художественном творчестве и в религиозной обрядности.
Поэтому историю синего цвета в XIV–XVII веках нельзя изучать обособленно. В эти столетия она теснее, чем когда-либо, переплетается с историей других цветов, главный из которых в данном случае – черный.
Законы против роскоши и предписания об одежде
Итак, все эти изменения – результат моды на черное, появившейся в середине XIV века. Постепенно, косвенным образом, эта мода усиливает влияние синего цвета в ущерб красному. Все начинается в 1360–1380 годах. Повторяется история с синим цветом: за одно-два десятилетия красильщики по всей Европе ухитрились сделать то, что не удавалось сделать в течение долгих столетий: выкрасить шерсть в красивый черный цвет, насыщенный, яркий, прочный. И, как представляется, в основе этих технических и профессиональных достижений – не открытие химиков, не появление в Европе какого-то неизвестного прежде красителя, завезенного издалека, а новые запросы общества. Отныне обществу требуются черные ткани и черная одежда высокого качества, и красильщикам приходится окрашивать в этот, ставший модным, цвет огромные куски сукна; вот они и изобрели более привлекательный оттенок черного, причем освоили новую технику с необычайной быстротой. Полагаю, что в данном случае опять-таки требования общества, его изменившаяся идеология стали катализатором прогресса в химии и технологии, а не наоборот.
Мода на черное в Западной Европе, продержавшаяся от заката Средневековья до начала современной эпохи, представляет большой интерес как факт общественной жизни и как феномен человеческого восприятия. Отголоски этой моды не умолкают и по сей день: вспомним наши темные костюмы, наш траур, наши смокинги, вечерние туалеты, пресловутое «маленькое черное платье», а в какой-то степени, быть может, даже джинсы, блейзеры, всевозможную униформу и мундиры темно-синего цвета (как мы увидим в конце этой книги, темно-синий – самый распространенный цвет в современной европейской одежде). Мода на черную одежду, зародившаяся в XIV веке, будет иметь продолжительное влияние на историю синего цвета.
Однако, хоть мы и располагаем многочисленными документальными свидетельствами об этой моде, не все в ней еще понятно, а о ее причинах пока остается лишь догадываться. Очевидно, причины эти были прежде всего морального и экономического порядка. В середине XIV века, после опустошительной эпидемии чумы 1346–1350 годов – а кое-где и ранее – в западно-христианском мире все чаще стали издаваться законы против роскоши и предписания об одежде. На эту тему есть несколько монографий, посвященных отдельным городам[141], но фундаментальный труд о законах против роскоши – сначала издававшихся королями и феодалами, затем городскими властями и патрициями – пока еще не написан[142]. В различных формах законы эти просуществуют вплоть до XVIII века (так будет, например, в Венеции и Женеве), а их следы сохранятся в повседневной моде Нового и Новейшего времени.
Почему они появились? Причин было три. Во-первых, экономическая: необходимость ограничить расходы на одежду всех классов и категорий общества, ибо это были непродуктивные инвестиции. Во второй половине XIV века среди знати и патрициата расходы на одежду становятся непомерными, страсть к великолепным нарядам уже граничит с безумием[143]. Надо обуздать эту расточительность, объявить войну кичливой роскоши, которая заставляет людей влезать в долги, доводит их до разорения. Кроме того, надо предотвратить повышение цен, переориентировать экономику, стимулировать местных производителей, приостановить импорт предметов роскоши, которые привозятся иногда из самых отдаленных стран Востока. Затем – причина морального свойства: необходимость поддерживать христианскую традицию скромной и добродетельной жизни. В этом смысле подобные законы, уложения и предписания следует рассматривать в рамках мощного морализаторского движения, которое появилось на исходе Средневековья и продолжилось в эпоху Реформации. Все законы такого рода осуждают различные перемены и нововведения, приводящие к нарушению существующего порядка вещей и порче нравов. Вот почему они часто бывают направлены против молодежи и женщин, ведь представителей этих двух социальных категорий обычно привлекает новизна. И наконец, главная причина – идеологическая: одежда должна стать средством сегрегации, каждый обязан носить платье, соответствующее его полу, сословию, рангу и заслугам. Чтобы различные классы общества не смешивались, надо установить между ними непроницаемые барьеры. Отныне представителя того или иного класса можно будет распознать по одежде. Разрушить эти барьеры – значит посягнуть на порядок, заведенный самим Господом Богом, то есть совершить поступок в равной степени опасный и кощунственный.
Таким образом, одежда человека отныне строго регламентируется его происхождением, уровнем доходов, возрастом, родом занятий, социальной и профессиональной принадлежностью. От этого зависит и количество вещей, составляющих его гардероб, и качество тканей, из которых они сшиты, их цвет, наличие или отсутствие мехов, украшений, драгоценностей и прочих аксессуаров. Разумеется, законы против роскоши распространяются не только на одежду, но и на все, что окружает человека: посуду, столовое серебро, еду, мебель, дома, кареты, слуг, домашних животных; но одежда важнее всего, потому что она приобретает знаковый характер в новом, только начинавшем складываться обществе, где внешний вид будет играть все большую роль. Вот почему законы против роскоши имеют такое значение для историка, изучающего одежду европейцев на закате Средневековья и желающего разглядеть за их манерой одеваться определенную идеологическую подоплеку. Тем более что законы эти зачастую были малоэффективны, их приходилось издавать заново, тексты их становились все более длинными, а содержащиеся в них запреты и указания – чрезвычайно, иногда избыточно подробными[144]. Это делает их особенно интересными для исследователя. К сожалению, на сегодняшний день опубликованы лишь немногие из этих текстов.
Цвета предписанные и цвета запретные
Посмотрим, что говорится в этих законах, декретах и предписаниях, изданных в XIV–XV веках, о цвете одежды. Во-первых, некоторые цвета объявляются запретными для той или иной социальной категории не потому, что цвета эти слишком яркие, бросающиеся в глаза, а потому, что для их получения нужны очень дорогие красители, которые могут быть использованы лишь для одежды наиболее знатных, богатых и высокопоставленных людей. Так, в Италии знаменитое «алое венецианское сукно», для окраски которого требуется дорогостоящий сорт кошенили, имеют право носить лишь владетельные князья и сановники высшего ранга. Подобным же ограничениям в Германии подверглись красные ткани, окрашенные польской кошенилью, и даже некоторые синие, особо роскошные, так называемые «павлиньи» сукна, окрашенные высококачественной тюрингенской вайдой. Таким образом, моральные ограничения касаются не самого цвета, а вещества, необходимого для его получения. Но историку, изучающему эти законы, порой нелегко понять, о чем идет речь – о цвете, о красящем веществе или об окрашенной ткани: иногда и то, и другое, и третье обозначается одним словом. Это может привести к невообразимой путанице. Например, в XV веке в текстах законов, написанных не по-латыни, а на местном наречии (на французском, немецком и голландском языках), словом «алый» иногда обозначаются все роскошные ткани, каков бы ни был их цвет, иногда – все роскошные ткани красного цвета, вне зависимости от красителя; временами это определение относится исключительно к красным тканям, окрашенным кошенилью, временами – к самому этому красителю, знаменитому и баснословно дорогому; в других случаях слово «алый» употребляется в его современном значении: яркий, красивый оттенок красного[145].
По всей Европе одежду дорогостоящих или слишком ярких цветов запрещается носить тем, чей облик должен быть важным и суровым: в первую очередь, конечно же, священникам, затем вдовам, судьям и чиновникам. А всем остальным запрещается носить многоцветную одежду, со слишком резким сочетанием красок, сшитую из ткани в полоску, в шашечку или в крапинку[146]. Она считается недостойной доброго христианина.
Однако в законах против роскоши и различных декретах об одежде основное место уделяется не запретным, а предписанным цветам. Здесь уже речь идет не о качестве красителя, а о цвете как таковом, независимо от его оттенка, степени яркости или насыщенности. Предписанный цвет не должен быть нежным или блеклым, напротив, он должен бросаться в глаза, ибо это отличительный знак, эмблема позора, клеймо бесчестия, которое должны носить на себе представители особых общественных категорий, а также все презираемые и отверженные. На городских улицах их должно быть видно издалека, поэтому предписания об одежде разработаны в первую очередь для них. Для поддержания существующего порядка, для сохранения добрых нравов и обычаев, завещанных предками, необходимо отделить почтенных горожан от мужчин и женщин, которые обретаются на задворках общества, а то и за его пределами.
Перечень тех, к кому относятся такие предписания, очень длинен. Прежде всего, это мужчины и женщины, которые занимаются опасным, постыдным или просто подозрительным ремеслом: врачи и хирурги, палачи, проститутки, ростовщики, жонглеры, музыканты, нищие, бродяги и оборванцы. Затем – все те, кто был признан виновным в каком-либо проступке, от обычных пьяниц, затеявших драку на улице, до лжесвидетелей, клятвопреступников, воров и богохульников. Затем – убогие и увечные (в средневековой системе ценностей любое увечье, физическое или умственное, почиталось за великий грех): хромые, калеки, шелудивые, прокаженные, «немощные телом», а также «кретины и слабоумные». И наконец, все нехристиане, евреи и мусульмане: во многих городах и регионах существовали еврейские и мусульманские общины; особенно многочисленными они были на юге Европы[147]. По-видимому, первые декреты о ношении одежды определенного цвета, принятые в XIII веке Четвертым Латеранским собором, предназначались именно для иноверцев. Такое решение было связано с запретом браков между христианами и нехристианами и необходимостью идентифицировать последних[148].
Какие бы мнения ни высказывались на этот счет, совершенно очевидно, что в западно-христианском мире не существовало единой системы цветовых отличий для определенных категорий населения. В разных городах и регионах были приняты различные системы, и даже в одном городе они с течением времени могли меняться. Например, в Милане и Нюрнберге, городах, где в XV веке были приняты многочисленные и очень подробные предписания об одежде, цвета, которые должны были носить изгои общества – проститутки, прокаженные, евреи, – менялись от поколения к поколению, а порой даже от десятилетия к десятилетию. Тем не менее здесь обнаруживается некая закономерность, о которой стоит рассказать вкратце. Дискриминационную функцию выполняют в основном пять цветов: белый, черный, красный, зеленый и желтый. Синий не фигурирует ни в одном из предписаний. Быть может, потому, что на исходе Средневековья он был слишком почитаемым и почетным цветом? Или он успел настолько распространиться, что человек в синем просто не мог привлечь к себе внимание? Или же, как я склонен думать, первые постановления о цветовых различиях в одежде (их история еще не вполне изучена) появились до Латеранского собора (1215), когда синий цвет еще не вошел в моду и его символика считалась слишком бедной, чтобы он мог служить знаком различия? Так или иначе, отсутствие синего в наборе дискриминационных цветов (как, впрочем, и в перечне цветов богослужебных) – важное свидетельство того, сколь малую роль он играл в социальных кодах и системах ценностей до XII века. С другой стороны, данное обстоятельство способствовало «моральному» возвышению синего цвета. Раз он не упоминается ни в предписаниях, ни в запретах, значит, синюю одежду может носить каждый, свободно и без всяких опасений. Возможно, именно поэтому мужчины и женщины все чаще начинают одеваться в синее.
И еще несколько слов о дискриминационных или позорных цветах. Как правило, цветовым знаком различия служили элементы одежды: нашивки в виде крестов или кружков, повязки, шарфы, ленты, чепцы, перчатки, накидки с капюшоном. Эти знаки бывали и одноцветными, но чаще двухцветными. В последнем случае указанные пять цветов использовались во всех возможных сочетаниях, однако наиболее распространенными комбинациями были следующие: красный и белый, красный и желтый, белый и черный, желтый и зеленый. Двухцветный знак имел вид двухчастного гербового щита, разделенного по вертикали, горизонтали или диагонали, или с полосой посредине. Если знак был трехцветный, в нем могли сочетаться только красный, желтый и зеленый: в Средние века они считались кричащими цветами, а их сочетание несло в себе идею многоцветности, почти всегда понимаемой как нечто принижающее.
Если попытаться установить, какие цвета присваивались той или иной категории изгоев, то при известном упрощении можно заметить, что белый и черный, по отдельности или в сочетании, были отличительными знаками убогих и калек[149](особенно прокаженных), по красному знаку узнавали палачей и проституток, по желтому – фальшивомонетчиков, еретиков и евреев; зеленые или желто-зеленые знаки носили музыканты, жонглеры, шуты и умалишенные. Но есть и множество других примеров. Так, знаком проститутки (который должен был не только отпугивать добродетельных граждан, но и привлекать сборщиков налогов) чаще всего служил красный цвет (в разных городах и в разные десятилетия это могли быть красное платье, пояс, шарф, накидка или плащ). Однако в Лондоне и в Бристоле в конце XIV века проститутку можно было отличить от порядочной женщины по одежде из полосатой, разноцветной ткани. Несколькими годами позднее такой же отличительный знак носили проститутки в Лангедоке. А вот в Венеции в 1407 году эту роль выполнял желтый шарф; в Милане в 1412 году – белый плащ; в Кельне в 1423 году – красно-белый пояс; в Болонье в 1456 году – зеленый шарф; в том же Милане, но в 1498 году – черный плащ; в Севилье в 1502 году – зелено-желтые рукава[150]. Единого правила не существует. Иногда проститутку можно узнать не по цвету, а по некоторым деталям одежды. Например, в 1375 году в Кастре такая деталь – мужская шляпа.
Знаки, которые предписывалось носить евреям, были еще разнообразнее: на сегодняшний день они мало изучены. Вопреки мнению многих авторов[151], здесь тоже не было единой системы, распространяющейся на весь западнохристианский мир или хотя бы надолго закрепившейся в той или иной стране, том или ином регионе. Конечно, в итоге победа осталась за желтым цветом, который в иконографии традиционно ассоциируется с иудейством[152]; однако в течение долгого времени евреям предписывали носить или одноцветные знаки – красные, белые, зеленые, черные, – или двухцветные: желто-зеленые, желто-красные, красно-белые, бело-черные. Сочетаний множество, форма знака тоже разная: это может быть кружок, нашитый на одежду (самый частый случай), кольцо, звезда, нечто, напоминающее по виду скрижали Завета, или просто шарф, а иногда даже крест. Если знак нашивался на одежду, то он мог располагаться на плече, на груди, на шляпе и чепце, а порой на нескольких местах сразу. Здесь опять-таки нельзя доказать наличие какого-либо общего принципа[153]. Бесспорным остается только одно: синий цвет никогда не использовался в качестве позорного или дискриминирующего.
От модного черного до высокоморального синего
Вернемся к черному цвету, который в середине XIV века неожиданно вошел в моду. По-видимому, причиной этому стали законы против роскоши и предписания об одежде, о которых только что шла речь. Мода на черное впервые появилась в Италии среди одного лишь городского населения. Некоторые представители патрициата[154], а также богатые купцы, еще не успевшие подняться на вершину социальной лестницы, не имели права носить одежду из роскошных красных (как, например, алое венецианское сукно) или ярко-синих (как флорентийское «павлинье»[155]сукно) тканей. Поэтому, возможно, в знак молчаливого протеста, они завели привычку одеваться в черное. Черный цвет тогда считался скромным и отнюдь не почетным. Но эти люди богаты: они требуют, чтобы портные или суконщики достали им черные ткани более привлекательного вида, более яркой и прочной окраски. Чтобы удовлетворить требования богатых и щедрых заказчиков, суконщики обращаются за помощью к красильщикам. В результате за сравнительно недолгое время, в 1360–1380-е годы, мастерам удается изобрести новую технику крашения. И возникает мода на черный цвет. Благодаря этой моде патриции смогут, не нарушая законов и предписаний, одеваться по собственному вкусу. А еще новая мода позволит им обойти другой запрет, действующий во многих городах: запрет на ношение роскошных мехов, таких как соболь, самый дорогой и самый черный из всех, а следовательно, предназначенный для одних лишь монархов. И наконец, она даст им возможность при исполнении официальных обязанностей появляться перед людьми в строгом и полном достоинства одеянии. Очень скоро моду патрициев и богатых купцов подхватят и другие классы общества. Первыми это сделают европейские монархи. Уже в конце XIV века черная одежда появляется в гардеробе герцога Миланского, графа Савойского[156], а также властителей Мантуи, Феррары, Римини, Урбино. В начале следующего столетия новая мода перешагнет границы Италии: короли и принцы других стран оденутся в черное. Раньше всего это произойдет во Франции и Англии[157], а немногим позже – в Германии и Испании. При французском дворе черная одежда появляется в период душевной болезни короля Карла VI; впервые ее наденут дяди короля, возможно, под влиянием его невестки Валентины Висконти, дочери герцога Миланского, которая привезла с собой обычаи своей родины. Но решающую победу черный цвет одержит несколько десятилетий спустя, в 1419–1420 годах, когда юный принц, коему суждено стать самым могущественным государем Европы, оденется в черное: будущий герцог Бургундии Филипп Добрый сохранит верность этому цвету на всю жизнь[158].
Многие хронисты отмечали у Филиппа эту привязанность к черному и объясняли ее тем, что герцог носил траур по отцу, Жану Бесстрашному, убитому в 1419 году на мосту в Монтеро[159]. Это, безусловно, так, однако следует учесть, что сам Жан Бесстрашный постоянно носил черное – после крестового похода, в котором он участвовал и который завершился поражением христиан в битве при Никополе в 1396 году[160]. Очевидно, сразу несколько факторов – династическая традиция, мода княжеских дворов, политические события и личные обстоятельства – привели к тому, что Филипп Добрый стал одеваться в черное. Авторитет герцога обеспечил черному цвету окончательную победу во всей Западной Европе.
В самом деле, XV век стал веком славы черного цвета. Вплоть до 1480-х годов не было такого короля или владетельного князя, в чьем гардеробе не хранилось бы изрядное количество черной одежды из шерсти и шелка, а также мехов. Порой одежда бывала сплошь черной, а порой черный цвет в ней сочетался с каким-нибудь другим, обычно белым или серым. Ибо XV век, век славы черного и других темных цветов, стал также веком возвышения серого. Впервые в истории западноевропейского костюма этот цвет, прежде использовавшийся для рабочей одежды и для одежды бедняков, стал считаться изысканным, соблазнительным, даже разнузданным. Долгие годы у серого было два венценосных поклонника: Рене Анжуйский[161]и Карл Орлеанский. Оба они, как в своих стихах, так и в гардеробе, часто противопоставляли серый черному. Черный связан с трауром и меланхолией; серый, напротив, – символ надежды и радости. Об этом поется в песне Карла Орлеанского, герцога и поэта «с сердцем, одетым в черное», который двадцать пять лет провел в английском плену: «Оказавшись вне пределов Франции, за горами Монсени, он не утратил надежду, вот почему он одет в серое»[162].
Мода на черное не проходит ни после смерти в 1477 году последнего герцога Бургундского, Карла Смелого (он тоже часто одевался в черное), ни даже после завершения XV века. В следующем столетии популярность черного возрастет чуть ли не вдвое. Помимо того что короли и владетельные князья сохранят верность черному (черный цвет в придворном костюме продержится еще очень долго, кое-где до середины XVII века), этот цвет сохранится в одежде священников, чиновников и судей, всех тех, у кого он, по уже сложившейся традиции, символизирует высокую нравственность. Реформация считает черный самым достойным, самым добродетельным, глубоко христианским цветом; а со временем протестанты приравняют к черному другой цвет, цвет честности, умеренности, цвет неба и одухотворенности: синий.
Реформация и цвет: богослужение
О войне, которую вожди Реформации объявили изображениям, написано очень много. Однако помимо иконоборчества имела место еще и война с цветом, которая пока еще недостаточно изучена. Это «цветоборчество», сыгравшее важную роль в судьбе синего цвета в начале современной эпохи, проявилось в различных областях: в искусстве, в религиозной обрядности, в одежде и повседневной жизни. Рассмотрим каждую из них.
Вопрос о том, должен ли цвет присутствовать в христианском храме, – очень древний. Он вызывал дискуссии и в каролингскую эпоху, и в романскую, когда по этому поводу произошел бурный конфликт между клюнийскими монахами и цистерцианцами[163]. Речь шла не только о догме, но также и об этике и эстетике. Многие прелаты (в том числе и все наиболее видные настоятели Клюнийского аббатства), а также многие богословы считали, что цвет – это свет, то есть единственная часть воспринимаемого нами мира, которая является одновременно видимой и нематериальной. Но, как известно, Бог есть свет. А значит, дозволено, и более того: желательно, расширить пространство, отведенное в храме цвету, не только для того, чтобы изгнать тьму, но и для того, чтобы освободить место для божественного. Так и поступает Сугерий, когда в 1129–1130 годах предпринимает реконструкцию собора Сен-Дени. Однако есть прелаты, придерживающиеся другого мнения: для них цвет – это не свет, а материя[164].
Такая точка зрения возобладала среди цистерцианцев. В соответствии с ней и строились церкви этого ордена в течение почти всего XII века, а кое-где еще и в XIII. Впоследствии суровость цистерцианцев несколько смягчится. Начиная с середины XIV столетия обе позиции начинают сближаться. Одни больше не настаивают на том, чтобы интерьер церкви был ярким и красочным, другие не требуют, чтобы он был одноцветным. Постепенно вырабатывается общее мнение: в церкви допустимы несколько цветовых пятен, а также немного позолоты, исключительно на ребрах арок и нервюрах сводов, и эффекты светотени. Так будет во Франции и в Англии. А вот в странах Священной Римской империи (кроме Голландии), в Польше и Богемии, в Италии и Испании цвет в храме по-прежнему занимает весьма значительное место. Золота много, даже слишком много, и роскошь убранства сочетается с роскошью утвари и облачений. Поэтому в XV веке возникают народные движения (например, гуситов), которые, как впоследствии протестанты, выступают против обилия золота, ярких красок и изображений в церквах, против всего этого неуместного, режущего глаз богатства. Кое-где эти голоса были услышаны. С начала XV века на миниатюрах, созданных на севере и северо-западе Европы, часто можно увидеть почти обесцвеченные церковные интерьеры: примерно так будут выглядеть двести лет спустя интерьеры кальвинистских храмов на картинах голландских художников.
Таким образом, к началу Реформации церкви уже не сверкали прежним многоцветьем. Напротив, время полихромного убранства уже прошло: церковные интерьеры становились строже и аскетичнее. Но, во-первых, новая тенденция проявляется не повсеместно, а во-вторых, идеологам Реформации этого недостаточно: они считают, что цвет вообще нужно изгнать из храма. Подобно святому Бернарду Клервоскому в XII веке, Карлштадт, Меланхтон, Цвингли и Кальвин (позиция Лютера была не столь жесткой[165]) категорически отвергают цвет в церковном убранстве и чрезмерно яркую алтарную живопись. Вслед за библейским пророком Иеремией, который осыпал упреками царя Иоакима, они осуждают тех, кто строит храмы, похожие на дворцы, «и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красною краскою»[166]. Красный цвет – в Библии выполняющий роль Цвета как такового – воспринимается как главный символ роскоши и греха. Он ассоциируется уже не с кровью Христа, а с людскими заблуждениями. Карлштадт и Лютер осыпают его проклятиями[167]. Лютер видит в нем эмблему папской власти, одетой в пурпур, словно блудница вавилонская[168].
Все это сравнительно хорошо известно – особенно рассуждение о греховности ярких цветов в связи с многоцветными облачениями священников и пышностью богослужения. Менее известно другое: каким образом эти теоретические и догматические принципы были претворены в жизнь в протестантских общинах, принадлежавших к различным ветвям этой конфессии? Как выглядят хронология и география изгнания цвета? Сколько церквей было просто разрушено, в скольких многоцветное убранство закрыли от верующих или превратили в одноцветное (стерли позолоту, настенную роспись закрасили однотонной краской или забелили известью), а где интерьер полностью переоформили? Всегда ли добивались абсолютного отсутствия цвета или же в некоторых местах, в некоторых случаях, в некоторые моменты проявлялась бóльшая терпимость? И потом, что это такое – абсолютное отсутствие цвета? Все должно стать белым? Или серым? Или синим? Или остаться некрашеным?
По всем этим вопросам мы располагаем неполными, упрощенными, иногда противоречивыми данными. Цветоборчество – не иконоборчество, по отношению к нему нельзя вычертить такую же четкую хронологическую и географическую схему. Война с цветом – если такая война действительно была – велась не так ожесточенно, более мягкими и хитроумными методами, поэтому историку сложнее ее отследить. И вообще: случалось ли так, что изображения, богослужебная утварь и само здание уничтожались единственно за их слишком яркие, вызывающие цвета? Как ответить на этот вопрос? Как отделить цвет от его носителя? Конечно, полихромная раскраска скульптур, особенно Богоматери и святых, в глазах протестантов превращала эти статуи в идолов. Но одними скульптурами дело не ограничивается. Что стремились уничтожить сторонники Реформации в тех многочисленных случаях, когда они разбивали витражи? Изображение или цвет? Формальный принцип (представление божественных существ в антропоморфном облике)? Или сюжет (сцены из жизни Богоматери, подвиги святых, портреты пап и епископов)? И на эти вопросы у нас пока нет ответа. И порой даже возникает соблазн взглянуть на все с другой стороны: а вдруг ритуалы поругания и разрушения изображений и многоцветья были своего рода «литургией цвета»? Такая мысль возникает потому, что иногда (чаще всего в Цюрихе и в Лангедоке) в этих ритуалах было нечто театральное, чтобы не сказать карнавальное[169].
Слово «литургия» вновь отсылает нас к ритуалу католической мессы, в котором цвет играет первостепенную роль. Церковная утварь и облачения священников не только выполняют функцию, обусловленную их местом в системе богослужебных цветов, они гармонично сочетаются со светильниками, архитектурным декором, полихромной скульптурой, миниатюрами в Библиях и часословах и со всеми драгоценными украшениями храма: в итоге получается настоящий спектакль, герой которого – цвет. Так же как и движения священнослужителей, их позы, как ритмы и звуки молитв, цвета необходимы для католической церковной службы[170]. Однако мы уже говорили о том, что синий цвет был полностью исключен из системы богослужебных цветов, сложившейся в эпоху раннего Средневековья и закрепившейся в XII–XIII веках. Возможно, именно этим обстоятельством и следует объяснить то, что идеологи Реформации всегда будут благосклонно относиться к синему цвету как во внутреннем убранстве храма, так и в наружном, одобрять его использование как в художественном творчестве и общественной жизни, так и в религиозной практике.
В своей борьбе против мессы, этого «непристойного балагана, который делает из Церкви посмешище, превращает ее служителей в фигляров» (Кальвин), «выставляет напоказ никчемные украшения и богатства» (Лютер), Реформация не могла нейтрально отнестись к цвету: и к самому факту его присутствия в храме, и к его роли в литургии. По мнению Цвингли, внешняя красота обрядов препятствует искреннему богопочитанию[171]. А Лютер и Меланхтон считают, что людскому тщеславию не место в храме. Карлштадт убежден в том, что церковь должна быть «чиста, словно синагога»[172]. Лучшее украшение храма, говорит Кальвин, – это Слово Божие. И все они сходятся в том, что храм должен приводить верующих к святости, а значит, должен быть простым, суровым, без прикрас и излишеств, ибо его чистота очищает душу или символизирует ее чистоту. Поэтому в протестантских храмах не найдется места богослужебным цветам, которые так важны для католицизма, и более того: цвет не будет играть никакой роли в отправлении религиозного культа.
Реформация и цвет: искусство
Существует ли какое-то особое протестантское искусство? Вопрос этот не нов. Но ответы, которые пытаются на него дать, по-прежнему туманны и противоречивы. И вот что любопытно: об отношениях между Реформацией и художественным творчеством написано достаточно, однако лишь немногие исследователи уделили внимание проблемам цвета. И вообще, авторы трудов по истории искусства, включая, как это ни удивительно, историю живописи, словно игнорируют историю цвета[173].
Мы видели, как в иных случаях борьба с изображениями превращалась в борьбу с цветами, которые показались борцам чересчур яркими, роскошными, вызывающими. Ученый и антиквар Роже де Геньер (1642–1715) оставил нам зарисовки многочисленных средневековых надгробий анжуйских и пуатевинских прелатов: эти надгробия были покрыты великолепной разноцветной росписью, однако в 1562 году, когда поднялась мощная волна иконоборчества и цветоборчества, гугеноты стерли росписи или превратили их в одноцветные. То же самое случалось летом 1566 года во время массовых церковных погромов на севере Франции и в Голландии, хотя в принципе погромщикам больше нравилось просто крушить все вокруг, чем отскабливать краску с надгробий и перекрашивать их[174]. Однако среди последователей Лютера, после первоначального всплеска агрессивности, наступает период более уважительного отношения к старым изображениям (их не уничтожают, а убирают из алтарей и перекрашивают) и большей терпимости к цвету в интерьере храма, особенно если речь идет о цветах, которые считаются «честными» или «высокоморальными»: белом, черном, сером и синем.
Но хватит о разрушении. Чтобы прояснить отношение протестантизма к искусству вообще и цвету в частности, нам надо узнать, что было им создано. А значит, надо изучить палитру художников-протестантов и то, что предшествовало ее формированию: мнения вождей Реформации об изобразительном искусстве и об эстетическом восприятии. Задача непростая, поскольку они высказывались на эту тему весьма многословно и в разные годы по-разному[175]. Так, например, Цвингли в конце жизни стал относиться к ярким краскам менее враждебно, чем в 1523–1525 годах. Правда, его, как и Лютера, гораздо сильнее беспокоит музыка, чем живопись[176]. Возможно, именно поэтому наибольшее количество замечаний или указаний, касающихся изобразительного искусства и цвета, мы находим не у Лютера и Цвингли, а у Кальвина. К сожалению, они рассеяны по очень объемным текстам его сочинений, и их приходится собирать по крупицам. Постараемся изложить их вкратце, по возможности не искажая смысла.
Кальвин не против изобразительного искусства, но считает, что оно должно иметь исключительно светскую тематику и созидательную направленность, должно «радовать» (почти в теологическом смысле) и чтить Бога. Его задача – изображать не Творца (что недопустимо и чудовищно), а Творение. Соответственно, художник должен избегать пустых и легковесных сюжетов, склоняющих к греху или разжигающих похоть. Искусство не обладает самостоятельной ценностью; оно дается нам Богом, чтобы мы могли лучше понять Его. Поэтому живописец должен в своей работе соблюдать умеренность, стремиться к гармонии форм, вдохновляться окружающим миром и воспроизводить увиденное. Самые прекрасные цвета – это цвета природы; нежно-зеленый оттенок некоторых растений, по его мнению, «весьма приятен на вид», а лучший из цветов – это, конечно же, цвет неба[177].
Если в том, что касается выбора сюжетов (это портреты, пейзажи, изображения животных, натюрморты), связь между этими рекомендациями и картинами художников-кальвинистов XVI–XVII веков прослеживается сравнительно легко, то с цветом дело обстоит сложнее. Существует ли в живописи кальвинистская палитра? Или протестантская палитра? И есть ли смысл задавать подобные вопросы?
Во всех трех случаях я бы ответил «да». На мой взгляд, у протестантских художников есть характерные, повторяющиеся особенности, которые позволяют говорить о несомненной хроматической специфике их живописи: строгость и сдержанность в подборе цветов, отсутствие цветовых контрастов, обилие темных тонов, техника гризайли, игра оттенков серого и синего, естественность красок, стремление избегать всего, что бросается в глаза, что может нарушить хроматический лаконизм картины слишком резким перепадом тонов. Многих художников-кальвинистов можно даже назвать цветовыми пуританами, настолько радикально они придерживаются этих принципов. Таков Рембрандт, часто впадающий в своего рода цветовую аскезу, опираясь на темные тона – нарочито приглушенные, чтобы не мешать вибрациям света и тени, и столь немногочисленные, что художника часто упрекали в монохромии. Эта единственная в своем роде палитра обладает музыкальностью и неоспоримой глубокой религиозной проникновенностью[178].
Как мы видим, в Западной Европе на протяжении долгого времени сохранялась определенная критическая позиция по отношению к цвету в искусстве. Цистерцианская архитектура в XII веке, миниатюры, выполненные в технике гризайли в XIV–XV веках, волна хромофобии в начале Реформации, кальвинистская и янсенистская живопись XVII века – все это, по сути, опирается на один и тот же тезис: цвет есть прикраса, роскошь, фальшь, иллюзия. Цвет есть тщета, ибо он материален; он опасен, ибо отвлекает от истины и добра; он преступен, ибо пытается ввести в соблазн и обмануть; он мешает, ибо не дает четко разглядеть форму и очертания предметов[179]. Святой Бернард Клервоский и Кальвин по сути говорят одно и то же; а в XVII веке, когда начнутся неутихающие споры, что важнее в искусстве – рисунок или колорит, их аргументы подхватят противники Рубенса и рубенсизма. Чуть позже мы еще вернемся к этой теме[180].
Как мы видим, хромофобия идеологов Реформации была не таким уж новшеством. Но она сыграла важнейшую роль в эволюции отношения к цвету в Западной Европе. С одной стороны, она усилит противопоставление черно-белого и других, «цветных» цветов; с другой, она вызовет в католическом мире реакцию в виде хромофилии и косвенным образом приведет к возникновению барочного и иезуитского искусства. Ибо для Контрреформации церковь – это образ Неба на земле, и догмат о реальном присутствии оправдывает любые роскошества внутри храма. Ничто не может быть слишком прекрасным для дома Божьего: мрамор, золото, роскошные ткани и драгоценные металлы, витражи, статуи, фрески, картины, сверкающие краски – все то, что было изгнано из протестантского храма и богослужения, найдет себе место здесь. С появлением искусства барокко католическая церковь снова станет святилищем цвета, которым она была в романско-готическую эпоху, но только теперь синий цвет уступит первенство золотому.
Реформация и цвет: одежда
Пожалуй, именно в одежде влияние протестантской хромофобии оказалось наиболее мощным и длительным. И именно в этой сфере высказывания разных вождей Реформации обнаруживают наибольшее совпадение. По поводу роли цвета в искусстве, в интерьере храма и в богослужении они в принципе придерживаются одного мнения, однако по мелким деталям наблюдается столько разногласий, что о единодушии говорить невозможно. А вот с одеждой дело обстоит иначе: идеологи Реформации дают своим духовным чадам одинаковые или почти одинаковые наставления. Разница лишь в нюансах и в степени благочестивого рвения, ибо как и всюду, в каждой протестантской конфессии и в каждой секте имелись свои умеренные и свои радикалы. В протестантизме одежда – почти всегда знак стыда и греха. Она связана с первородным грехом, и одна из ее главных функций – напоминать человеку о его грехопадении. Вот почему она должна быть проникнута духом самоуничижения, а значит, должна быть строгой, простой, неприметной, приближающей своего обладателя к природе и приспособленной для работы. Все варианты протестантской морали выражают глубокое отвращение к роскоши в одежде, к изыскам и украшениям, к переодеваниям, к слишком часто меняющейся или эксцентричной моде. По мнению Цвингли и Кальвина, носить украшения – недостойно, румяниться – позор, а надевать маскарадный костюм – мерзость[181].
Меланхтон, который в этом вопросе примерно одного мнения с Лютером, считает, что человек, уделяющий слишком много внимания своему телу и одежде, – хуже животного. И все они сходятся в том, что роскошь – это разврат, и единственное украшение, которого следует желать, – это красота душевная. Внутренний мир должен быть важнее, чем внешний облик.
В итоге внешний вид протестантов приобрел необычайную строгость и суровость: их одежду отличали простота покроя, тусклые цвета, отказ от любых аксессуаров и ухищрений, которые помогли бы скрыть природные недостатки. Вожди Реформации сами подают пример аскетизма как в повседневной жизни, так и на своих живописных или гравированных портретах. Все они позируют художникам в одежде темных, блеклых тонов, навевающих грусть. И чаще всего эти фигуры в темном или в черном изображаются на голубом фоне, который должен напоминать о голубизне неба.
Стремление к простоте и строгости заставляет протестантов изгонять из своего гардероба все «непристойные», то есть яркие цвета: прежде всего, конечно, красный и желтый, но также и все оттенки розового и оранжевого, многие оттенки зеленого и большинство оттенков фиолетового. Зато в большом ходу темные цвета: все оттенки черного, серого и коричневого; а также белый, цвет чистоты и достоинства, который рекомендуется носить детям (а иногда и женщинам). Синий цвет вначале считается допустимым, но только тусклый, приглушенный, с большей или меньшей примесью серого. Позднее, с конца XVI века, синий навсегда займет место среди «пристойных» цветов. И напротив, пестрая или просто разноцветная одежда, которая, по выражению Меланхтона, «превращает людей в павлинов»[182], – это объект ожесточенных нападок. Таким образом, запрет, наложенный Реформацией на полихромию, распространяется не только на убранство храма и богослужебные обряды, но также и на одежду.
Цветовая гамма протестантизма мало отличается от той, которую в течение долгих столетий предлагала набожным христианам средневековая мораль. Загляните в раннесредневековые монастырские уставы, в статуты учрежденных в XIII веке нищенствующих орденов, в предписания об одежде, изданные на закате Средневековья: во всех этих нормативных документах с большей или меньшей степенью настойчивости рекомендуется носить одежду темных и строгих цветов. Но такое моральное осуждение цвета объяснялось не только тем, что некоторые цвета считались аморальными сами по себе. Порой дело зависело от концентрации: слишком дорогие и крепкие красители, придающие тканям вполне приличный цвет, но чересчур густого, насыщенного оттенка, были запрещены.
Ничего похожего не наблюдалось ни в эпоху Реформации, ни на заре современной эпохи. Тогда запреты касались цветов, и только цветов: какие-то из них были запрещены, другие – рекомендованы к ношению. Об этом ясно и определенно сказано во всех нормативных актах по поводу одежды и законах против роскоши, изданных протестантскими властями – и в Цюрихе и Женеве в XVI веке, и в Лондоне в середине XVII, и в пиетистской Германии несколькими десятилетиями позднее, и даже в Пенсильвании в середине XVIII века. Эти нормативные акты заслуживают более обстоятельного и глубокого изучения, особенно в их антропологическом аспекте[183]. Новые труды на эту тему позволили бы проследить эволюцию предписаний об одежде и их исполнения на практике в течение долгого времени, различить фазы или зоны смягчения запретов и фазы или зоны их ужесточения. Члены многих пуританских или пиетистских сект одевались еще более строго, чем требовала идеология протестантизма, и еще более единообразно (униформа, которую ввели анабаптисты в Мюнстере в 1535 году, всегда оставалась сильным искушением для идеологов Реформации, видевших в ней противоядие от мирской суеты)[184]. Это способствовало тому, что протестантские тенденции в одежде стали восприниматься не только как аскетические и пассеистские, но и как реакционные, поскольку они отвергали современную моду и вообще любые перемены и новшества. В то же время благодаря им сохранился и продержался до начала современной эпохи – и даже дольше – обычай одеваться в темное и разграничивать черно-белое и цветное, а из этого последнего выделять один цвет, признавая его единственно приличным и достойным истинного христианина: синий.
К каким долгосрочным последствиям привело отречение от цветов или по крайней мере от части цветовой гаммы, которое предписывали Реформация и порожденные ею системы ценностей? Историк вправе задуматься об этом. Ясно, что оно увеличило наметившийся уже на исходе Средневековья разрыв между черно-серо-белым миром и миром цветным. Распространив на сферу повседневной жизни, сферу культуры и сферу нравственности новые особенности цветоощущения, которые выработали у людей печатная книга и гравюра, Реформация подготовила почву для науки и, в частности, для Ньютона (который сам был членом одной из англиканских сект)[185].
Однако последствия протестантской хромофобии проявились не в одних только работах Ньютона. Они давали о себе знать и гораздо позднее, в частности, как я полагаю, начиная со второй половины XIX века, когда промышленность Западной Европы и Америки стала в огромном количестве выпускать массовую продукцию. В то время существовала тесная связь между крупным промышленным капиталом и влиятельными протестантскими кругами. Производство предметов широкого потребления в Англии, Германии и Соединенных Штатах сопровождалось морализаторской и социальной риторикой, во многом опирающейся на принципы протестантской этики. И, возможно, именно этими принципами следует объяснить скудную цветовую гамму такой массовой продукции. Поразительно, что в то время, когда химическая индустрия уже могла выпускать большой ассортимент красителей, первые предметы бытовой техники, первые авторучки, пишущие машинки, первые автомобили (не говоря уже о тканях и одежде) были выдержаны в единой цветовой гамме – черно-серо-бело-синей. Такое впечатление, что буйство красок, ставшее возможным благодаря современной технике, было отвергнуто общественной моралью (то же самое в течение долгих лет будет происходить с кинематографом[186]). Самый знаменитый пример такой позиции – случай Генри Форда, пуританина, заботившегося о соблюдении этики во всех областях жизни: несмотря на запросы клиентуры и угрозу конкуренции, он из моральных соображений очень долго отказывался продавать какие-либо автомобили, кроме черных[187].
Палитра художников
Вернемся в XVII век. Начиная с 1640-х годов хроматическая обедненность перестает быть монополией художников-протестантов. Она наблюдается и у некоторых живописцев-католиков, главным образом у тех, кто разделял взгляды янсенистов. Так, палитра Филиппа де Шампеня становилась все более скупой, аскетичной и темной с 1646 года, когда он сблизился с мыслителями из Пор-Рояля, чтобы позднее окончательно обратиться в янсенизм[188]. Его палитра, очень далекая от палитры Рубенса или даже Ван Дейка, отныне напоминает палитру Рембрандта, правда, с добавлением синего цвета. Но это своеобразный синий, насыщенный до предела и одновременно сдержанный, едва уловимый, и в то же время глубокий, как ночное небо. Это цвет высокой морали.
Изучить палитру одного из старых мастеров – дело нелегкое. Не только потому, что мы видим краски на полотне такими, какими они сделались по прошествии времени, а не какими их задумал художник, но еще и потому, что мы обычно видим их в музее, то есть в такой обстановке и при таком освещении, которые имеют мало общего с обстановкой и освещением, привычными для художника и его публики. Электрический свет – не восковая или сальная свеча и не масляная лампа. Казалось бы, это очевидно. Но какой специалист по истории искусства, какой художественный критик вспоминает об этом, когда рассматривает или изучает картину старого мастера?
И тем не менее колорит художника XVII века изучать легче, чем палитру живописца следующего столетия. Потому что в XVIII веке изобретают множество новых красителей и старые способы подбора, растирания, разведения и нанесения красок соперничают с новыми способами, которые, в зависимости от мастерской и от художника, могут порой сильно различаться. Кроме того, на исходе предыдущего столетия, после оптических опытов Ньютона и открытия цветового спектра, представление о порядке расположения цветов стало постепенно меняться: теперь красный уже не занимает промежуточное положение между белым и черным, и окончательно признано, что зеленый – это результат смешения синего и желтого; мало-помалу обозначается разделение цветов на важнейшие и второстепенные, а также на теплые и холодные, в современном понимании этих терминов. К концу XVIII века мир красок уже совсем не тот, каким был в первые годы столетия.
В эпоху Рубенса, Рембрандта, Вермеера или Филиппа де Шампеня не было таких масштабных изменений. Сказанное относится и к художникам Южной Европы: в XVII веке у них появилось не так уж много новых красок[189]. Единственная заметная новинка – это неаполитанская желтая, что-то среднее между охрой и лимонно-желтой: прежде она использовалась для фейерверков. Вопреки утверждениям, содержащимся в отдельных работах на эту тему, художники XVII века были очень консервативны в выборе красок[190]. Самобытность и гениальность этих художников – не в материалах, которыми они пользовались, а в умении находить и сочетать друг с другом нужные оттенки цвета.
Рассмотрим творчество Вермеера – на мой взгляд, величайшего из живописцев XVII столетия. Краски, которыми он пользуется, – это обычные краски его эпохи. Для получения синего цвета (у Вермеера он часто бывает очень ярким) художник берет ляпис-лазурь[191]. Но поскольку краска эта очень дорогая, она кладется только на самый верхний слой; для нижнего слоя используется азурит или смальта (в частности, когда изображается небо[192]), реже – индиго[193]. Если нужен желтый цвет, то помимо традиционной охры, которая служит живописцам с незапамятных времен, он берет оловянную краску, а также, в небольших количествах, новую «неаполитанскую желтую» (антимонат свинца): итальянцы стали применять ее раньше и с большей смелостью, чем художники Северной Европы. Что до зеленого цвета, то Вермеер, как все живописцы его времени, непрочной и едкой медной зелени предпочитает различные виды зеленой глины. Ведь в то время еще редко бывало, чтобы для получения зеленого цвета желтую краску смешивали с синей. Кое-где, конечно, этот способ применяется, но повсеместное распространение (к прискорбию некоторых живописцев[194]) он получит только в следующем столетии. Наконец, для красного цвета Вермеер использует киноварь, сурик (в небольшом количестве), лак из кошенили или марены, пернамбуковое дерево (в том числе для розовых и оранжевых тонов) и красные охристые глины всех оттенков.
Итак, по данным лабораторного анализа, в палитре Вермеера нет ничего такого, чего нельзя было бы найти у других[195]. Но если забыть о химическом составе красок и сосредоточиться на их визуальном воздействии – то есть на самом главном, – становится очевидно: Вермеер существенно отличается от своих современников. У него более гармоничный, более мягкий, более утонченный колорит. Какими средствами художник достигает такого результата? Конечно же, в первую очередь это искуснейшее распределение света, тщательная проработка светлых зон и зон полумрака, но также и некоторые индивидуальные особенности мазка и окончательной отделки. Об этой стороне его гения историки живописи сказали все, или почти все. Но мало кто из них уделил серьезное внимание его краскам.
Для детального разбора нам здесь не хватит места; заметим лишь, что прежде всего стоило бы поговорить о важности у Вермеера серых тонов, и в особенности светло-серых. Зачастую именно на них опирается хроматический лаконизм картины. Затем следовало бы заняться синими тонами. Вермеер любит синий цвет (а также белый: он часто использует сочетание этих двух цветов). Именно умение работать с синими тонами отличает Вермеера-колориста от других голландских художников XVII века. Какими бы ни были их талант и мастерство, никто из них не умеет так виртуозно использовать синие тона. И наконец, вслед за Марселем Прустом следовало бы поговорить о значении небольших вкраплений желтого – иногда с более или менее заметным розоватым оттенком (как пресловутый «кусочек желтой стены» на одном из видов Дельфта), а иногда совсем ярких. На этих нюансах желтого, белого и синего основана у Вермеера вся его гармония, которая завораживает нас и которая делает этого художника столь непохожим на остальных, лучшим живописцем не только его времени, но, быть может, и всех времен.
Новые задачи и новые классификации цвета
Таким образом, разнообразие палитры у художников XVII века объясняется не столько наличием у них новых красящих веществ, сколько творческим своеобразием каждого живописца, проявлявшимся в подборе красок и предпочтении одних другим. Вдобавок, как мы видели, за несходством колорита скрываются и религиозные расхождения: помимо того что существуют живопись католическая и живопись протестантская, внутри каждой из них можно более или менее четко выделить различные тенденции – иезуитскую и янсенистскую, или лютеранскую и кальвинистскую. Но особенности колорита у того или иного мастера нельзя обосновать одной лишь конфессиональной принадлежностью. Следует учесть и позицию, занимаемую этим мастером в неутихающем со времен Возрождения бесконечном споре, в котором участвуют живописцы и теоретики живописи: что важнее для художника – рисунок или цвет?[196]
У противников цвета имеется множество доводов. Рисунок, говорят они, гораздо выше и благороднее цвета, потому что он – создание духа, а цвет – лишь материальная субстанция, продукт красящих веществ. Кроме того, по их мнению, цвет утомляет глаза – особенно если это красный, зеленый или желтый; против синего, считающегося «ненавязчивым» цветом, таких обвинений почти не выдвигается[197]. Цвет, утверждают его противники, не дает четко различить контуры предметов и определить их форму; тем самым он отвращает людей от истины и добра. Его прелесть обманчива и коварна, по сути это не что иное, как уловка, фальшь, ложь. Наконец, цвет опасен потому, что неуправляем: он не поддается какому-либо воздействию, внятному истолкованию или просто анализу. Поэтому его следует контролировать или приглушать всякий раз, когда для этого есть возможность[198].
Однако эти последние аргументы были опровергнуты учеными. XVII век стал веком великих открытий в естествознании и выдающихся исследований о природе света. Когда в 1666 году Ньютон с помощью призмы разложил белый световой луч на разноцветные и открыл цветовой спектр – новую систему цветов, в которой не было места белому и черному, – наука подтвердила то, что мораль и общество давно уже приняли за истину: белый и черный должны быть исключены из мира цветов. Вдобавок, если в центре античной и средневековой системы цветов находился красный, то в новой системе центральное положение заняли синий и зеленый. А еще Ньютон доказал, что цвет, будучи результатом дисперсии света, как и сам свет, поддается измерению[199]. С тех пор в изобразительном искусстве и в различных областях науки началось увлечение колориметрией. В конце XVII и в начале XVIII века стали появляться и множиться всевозможные хроматические таблицы, схемы и шкалы: по ним можно было изучать законы, меры и нормы, которые управляют цветом[200]. Ученые считали, что цвет отныне укрощен; но именно поэтому он утратил значительную часть своей загадочности.
В начале XVIII века большинство художников присоединяются к мнению ученых, и цвет, как представляется, одерживает победу над рисунком[201]. Теперь, когда цвет стал управляемым, когда он поддается измерению, он может выполнять в картине или другом произведении искусства функции, в которых раньше ему было отказано: функции упорядочивающие, выделяющие, иерархизирующие; одним словом, дисциплинирующие взгляд. Нельзя забывать и о другом, еще более важном преимуществе цвета: он может показать то, что рисунок без его помощи показать не в состоянии. Например, изобразить человеческую плоть – искусство, в котором, по общему мнению, так преуспели старые мастера, в особенности Тициан[202]. Для тех, кто считает, что колорит важнее рисунка, это решающий аргумент: только цвет дает жизнь существам из плоти и крови; только цвет позволяет живописи выполнить свое предназначение, а значит, он и есть живопись. Вплоть до конца века Просвещения у этого тезиса будет множество сторонников, а позднее его подхватит Гегель[203]. Возможно, этим тезисом следует объяснить и тот факт, что на заре существования полихромной гравюры ее излюбленным сюжетом были анатомические таблицы: цвет становился плотью! Однако в противоположность тому, что думали критики цвета в предыдущем столетии, именно теперь, уподобившись плоти, цвет стал более правдивым.
Когда в начале XVIII века Жакоб Кристофль Леблон изобрел полихромную гравюру[204], это стало разрешением спора, длившегося несколько столетий, а также (правда, лишь временно) положило конец изысканиям граверов и печатников, ломавших голову над тем, как бы придать черно-белой картинке некое подобие цветности[205]. Но изобретение Леблона имело и другие, более важные последствия. Полихромная гравюра, это новое слово в технике и искусстве гравирования, выработала для себя новую систему цветов, которая и обеспечила ей успех. Систему, уже не имевшую ничего общего с прежними системами и подготовившую почву для теории основных и дополнительных цветов[206].
Несмотря на то что кое-кто из художников начинает ей пользоваться, эта теория еще не сформировалась окончательно[207]. Однако уже заметно, что на передний план выступают три цвета: красный, синий и желтый. В самом деле, если у вас есть три доски и на первую накатана красная, на вторую синяя, а на третью желтая краска, достаточно наложить отпечатки с этих досок один на другой, чтобы получить остальные цвета. Теперь цветовой мир организуется не вокруг шести, как было в Средние века и вплоть до эпохи Возрождения, а вокруг трех цветов. Черный и белый навеки изгнаны из мира цветов, а зеленый, получаемый от смешения желтого и синего (чего никогда не было в древних культурах), опустился на более низкий уровень в хроматической генеалогии и иерархии. Он перестал быть основным, «первичным» цветом.
Цвета вступили в новую фазу своей истории.
Глава IV Любимый цвет
XVIII – ХХ века
В XII–XIII веках синий, который так долго оставался на вторых ролях, занял, наконец, видное положение: он стал красивым цветом, цветом Пресвятой Девы, королевским цветом, и, по всем этим причинам, – соперником красного. В последующие четыре-пять столетий эти два цвета делили между собой гегемонию над остальными и в различных областях жизни выступали в качестве антагонистов: цвет праздничный/цвет высокоморальный, цвет материальный/цвет духовный, цвет, бросающийся в глаза/цвет ненавязчивый, цвет мужской/цвет женский. Однако с XVIII века все меняется. Как в одежде, так и в повседневной жизни остается все меньше места для красных тонов – эта тенденция обозначилась еще в XVI столетии – и на первый план выступает синий, который становится не только одним из самых распространенных в текстильном деле и в одежде, но также и любимым цветом европейцев. Таковым он остается и по сей день, сильно превосходя все остальные.
Триумф синего на столь зыбкой почве, как хроматические преференции, готовился в течение долгого времени: в XII веке этот цвет стали восхвалять богословы, затем его открыли для себя художники; в XIII столетии красильщики сумели придать ему невиданные прежде яркость и насыщенность; с середины XIV века он занял почетное место в геральдике; двести лет спустя Реформация придала ему статус высокоморального цвета. Но наивысшей славы он достиг в XVIII веке: во-первых, потому что в это время получил массовое распространение замечательный натуральный краситель, который был известен еще с давних пор, но доступен лишь для очень немногих (индиго); во-вторых, был изобретен новый искусственный краситель, позволявший получить как при окрашивании тканей, так и в живописи совершенно новые оттенки синего (берлинская лазурь); и наконец, возникла новая символика цветов, в которой синий занял главное место: отныне он стал цветом прогресса, просвещения, заветных чаяний и желанных свобод человечества. В этой метаморфозе синего решающую роль сыграли литература романтизма, а также две революции – американская и французская.
Но победное шествие синего на этом не закончилось. Став любимым цветом художников, поэтов и простых смертных, он привлекает пристальное внимание ученых. Теперь он уже не на обочине, как было когда-то, в цветовых системах Античности и Средневековья, а в центре новейших хроматических классификаций, основой для которых стали открытия Ньютона, умение работать с цветовым спектром и теория об основных и дополнительных цветах. Итак, наука, искусство и общество единодушно провозгласили синий главным цветом, синонимом Цвета вообще, каким был когда-то красный. С течением времени любовь к синему не только не угасала, но даже усиливалась. Так продолжалось до первых лет XXI века.
Синее против синего: война вайды и индиго
Мода на новые оттенки синего в декоративных тканях и одежде, распространявшаяся в Европе в конце XVII и в течение всего XVIII века, в большой степени обусловлена увеличившимся экспортом индиго. Этот экзотический пигмент был известен еще с древности, но власти многих городов и стран запрещали его ввоз и применение, чтобы защитить местных производителей вайды и процветающую торговлю красителем, которая обогащала казну. Так было, в частности, во Франции и в некоторых областях Германии, где красильщикам очень долго не разрешали применять индиго. Однако постепенно выяснилось, что индиго стоит дешевле, а красит гораздо лучше вайды, и постепенно импортный краситель стал вытеснять местный, а потом вайда практически вышла из употребления.
Эту краску добывают из листьев индигоноски, растения, которое насчитывает множество видов, но ни один из них не встречается в Европе. Индигоноска, растущая в Индии и на Среднем Востоке, – это кустарник, достигающий максимум два метра в высоту. Красящее вещество (индиготин) получают из верхних молодых листочков. Оно придает шелковым, шерстяным и хлопчатобумажным тканям настолько насыщенный и стойкий синий цвет, что красильщику почти не приходится использовать протраву, чтобы закрепить краску в волокнах ткани: иногда достаточно просто опустить ткань в чан с индиго, а затем разложить для просушки. Если цвет оказывается слишком бледным, эту операцию повторяют несколько раз. Единственный недостаток такой окраски в том, что она матовая, а иногда кажется, что на ткани проступили пятна или разводы.
В регионах, где произрастает этот кустарник, окрашивание индиго практикуется еще с неолита; в древности существовала даже мода на одежду в синих тонах (в Судане, на Цейлоне, в Индонезии). Однако достаточно быстро индиго стал преимущественно экспортным продуктом; в частности, его вывозили из Индии на Ближний Восток и в Китай. Библейские народы начали применять его задолго до рождения Христа; однако стоит эта краска дорого и применяется только для высококачественных тканей. А в Европе, напротив, использование этого красителя остается ограниченным, и причина не только в дороговизне (индиго привозят издалека), но еще и в том, что синие тона здесь мало популярны.
Для римлян, как мы уже объясняли в начале этой книги, синий – цвет варваров, кельтов и германцев, которые, по свидетельствам Цезаря и Тацита, раскрашивают тело синей краской для устрашения врагов[208]. В Риме синие одежды считаются признаком дурного вкуса или знаком траура. Этот цвет часто ассоциируется со смертью и подземным царством[209].
Однако римлянам, как до них и грекам, знаком азиатский индиго. Они умеют отличать этот действенный краситель от вайды, производимой кельтами и германцами[210], и знают, что его привозят из Индии: отсюда и его название – indiconпо-гречески, indicumпо-латыни. Но они не знали о его растительном происхождении и думали, что это минерал[211], lapis indicus(«индийский камень», название, встречающееся еще в XVI веке). В Европе это заблуждение просуществовало до конца XVI столетия, когда в Новом Свете были найдены индигоноски. Дело в том, что индиго продавался в Европе в высушенном и спрессованном виде, компактными блоками. И вслед за Диоскоридом, врачом и ботаником, жившим в I веке нашей эры, некоторые авторы утверждали, что индиго – полудрагоценный камень, родственный лазуриту. Выше мы уже рассказывали о том, как возникшая в XIII веке мода на синие тона сказочно обогатила производителей вайды и продавцов этого красителя, принесла процветание не только большим городам, таким как Амьен, Тулуза, Эрфурт, но и целым областям (Лангедок, Тюрингия, Саксония), которые превратились в «страны, в которых течет молоко и мед»[212]. На вайде сколачивали огромные состояния. Например, тулузский купец Пьер де Берни был так богат, что смог из собственных средств заплатить императору Карлу V выкуп за короля Франциска I, взятого в плен в битве при Павии[213].
Но это процветание продлилось не слишком долго. Уже на исходе Средних веков у вайды появляется опасный конкурент, «индийский камень», импорт которого неуклонно растет. Итальянские купцы, ведущие обширную торговлю с Востоком, решают воспользоваться аристократической модой на декоративные ткани и одежду синего цвета: они пытаются ввести в обиход европейцев экзотический пигмент, который дороже вайды в тридцать-сорок раз, а интенсивность окрашивания у него в десять раз выше. Согласно источникам, с конца XIII века новый краситель начинают продавать в Венеции, а в следующем столетии – в Лондоне, Марселе, Генуе и Брюгге. Первое время торговцам вайдой удается отразить натиск конкурентов. Они добиваются от королевских чиновников и городских властей, чтобы красильщикам запретили работать с индиго: иначе, говорят они, производителей вайды во многих регионах ждет неминуемое разорение. В течение всего XIV века регулярно издаются всевозможные статуты и предписания, запрещающие использование индиго и грозящие нарушителям суровыми наказаниями[214]. Иногда допускаются исключения: так, в некоторых городах Каталонии и Тосканы разрешается применять индиго при окрашивании шелка, но такое случается очень редко. Несмотря на эти протекционистские меры, цена на вайду, в частности в Италии и Германии, неуклонно снижается[215].
К счастью для всех, чье благополучие зависит от вайды, в XV веке на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье начинается турецкое нашествие, и это значительно затрудняет поставки товаров из Индии и Азии в Европу. Производители и продавцы вайды могут свободно вздохнуть. Но их радость продлится недолго.
Через несколько десятилетий европейцы обнаруживают в тропических регионах Нового Света различные виды индигоноски, которые дают еще более качественный пигмент, чем виды, произрастающие в Индии. Это решает дело: несмотря на жесткую протекционистскую политику властей, несмотря на объявление экзотического продукта «вредным, фальшивым, злокачественным, разъедающим, пагубным зельем»[216], в мастерских красильщиков европейская вайда мало-помалу уступает место американскому индиго. Из европейских стран в этом больше всего заинтересована Испания, потому что экспорт индиго приносит ей несметные богатства. В других странах пытаются преградить путь привозному красителю и защитить вайду. Но все бесполезно. Первой сдается Италия, которой так или иначе приходится импортировать синюю краску – она потребляет больше вайды, чем производит. И с середины XVI века через Геную начинаются массовые поставки индиго из Вест-Индии, а Венеция возобновляет его импорт из Ост-Индии[217]. К концу столетия наступит очередь Англии и Республики Соединенных Провинций: с середины XVII века различные торговые компании этих двух стран включаются в массовую торговлю индиго. Германия и Франция, основные производители вайды, продержатся дольше, но ценой больших усилий и жертв.
Дело в том, что для выращивания индиго в Новом Свете (на островах Карибского моря, в Мексике, в Андах) все чаще и чаще используется рабский труд; в итоге, несмотря на долгий путь через океан, себестоимость краски ниже, чем у европейской вайды. И бороться с такой конкуренцией становится невозможно, тем более что у самой высококачественной вайды интенсивность окраски меньше, чем у самого низкосортного индиго. Во Франции выпускаются несколько королевских эдиктов (в 1609, 1624 и 1642), в которых под страхом смертной казни запрещается применение индиго; такие же запреты объявляются в течение всего XVII века в Нюрнберге и во многих других городах Германии. Но и это бесполезно. В 1672 году Кольберу приходится временно разрешить применение индиго на суконных мануфактурах Абрахама ван Роббайса в Аббевиле и Седане. Это начало конца. Несмотря на отчаянные протекционистские меры, индиго проникает всюду, и три поколения спустя, в 1737 году, закон вынужден капитулировать перед неопровержимым фактом: применение индиго окончательно утвердилось на всей территории королевства. Портовые города, такие как Нант, Бордо и Марсель, богатеют и процветают, а вот Тулузу, столицу вайды, ждет разорение. В Лангедоке исчезает целый слой общества: это люди, чья профессия прямо или косвенно связана с вышедшей из употребления краской, – производители и обработчики, перевозчики, приемщики, мелкие торговцы. То же самое в Германии: Эрфурт, Гота и многие другие города Тюрингии, вместе с ближними деревнями, теряют главный источник дохода, когда местные власти окончательно снимают запрет на применение индиго. Это решение принимается одновременно с аналогичным эдиктом короля Франции – в 1737 году[218]. Начиная со следующего года выращивание и обработка вайды в Германии прекращаются, и все красильные мастерские переходят на индиго, устрашающий своей эффективностью экзотический продукт, который еще в 1654 году сам император Фердинанд III называл Teufelsfarbe, «дьявольской краской»[219].
Во второй половине XVIII века красильщики уже всей Европы работают с индиго, который постоянно ввозится из Америки и Азии. Этот пигмент превосходно окрашивает недавно вошедшие в моду хлопчатобумажные ткани, легко, без протравы, закрепляясь в их волокнах; кроме того, индиго дает множество насыщенных и стойких оттенков синего, которые не выцветают от стирки и не выгорают на солнце. Если кое-где до сих пор еще выращивают вайду, то только потому, что поставки морем – дело рискованное, и надо иметь запас синей краски на случай, если груз не придет вовремя. Во Франции, при Наполеоне, из-за установленной Англией континентальной блокады в нескольких районах пришлось вернуться к промышленной культуре вайды. Но это длилось недолго. Мечте многих ученых и предпринимателей о возрождении старого производства не суждено было сбыться[220].
Когда в конце XIX века появляются искусственные красители, это становится тяжелым ударом для выращивания красильных растений и торговли ими. Индиго не избежит общей участи. В 1878 году немецкий химик Адольф фон Байер открывает процесс химического синтеза индиготина. Двенадцать лет спустя Хойман усовершенствует этот процесс. И фирма BASF (Badische Anilin und Soda Fabrik) приступает к промышленному производству искусственного индиготина. После Первой мировой войны это приведет к необратимому упадку плантаций индиго в Ост– и Вест-Индии.
Новый пигмент: берлинская лазурь
В XVII и XVIII веках новые тона появляются не только в области бытовых красок. Живопись тоже открывает для себя неизведанные нюансы, в частности насыщенные, темные оттенки синего; тем самым она пробуждает всеобщий интерес к этим оттенкам, которых прежде, как правило, люди почти не замечали или даже принимали за разновидности черного. В самом деле, длительное время художники испытывали трудности, когда обращались к гамме темно-синих тонов и, добиваясь желаемого эффекта, перебирали все известные им оттенки. Все было трудно: и приготовить подходящую по цвету и насыщенности краску, и сделать ее более стойкой, и в особенности использовать ее для покрытия больших поверхностей. Ни ляпис-лазурь, ни азурит, ни кобальт, ни тем более растительные красители (вайда, подсолнечник, лесные ягоды) не позволяли решить эти задачи. Насыщенный, сочный темно-синий цвет появлялся на картинах только в виде блика, пятнышка, мелкой детали. Если бы живописцы могли использовать индиго, возможно, у них бы не было таких проблем; но, как мы видели, во многих странах импорт и применение индиго были ограничены и строго контролировались. И вдобавок многие живописцы, из гордыни или по невежеству, считали ниже своего достоинства применять пигменты, которыми пользовались красильщики[221].
Но в первой половине XVIII века все изменилось. В 1709 году в Берлине была изобретена искусственная краска, которая позволяла добиться в гамме синих и зеленых тонов таких оттенков, о каких живописцы прошлого и мечтать не могли. Эту краску называли прусская синь, или берлинская лазурь. По правде говоря, изобрели ее случайно. Некто Дисбах, торговец москательными и аптекарскими товарами, а также изготовитель красок, продавал превосходную красную краску, которую получал, осаждая поташом настой кошенили, куда он добавлял еще сульфат железа. Однажды у него кончился поташ, и он пополнил свои запасы у Иоганна Конрада Диппеля. Этот жуликоватый аптекарь продал Дисбаху испорченный поташ, которым успел воспользоваться для очистки животного масла собственного изобретения. В результате вместо обычного красного у Дисбаха получился осадок великолепного синего цвета. Сам он не понял, что произошло, зато Диппель, более талантливый химик и вдобавок ловкий делец, сразу сообразил, какую выгоду можно извлечь из такого открытия. Он понял, что чудесный цвет вызван воздействием испорченного поташа на сульфат железа. Проведя несколько опытов, он усовершенствовал процесс и начал продавать новую краску под названием «берлинская лазурь»[222].
Больше десяти лет Диппель упорно скрывал свой секрет, что позволило ему нажить огромное состояние. Но в 1724 году английский химик Вудворд разгадал его и предал гласности состав новой краски[223]. Теперь «берлинскую лазурь» в Европе мог производить кто угодно. Диппель разорился и уехал в Скандинавию, где стал лейб-медиком шведского короля Фредерика I. Но страсть к экспериментам в нем разгорелась сильнее прежнего, и он изобрел множество лекарств, опасных для пациентов, за что был выслан из Швеции, а потом попал в тюрьму в Дании. Диппель умер в 1734 году, оставив о себе память как о талантливом химике, и в то же время беспринципном, алчном интригане. Что же касается Дисбаха, о котором мы не знаем практически ничего, даже имени, то о его дальнейшей судьбе ничего не известно. Он исчез после своего случайного открытия, которое преобразило палитру художников на два с лишним столетия.
Вопреки распространенной легенде, возникшей, возможно, из-за дурной репутации Диппеля, берлинская лазурь не ядовита и не превращается в синильную кислоту. Зато она блекнет на свету и разрушается от щелочи, что делает ее несовместимой с некоторыми основами красок. Но у нее очень высокая интенсивность окраски, и в смеси с другими пигментами она дает удивительно красивые, чистые тона. Поэтому декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XIX века интенсивно использовало берлинскую лазурь для производства зеленых обоев. А позднее у импрессионистов и других художников – приверженцев пленэра даже возник своего рода культ берлинской лазури, несмотря на ее малую светостойкость и свойство «расплываться» поверх других красок.
С середины XVIII века ученые и красильщики упорно работали над берлинской лазурью, добиваясь, чтобы она отвечала техническим требованиям красильного дела. В частности, они стремились получить на основе нового пигмента синие и зеленые тона, более чистые, более яркие и менее дорогостоящие, чем те, которые можно было получить на основе индиго. Несколько научных обществ и академий объявили конкурс на создание таких красок, но результаты долгое время разочаровывали: это касалось как синего, так и зеленого цвета[224]. Так, появившиеся в 1750-е годы «синий Макёра» и «зеленый Кёдерера» на вид были великолепны, но плохо закреплялись на ткани, выцветали на свету и от стирки[225]. Изобретенная при Наполеоне «ремонова синь»[226]закреплялась гораздо лучше, особенно на шелке. Она была пущена в продажу и какое-то время имела успех, но к середине XIX столетия ее вытеснили с рынка конкуренты: сначала усовершенствованный вариант индиго, а затем новые синтетические красители на основе анилина.
Романтическая синева: от фрака Вертера до блюзовых ритмов
В XVIII веке, после появления новых оттенков синего как в красителях для тканей, так и в красках для живописи, мода на этот цвет утвердилась по всей Европе, но сильнее всего его полюбили жители Германии, Англии и Франции. В этих трех странах начиная с 1740-х годов синий стал одним из трех самых распространенных цветов придворного и городского костюма (другими двумя были серый и черный). Но вот любопытное обстоятельство, связанное, в частности, с тем, что красильщикам наконец официально разрешили использовать в работе индиго. Вплоть до XVIII столетия редко случалось, чтобы представители высших слоев общества появлялись в небесно-голубом или светло-синем: как правило, одежду таких оттенков носили крестьяне. Они окрашивали ткань кустарным способом, используя некачественную вайду, которая неравномерно проникает в текстильные волокна, выгорает на солнце и линяет после каждой стирки. Такой светло-голубой цвет следовало бы назвать серо-голубым, настолько он тусклый и блеклый[227]. Когда же знатные и богатые люди одеваются в синее – а начиная с XIII века они часто так поступают, то это более яркая, насыщенная, глубокая синева. Но вот в первой половине XVIII века при европейских дворах возникает новая мода, мода на голубые, иногда совсем светлые тона. Вначале их носят только женщины, а потом и мужчины. Во второй половине столетия новая мода постепенно распространяется среди всей знати, а также и в обеспеченных кругах буржуазии. В некоторых странах (Германии, Швеции) она просуществует очень долго, до начала XIX века.
Это совершенно новая тенденция в одежде. Своеобразный отклик на нее мы находим в лингвистике: сразу в нескольких европейских языках появляется много новых слов, обозначающих различные оттенки синего. Если раньше лексика этих языков была относительно бедна определениями, относящимися к светло-синим тонам, то в середине XVIII века их количество резко возрастает: этот факт подтверждают словари, энциклопедии и руководства по красильному делу[228]. Например, во французском языке в 1765 году существовало двадцать четыре обиходных слова для обозначения синих тонов, получаемых в результате крашения (столетием ранее таких слов было тринадцать); причем из этих двадцати четырех слов шестнадцать обозначали светло-синие тона[229]. А некоторые французские слова в XVIII веке меняют смысл: так, если в старо– и среднефранцузском языке словом persназывали относительно матовый и темный оттенок синего, то теперь его применяют для обозначения более светлого и блестящего тона, отливающего серым и фиолетовым[230].
Новая мода на синие тона нашла свое отражение в литературе эпохи Просвещения и раннего романтизма. Самый убедительный пример – знаменитый сине-желтый костюм Вертера, который Гете описывает в своем романе «Страдания юного Вертера», вышедшем в Лейпциге в 1774 году: «Долго я не решался сбросить тот простой синий фрак, в котором танцевал с Лоттой; но под конец он стал совсем неприличным. Тогда я заказал новый, такой же точно, и к нему опять желтые панталоны и жилет»[231] [232].
Необычайный успех романа и начавшаяся затем «вертеромания» привели к тому, что мода на синий «вертеровский» фрак распространилась по всей Европе. Еще в 1780-е годы многие молодые люди, подражавшие безнадежно влюбленному герою Гете, носили синий фрак или камзол с желтым жилетом или панталонами. Появилось даже «платье Лотты», сине-белое, с розовым бантом и лентами[233]. Для историка это убедительный пример двусторонней связи, которая со времен Средневековья до ХХ столетия существовала между обществом и литературой: Гете одевает своего героя в синий фрак потому, что в Германии 1770-х годов синий – самый модный цвет; но успех его книги способствует усилению этой моды, ее распространению по всей Европе, синий теперь становится модным не только в одежде, но и в изобразительном искусстве (живопись, гравюра, фарфор). Вот еще одно подтверждение того, что воображение и литература – органичная часть реальной жизни общества.
Отношения Гете с синим цветом не ограничиваются «Страданиями юного Вертера». Мало того что этот цвет часто упоминается в его юношеских стихотворениях (как и в поэзии всех его современников), он еще занимает центральное место в его научных трудах по теории цвета. Гете очень рано заинтересовался цветом и теми сочинениями, которые посвятили ему художники и ученые. Но только в 1788 году, вернувшись из Италии, он решил всерьез заняться проблемами цвета и написать на эту тему фундаментальное исследование – не сборник рассуждений художника или поэта, а настоящий научный труд. Тогда у него уже возникла «безотчетная уверенность, что теория Ньютона ошибочна». Для Гете цвет – это нечто живое, по своей сути близкое к человеку, и его невозможно свести к математическим формулам. Гете первый решился выступить против последователей Ньютона и вернуть проблемам цвета их «человеческое измерение», заявив, что цвет, на который никто не смотрит, – это цвет, которого не существует[234].
Трактат «Учение о цвете» был издан в Тюбингене в 1810 году, но Гете вносил в него дополнения и исправления до самой своей смерти в 1832 году. В дидактическом разделе его книги наиболее интересной представляется глава о «физиологических» цветах, в которой автор горячо отстаивает свое мнение о субъективном и культурологическом характере цветоощущения; в то время такая точка зрения была едва ли не новостью. А вот его рассуждения о физике и химии красок, если сопоставить их с тогдашним уровнем научных знаний, кажутся недостаточно обоснованными и малосодержательными; именно из-за них книга не имела успеха: философы и ученые отреагировали на нее или яростной критикой, или презрительным молчанием[235]. Такое отношение к «Учению о цвете» было не вполне справедливым, но Гете сам в нем повинен: вместо того чтобы просто поделиться своими гениальными поэтическими прозрениями, высказав догадку, что в понятии «цвет» всегда присутствует весомая антропологическая составляющая, он вздумал пуститься в научные изыскания, захотел, чтобы его признали настоящим ученым[236].
Однако для нас трактат Гете важен потому, что в нем уделяется значительное место синему цвету: автор делает синий и желтый основными полюсами своей системы. Он усматривает в сочетании (или в слиянии) двух этих цветов абсолютную хроматическую гармонию. Но если в символическом плане желтый – негативный полюс (пассивный, слабый и холодный цвет), то синий, к которому автор относится с неизменным расположением, – полюс позитивный (активный теплый, сияющий цвет)[237]. Здесь Гете снова проявляет себя истинным сыном своего времени. Красное не в его вкусе, ему милее синее и зеленое: синее для одежды, зеленое – для обоев и обивки мебели. Гете не упускал случая напомнить, что в природе эти два цвета часто встречаются в сочетании, а человек должен неустанно воспроизводить краски природы[238].
Эта точка зрения не останется достоянием одного лишь Гете; ее подхватит новое движение в литературе и искусстве – романтизм, в котором символике цветов вообще придается особое значение. В литературных текстах такое подчеркнутое внимание к цветам – это нечто совершенно новое. Конечно, и до первых романтиков в художественной литературе встречались упоминания цветов, но они были сравнительно редки. А начиная с 1780-х годов их количество резко возрастает. И среди цветов, упоминаемых прозаиками и поэтами, есть один, который они прямо-таки воспевают, во всей гамме его оттенков, во всем богатстве его достоинств: синий. А самый прекрасный среди оттенков синего, по их мнению – голубой. Романтизм окружает голубой цвет почти религиозным поклонением. В особенности – немецкий романтизм. Основополагающим литературным текстом в этом смысле стал незаконченный роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген», опубликованный в 1802 году, уже после смерти автора, его ближайшим другом Людвигом Тиком. В романе рассказывается легенда о средневековом миннезингере, отправившемся на поиски голубого цветка, который он однажды увидел во сне и который олицетворяет чистую поэзию и жизненный идеал. Успех этого голубого цветка значительно превзошел успех самого романа. Наряду с синим фраком Вертера он сделался символом немецкого романтизма[239].
А быть может, даже и романтизма вообще, ибо любовь к чудесному голубому цветку распространилась далеко за пределы Германии и поэты принялись воспевать его на всех европейских языках[240]. И повсюду голубой цвет наделяли всеми поэтическими достоинствами. Он стал цветом любви, меланхолии и мечты; когда-то он уже играл эту роль – в средневековой поэтической традиции, где впервые была придумана игра слов: ancolie(французское название голубого цветка водосбора) и mélancolie[241]. Вдобавок поэты, писавшие об этом цвете, кое-что позаимствовали из народной мудрости, из пословиц и поговорок, в которых увлекательные небылицы и истории про фей с давних пор именовались «голубыми сказками», а некое идеальное, редкое и неуловимое существо – «Синей Птицей»[242].
Нежная романтическая синева, эмблема чистой поэзии и безудержной мечты просуществовала долгие десятилетия, но со временем несколько преобразилась, потемнела и огрубела. В Германии она до сих пор присутствует в выражении blau sein, что значит «быть в подпитии»: немецкий язык прибег к синему цвету, чтобы дать представление о затуманенном рассудке и притупленных чувствах человека, который слишком много выпил; тогда как французский и итальянский для той же цели используют соответственно серый и черный. В Англии и в Америке есть выражение the blue hour, буквально: «синий час»: это время, когда заканчивается рабочий день и мужчины (а порой и женщины), вместо того чтобы сразу пойти домой, проводят часок в баре, за порцией спиртного, стараясь забыть свои огорчения. Ассоциативная связь между алкоголем и синим цветом возникла еще в Средние века; во многих руководствах по красильному делу говорится, что при крашении вайдой, для которой обычно применяется не очень сильная протрава, можно вместо нее использовать мочу пьяного: от этого окраска будет более прочной[243].
Но теснее всего с немецкой романтической синевой связан блюз, музыкальный жанр афроамериканского происхождения, зародившийся предположительно в 1870-е годы: это музыкальная форма, для которой характерны медленный темп и размер четыре четверти, передающие меланхолическое состояние души[244]. Англо-американское слово blues, которое многие языки заимствовали без всяких изменений, представляет собой сокращенное словосочетание blue devils(синие демоны), означающее меланхолию, смутную тоску, хандру (во Франции для обозначения такого состояния используется черный цвет). Есть еще одно близкое по смыслу английское выражение: to be blue, или in the blue. Его немецкий эквивалент – alles schwarz sehen, итальянский – vedere tutto nero, а французский – broyer du noir(«видеть все в черном свете»).
Французский синий: от герба до кокарды
В конце XVIII века Европа увидела не только рождение романтической, меланхолической, мечтательной синевы; она также увидела рождение другого синего цвета, связанного с патриотической, военной и политической тематикой. Этот новый синий цвет родился во Франции, и именно здесь он на протяжении почти двух столетий сохранял свою тройственную символику.
За несколько столетий синий стал цветом Франции. Мало того что сегодня все спортивные команды, представляющие эту страну на международных соревнованиях, выступают в синих майках или костюмах – заметим, однако, что спортивная Франция не владеет монополией на синий как на национальный цвет[245]– но и в других обстоятельствах, далеко за пределами спорта, синий воспринимается как эмблема Франции.
«Французский синий» уходит своими корнями в далекое прошлое. И первое, о чем следует упомянуть в этой связи, – трехцветный флаг, в котором синий цвет важнее остальных, поскольку он самый близкий к древку (а в безветрие – единственно видимый). Конечно, белый и красный – тоже национальные цвета, но синева флага, рожденная в эпоху Революции, как кажется, лучше выражает национальный характер. Это символ единения сердец, тогда как белый и красный у нас сегодня ассоциируются с более радикальными взглядами и идеологиями. Кроме того, в отличие от белого и красного в национальном флаге, у синего есть очевидный исторический предшественник: герб короля Франции, «лазурный щит, усыпанный золотыми лилиями», появившийся в XII веке. Вообще можно говорить о некоей привязанности французов к синему цвету, которая прослеживается через века (как у англичан – к красному), поскольку «лазурь» королевского герба с XIII века стала цветом монархии, затем, на закате Средневековья, цветом государства и правительства и, наконец, в современную эпоху, цветом Нации. Таким образом, еще до Революции синий успел стать цветом Франции, но тогда он в большей степени ассоциировался с королем и государством, чем с Нацией. Только Революция полностью превратила его в национальный цвет. Нам стоит подробнее рассмотреть это превращение; для этого придется выяснить, как появилась на свет кокарда, а позднее – как появился трехцветный флаг[246].
«Кокарда» – слово с необычной судьбой. Вначале оно означало фасон прически или шляпы в форме петушиной головы или гребешка (XVI–XVII века). Затем, в результате метонимии, кокардами стали называть миниатюрные аксессуары вроде значков: в XVIII веке их принято было прикреплять к головным уборам, одежде, а иногда даже предметам обихода. Так что кокарда появилась задолго до Революции. При Людовике XV и Людовике XVI их делали из ткани, фетра или бумаги, в форме кружка или банта, иногда добавляя свисающие ленты, гирлянды, снопы расходящихся лучей. Зачастую они играли чисто декоративную роль, но иногда люди с их помощью выражали те или иные политические взгляды, заявляли о своей принадлежности к некоему сообществу либо организации или же клялись в верности некоей особе, семье или династии. Кокарды особенно любят носить военные: у них это отличительные знаки армейского корпуса или полка, где они служат. А штатские с интересом поглядывают на эти эффектные воинские значки, копируют их, переделывают на свой лад. Женщинам тоже по душе кокарды, но они носят их не на шляпе, а прикалывают к платью или накидке.
Таким образом, накануне Революции ношение кокарды уже стало модной тенденцией – по крайней мере в приличном обществе и среди военных. Вот почему люди не слишком удивились, когда в июне-июле 1789 года все вокруг запестрело кокардами: эти значки выражали симпатию или враждебность к новым идеям, или же преданность королю, королеве и принцам, или же принадлежность к тому или иному политическому кружку, клубу или движению. Некоторые кокарды воспроизводят цвет ливрей, гербов или эмблем сильных мира сего или недавно возникших политических объединений и вооруженных формирований. Приведем несколько примеров: цвет короля – белый; цвет Австрийского дома – черный; цвет графа д’Артуа и Неккера – зеленый; цвета парижского ополчения – синий и красный; цвета французского ордена Цинцинната (объединение французских офицеров – участников войны за независимость и свободу Соединенных Штатов Америки), в котором состоял Лафайет, – синий и белый. Накануне взятия Бастилии символика цветов стала всеобщим увлечением.
12 июля 1789 года, когда после отставки Неккера в Париже начались волнения, Камилл Демулен, в то время никому не известный молодой адвокат, произносит в садах Пале-Рояля две речи, которые станут знаменитыми и будут иметь важные последствия. В конце второй речи оратор призывает всех патриотов поднять оружие против «аристократического заговора» и надеть кокарду, чтобы можно было распознать друг друга. Он предлагает собравшимся выбрать цвет для кокарды. «Зеленый, цвет надежды!» – кричат из толпы. Демулен срывает лист с ближайшего дерева – это липа – и прикрепляет к шляпе. Собравшиеся делают то же самое. К вечеру у людей на шляпах появляются зеленые ленты: это станет эмблемой третьего сословия, готового к восстанию. Но на следующий день люди узнают, что зеленый, цвет сражающейся Свободы, – еще и цвет графа д’Артуа, ненавистного брата короля. Кто-то решает сменить кокарду, кто-то отказывается это сделать, кто-то пребывает в растерянности. И когда 14 июля восставший народ захватывает Бастилию, на многих вообще нет кокарды, а у других кокарды разных цветов – зеленые, синие, красные, синие с красным, синие с белым.
Вопреки утверждениям, которые нам иногда приходилось слышать, в день взятия Бастилии трехцветной кокарды еще не существовало. Она была создана на следующий или в один из последующих дней при обстоятельствах, которые до сих пор остаются невыясненными, несмотря на то (или именно потому), что мы располагаем многочисленными и противоречивыми свидетельствами современников. Лафайет в своих мемуарах утверждает, что именно ему 17 июля в ратуше пришло в голову соединить белую королевскую кокарду с синим и красным, цветами национальной гвардии, которая была создана четырьмя днями ранее для поддержания порядка в столице. Но вряд ли стоит безоглядно доверять этому свидетельству[247]. Байи, мэр Парижа, тоже приписывает себе авторство трехцветной кокарды[248]. Другие очевидцы событий, произошедших в тот день, 17 июля 1789 года, утверждают, что это сам король, решив совершить жест примирения, прикрепил к своей белой кокарде синие и красные ленты, которые ему дали в ратуше. Однако маловероятно, чтобы 17 июля Людовик XVI пришел в ратушу с белой кокардой, символом военной власти и знаком полномочий главнокомандующего. Это было бы воспринято как вызов[249]. Так или иначе, нет сомнений, что трехцветные кокарды впервые появились в городе на следующей неделе после взятия Бастилии. Но последовательность цветов закрепилась далеко не сразу, хоть и считалось, что белый лучше помещать в центре.
На попытки определить символическое значение цветов было потрачено много усилий и много чернил. Если белый в начале лета 1789 года – это, без всяких сомнений, цвет короля, королевского штандарта и королевской кокарды, то синий в сочетании с красным – всего лишь цвета Парижа, да и то второстепенные. Красный и темно-коричневый служат эмблемой города и его высших должностных лиц гораздо чаще, чем красный и синий.
Но если трехцветной кокарды до 15 или 17 июля 1789 года еще не существовало, то само по себе сочетание красного, синего и белого на различных носителях, в частности на тканях, вошло в моду как минимум десятью годами раньше. Ведь это цвета американской войны за независимость, цвета флага молодых Соединенных Штатов, где французы сражались за свободу вместе с патриотами Америки. С конца 1770-х годов во Франции и в других странах Старого Света, все те, кто непосредственно или отдаленно участвовал в битвах за свободу, любят появляться на людях в красно-сине-белом. Мода, в том числе и придворная, широко использует эти три цвета[250].
Отметив несомненную связь между американской революцией и модой на трехцветную одежду, мы теперь должны разобраться, почему с 1774–1775 годов повстанцы в заокеанских колониях Англии выбрали сине-бело-красный флаг, то есть тех же цветов (правда, в другой последовательности), что и флаг Британской короны, от власти которой они стремились освободиться. Это словно бы «контрфлаг»: цвета те же, а расположение и значение другие. Возникает мысль, что если бы синего, белого и красного не было на знамени Соединенного Королевства, их не было бы и на знаменах Соединенных Штатов, французской Революции, Империи и Французской республики. Но британский флаг, знаменитый Union Jack, обрел свои традиционные цвета в начале XVII века; а если точнее, после того как в 1603 году король Шотландии Яков VI Стюарт стал еще и королем Англии, собрав под своей короной два государства. И появился трехцветный флаг, объединивший бело-синий шотландский и бело-красный английский флаги. Получается, если бы в начале XVII века на английский трон не взошел бы Яков Стюарт, французский флаг, родившийся два века спустя, возможно, и не был бы сине-бело-красным…[251]
Французский синий: от кокарды до флага
Вернемся к первым дням после взятия Бастилии, к лету 1789 года, когда трехцветная кокарда, символ восторженного патриотизма, имеет такой ошеломительный успех. Она мелькает повсюду, ее цвета появляются на шарфах, поясах, галстуках, на платьях и фраках, на значках и флажках, с которыми ходят патриоты. 10 июня 1790 года Национальное собрание объявляет трехцветную кокарду «национальной эмблемой», а через несколько недель, в день праздника Федерации, все Марсово поле будет расцвечено сине-бело-красными полотнищами. Отныне это «три цвета Нации».
Но проходят месяц за месяцем, политические страсти накаляются, и значение кокарды меняется: теперь это не просто патриотический символ, а знак принадлежности к определенной партии. Тем более что контрреволюционеры стали противопоставлять ей свою эмблему, белую королевскую кокарду, которую они прикрепляют даже на верхушки деревьев свободы. 8 июля 1792 года Законодательное собрание издает декрет, согласно которому ношение трехцветной кокарды для мужчин становится обязательным. 21 сентября 1793 года по решению Конвента оно становится обязательным и для женщин. За появление на улице без кокарды гражданину или гражданке грозит недельное тюремное заключение – это в лучшем случае, а в худшем… Человека, сорвавшего трехцветную кокарду, кем бы он ни был, расстреливают на месте. Однако это продлится недолго. После падения Робеспьера и особенно с приходом к власти Директории люди вновь смогут появляться на улице без кокарды (правда, в театр и на другие публичные зрелища без нее пока еще нельзя). При Консулате ношение кокарды останется обязательным только для военных.
В период между 1790 и 1812 годами три национальных цвета, родившиеся вместе с кокардой на следующий день после взятия Бастилии, постепенно займут место на государственных флагах и штандартах. Это произойдет не так скоро и не так легко, будут еще сомнения, недоразумения, суета и путаница. Первыми трехцветными флагами станут морские флаги. Уже осенью 1790 года Национальное собрание постановляет: отныне военные и торговые суда будут ходить под флагом с тремя вертикальными полосами: красной, белой и синей; красная должна располагаться у древка, средняя, белая, должна быть чуть шире остальных[252]. Полосы расположили вертикально, чтобы новый флаг французского флота не путали с флагом Республики Соединенных Провинций. В самом деле, с XVII века над всеми морями развеваются голландские флаги, на которых три полосы – синяя, белая и красная – расположены горизонтально, то есть параллельно длинной стороне прямоугольника. Таким образом, это стремление избежать путаницы (очевидно, вначале имевшей место и доставлявшей немало неприятностей) привело к созданию флага с вертикальным расположением, ставшего впоследствии флагом Франции[253]. Заметим мимоходом, что в XVIII веке многие корабли ходили под трехцветными флагами (с различными геометрическими фигурами) и что на знаменах многих христианских стран синий цвет встречался намного чаще других.
Через три с половиной года, 15 февраля 1794 года (27 плювиоза II года Республики), Конвент принимает важное решение, окончательно определившее вид государственного флага. Отныне «на всех кораблях Республики» будут поднимать одинаковый флаг: три вертикальные полосы одинаковой ширины (в 1790 году она была разной), окрашенные в национальные цвета, первый от древка – синий (раньше это был красный). Какие именно оттенки указанных цветов следует использовать, не уточняется. И не будет уточнено никогда, ведь речь идет об абстрактных, условных, геральдических цветах – как, собственно, и у большинства государственных флагов (за редкими исключениями). Синий может быть светлым или темным, красный – с розовым или оранжевым отливом: это совершенно неважно, и значение флага от этого ничуть не меняется; пользуясь этим обстоятельством, художники, любившие изображать на своих полотнах французский флаг (а их было немало), позволяли себе различные хроматические вольности. Впрочем, когда флаг находится под открытым небом, когда его жжет солнце и поливает дождь, его цвета в любом случае меняются.
Итак, новый флаг французского флота со временем становится государственным флагом Франции[254]. При Империи он развевается над дворцом Тюильри и над многими правительственными зданиями, а в 1812 году он заменит старые полковые флаги сухопутных войск, на которых красовались ромбы и треугольники. Согласно легенде, идея нового флага принадлежит художнику Луи Давиду, но в архивах не обнаружено ни эскизов, ни каких-либо других документов, подтверждающих эту гипотезу. Вдобавок, по сравнению с флагом 1790 года, к созданию которого Луи Давид не имел никакого отношения, в новом флаге 1794 года имеются лишь незначительные изменения. Но так или иначе, они были последними.
При Реставрации вместе с королем в страну возвращаются эмблемы королевской власти: белая кокарда и белое знамя; другие кокарды и флаги объявлены вне закона. После пятнадцати лет забвения (1814/15–1830) трехцветный флаг снова окажется в центре событий во время революции 1830 года. Он развевается над парижскими баррикадами в три славных дня: 27, 28 и 29 июля – и вдохновляет восставших. Его роль в победе неоспорима. И вот 1 августа Луи-Филипп, на тот момент еще только наместник королевства, накануне получивший в дар от старика Лафайета трехцветное знамя, принимает решение: Франция должна вернуться «к своим национальным цветам». Трехцветный флаг вновь становится официальным государственным флагом. Он остается им и по сей день, успешно отразив угрозы со стороны красного[255]и белого[256]флагов в 1848 и 1873 годах соответственно.
Красный флаг
Красный флаг никогда не был эмблемой Франции, но мог стать ею по меньшей мере дважды: впервые – в знаменитый день восстания 25 февраля 1848 года, когда Ламартин в последний момент «спас» трехцветный флаг; и во второй раз – весной 1871 года, во время Парижской коммуны. При Старом порядке красный флаг еще не воспринимался как эмблема восстания или нарушения запретов. Напротив, это предупреждающий сигнал и символ порядка. Красный флаг – или большой кусок красной ткани – вывешивают для того, чтобы предупредить население о грозящей опасности или призвать толпу разойтись. Но постепенно он стал ассоциироваться с различными законами против скопления людей на улицах или даже с законодательством военного времени. Так, в октябре 1789 года Национальное собрание принимает декрет: при народных волнениях городские власти должны предупреждать о вмешательстве сил правопорядка, «вывешивая из самого заметного окна ратуши красный флаг, а также поручая офицерам ходить с красным флагом по улицам и перекресткам города»; с момента появления флага «все скопления людей считаются незаконными и должны быть рассеяны». Теперь красный флаг воспринимается как знак устрашения. Крутой поворот в его истории произойдет в памятный день 17 июля 1791 года. Король, пытавшийся бежать за границу, перехвачен в Варенне, арестован и доставлен обратно в Париж. На Марсовом поле, у Алтаря Отечества, лежит «Республиканская петиция» с призывом низложить монарха. Множество парижан приходят на Марсово поле, чтобы подписаться под ней. Собирается огромная возбужденная толпа, назревает бунт, общественный порядок под угрозой. Байи, мэр Парижа, приказывает немедленно поднять красный флаг. Но толпа еще не успевает разойтись, когда солдаты национальной гвардии без предупреждения открывают огонь. Около пятидесяти человек убиты; их тут же объявляют «мучениками Революции». И срабатывает парадоксальная логика протеста: красный флаг, «обагренный кровью мучеников», меняет свое значение – он превращается в знамя угнетенного народа, поднявшегося против тирании. Он будет играть эту роль в течение всех революционных лет, во время мятежей и народных восстаний. Он составит дуэт с красным колпаком, который носят санкюлоты и наиболее радикально настроенные патриоты. Постепенно он становится эмблемой тех, кого позже будут называть «социалистами», а еще позже – «ультралевыми». При Империи красный флаг почти не виден, во время Реставрации снова выходит на первый план, в частности в 1818 году, в дни революции 1830 года и при Июльской монархии. Он появляется на баррикадах 1832 года (Гюго в «Отверженных» посвящает ему волнующие страницы), затем на баррикадах 1848 года. 24 февраля этого года восставшие парижане, размахивая красным флагом, провозглашают республику. На следующий день они под этим же флагом приходят в ратушу, где заседает временное правительство. Один из повстанцев, выступая от имени собравшихся, требует, чтобы красный флаг «как символ страданий народа и в знак окончательного разрыва с прошлым» был официально признан государственным флагом Франции. Тогда уже никому не удастся украсть у нас нашу революцию, как случилось в 1830 году. В эти напряженные минуты сталкиваются две концепции республики: одна – красная, якобинская, мечтающая о новом социальном порядке; вторая – трехцветная, более умеренная, стремящаяся к реформам, но не к общественным потрясениям. И тогда выдающийся поэт Альфонс де Ламартин, член временного правительства и министр иностранных дел, произносит две речи, которые станут знаменитыми. В итоге ему удается переломить настроение толпы и убедить собравшихся не отказываться от трехцветного флага: «Красный флаг… это средство устрашения… граница его влияния – это окружность Марсова поля, которое ему случалось огибать, в то время как трехцветный флаг обошел весь мир, неся с собой имя, славу и свободу нашей родины… Это флаг Франции, флаг нашей победоносной армии, флаг наших триумфов, который нам надо вновь поднять перед лицом Европы». И даже если Ламартин слегка приукрашивает эту речь, приводя ее в своих «Мемуарах», все же в тот февральский день он спас трехцветный флаг. Двадцать три года спустя, во время Коммуны, красный флаг вновь захватывает улицы Парижа, его поднимают над фронтоном ратуши. Но скоро восставший красный Париж будет побежден «трехцветными» версальцами, Тьером и Национальным собранием. Трехцветный флаг окончательно станет флагом закона и порядка, красный же – флагом угнетенного народа, социалистических и революционных партий, а несколькими десятилетиями позже – знаменем коммунистических партий и режимов. Его история давно уже перестала быть национальной и превратилась в интернациональную.
Белый флаг
Уже на исходе Средневековья белый цвет во Франции был королевским цветом. Конечно, ему нет места ни на королевском гербе («три золотые лилии на лазурном поле»), ни на коронационном одеянии, но все же он играет важную роль в создании величественного облика монарха, как явствует из описания некоторых торжественных ритуалов, когда король должен появляться в белом (например, на собраниях капитула Ордена Святого Михаила). Кроме того, существует еще один герб, «серебряный щит, усыпанный золотыми лилиями» (на языке геральдики в данном случае «серебряный» подразумевает «белый»), который иногда рассматривается как герб Французского королевства или Франции, аллегорически представленной в облике женщины. При Старом порядке белый цвет становится прежде всего знаком военной власти монарха. Это эмблема короля, прибывшего в расположение войск, и полководцев, командующих от его имени (надо сказать, белый цвет выполняет эту роль не только во Франции). Полководцы носят белый шарф и белый султан на шляпе, а перед некоторыми из них еще носят так называемый «корнет» того же цвета. Это треугольный штандарт, как правило, кавалерийский; часто в первой роте каждого полка он белый, с золотыми лилиями, и словно бы перекликается с белоснежным королевским штандартом, который находится в расположении той воинской части, где в данный момент находится король. Этот штандарт несет особый королевский знаменосец. В эпоху религиозных войн, в 1590 году, во время битвы при Иври, Генрих IV (он еще не коронован, но на значительной части территории уже признан законным королем Франции), увидев, как его раненого знаменосца выносят с поля боя, указав на белый султан на своем шлеме, будто бы произносит знаменитую фразу: «Раз у вас больше нет штандарта, пусть это будет моим опознавательным знаком». Итак, к моменту, когда начинается Революция, белый – королевский цвет (точнее, один из королевских цветов) и эмблема главнокомандующего. А в период между 1789 и 1792 годами он постепенно становится эмблемой Контрреволюции. По-видимому, все началось с ужина, который состоялся в Версале 1 октября 1789 года. Говорят, в тот день разгоряченные вином гвардейцы растоптали трехцветные кокарды, которые стали весьма популярными после июльских событий. А взамен они надели белые кокарды, которые им раздали придворные дамы, присутствовавшие на этом ужине. Эта история наделала много шуму и стала одной из причин волнений, произошедших 5 и 6 октября 1789 года, когда толпа парижан отправилась в Версаль, окружила дворец, захватила короля и королеву и перевезла их в Париж. С этих пор контрреволюционеры стараются повсюду заменить трехцветную кокарду – которую Национальное собрание своим декретом от 10 июля 1790 года провозгласило «национальной» – на белую. После свержения монархии эта война кокард будет сопровождаться все более и более кровопролитной войной флагов. В западной Франции «католическая и королевская армия» идет в бой с белыми кокардами и под белыми знаменами. Белые полотнища знамен часто украшаются золотыми лилиями или культовым изображением Святейшего Сердца Иисуса Христа: Людовик XVI, когда он томился в заключении в Тампле, был истовым адептом этого культа. В различных эмигрантских ополчениях солдаты также украшают себя белыми кокардами и носят белые знамена, а офицеры – еще и белые нарукавные повязки. Белый, цвет контрреволюции, является одновременно антагонистом двух цветов: синего на мундирах солдат-республиканцев и триколора на кокарде и национальном флаге. В 1814–1815 годах королевский флаг вместе с Бурбонами возвращается во Францию. Однако замена трехцветного флага на белый не везде проходит плавно и гладко. Многие офицеры, солдаты, чиновники, городские власти, органы управления и суды, признавшие Людовика XVIII своим королем, выступают за сохранение трехцветного флага наряду с королевским белым. Но Бурбоны против, и это, по-видимому, их большая ошибка. К тому же они несколько видоизменяют традиционный флаг, оставшийся от Старого порядка: если раньше он был просто белым, то при Реставрации (а при Июльской монархии – у легитимистов) на нем появляются золотые лилии или королевский герб. Эти нововведения, с одной стороны, означают разрыв с прошлым, а с другой в известной мере ослабляют символическое значение и психологическое воздействие белоснежного полотнища. Правда, еще с XVIII века во всех европейских армиях белый флаг стал означать капитуляцию… После Июльской революции и вступления на трон Луи-Филиппа трехцветный флаг снова – и окончательно – становится государственным флагом Франции. А белый флаг отправляется в изгнание. В следующий раз он появится на земле Франции в 1832 году, во время безрассудной авантюры герцогини Беррийской, – но только на юге и на западе страны, причем ненадолго. Позднее, когда в 1871–1873 годах возникнет перспектива второй Реставрации, судьба Франции будет напрямую зависеть от выбора государственного флага. Для претендента на трон графа де Шамбора, внука Карла X, единственный законный флаг Франции – это белый флаг, в складках которого он надеется «принести Франции порядок и свободу». По словам будущего Генриха V, «он не может отказаться от белого флага Генриха IV». Тут столкнулись две противоположные концепции будущего страны, получившие символическое воплощение в двух флагах. Белый флаг – это монархия, власть, дарованная Богом; трехцветный флаг – это власть, исконно принадлежащая народу. И вот в 1875 году большинство французов высказывается за республику, граф де Шамбор остается в изгнании, а белый флаг отныне будет флагом одних лишь монархистов-легитимистов.
О том, как синий цвет стал играть важнейшую роль в политике и на войне
Великая французская революция не только дала жизнь национальному триколору, но и на некоторое время одела в синюю форму солдат, сражавшихся сначала за Республику, а потом за всю Францию. Тем самым она превратила синий в «политический» цвет, цвет защитников Республики, затем умеренных республиканцев, а позднее – либералов и даже, как это ни странно, консерваторов.
До Революции солдатские мундиры разных полков существенно отличались друг от друга, и хотя в основном они были белыми, в целом получалась весьма пестрая цветовая гамма. Так же, впрочем, обстояло дело и в большинстве иностранных армий – кроме прусской, где солдаты с конца XVII века носили темно-синие мундиры, и английской, где с 1720 года солдатская форма стала красной. Однако в канун Революции солдаты французской гвардии, элитного полка, сформированного в 1564 году и служившего непосредственно королевской семье, носили синюю форму. Именно они в июле 1789 года братались с народом и, перейдя на сторону восставших, участвовали во взятии Бастилии. Многие из них затем завербовались в воинские подразделения, которые набирала парижская национальная гвардия, и сохранили свои старые мундиры. Год спустя синюю форму парижского ополчения надели солдаты-ополченцы в других крупнейших городах Франции, а в июне она была объявлена «синей национальной формой». С этих пор синий цвет, наравне с триколором, стал эмблемой всех тех, кто выступал за революционные идеалы. Синий противопоставляли белому (цвету короля) и черному (цвету духовенства и Австрийского императорского дома), которые стали символами контрреволюционных сил. Когда осенью 1792 года во Франции была провозглашена Республика, синий, как и следовало ожидать, стал цветом республиканских мундиров. Несколько декретов, изданных в конце 1792 и начале 1793 года, ввели синюю форму сначала для пехотных полубригад, затем для всей регулярной армии и, наконец, для революционных военных соединений, которые эпизодически сформировывались в течение 1793–1794 годов.
Итак, синий цвет уже стал военным и республиканским; но политическим цветом он стал лишь во время гражданской войны в Вандее. Когда республиканцы в синих мундирах вступили в кровопролитные бои с одетыми в белое роялистами, синий цвет приобрел идеологическое измерение; именно в это время возник хроматический антагонизм – синий против белого, которым будет отмечена политическая жизнь Франции в течение всего XIX столетия. Однако если роль белого за эти годы не менялась – он оставался цветом монархистов, – то синий постепенно терял свой политический радикализм: левые силы, социалисты и экстремисты предпочитали выступать под красным флагом. А начиная с революции 1848 года синий вообще потерял свое революционное значение и стал цветом умеренных республиканцев, затем центристов и наконец, при Третьей республике, когда монархисты утратили всякую надежду на восстановление королевской власти, – цветом правых республиканцев. Теперь синий был гораздо ближе к белому, чем к красному[257].
Примерно такой же путь синий цвет прошел и в остальных странах Европы (исключений, как, например, Испания, было немного): сначала это был цвет прогрессивных республиканцев, затем центристов или умеренных и наконец консерваторов. На левом фланге оппозицию ему составляли розовый цвет социалистов и красный – коммунистов; на правом – черный, коричневый или белый цвет клерикальных, фашистских и монархических партий. К этим цветовым эмблемам, имеющим более или менее отдаленные корни, совсем недавно присоединилась еще одна: зеленый цвет защитников окружающей среды[258].
Итак, решающую роль в формировании современных политических цветов сыграла Великая французская революция[259]. Но одеть всех французских солдат в синее ей удалось ненадолго: в конце XVIII века было очень трудно достать индиго. Этот краситель привозили из Индии или из Нового Света морским путем, и Франция, хоть и имевшая колонии в Америке, в этих поставках сильно зависела от других стран, в частности от Англии. А с 1806 года, когда была установлена континентальная блокада, американский продукт, необходимый для окрашивания мундиров французских солдат в синий цвет, стал и вовсе недоступен. Наполеон спросил ученых, нельзя ли возобновить культивацию вайды и изготовление из нее промышленной краски; ему объяснили, что результатов придется ждать слишком долго[260]. Тогда он поручил химикам разработать новый технологический процесс, позволяющий получать краску для ткани из берлинской лазури. Талантливый химик Ремон изобрел соответствующую технологию, но желаемых результатов она не принесла. Вплоть до падения Империи и даже в первые годы Реставрации было очень сложно одеть всю французскую армию в синюю форму. Тем временем англичане развели в Бенгалии огромные плантации индиго, и с наступлением мирного времени Франция снова попала в зависимость от Англии.
Вот почему в июле 1829 года король Карл Х распорядился, чтобы солдаты пехотных частей вместо синих брюк носили красные, из ткани, окрашенной мареной. Этот растительный краситель имелся в достаточном количестве: в середине XVIII века, стараниями физиократов, марену стали выращивать снова, и в некоторых областях Франции (Провансе, Эльзасе) ее культуру усовершенствовали и модернизировали. Затем, с 1829 по 1859 год, красные брюки постепенно стали частью солдатской формы во всех родах войск; до 1915 года их носили с шинелью темно-синего цвета. Возможно, именно эти брюки из ткани, выкрашенной мареной в очень яркий красный цвет, стали виновниками огромных потерь, которые понесла французская армия в начале Первой мировой войны. В других странах уже за несколько десятилетий до этого отказались от слишком ярких красок и ввели форму неброских цветов, сливающихся с окружающим пейзажем: у британских солдат была форма цвета хаки (английские войска в Индии надели ее еще в середине XIX века), у немцев, итальянцев и русских – серо-зеленая, у австро-венгерской армии – серо-синяя. Некоторые генералы понимали, что французским военным необходима полевая форма, более соответствующая современным способам ведения войны; но очень многие утверждали, что отказаться от красных брюк было бы большой ошибкой. Так, за три года до войны, в 1911 году, бывший военный министр Этьен заявил: «Убрать из военной формы все, что имеет хоть какой-то цвет, что придает солдату веселый, жизнерадостный вид, и облачить его в тусклые, унылые тона – значит, во-первых, пойти против национального характера, а во-вторых, не дать военным выполнить традиционные функции, неотделимые от их профессии. В красных брюках есть нечто национальное. <…> Красные брюки – это Франция»[261].
И вот результат: в августе 1914 года французские солдаты отправились на передовую в ярко-красных брюках, и не исключено, что этот слишком броский цвет стоил жизни десяткам тысяч человек. В декабре было решено заменить красные брюки синими – тусклого, серо-синего, скучного оттенка. Но достать синтетическое индиго для окраски ткани в таком количестве, которого хватило бы на брюки для всех французских солдат, оказалось очень долгим и сложным делом. И только весной 1915 года им выдали синие брюки нового, невиданного доселе оттенка. Этот оттенок получил название «цвет голубого горизонта» (bleu horizon): считалось, что он напоминает неопределенный цвет линии, которая на горизонте отделяет небо от земли (или от моря). Новый цвет также был проникнут национальным духом, он вызывал ассоциацию с пресловутой «голубой линией Вогезов», столь дорогой сердцу Жюля Ферри[262]; глядя на него, французские патриоты должны были представлять себе подернутый голубой дымкой силуэт Вогез, за которыми находятся Эльзас и Лотарингия, и чувствовать братскую солидарность с населением двух этих областей, с 1871 года живущим под немецкой оккупацией.
После войны выражение «голубой горизонт» с полей сражений переместилось на политическую арену. По итогам выборов 1919 года в Палате депутатов оказалось много вчерашних солдат, которые еще год назад носили форму этого нового оттенка. Шутки ради или, быть может, в насмешку журналисты окрестили Палату нового созыва «Голубой палатой». В этой Палате правые и центристы объединились в патриотический блок, составлявший явное большинство и занимавший непримиримую позицию по отношению к русским большевикам. Они сохраняли свои мандаты до 1924 года, и благодаря им синий окончательно превратился в цвет правых республиканцев, противников «красных». Солдатский мундир Второго года Республики, синий мундир победоносной революции, остался в далеком прошлом.
Самый распространенный цвет: от военной формы до джинсов
Во второй половине XVIII века во Франции и большинстве соседних с ней стран синий, наряду с серым и черным, стал самым распространенным цветом в одежде всех слоев общества. В частности, крестьяне предпочитали синюю одежду всех оттенков: в некоторых странах (Англия, Германия, Северная Италия) эта тенденция была совершенно новой. Она покончила с модой на различные оттенки черного, серого и коричневого, которая продержалась среди европейского крестьянства несколько последних столетий; кроме того, она в известной мере ознаменовала возврат к одежде, какую носили крестьяне в феодальную эпоху, пять или шесть веков назад, – тускло-синей, с серым отливом.
Успех синих тонов, достигший апогея в век Просвещения, несколько поутих за время революционных бурь, а в XIX веке пошел на убыль. И в городе, и в деревне главным цветом стал черный, как в мужском костюме, так и в женском. XIX век, как XV и XVII, был веком моды на черное. Однако в XIX веке эта мода продержалась всего несколько десятилетий. Перед Первой мировой войной, к негодованию пуритански настроенных граждан, цвета одежды, в том числе и повседневной, в западноевропейских странах стали значительно разнообразнее; и среди новых (или обновленных) цветов первое место постепенно заняли (или вернули себе) все оттенки синего.
Это явление стало еще более заметным начиная с 1920-х годов, когда в моде, особенно городской, начался настоящий бум темно-синих тканей. За три-четыре десятилетия многие предметы мужского костюма, которые по тем или иным причинам были черного цвета, стали синими. И в первую очередь – униформа, военная и гражданская. За первую половину ХХ века в разных странах, где-то быстрее, а где-то медленнее, моряки, гвардейцы, жандармы, полицейские, военнослужащие некоторых специальностей, пожарные, таможенники, почтальоны, спортсмены и даже (сравнительно недавно) некоторые священнослужители – все оделись в темно-синюю форму. Конечно, не все поголовно, были и исключения; но в период между 1910 и 1950 годами в Европе и США темно-синий цвет в форменной одежде постепенно вытеснил черный. Примеру военных вскоре последовали гражданские: с 1930-х годов, сначала в англо-саксонских странах, а затем на большей части европейской территории, многие мужчины сменили черные костюмы, пиджаки и брюки на темно-синие. Превращение черного в темно-синий – бесспорно, одно из центральных событий в истории одежды ХХ века. И наиболее характерным свидетельством этой цветовой революции стал блейзер[263].
Итак, в период между двумя войнами синий завоевал (или вернул себе) звание самого популярного цвета в европейской и американской одежде. И с тех пор его преимущество перед другими цветами только увеличивалось. Униформа, темные костюмы, голубые рубашки, блейзеры, джемперы, купальные и спортивные костюмы активно способствовали триумфу всей гаммы синих тонов во всех слоях общества. Но не меньший вклад в популярность синего цвета, особенно в 1950-е годы, внес один-единственный предмет одежды: джинсы. Если на протяжении жизни двух, трех или даже четырех поколений синий в европейской одежде далеко опережает все остальные цвета, то этим он отчасти обязан именно им. Историю этого уникального в своем роде предмета одежды стоит рассмотреть подробнее.
Как у всякой вещи, обладающей мощным мифологическим потенциалом, происхождение джинсов окутано тайной. Тому есть несколько причин, в частности пожар, вспыхнувший в Сан-Франциско после разрушительного землетрясения в 1906 году и уничтоживший архивы фирмы Levi Strauss & Co., которая за полвека до этого создала знаменитые брюки[264]. Именно тогда, весной 1853 года, некий уличный торговец из Нью-Йорка, 24 летний еврейский эмигрант из Баварии, называвший себя Ливаем Страуссом (его настоящее имя так и осталось неизвестным), приезжает в Сан-Франциско. После того как в 1845 году в горах Сьерра-Невада открыли месторождение золота, в Калифорнии началась «золотая лихорадка» и люди толпами хлынули в Сан-Франциско. Ливай Страусс привез с собой большую партию брезента для палаток и чехлов на тачки: он надеялся прилично заработать на продаже этого товара. Однако дела пошли неважно. Один золотоискатель объяснил Страуссу, что в этой части Калифорнии людям не слишком нужен брезент, зато очень нужны прочные, удобные рабочие брюки. Юный Страусс тут же решает, что будет шить из своего брезента брюки. Его продукция имела громадный успех, и мелкий торговец из Нью-Йорка превратился в изготовителя готовой одежды и текстильного промышленника. Вместе с зятем он основывает акционерное общество, которое с годами процветает все больше и больше. Хотя оно диверсифицирует свою продукцию, лучше всего продаются рабочие комбинезоны (overalls) и брюки. Брюки пока еще не стали синими, они выпускаются разных цветов, от грязно-белого до темно-коричневого. Однако, при всей своей прочности, брезент – ткань очень тяжелая, жесткая и трудная для обработки. Поэтому в 1860–1865 годах Ливай Страусс решает постепенно заменить брезент денимом, европейской тканью саржевого переплетения, окрашенной в цвет индиго. Так родились классические синие джинсы[265].
О происхождении английского слова «деним» нет единого мнения. Возможно, в его основе – сокращенное французское словосочетание serge de Nîmes(саржа из Нима): так называлась ткань из шерсти и отходов шелка, производившаяся в районе Нима по крайней мере с XVII века. Однако с конца следующего столетия это название стала носить и ткань из смеси льна и хлопка, которую делали в южном Лангедоке и экспортировали в Англию. Кроме того, существует еще прекрасная шерстяная ткань, производимая на средиземноморском побережье между Провансом и Руссильоном: эта ткань по-провансальски называется «ним» (nim). Таким образом, ясности в этом вопросе пока что нет; а региональный шовинизм авторов, пишущих на данную тему, отнюдь не облегчает задачу историка[266].
Как бы то ни было, в начале XIX века денимом в Англии и Соединенных Штатах называется очень прочная хлопчатобумажная ткань, окрашенная в синий цвет с помощью индиго; из этой ткани шьют, в частности, одежду для шахтеров, рабочих и чернокожих рабов. Приблизительно в 1860-е годы деним постепенно вытесняет jean, ткань, из которой до этих пор Ливай Страусс шил брюки и рабочие комбинезоны. Само слово jeanфонетически совпадает с итало-английским прилагательным genoese, означающим просто-напросто «генуэзский». Следует заметить, что брезент для палаток, когда-то закупленный Ливаем Страуссом, принадлежал к семейству тканей, которые изначально вырабатывались в Генуе и прилегающей к ней местности; первое время их делали из шерсти и льна, позднее – льна и хлопка. С XVI века из этой ткани производили паруса, матросские штаны, брезент для палаток и всевозможные чехлы.
В 1853–1855 годах в Сан-Франциско брюкам с фабрики Ливая Страусса в результате метонимии присвоили название материала, из которого их шили: jean. Десять лет спустя материал стал другим, но название осталось. Хотя брюки теперь шили не из генуэзской парусины, а из денима, их по-прежнему называли jeans– джинсы. В 1872 году у Ливая Страусса появился компаньон, портной еврейского происхождения из Рино по имени Джейкоб У. Дэвис. Двумя годами ранее Дэвис придумал шить брюки для лесорубов с задними карманами на заклепках. И вот теперь эти заклепки появились на джинсах Ливая Страусса. Хотя название blue jeansпоявилось в торговле лишь в 1920 году, джинсы Ливая Страусса с самого своего рождения в 1870 году были исключительно синего цвета, так как деним всегда окрашивали только индиго, и никакой другой краской. Ткань была слишком плотной, чтобы полностью впитать краситель. Но именно эта неровность окраски обеспечила изделиям их популярность: цвет был словно живой, владельцу брюк или комбинезона казалось, будто они меняются вместе с ним, разделяют его судьбу. Когда несколько лет спустя, благодаря успехам химии красителей, стало возможным окрашивать индиго любую ткань так, что окраска получалась ровной и прочной, производителям джинсов пришлось искусственно выбеливать или обесцвечивать синие брюки, чтобы они казались линялыми, как раньше.
В 1890 году закончилось действие патента, который закреплял юридические и коммерческие права на джинсы за фирмой Ливая Страусса. Появились фирмы-конкуренты, предлагавшие брюки из менее плотной и более дешевой ткани. А основанная в 1911 году фирма Lee в 1926 году решила заменить пуговицы застежкой «молния». Но самым опасным конкурентом для наследников Levi Strauss стала компания Blue Bell, основанная в 1919 году (а в 1947-м переименованная в Wrangler). Тогда могущественная фирма из Сан-Франциско (основатель которой умер в 1902 году, оставив миллиардное состояние) выпустила на рынок свои Levi’s 501, скроенные из двойного денима, с классическими заклепками и металлическими пуговицами. В 1936 году, чтобы избежать путаницы и подделок, фирма стала пришивать на задний карман джинсов небольшую красную этикетку с названием марки – Levi Strauss. Это был первый случай, когда название марки появилось на внешней стороне изделия.
Тем временем джинсы перестали быть только рабочими брюками. Они превратились в одежду для досуга и отдыха. В частности, их охотно надевали богачи с восточного побережья США, когда, приехав отдыхать на Запад, воображали себя ковбоями и золотоискателями. В 1935 году роскошный модный журнал Vogue впервые опубликовал на своих страницах рекламу подобных «изысканных» джинсов. В эти же годы джинсы появились в некоторых университетских кампусах: их носили студенты второго курса, которые какое-то время считали это своей привилегией и запрещали «салагам-первокурсникам» носить такие брюки. Джинсы стали повседневной одеждой молодежи и городских жителей, а позднее их надели и женщины[267]. После Второй мировой войны мода на джинсы перешагнула через океан. Сначала европейцы запасались ими в американских магазинах, затем некоторые производители открыли фабрики в Европе. В период между 1950 и 1975 годами часть молодежи сделала джинсы своей повседневной одеждой. Социологи расценили это явление (которое к тому же раздувала реклама) как важный сдвиг в жизни общества: джинсы пользовались одинаковой популярностью у юношей и у девушек, то есть стирали разницу между полами, они были эмблемой социального протеста и молодежного бунта. Однако в 1980-е годы многие молодые люди на Западе стали охладевать к джинсам, все чаще предпочитая им одежду различного покроя, из разных тканей и более разнообразной расцветки. Ведь несмотря на усилия производителей, которые в 1960-е и 1970-е годы стремились диверсифицировать расцветку джинсов, они были и остаются преимущественно синими или голубыми.
В то время как в Западной Европе мода на джинсы переживала спад (с 1980-х годов их почти перестали носить), в коммунистических (а также в развивающихся, включая даже мусульманские) странах они стали восприниматься как символ протеста, как знак приверженности западным свободам и ценностям, западной моде, западному образу жизни[268]. И тем не менее не стоит интерпретировать историю и символику джинсов как историю и символику одежды, выражающей идеи анархического бунта или социального протеста: это было бы преувеличением, даже ошибкой. Почему? Да потому что они синего цвета. Вначале служившие рабочей одеждой для мужчин, джинсы постепенно превратились в одежду для досуга, их стали носить женщины, а впоследствии – представители всех классов и категорий общества. Никогда, даже в недавние десятилетия, джинсы не были исключительно молодежной одеждой. Если взглянуть повнимательнее, изучить, какие джинсы носили в Северной Америке и в Европе в период с конца XIX по конец ХХ века, нетрудно будет понять, что джинсы – обычная одежда, которую носили обычные люди, отнюдь не стремившиеся выделиться, выразить свой протест, преступить какие-либо запреты. Все было наоборот: эти люди хотели носить практичную, неброскую и удобную одежду; они как будто хотели забыть, что они одеты. Пусть создатель джинсов и был евреем, их по сути можно назвать протестантской одеждой, настолько они соответствуют идеалу одежды, продиктованному протестантскими ценностями, о которых мы говорили выше. Простота линий, строгие цвета, однообразие: почти униформа.
Любимый цвет
Став в ХХ веке самым распространенным цветом одежды на Западе, синий при этом еще и утвердился в качестве самого любимого цвета. Эта любовь к синему не имеет убедительного житейского объяснения; ее причины скорее интеллектуального и символического свойства и уходят своими корнями в далекое прошлое. Мы уже говорили о том, как с XIII века синий начал оспаривать у красного роль аристократического, королевского цвета. Когда Реформация вырабатывает собственную систему ценностей, синий становится цветом строгого достоинства и высокой нравственности, чего нельзя сказать о красном; постепенно синий завоевывает все новые сферы жизни, вытесняя из них красный. Но только в эпоху романтизма синий повсеместно, и на очень долгий период, возводится в ранг любимого цвета. С тех пор он так и остается в этом ранге, и его преимущество перед другими цветами как будто даже увеличилось. Конечно, историки располагают точными данными только за последние сто с лишним лет, но многие доступные нам свидетельства (социальные, экономические, из области литературы, искусства и символики) единогласно подтверждают, что синий повсюду (или почти повсюду) стал любимым цветом. А с тех пор, как в 1890–1900-х годах стали проводиться регулярные исследования общественного мнения, их результаты неизменно показывают: синий лидирует с огромным отрывом от соперников. Он остается лидером и сейчас. По данным социологических исследований, проводившихся после Первой мировой войны как в Западной Европе, так и в Америке, в ответ на вопрос о любимым цвете пятьдесят человек из ста первым называют синий. Затем следуют зеленый (около 20 % опрошенных), потом белый и красный (по 8 %). Эти цвета далеко опережают все остальные[269].
Таковы результаты опросов среди взрослого населения Западной Европы и США. У детей шкала ценностей существенно отличается. К тому же их ответы сильно различаются в зависимости от страны и от возраста опрашиваемых, а также от времени проведения опроса: результаты, полученные в 1950-е и 1930-е годы, несколько отличаются от нынешних. Впрочем, одно неизменно: всегда и везде дети в первую очередь называют красный цвет, а затем или желтый, или синий. Только дети от десяти лет и старше иногда говорят, что им нравятся так называемые «холодные» цвета: среди взрослых такого мнения придерживается большинство. Но и у детей, и у взрослых ответы никак не зависят от пола опрашиваемых. У девочек и мальчиков результаты одинаковые, в точности как у мужчин и женщин. Принадлежность к тому или иному слою общества или профессиональная деятельность также слабо сказываются на результатах опросов. Единственное, что на них влияет, – это возраст респондентов.
Все эти опросы о любимых цветах, которые проводятся уже около ста лет, естественно, являются частью хитроумной рекламной стратегии. Для историка они полезны вдвойне. Во-первых, как документ по истории цветоощущения в современную эпоху, во-вторых, как повод к размышлениям, позволяющим ставить очень важные вопросы, которые относятся к очень длительным периодам. Однако следует знать, что эти обследования на сегодняшний день проводятся не во всех сферах деятельности и, главное, не во всех обществах. Как правило, они «целевые», а значит, более или менее недобросовестные. Зачастую социологи и психологи без должных оснований придают социокультурное, символическое или эмоциональное значение тому, что по сути затрагивает лишь такие узкоспециальные области, как реклама, статистика продаж или западно-европейская и американская мода на одежду.
Да и само понятие «любимый цвет» представляется весьма зыбким. Можно ли говорить о чьем-то любимом цвете вообще, вне конкретного контекста?[270]И какое значение это должно иметь для исследователя в области общественных наук, в частности историка? Например, когда человек называет своим любимым цветом синий, подразумевает ли это, что он действительно предпочитает синий всем остальным цветам и что это его предпочтение – а что такое вообще «предпочтение»? – распространяется на все стороны жизни, на одежду и жилище, на политическую символику и повседневный быт, на мечты и эстетические впечатления? Или же такой ответ на этот, в некотором смысле очень коварный, вопрос («Ваш любимый цвет?») означает, что человеку хочется, чтобы его в идеологическом и культурном плане причислили к группе людей, которые ответили бы «синий»? Это важный нюанс. Он очень волнует историка, поскольку тот, пытаясь задним числом применить свой график эволюции «любимых» цветов к прошедшим эпохам, не может обнаружить данные, касающиеся психологии или культуры отдельных личностей: в его распоряжении лишь свидетельства коллективного восприятия, относящиеся к какой-либо одной области жизни какого-либо одного общества (лексика, одежда, эмблемы и геральдика, торговля красками и красителями, поэзия, живопись, наука). А впрочем, разве в нашу эпоху дело обстоит иначе? Индивидуальные предпочтения, личный вкус – существуют ли они в действительности? Все, о чем мы думаем, во что верим, чем восхищаемся, все, что мы любим или отвергаем, воспринимается нами опосредованно, через впечатления и суждения других. Человек живет не в пустыне, он живет в обществе.
И вдобавок эти опросы игнорируют такие факторы, как секторизация областей знания, профессиональная деятельность, имущественные интересы и ценности личной жизни. Напротив, они стремятся стать провозвестниками некоей абсолютной истины, носителями некоей глобальной этики. Считается даже, что респондента можно считать полноценным, «действующим» (ведь за всеми этими опросами стоят рекламные фирмы), только если на вопрос о любимом цвете он отвечает спонтанно, то есть меньше чем за пять секунд, без долгих размышлений или нудных выяснений типа «А о чем речь – о живописи или об одежде?». Хотелось бы знать, по какому праву и ради чего от людей требуют этой спонтанности? Любой ученый интуитивно чувствует, что по сути своей она искусственна и подозрительна.
Однако зыбкость или даже ошибочность какой-либо концепции может порой оказаться плодотворной и конструктивной. В нашем случае социологические обследования помогли установить, что результаты опросов среди взрослых за сто лет почти не изменились. Имеющиеся у нас данные на конец XIX века очень близки к тем, которые мы привели выше; и результаты опросов, проводимых тогда в разных странах, почти не различаются между собой[271]. Это последнее обстоятельство заслуживает особого внимания; с давних пор западная культура превратилась в единый блок, сплотившийся вокруг синего цвета. В каждой стране результаты опросов дают одни и те же цифры, и всюду синий на первом месте, а зеленый – на втором[272]. Только в Испании и особенно в Латинской Америке картина несколько другая[273].
Это в западном мире. А вот за его пределами все иначе. Например, в Японии, единственной не-западной стране, где проводятся такие опросы, перечень любимых цветов выглядит так: на первом месте белый (30 % опрошенных), затем черный (25 %) и красный (20 %). Такая ситуация создает большие сложности для многонациональных корпораций японского происхождения. Например, в рекламе – афишах, проспектах, фотографиях и телевизионных видеороликах – им приходится придерживаться двух различных стратегий: одна нацелена на отечественного потребителя, другая – на западного. Конечно, цвет – не главная причина такого резкого расхождения, но все же его роль весьма существенна. Если некая фирма хочет завоевать покупателей всей планеты, ей необходимо учитывать этот фактор. Даже при том что культурная ассимиляция в наше время происходит очень быстро (хотя по отношению к цвету этот процесс, похоже, протекает медленнее, чем в остальных областях жизни).
Случай Японии любопытен и в других отношениях. Он лишний раз доказывает, что такое явление, как цвет, в разных культурах определяют, понимают и применяют к жизни по-разному. Японцу иногда не так уж важно знать, идет ли речь о синей, красной или какой-либо иной части цветового спектра, ему важнее другое: матовый это цвет или блестящий. В восприятии японца этот аспект – решающий. В японском языке существует несколько определений белого цвета, обозначающих разные градации матовости и блеска, от самой тускло-матовой до самой ослепительно-блестящей[274]. Глаз западного человека не всегда способен их различить; и определения белого цвета в европейских языках слишком скудны, чтобы можно было перевести их названия.
То, что мы наблюдаем в Японии, стране, где жизнь уже во многом приблизилась к жизни на Западе, еще более очевидно в других культурах Азии, в Африке и Латинской Америке. В большинстве социумов черной Африки зачастую не задумываются о том, что между гаммой красных и гаммой коричневых или желтых тонов, или даже зеленых или синих, есть какая-то граница. Зато если речь заходит о том или ином цвете, необходимо знать, сухой это цвет или влажный, мягкий или жесткий, гладкий или шершавый, глухой или звонкий, веселый или грустный. Цвет не воспринимается как нечто, существующее само по себе, ни тем более как феномен, обусловленный исключительно зрением. Он воспринимается в нераздельном единстве с данными других органов чувств. Поэтому его тона и оттенки не имеют особого значения. Кроме того, у многих этносов Западной Африки хроматическая культура, цветоощущение и лексические определения цвета зависят от пола, возраста и социального статуса человека. Например, в языках некоторых народностей Бенина есть множество названий для разных оттенков коричневого (или того, что глазу западного человека кажется коричневым), но одни названия используются только мужчинами, а другие – только женщинами[275].
Различия между представлениями о цвете, существующими в тех или других обществах, имеют важнейшее значение, поэтому историк, наравне с этнологом или лингвистом, обязан постоянно помнить о них. Они не только подчеркивают узко культурологический характер цветовосприятия и обусловленные этим определения цветов, но и помогают понять, какую важную роль здесь играют соощущения, перцептивные ассоциации, в создании которых, наряду со зрением, участвуют и другие наши чувства. Наконец, они заставляют историка осторожнее относиться к компаративистским исследованиям, изучающим феномены цветоощущения в разных странах и в разные эпохи[276]. Западный исследователь еще способен понять, насколько важны для системы цветов в современной Японии понятия матовости и блеска[277]. Но если он взглянет на цветовой мир, в котором живут отдельные африканские социумы, то будет совершенно сбит с толку: что такое сухой цвет? Или грустный цвет? Или немой цвет? Здесь мы далеки от таких привычных понятий, как синий, красный, желтый, зеленый. А сколько еще существует в разных уголках мира определений, относящихся к цвету и совершенно недоступных пониманию европейского исследователя?
Заключение Синий сегодня: нейтральный цвет?
Что остается сегодня от долгой и богатой событиями истории синего цвета в нашей повседневной жизни, в наших общественных условностях, в нашем эмоциональном восприятии? Прежде всего, как мы выяснили, синий стал у нас самым любимым цветом, далеко опередив все остальные. Люди разного пола, социального происхождения, разной профессии, с разным культурным багажом в один голос признаются в любви к синему цвету. Главное доказательство гегемонии синего – это одежда. Во всех странах Западной Европы, более того: во всем западном мире разнообразные синие тона в одежде встречаются гораздо чаще, чем остальные цвета (включая белый, черный и бежевый). И, по-видимому, такая ситуация продлится еще долго, поскольку никакие капризы моды не могут поколебать владычество синего цвета. Ибо – к чему скрывать? – между модной одеждой, рекламируемой в массмедиа и доступной ничтожно малому проценту населения, и одеждой, которую реально носят все социальные классы и категории, существует огромный разрыв. Первая меняется каждые два месяца, изменения во второй происходят гораздо медленнее.
Пристрастие к различным оттенкам синего нашло свое отражение не только в одежде, но и в современной лексике. Слово «синий» действует как заклинание, оно завораживает, умиротворяет, переносит в сказочный мир. И увеличивает продажи. Это слово часто фигурирует в названиях товаров, бизнес-проектов, зданий или произведений искусства, имеющих очень отдаленное (мягко говоря) отношение к данному цвету. Само звучание этого слова такое нежное, плавное, текучее; когда мы слышим его, у нас возникает масса приятных ассоциаций: небо, море, отдых, любовь, путешествия, отпуск, бесконечность. Во французском и многих других языках слова bleu, blue, blu, blauвоспринимаются как поэтичные, связанные с лучшими воспоминаниями, заветными желаниями и мечтами. «Синий» и «голубой» присутствуют в названиях многих книг, наделяя их притягательной силой, которую не смог бы им обеспечить никакой другой цвет.
И однако не следует думать, будто причина всеобщего увлечения синим – в необычайно мощной символической нагрузке, которую он несет в себе. Напротив, создается впечатление, что синий любят именно за его «размытое» символическое значение, менее отчетливое, чем у других цветов, таких как красный, зеленый, белый или черный. Это подтверждается данными социологических обследований: когда их участников спрашивают, какой цвет они считают самым неприятным, ответ «синий» звучит реже всего. Этот цвет не отталкивает, не возмущает, не шокирует. Потому-то он и стал любимым цветом у большей части населения, что его символический потенциал относительно невысок или, во всяком случае, не несет в себе заряд агрессивности или бунта. Ведь в конечном счете, называя нашим любимым цветом синий, что мы сообщаем о себе? Ничего, или почти ничего. Это так банально, так пресно. А вот если сказать, что ваш любимый цвет – черный, красный или даже зеленый…
Это одна из основных характеристик синего в западной цветовой символике: он не будоражит, он спокойный, миролюбивый, ненавязчивый, почти нейтральный. Правда, он вызывает мечтательное настроение (вспомним еще раз поэтов-романтиков, голубой цветок Новалиса, американский блюз), но в этой меланхолической мечтательности есть нечто успокаивающее. Сегодня у нас красят в голубое стены больниц; транквилизаторы и другие препараты аналогичного действия упаковывают в синие коробочки; на дорожных указателях синим обозначают разрешенные маневры; к синему прибегают в политике, чтобы выразить идеи умеренности и диалога. Синий не оскорбляет ничьих чувств, не преступает никаких запретов; он способствует согласию и объединению. Недаром все крупные международные организации выбрали себе эмблемы голубого или синего цвета: так поступила когда-то Лига Наций, а в наши дни – ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, Европейский союз. Синий стал интернациональным цветом, его призвание – укреплять мир и сотрудничество между народами; именно эту задачу выполняют сегодня во многих неспокойных местах нашей планеты «голубые каски» ООН. Синий стал самым мирным, самым нейтральным из цветов. Даже белый, как нам кажется, обладает более мощной, более явственной, более четко выраженной символической силой.
В сущности, синий цвет уже давным-давно стал ассоциироваться с миром и покоем. Эта ассоциация присутствует в цветовой символике Средневековья, она характерна для эпохи романтизма. Гораздо позднее обозначилась символическая связь между синим цветом и водой и совсем уж недавно – между синим цветом и холодом. На страницах настоящей книги не хватило места для обстоятельного разговора на эту тему, однако данный аспект символики синего цвета чрезвычайно важен. Особенно в современную эпоху. В абсолютном смысле, конечно же, не существует теплых и холодных тонов. Это чистейшая условность, которая меняется в зависимости от времени и места. В Европе в Средние века и в эпоху Возрождения синий считался теплым цветом, а иногда даже самым теплым из всех. Он начинает постепенно «остывать» лишь с XVII века, и только в XIX за ним окончательно закрепляется статус холодного цвета (как мы видели, для Гете это еще отчасти теплый цвет). В этой области историк постоянно рискует впасть в анахронизм. Например, если специалист по истории живописи захочет выяснить, как художник позднего Средневековья или Возрождения на своей картине распределил холодные и теплые тона, и при этом будет исходить из современного представления о синем как о холодном цвете, все его выводы окажутся ошибочными.
По-видимому, решающую роль в этом переходе от тепла к холоду сыграла постепенно закреплявшаяся ассоциативная связь между синим цветом и водой. Когда в античных и средневековых социумах люди видели или представляли себе воду, она редко казалась им синей. На изображениях вода могла быть какого угодно цвета, но в символике чаще всего ассоциировалась с зеленым. В самом деле, если мы взглянем на портуланы и самые ранние географические карты, то увидим, что вода на них (моря, озера, большие и малые реки) почти всегда закрашена зеленым. Только с конца XV века зеленый цвет, которым обозначались также и леса, постепенно уступает место синему. Но понадобилось еще очень много времени, чтобы в воображении людей и в их повседневной жизни вода стала синей, а синева – холодной.
Холодной, как наши современные западные общества, для которых синий – и эмблема, и символ, и самый любимый цвет.
Литература
В комментариях к настоящей книге есть ссылки на многочисленные книги и статьи. Не все эти работы указаны в нашей библиографии.
Из безбрежного океана публикаций я выбрал лишь небольшое число работ по истории цвета, оставив без внимания сочинения антиисторические, поверхностные, основанные на психологизме или эзотерике. Таких сочинений великое множество, однако большинство из них не представляет никакого интереса. А из всей массы книг по истории костюма я указал лишь те, в которых уделяется большое внимание проблемам цвета. Как ни удивительно, подобные книги встречаются нечасто.
То же самое можно сказать и о книгах по истории пигментов, красителей и бытовых красок: в библиографию включены лишь те работы, которые я отобрал, основываясь на моих знаниях и моем опыте, и о которых я точно знал, что они могут быть полезны историку общества; я оставил в стороне сугубо научные исследования по химии и физике цвета, а также, несмотря на их несомненную важность, результаты лабораторного анализа произведений искусства и образцов тканей.
В отношении трудов по истории искусства и живописи отбор был еще строже: в этом разделе можно было бы указать сотни книг и статей; я включил лишь те работы, авторы которых прежде всего стремились выявить связи между цветами, теорией искусства и обычаями, принятыми в тех или иных социумах. Такой подход показался мне правильным потому, что эта книга посвящена социальной истории синего цвета, а не его истории в изобразительном искусстве. Читатель, которого интересует именно художественная история цветов, найдет содержательную библиографию по этой тематике в превосходной книге Джона Гейджа «Цвет и культура» (John Gage. Color and Culture).
1. ИСТОРИЯ ЦВЕТА
а. Общие вопросы
Berlin B., Kay P. Basic Color Terms. Their Universality and Evolution. Berkeley, 1969.
Birren F. Color. A Survey in Words and Pictures. New York, 1961.
Brusatin M. Storia dei colori. Torino, 1983.
Conklin H.C. Color Categorization // American Anthropologist, New Series. 1973. Vol. 75. No. 4. Pp. 931–942.
Rassegna: Problemi di architettura dell’ambiente. Anno VII. Settembre 1985. No. 23: Colore: divieti, decreti, dispute. Numero monografico / ed. Renate Eco.
Gage J. Color and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. London, 1993.
Heller E. Wie Farben wirken. Farbpsychologie, Farbsymbolik, Kreative Farbgestaltung. Hamburg, 1989.
Indergand M., Fagot P. Bibliographie de la couleur. Paris, 1984–1988. 2 vol.
Problèmes de la couleur / dir. Ignace Meyerson. Paris, 1957.
Pastoureau M. Couleurs, images, symboles. Études d’histoire et d’anthropologie. Paris, 1989.
Pastoureau M. Dictionnaire des couleurs de notre temps. Symbolique et société. Paris, 1999.
The Realms of Colour. Die Welt der Farben / éd. Adolf Portmann, Rudolf Ritsema. Leiden, 1974.
Ethnologie française. T. 20. Octobre – décembre 1990. No. 4: Paradoxes de la couleur. Numéro spécial / éd. Marie-Christine Pouchelle.
Rzepinska M. Historia coloru u dziejach malatstwa europejskiego. Warszawa, 1989.
Voir et nommer les couleurs / dir. Serge Tornay. Nanterre, 1978.
Vogt H.H. Farben und ihre Geschichte. Stuttgart, 1973.
Zahan D. L’homme et la couleur // Histoire des moeurs / dir. Jean Poirier. T. I: Les coordonnées de l’homme et la culture matérielle. Paris, 1990. Pp. 115–180.
b. Античность и Средние века
Brüggen E. Kleidung und Mode in der höfischen Epik. Heidelberg, 1989.
Cechetti B. La vita dei Veneziani nel 1300. Le veste. Venezia, 1886.
Les Couleurs au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 1988 (Senefiance, vol. 24).
Ceppari Ridolfi M., Turrini P. Il mulino delle vanitа. Lusso e cerimonie nella Siena medievale. Siena, 1996.
Dumézil G. Albati, russati, virides // Rituels indo-européens à Rome. Paris, 1954. Pp. 45–61.
Frodl-Kraft E. Die Farbsprache der gotischen Malerei. Ein Entwurf // Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. 1977–1978. Bände XXX–XXXI. S. 89–178.
Haupt G. Die Farbensymbolik in der sakralen Kunst des abendländischen Mittelalters. Leipzig-Dresden, 1941.
Il colore nel Medioevo. Arte, simbolo, tecnica. Atti delle giornate di studi. Lucca, 1996–1998. 2 vol.
Luzzatto L., Pompas R. Il significato dei colori nelle civiltа antiche. Milano, 1988.
Pastoureau M. Figures et Couleurs. Études sur la symbolique et la sensibilité médiévales. Paris, 1986.
Pastoureau M. L’Église et la couleur des origines à la Réforme // Bibliothèque de l’École des chartes. 1989. T. 147. Pp. 203–230.
Pastoureau M. Voir les couleurs au XIIIe siècle // Micrologus. Nature, Science and Medieval Societies. Vol. VI: View and Vision in the Middle Ages. 1998. T. II. Pp. 147–165.
Sicile. Le Blason des couleurs en armes, livrées et devises / éd. H. Cocheris. Paris, 1857.
c. Новое время и современность
Birren F. Selling Color to People. New York, 1956.
Brino G., Rosso F. Colore e citta. Il piano del colore di Torino, 1800–1850. Milano, 1980.
Laufer O. Farbensymbolik im deutschen Volsbrauch. Hamburg, 1948.
Lenclos J. – Ph., Lenclos D. Les Couleurs de la France. Maisons et paysage. Paris, 1982.
Lenclos J. – Ph., Lenclos D. Les Couleurs de l’Europe. Géographie de la couleur. Paris, 1995.
Noël B. L’Histoire du cinéma couleur. Croissy-sur-Seine, 1995.
Pastoureau M. La Réforme et la couleur // Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme français. Juillet – septembre 1992. T. 138. Pp. 323–342.
Pastoureau M. La couleur en noir et blanc (XVe – XVIIIe siècle) // Le Livre et l’Historien. Études offertes en l’honneur du Professeur Henri-Jean Martin. Genève, 1997. Pp. 197–213.
2. СИНИЙ ЦВЕТ
Azur. Catalogue de l’exposition. Paris, Jouy-en-Josas: Fondation Cartier, 1993.
Balfour-Paul J. Indigo. London, 1998.
Blu blue-jeans: il blu popolare. Esposizione. Milano, 1989.
Blue Tradition. Indigo Dyed Textiles and Related Cobalt Glazed Ceramics from the 17th through the 19th Century, exposition. Baltimore, 1973.
Carus-Wilson E.M. La guède française en Angleterre. Un grand commerce d’exportation // Revue du Nord. 1953. No. 35. Pp. 89–105.
Caster G. Le Commerce du pastel et de l’épicerie à Toulouse, de 1450 environ à 1561. Toulouse, 1962.
Blau, Farbe der Ferne. Ausstellung / dir. Gerke Hans. Heidelberg, 1990.
Gettens R.J. Lapis Lazuli and Ultramarine in Ancient Times // Alumni. 1950. T. 19. Pp. 342–357.
Goetz K.E. Waren die Römer blaublind // Archiv für Lateinische Lexicographie und Grammatik. 1906. Band XIV. Ss. 75–88.
Goetz K.E. Waren die Römer blaublind // Archiv für Lateinische Lexicographie und Grammatik. 1908. Band XV. Ss. 527–547.
Hurry J.B. The Woad Plant and its Dye. London, 1930.
Lavenex Vergès F. Bleus égyptiens. De la pâte auto-émaillée au pigment bleu synthétique. Paris; Louvain, 1992.
Das blaue Buch. Lesarten einer Farbe / dir. Angelika Lochmann, Angelika Overath. Nördlingen, 1988.
Martius H. Die Bezeichnungen der blauen Farbe in der romanischen Sprachen. Dissertation. Erlangen, 1947.
Mollard-Desfour A. Le Dictionnaire des mots et expressions de couleur. Le bleu. Paris, 1998.
Monnereau E. Le Parfait indigotier ou description de l’indigo. Amsterdam, 1765.
Overath A. Das andere Blau. Zur Poetik einer Farbe im modernen Kunst. Stuttgart, 1987.
Pastoureau M. Du bleu au noir. Éthiques et pratiques de la couleur à la fin du Moyen Âge // Médiévales. Juin 1988. Vol. 14. Pp. 9–22.
Pastoureau M. Entre vert et noir. Petit dictionnaire historique de la couleur bleue // Azur. Catalogue de l’exposition. Paris, Jouy-en-Josas: Fondation Cartier, 1993. Pp. 254–264.
Pastoureau M. La promotion de la couleur bleue au XIIIe siècle: le témoignage de l’héraldique et de l’emblématique // Il colore nel medioevo. Arte, simbolo, tecnica. Atti delle giornate di studi (Lucca, 5–6 maggio 1995). Lucca, 1996. Pp. 7–16.
Ruffino P.G. Le Pastel, or bleu du pays de cocagne. Panayrac, 1992.
Sublime indigo (exposition, Marseille, 1987) / dir. Françoise Viatte. Fribourg, 1987.
3. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
André J. Étude sur les termes de couleurs dans la langue latine. Paris, 1949.
Brault G.J. Early Blazon. Heraldic Terminology in the XIIth and XIIIth Centuries, with Special Reference to Arthurian Literature. Oxford, 1972.
Crosland M.P. Historical Studies in the Language of Chemistery. London, 1962.
Giacolone Ramat A. Colori germanici nel mondo romano // Atti e memorie dell’Academia toscana di scienze e lettere La Colombaria (Firenze). 1967. Vol. 32. Pp. 105–211.
Gloth H. Das Spiel von den sieben Farben. Königsberg, 1902.
Grossmann M. Colori e lessico: studi sulla struttura semantica degli aggetivi di colore in catalano, castigliano, italiano, romano, latino ed ungherese. Tübingen, 1988.
Jacobson-Widding A. Red-White-Black, as a Mode of Thought. Stockholm, 1979.
Kristol A.M. Color. Les langues romanes devant le phénomène couleur. Berne, 1978.
Magnus H. Histoire de l’évolution du sens des couleurs. Paris, 1878.
Meunier A. Quelques remarques sur les adjectifs de couleur // Annales de l’Université de Toulouse. 1975. Vol. 11/5. Pp. 37–62.
Ott A. Études sur les couleurs en vieux français. Paris, 1899.
Schäfer B. Die Semantik der Farbadjektive im Altfranzösischen. Tübingen, 1987.
Wackernagel W. Die Farben– und Blumensprache des Mittelalters // Abhandlungen zur deutschen Altertumskunde und Kunstgeschichte. Leipzig, 1872. Ss. 143–240.
Wierzbicka A. The Meaning of Color Terms: Cromatology and Culture // Cognitive Linguistics. 1990. T. I/1. Pp. 99–150.
4. ИСТОРИЯ КРАСОК И КРАСИЛЬНОГО ДЕЛА
Brunello F. L’arte della tintura nella storia dell’umanita. Vicenza, 1968.
Brunello F. Arti e mestieri a Venezia nel medioevo e nel Rinascimento. Vicenza, 1980.
Cardon D., Du Châtenet G. Guide des teintures naturelles. Neuchâtel, Paris, 1990.
Chevreul M.E. Leçons de chimie appliquée à la teinture. Paris, 1829.
Edelstein S.M., Borghetty H.C. The “Plictho” of Giovan Ventura Rosetti. London, Cambridge (Mass.), 1969.
Gerschel L. Couleurs et teintures chez divers peuples indo-européens // Annales E.S.C. 1966. Pp. 608–663.
Hellot J. L’Art de la teinture des laines et des étoffes de laine en grand et petit teint. Paris, 1750.
Des teintes et des couleurs. Exposition / dir. Martine Jaoul. Paris, 1988.
Lauterbach F. Geschichte der in Deutschland bei der Färberei angewandten Farbstoffe, mit besonderer Berücksichtigung des mittelalterlichen Waidblaues. Leipzig, 1905.
Legget W.F. Ancient and Medieval Dyes. New York, 1944.
Lespinasse R. Histoire générale de Paris. Les métiers et corporations de la ville de Paris. Tome III: Tissus, étoffes… Paris, 1897.
Pastoureau M. Jésus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans l’Occident médiéval. Paris, 1998.
Ploss E.E. Ein Buch von alten Farben. Technologie der Textilfarben im Mittelalter. München, 1989.
Rebora G. Un manuale di tintoria del Quattrocento. Milano, 1970.
5. ИСТОРИЯ ПИГМЕНТОВ
Bomford D. et al. Art in the Making: Italian Painting before 1400. London, 1989.
Bomford D. et al. Art in the Making: Impressionism. London, 1990.
Brunello F. “De arte illuminandi” e altri trattati sulla tecnica della miniatura medievale. Vicenza, 1992.
Feller R.L., Roy A. Artists’ Pigments. A Handbook of their History and Characteristics. Washington, 1985–1986. 2 vol.
Harley R. Artists’ Pigments (c. 1600–1835). London, 1982.
Laurie A.P. The Pigments and Mediums of Old Masters. London, 1914.
Loumyer G. Les Traditions techniques de la peinture médiévale. Bruxelles, 1920.
Merrifield M.P. Original Treatises dating from the XIIth to the XVIIIth Centuries on the Art of Painting. London, 1849. 2 t.
Montagna G. I pigmenti. Prontuario per l’arte e il restauro. Firenze, 1993.
Pigmente / dir. H. Kittel. Stuttgart, 1960.
Pigments et Colorants de l’Antiquité et du Moyen Âge / dir. Bernard Guineau. Paris, 1990.
Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken. I: Farbmittel, Buchmalerei, Tafel– und Leinwandmalerei. Stuttgart, 1988.
Roosen-Runge H. Farbgebung und Maltechnik frühmittelalterlicher Buchmalerei. München, 1967. 2 B.
Smith C.S., Hawthorne J.G. Mappae clavicula. A Little Key to the World of Medieval Techniques. Philadelphia, 1974 (Transactions of The American Philosophical Society, n.s., t. 64/IV).
Techné. La science au service de l’art et des civilizations. Vol. 4. 1996 (“La couleur et ses pigments”).
Thompson D.V. The Material of Medieval Painting. London, 1936.
6. ИСТОРИЯ ОДЕЖДЫ
Baldwin F.E. Sumptuary Legislation and Personal Relation in England. Baltimore, 1926.
Baur V. Kleiderordnungen in Bayern von 14. bis 19. Jahrhundert. München, 1975.
von Böhn M. Die Mode. Menschen und Moden vom Untergang der alten Welt bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. München, 1907–1925. 8 B.
Boucher F. Histoire du costume en Occident de l’Antiquité à nos jours. Paris, 1965.
Bridbury A.R. Medieval English Clothmaking. An Economic Survey. London, 1982.
Cray E. Levi’s. Boston, 1978.
Eisenbart L.C. Kleiderordnungen der deutschen Städte zwischen 1350–1700. Göttingen, 1962.
Friedman D. Une histoire du Blue Jeans. Paris, 1987.
Cloth and Clothing in Medieval Europe. Essays in Memory of E.M. Carus-Wilson / éd. Harte N.B., Ponting K.G. London, 1982.
Histoires du jeans de 1750 à 1994. Exposition. Paris, 1994.
Hunt A. Governance of the Consuming Passions. A History of Sumptuary Law. London; New York, 1996.
Madou M. Le Costume civil. Turnhout, 1986 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, vol. 47).
Nathan H. Levi Strauss and Company, Taylors to the World. Berkeley, 1976.
Weisse Vesten, roten Roben. Von den Farbordnungen des Mittelalters zum individuellen Farbgeschmak. Ausstellung / dir. Heide Nixdorff, Heidi Müller. Berlin, 1983.
Page A. Vêtir le prince. Tissus et couleurs à la cour de Savoie (1427–1447). Lausanne, 1993.
Pellegrin N. Les Vêtements de la liberté. Abécédaires des pratiques vestimentaires françaises de 1780 à 1800. Paris, 1989.
Piponnier F. Costume et Vie sociale. La cour d’Anjou, XIVe – XVe siècles. Paris; La Haye, 1970.
Piponnier F., Mane P. Se vêtir au Moyen Âge. Paris, 1995.
Quicherat J. Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu’а la fin du XVIIIe siècle. Paris, 1875.
Roche D. La Culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe – XVIIIe siècles). Paris, 1989.
Roche-Bernard G., Ferdière A. Costumes et Textiles en Gaule romaine. Paris, 1993.
Vincent J.M. Costume and Conduct in the Laws of Basel, Bern and Zurich. Baltimore, 1935.
7. ИСТОРИЯ ЭМБЛЕМ И ФЛАГОВ
Abelès M., Rossade W. Politique symbolique en Europe. Berlin, 1993.
Charrié P. Drapeaux et étendards du XIXe siècle (1814–1888). Paris, 1992.
Harmignies R. Le drapeau européen // Vexilla Belgica. 1983. Vol. 7. Pp. 16–99.
Lager C. L’Europe en quête de ses symboles. Berne, 1995.
Pastoureau M. Traité d’héraldique. Paris, 1993.
Pastoureau M. Les Emblèmes de la France. Paris, 1999.
Pinoteau H. Vingt-cinq ans d’études dynastiques. Paris, 1984.
Pinoteau H. Le Chaos français et ses signes. Étude sur la symbolique de l’État français depuis la Révolution de 1789. La Roche-Rigault, 1998.
Smith W. Les Drapeaux à travers les âges et dans le monde entier. Paris, 1976.
Zahan D. Les Drapeaux et leur symbolique. Strasbourg, 1993.
8. ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ НАУКИ
Blay M. La Conceptualisation newtonienne des phénomènes de la couleur. Paris, 1983.
Blay M. Les Figures de l’arc-en-ciel. Paris, 1995.
Boyer C.B. The Rainbow from Myth to Mathematics. New York, 1959.
Goethe W. Zur Farbenlehre. Tübingen, 1810. 2 B.
Goethe W. Materialen zur Geschichte der Farbenlehre. München, 1971. 2 B.
Halbertsma K.J.A. A History of the Theory of Colour. Amsterdam, 1949.
Lindberg D.C. Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler. Chicago, 1976.
Newton I. Opticks or a Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light. London, 1704.
Pastore N. Selective History of Theories of Visual Perception, 1650–1950. Oxford, 1971.
Sepper D.L. Goethe contra Newton. Polemics and the Project of a new Science of Color. Cambridge, 1988.
Sherman P.D. Colour Vision in the Nineteenth Century: the Young-Helmholtz-Maxwell Theory. Cambridge, 1981.
Westphal J. Colour: a Philosophical Introduction. London, 1991.
Wittgenstein L. Bemerkungen über die Farben. Frankfurt am Main, 1979.
9. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА
Aumont J. Introduction à la couleur: des discourse aux images. Paris, 1994.
Barash M. Light and Color in the Italian Renaissance Theory of Art. New York, 1978.
Dittmann L. Farbgestaltung und Fartheorie in der abendländischen Malerei. Stuttgart, 1987.
Gavel J. Colour. A Study of its Position in the Art Theory of the Quattro– and Cinquecento. Stockholm, 1979.
Hall M.B. Color and Meaning. Practice and Theory in Renaissance Painting. Cambridge (Mass.), 1992.
Imdahl M. Farbe. Kunsttheoretische Reflexionen in Frankreich. München, 1987.
Kandinsky W. Über das Geistige in der Kunst. München, 1912.
Le Rider J. Les Couleurs et les Mots. Paris, 1997.
Lichtenstein J. La Couleur éloquente. Rhétorique et peinture à l’âge classique. Paris, 1989.
Roque G. Art et Science de la couleur. Chevreul et les peintres de Delacroix à l’abstraction. Nîmes, 1997.
Shapiro A.E. Artists’ Colors and Newton’s Colors // Isis. 1994. T. 85. Pp. 600–630.
Teyssèdre B. Roger de Piles et les débats sur le coloris au siècle de Louis XIV. Paris, 1957.
Примечания
1
Имеются в виду работы «К социальной истории цвета», «Возможна ли история цвета?» и «Цвет и историк» (Pastoureau M. Vers une histoire sociale des couleurs // Couleurs, images, symboles. Études d’histoire et d’anthropologie. Paris, 1989. Pp. 9–68; Une histoire des couleurs est-elle possible? // Ethnologie française. Octobre – décembre 1990. Vol. 20/4. Pp. 368–377; La couleur et l’historien // Pigments et colorants de l’Antiquité et du Moyen Âge / éd. B. Guineau. Paris: CNRS, 1990. Pp. 21–40). Основой настоящей книги стали семинары, которые я вел в Практической школе высших исследований и в Высшей школе социальных наук в 1980–1995 гг. Ее первоначальный вариант был опубликован в виде короткой статьи под названием «Jésus teinturier. Histoire symbolique et sociale d’un métier réprouvé» (Красильщик Иисус. Символическая и социальная история отверженной профессии). См.: Médiévales. 1995. No. 29. Pp. 43–67).
(обратно)2
В этом отношении типична книга Джона Гейджа «Цвет и культура» (Gage J. Color and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. London, 1993). Из всех трудов по истории цвета это, вероятно, – самый масштабный и фундаментальный. Однако, несмотря на многообещающее название, в этой книге нет почти ничего о роли цвета в обычаях, принятых в том или ином социуме, и его отражении в лексике и нормах языка, выборе одежды и употреблении красителей, в эмблемах и социальных кодах (гербах, флагах, опознавательных знаках и символах). Проблемы истории цвета интересуют автора этой прекрасной книги лишь в тех случаях, когда они связаны с историей науки и искусства. См. мою рецензию в журнале: Les Cahiers du Musée national d’art moderne (Paris). Hiver 1995. No. 54. Pp. 115–116.
(обратно)3
Brunello F. L’arte della tintura nella storia dell’umanita. Vicenza, 1968. Pp. 3–16.
(обратно)4
André J. Étude sur les termes de couleur dans la langue latine. Paris, 1949. Pp. 125–126. По сей день в испанском (кастильском) языке словом coloradoчасто обозначают красный цвет.
(обратно)5
Gerschel L. Couleurs et teintures chez divers peoples indo-européens // Annales, Économies, Sociétés, Civilisations. T. XXI. 1966. Pp. 603–624.
(обратно)6
Заметим, между прочим, что в некоторых культурах, в частности мусульманской, черный и красный цвета связаны друг с другом напрямую, без посредничества белого.
(обратно)7
Brunello F. Op. cit. Pp. 29–33.
(обратно)8
О вайде красильной в эпоху Античности см.: Cotte J., Cotte C. La guède dans l’Antiquité // Revue des études anciennes. 1919. T. XXI/1. Pp. 43–57.
(обратно)9
Плиний, однако, не утверждает, что индиго – камень; по его словам, это что-то вроде пены или тины, затвердевшей, а затем истолченной в порошок. «Ex India venit indicus, arundinum spumae adhaerescente limo; cum teritur, nigrum; at in diluendo mixturam purpurae caeruleique mirabilem reddit» – Naturalis historia, XXXV, 27, 1 («Она привозится из Индии, а представляет собой ил, пристающий к пене тростников. На вид она черная, но при разведении дает удивительное сочетание пурпура и лазури». Пер. Г.А. Тароняна. Источник: Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. М., 1994).
(обратно)10
По этим вопросам см.: Pastoureau M. Ceci est mon sang. Le christianisme médiéval et la couleur rouge // Le Pressoir mystique. Actes du colloque de Recloses / éd. D. Alexandre-Bidon. Paris, Cerf, 1990. Pp. 43–56; La Réforme et la couleur // Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme français. Juillet – septembre 1992. T. 138. Pp. 323–342.
(обратно)11
См.: Hercenberg B.Dov. La transcendence du regard et la mise en perspective du tekhélet («bleu» biblique) // Revue d’histoire et de philosophie religieuse (Strasbourg). Octobre – décembre 1998. T. 78/4. Pp. 387–411.
(обратно)12
Это, в частности, пятый из двенадцати драгоценных камней в наперснике священника (Исход 28:18; 29:11); седьмой из девяти камней на одеждах царя Тирского (Иезекииля 28:13); и, самое главное, второй из двенадцати камней, украшающих основания стены Нового Иерусалима (Откровение 21:19).
(обратно)13
Такая же терминологическая путаница происходит в средневековой латыни, когда речь заходит обо всех синих пигментах. Латинские слова azuriumи lazuriumпроисходят от греческого lazourion, которое, в свою очередь, ведет начало от древнеперсидского слова lazward, обозначающего лазурит; от него же произошло и арабское lazaward(lazurdв устном арабском).
(обратно)14
von Rosen L. Lapis lazuli in geological contexts and in ancient written sources. Göteborg, 1988; Roy A. Artists’ Pigments. A Handbook of their History and Characteristics. Washington, 1993. Pp. 37–65.
(обратно)15
Попытки создать синтетический пигмент, который обладал бы свойствами ляпис-лазури, предпринимались еще в глубокой древности; но лишь в 1828 г. химику Гимэ удалось получить «искусственный ультрамарин» путем обжига без притока воздуха смеси каолина, сульфата натрия, углерода и серы.
(обратно)16
Roy A. Op. cit. Pp. 23–35.
(обратно)17
Lavenex Vergès F. Bleus égyptiens. De la pâte auto-émaillée au pigment bleu synthétique. Louvain, 1992.
(обратно)18
Baines J. Color Terminology and Color Classification in Ancient Egyptian Color Terminology and Polychromy // The American Anthropologist. 1985. T. LXXXVII. Pp. 282–297.
(обратно)19
См. интереснейший каталог выставки: Paris, Rome, Athènes. Le Voyage en Grèce des architectes français aux XIXeet XXesiècles. Paris: École nationale des beaux-arts, 1982.
(обратно)20
Bruno V.J. Form and Colour in Greek Painting. Oxford, 1977.
(обратно)21
«Естественная история», кн. XXXV, глава XXXII: «Четырьмя только пользуясь красками, из белых – мелосской, из охровых – аттической, из красных – понтийской синопской, из черных – атраментом, создали те бессмертные произведения знаменитейшие живописцы Апеллес, Аетион, Мелантий, Никомах» (пер. Г.А. Тароняна. Источник: Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. М., 1994). О теме искусства в «Естественной истории» Плиния см.: Jex-Blake K., Sellers E. The Elder Pliny’s Chapters on the History of Art. London, 1968.
(обратно)22
Brehier L. Les mosaïques à fond d’azur // Études byzantines. Paris, 1945. T. III. P. 46 и далее. См. также: Dölger F. Lumen Christi // Antike und Christentum. 1936. T. V. P. 10 и далее.
(обратно)23
Gladstone W.E. Studies on Homer and the Homeric Age. Oxford, 1858; Magnus H. Histoire de l’évolution du sens des couleurs. Paris, 1878; Weise O. Die Farbenbezeichungen bei der Griechen und Römern // Philologus. 1888. Однако некоторые ученые были иного мнения: см., напр.: Götz K.E. Waren die Römer blaublind? // Archiv für lateinische Lexicographie und Grammatic. 1908.
(обратно)24
Magnus H. Histoire de l’évolution du sens des couleurs. Pp. 47–48.
(обратно)25
О трудностях определения цветов в древнегреческом языке см. у следующих авторов: Gernet L. Dénomination et perception des couleurs chez les Grecs // Problèmes de la couleur / éd. I. Meyerson. Paris, 1957; Rowe С. Conceptions of colour and colour symbolism in the ancient world // Eranos-Jahrbuch. 1972. Vol. 41. Pр. 327–364.
(обратно)26
Примеры см. в кн.: Müller-Bore K. Stilistische Untersuchungen zum Farbwort und zur Verwendung der Farbe in der älteren griechischen Poesie. Berlin, 1922. Ss. 30–31, 43–44 и др.
(обратно)27
Среди филологов, разделяющих эту точку зрения, назову следующих: Glastone W.E. Op. cit. T. III; Geiger A. Zur Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Stuttgart, 1978; Magnus H. Op. cit.; Price T.R. The Colour System of Virgil // The American Journal of Philology. 1883. Среди их оппонентов – Marry F. Die Frage nach der geschichtlichen Entwicklung des Farbensinnes. Wien, 1879; Götz K.E. Op. cit. Подробный обзор различных позиций по этому вопросу см. в кн.: Schulz W. Die Farbenempfindungen der Hellenen. Leipzig, 1904.
(обратно)28
См., напр.: Berlin B., Kay P. Basic Colour Terms. Their Universality and Evolution. Berkeley, 1969. Эта книга вызвала ожесточенные споры среди лингвистов, антропологов и неврологов.
(обратно)29
André J. Op. cit. Этимология, производящая caeruleusот caelum(небо), при фонетическом и филологическом анализе обнаруживает свою несостоятельность. См., впрочем, гипотезу А. Эрну и А. Мейе в «Этимологическом словаре латинского языка» (Париж, 1979) о нигде не засвидетельствованном существовании промежуточной формы caeluleus. А для средневековых авторов, у которых этимология строилась на иных принципах, чем у ученых ХХ в., связь между ceruleusи cereusбыла вполне очевидной.
(обратно)30
На эту тему имеется обширная литература; но прежде всего следует выделить кн.: Kristol A.M. Color. Les Langues romanes devant le phénomène de la couleur. Berne, 1978. О проблемах с обозначением синего цвета в старофранцузском языке до середины XIII в., см. в кн.: Schäfer B. Die Semantik der Farbadjective im Altfranzoesischen. Tübingen, 1987. В старофранцузском нередко происходила путаница: слова bleu, blo, blef, которые ведут начало от германского blau («синий»), смешивали со словом bloi, произошедшим от позднелатинского blavus, искаженного flavus, то есть «желтый».
(обратно)31
«Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod caeruleum efficit colorem, atque hoc horridiores sunt in pugna aspectu» – Caesar. Commentarii de bello gallico.V. 14, 2 («А все британцы вообще красятся вайдой, которая придает их телу голубой цвет, и от этого они в сражениях страшней других на вид» – пер. М.М. Покровского. Источник: Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне / Пер. М.М. Покровского (Серия «Литературные памятники»). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948).
(обратно)32
«Simile plantagini glastum in Gallia vocatur, quo Britannorum conjuges nurusque toto corpore oblitae, quibusdam in sacris et nudae incedunt, Aethiopum colorem imitantes» («Подобные растения в Галлии называют вайдой. Британки и их дочери вымазывают ей все тело и в таком виде участвуют в религиозных практиках и ходят голыми, подражая цвету мавров». Plinius Secundus. Naturalis historiae. XXII, 2,1).
(обратно)33
Luzzatto L. Pompas R. Il significato dei colori nelle civilta antiche. Milano, 1988.
(обратно)34
André J. Op. cit.
(обратно)35
Там же.
(обратно)36
«Magnus, rubicundus, crispus, crassus, caesius, / cadaverosa facie» (III, 4, 44–441) (Цит. по: Теренций. Свекровь / Пер. с др. – гр. А. Артюшкова // Теренций. Комедии. М.: Искусство, 1988. С. 350. – Прим. ред.). Многочисленные доказательства того, что у римлян голубые глаза считались недостатком, можно найти в латинских трактатах по физиогномике.
(обратно)37
Ключевым исследованием в этой области остается работа Platnauer M. Greek Colour-Perception // Classical Quaterly. 1921. T. XV. Pp. 155–202. Еще один полезный источник: Osborn H. Colour Concepts of the Ancient Greeks // British Journal of Aesthetics. 1968. T. VIII. Pp. 274–292.
(обратно)38
Перечень этих трудов можно найти в работе Kranz W. Die ältesten Farbenlehren der Griechen // Hermes. 1912. Band XLVII. Ss. 84–85.
(обратно)39
О развитии учений о зрении в Средние века см.: Lindberg D.C. Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler. Chicago, 1976; Tachau K. Vision and Certitude in the Age of Ockham Optics, Epistemology and the Foundations of Semantics (1250–1345). Leyden, 1988.
(обратно)40
См. тексты, которые приводятся в кн.: Beare J.I. Greek Theories of Elementary Cognition from Alcmaeon to Aristotle. London, 1906, а также упомянутую выше книгу Линдберга.
(обратно)41
Главным образом в диалоге «Тимей», 67d-68d. О теме цвета у Платона см. прежде всего: Wright F.A. A Note on Plato’s Definition of Colour // Classical Review. 1919. T. XXXIII/4. Pp. 121–134.
(обратно)42
В частности, в трактате «De sensu et sensato» («О чувстве и чувственно воспринимаемом»), 440a-442a. Очень популярный в Средние века небольшой трактат «De coloribus» («О цветах»), приписываемый Аристотелю, в действительности не принадлежит ни ему, ни Теофрасту, а, скорее всего, одному или нескольким их ученикам, притом значительно отдалившимся от учителей. Эта работа мало что прибавляет к теориям Аристотеля, однако она поспособствует распространению линейной классификации цветов, которая будет господствовать в течение тысячелетия и даже дольше: белый, желтый, красный, (синий), фиолетовый, черный. Синий не всегда присутствует в этом ряду. См. прекрасно выполненный У.С. Хеттом перевод этого трактата с древнегреческого оригинала на английский язык в кн.: Aristotle, Minor Works. Cambridge, 1936. Pp. 3–45.
(обратно)43
Hahm D.E. Early Hellenistic Theories of Vision and the Perception of Colour // Perception: Interrelations in the History and Philosophy of Science / ed. P. Machamer, R.G. Turnbull. Berkeley, 1978. Pp. 12–24.
(обратно)44
Аристотель добавляет еще и четвертый фактор – воздух, что позволяет ему сделать вывод: феномен цвета есть результат взаимодействия всех четырех стихий – сияющего огня, вещества, из которого все состоит (земли), жидкостей внутри глаза (воды) и воздуха, выполняющего в оптической среде роль модулятора. См.: «Метеорологика», 372a–375a.
(обратно)45
См.: Stratton G.M. Theophrastus and the Greek Physiological Psychology before Aristotle. London, 1917.
(обратно)46
«Метеорологика», 372–376 и в др. местах.
(обратно)47
Об истории теорий, объясняющих феномен радуги, см.: Boyer C.B. The Rainbow. From Myth to Mathematics. N.Y., 1959; Blay M. Les Figures de l’arc-en-ciel. Paris, 1995.
(обратно)48
См.: Schultz W. Das Farbenempfindungssystem der Hellenen. Leipzig, 1904. S. 114. А также André J. Étude sur les termes de couleur dans la langue latine. Paris, 1949. P. 13: автор считает, что слово caeruleus у Аммиана Марцеллина означает не собственно синий, а «фиолетовый» или «цвета индиго» (в понимании Ньютона).
(обратно)49
Robert Grosseteste «De iride seu de iride et speculo» (Роберт Гроссетест «О радуге, Или о радуге и зеркале»). См. публикацию: Grosseteste R. De iride seu de iride et speculo // Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters / ed. L. Baur. Münster, 1912. Band IX. S. 72–78. См. также: Boyer C.B. Robert Grosseteste on the Rainbow // Osiris. 1954. Vol. 11. Pp. 247–258; Eastwood B.S. Robert Grosseteste’s Theory of the Rainbow. A Chapter in the History of Non-Experimental Science // Archives internationales d’histoire des sciences. 1966. T. XIX. Pp. 313–332.
(обратно)50
Pecham J. De iride // D.C. Lindberg, John Pecham and the Science of Optics: Perspectiva communis. Madison (USA), 1970. Pp. 114–123.
(обратно)51
Bacon R. Opus majus / ed. J.H. Bridges. Oxford, 1900. Part VI, ch. 2–11. См.: Lindberg D.H. Roger Bacon’s Theory of the Rainbow. Progress or Regress? // Isis. 1968. Vol. 17. Pp. 235–248.
(обратно)52
von Freiberg D. Tractatus de iride et radialibus impressionibus // Opera omnia / Hrsg. M.R. Pagnoni-Sturlese und L. Sturlese. Hamburg, 1985. Band IV. S. 95–268. Книга воспроизводит старое, часто цитируемое издание И. Вюршмидта из сборника Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Münster, 1914. B. XII.
(обратно)53
Witelo. Perspectiva / ed. S. Ungaru. Warszawa, 1991.
(обратно)54
Сочетание зеленого и красного начинает восприниматься как контрастное лишь на исходе Средневековья, в период между XIV и XVII вв. Но только после того, как теория основных и дополнительных цветов установится окончательно, зеленый из союзника красного превратится в его противника, а сочетание красного и зеленого станет примером разительного контраста. Это произойдет не ранее, чем на рубеже XVIII–XIX вв. А позднее, с появлением цветовой символики в морской сигнализации, в регулировании движения на железной дороге, улицах и автотрассах, красный и зеленый станут в наших глазах непримиримыми антагонистами.
(обратно)55
Единственная известная личность раннего Средневековья (и нескольких последующих столетий), чье прозвище связано с синим цветом, – это датский король Харальд I Синезубый (ок. 950–986), сын Горма Старого. Зато нам известно множество исторических личностей, в чьих прозвищах есть слова «красный», «белый» и «черный» (это может быть связано с цветом волос, бороды или кожи, но также и с характером и поведением человека).
(обратно)56
Об этом сказано, в частности, у первых Отцов Церкви, святых Амвросия Медиоланского и Григория Великого (см.: Suntrup R. Op. cit. Pp. 454–456); затем в начале VII в. в «Кратком толковании древней галликанской литургии» Псевдо-Германа Парижского (Germanus of Paris. Expositio brevis liturgiae gallicanae / ed. H. Ratcliff. London, 1971. Pp. 61–62); и наконец, у святого Исидора Севильского, в его широко известном трактате «О церковных службах» (Isidori Hispalensis. De ecclesiasticis officiis / ed. H. Lawson. Turnhout, 1988).
(обратно)57
Pavan V. La veste bianca battesimale, indicium escatologico nella Chiesa dei primi secoli // Augustinianum (Romа).1978. Vol. 18. Pp. 257–271.
(обратно)58
Отбеливание с помощью хлористых соединений стало возможным только в конце XVIII в., после того как в 1774 г. был открыт хлор. Отбеливание с помощью соединений серы в Средние века уже было известно; но этот процесс был сложным и небезопасным для тканей, особенно для шерсти и шелка. Ткань приходилось на целый день погружать в чан с разведенной серной кислотой: если воды в чане было слишком много, ткань не отбеливалась, если слишком мало, едкий раствор разрушал ее структуру.
(обратно)59
В двух важнейших трактатах о литургии Каролингской эпохи («О воспитании клириков» Рабана Мавра и «Книге о начатках и приращениях, относящихся к вещам церковным» Валафрида Страбона) о цветах не говорится вообще, а вот в «Книге служб» Амалария из Меца, составленной между 831 и 843 гг., очень много сказано о белом цвете, который, по мнению компилятора, очищает от всех грехов.
(обратно)60
См.: Pastoureau M. L‘Étoffe du Diable. Une histoire des rayures et des tissus rayés. Paris, 1991. Pp. 17–47. Русское издание: Пастуро М. Дьявольская материя, или История полосок и полосатых тканей. М.: Новое литературное обозрение, 2008.
(обратно)61
«In candore vestium innocentia, castitas, munditia vitae, splendor mentium, gaudium regenerationis, angelicus decor» («В ослепительную белизну одеты невинность, целомудрие, чистота жизни, ясность ума, радость Воскресения, ангельская красота»): таков тезис о символике белого цвета, выдвинутый святым Амвросием и упоминаемый Алкуином в его письме о крещении: M.G.H., Ep. IV, 202.
(обратно)62
Один из этих текстов, вероятно, компиляция, составленная в Х в. и интересная во многих отношениях, приводится в кн.: Moran J. Essays on the Early Christian Church. Dublin, 1864.
(обратно)63
Honorius Augustodunensis «De divinis officiis», «Sacramentarium» (Patrologia Latina, t. 172); Rupert de Deutz «De divinis officiis» (Corpus christianorum, Continuatio mediaevalis. Turnhout, 1967. Vol. 7); Hugues de Saint-Victor «De sacramentis christianae fidei» и т. д. (Patrologia Latina, t. 175–176); Jean d’Avranches «De officiis ecclesiasticis» (Paris, 1923); Jean Beleth «Summa de ecclesiasticis officiis» (Corpus christianorum, Continuatio mediaevalis. Turnhout, 1976. Vol. 41).
(обратно)64
Virginitas, munditia, innocentia, castitas, vita immaculata (девственность, чистота, невинность, целомудрие, непорочная жизнь) – вот понятия, с которыми чаще всего ассоциируется белый цвет.
(обратно)65
Poenitentia, contemptus mundi, mortificatio, maestitia, affliction (раскаяние, презрение к миру, умерщвление, уныние, скорбь).
(обратно)66
Passio, compassio, oblatio passionis, crucis signum, effusio sanguinis, caritas, misericordia (страдание, сострадание, мученичество, крестное знамение, кровопролитие, любовь, милосердие). См., напр., глоссы Гонория в его «Expositia in cantica canticorum» (Patrologia Latina, t. 172, col. 440–441), которые позднее воспроизведет и дополнит Ришар Сен-Викторский в «In cantica canticorum explication», гл. XXXVI (Patrologia Latina, t. 196, col. 509–510).
(обратно)67
Patrologia Latina, t. 217, col. 774–916 (о цветах – col. 799–802).
(обратно)68
Последняя рекомендация звучит совсем уж неожиданно, поскольку в средневековых хроматических системах, существовавших до XV в., не усматривается никакой связи между зеленым и желтым.
(обратно)69
Более подробно эти вопросы рассматриваются в моей работе «L’Église et la couleur des origines à la Réforme» (Pastoureau M. L'Église et la couleur des origines à la Réforme // Bibliothèque de l’École des chartes. 1989. T. 147. Pp. 203–230).
(обратно)70
Об эстетике Сугерия и его позиции относительно света и цвета см.: Verdier P. Réflexions sur l’esthétique de Suger // Mélanges E.R. Labande. Paris, 1975. Pp. 699–709; Grodecki L. Les Vitraux de Saint-Denis. Histoire et restitution. Paris, 1976; Panofsky E. Abbot Suger on the Abbey Church of St. Denis and its Art Treasure. Princeton, 1979; Crosby S.M. et alii. The Royal Abbey of St. Denis in the Time of Abbot Suger (1122–1151). N.Y., 1981.
(обратно)71
См., напр., с. 213–214 по изданию: Œuvres complètes de Suger, recueillies, annotées et publiées d’après les manuscrits pour la Société de l’Histoire de France. Paris, 1867. В главе XXXIV, целиком посвященной витражам, Сугерий благодарит Бога за то, что ему удалось найти великолепную materia saphirorum, чтобы украсить новую церковь аббатства Сен-Дени.
(обратно)72
О Сугерии и новых концепциях света, появившихся в первой половине XII в., кроме вышеназванных работ, см. также: Gage J. Color and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. London, 1993. Pp. 69–78.
(обратно)73
О позиции святого Бернарда Клервоского относительно цвета см.: Pastoureau M. Les Cisterciens et la couleur au XII siècle // Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry. 1998. Vol. 136. Pp. 21–30.
(обратно)74
Для историка проблема становится значительно сложнее и интереснее, если прелат вдобавок еще и богослов, и к тому же выдающийся ученый. Таков был Роберт Гроссетест (1175–1253), один из величайших ученых своего времени, основатель научной школы Оксфордского университета, долгое время остававшийся самым видным преподавателем-францисканцем в этом городе, а затем, в 1235 г., возглавивший Линкольнскую епархию (самую обширную и населенную в Англии). Если занимаешься проблемами цвета, стоит задуматься над тем, как могли уживаться друг с другом и влиять друг на друга размышления ученого, исследовавшего радугу и преломление света, идеи богослова, считавшего свет тончайшей субстанцией, из которой возникло все вещественное, и расчеты прелата-строителя, который при возведении соборов руководствовался законами математики и оптики. См.: Callus D.A. (ed.). Robert Grosseteste Scholar and Bishop. Oxford, 1955; Southern R.W. Robert Grosseteste: the Growth of an English Mind in medieval Europe. Oxford, 1972; Mc Evoy J.J. Robert Grosseteste, Exegete and Philosopher. Aldershot (UK), 1994; Van Deusen N. Theology and Music at the Early University: the Case of Robert Grosseteste. Leiden, 1995; а также замечательную работу: Crombie A.C. Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science (1100–1700). Oxford, 1971. Те же вопросы вызывает и Джон Пэкхэм (1230–1292), еще один ученый-францисканец, преподававший в Оксфорде, автор трактата по оптике «Perspectiva communis», который вплоть до конца Средневековья оставался самым популярным в этой области, а в последние пятнадцать лет жизни – архиепископ Кентерберийский. О Джоне Пэкхэме см. содержательную вступительную статью к научному изданию его трактата: Lindberg D.C. John Pecham and the Science of Optics. Perspectiva communis. Madison (USA), 1970. О францисканцах, преподававших в Оксфорде в XIII в., в том числе Гроссетесте и Пэкхэме, см. также: Sharp D.E. Franciscan Philosophy at Oxford in the Thirteenth Century. Oxford, 1930; Little A.G. The Franciscan School at Oxford in the Thirteenth Century // Archivum Franciscanum Historicum. 1926. Vol. 19. Pp. 803–874.
(обратно)75
Заметим: точку зрения, согласно которой существительное color происходит от глагола celare, сегодня разделяет большинство филологов. См., напр.: Walde A., Hofman J.B. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1934. B. III. Ss. 151–154, а также: Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Paris, 1959. P. 133. А вот Исидор Севильский («Etymologiae», кн. XIX, 17, 1) со своей стороны производит color от слова calor («жар») и утверждает, что цвет рождается из огня или от солнца: «Colores dicti sunt quod calore ignis vel sole perficiuntur».
(обратно)76
Мужчины, шедшие в похоронной процессии, были одеты в темную тогу (toga pulla), а женщины – в темную мантию (palla pulla). См.: André J. Étude sur les termes de couleur dans la langue latine. Paris, 1949.
(обратно)77
О синеве на витражах Шартрского собора и о синем цвете романских витражей вообще см.: Sowers R. On the Blues of Chartres // The Art Bulletin. 1966. Vol. XLVIII/2. Pp. 218–225; Grodecki L. Les Vitraux de Saint-Denis, T. I. Paris, 1976; Le Vitrail roman. Fribourg, 1977. Pp. 26–27 и в др. местах. А также: Gage J. Op. cit. Pp. 71–73.
(обратно)78
Grodecki L., Brisac C. Le Vitrail gothique au XIII siècle. Fribourg, 1984. Pp. 138–148 и далее. О значении цвета в витраже см.: Perrot F. La couleur et le vitrail // Cahiers de civilisation médiévale. Juillet – septembre 1996. Pp. 211–216; автор задается вопросом, было ли понятие яркости света в Средние века аналогичным современному и было ли оно одним и тем же в XII в. и на исходе Средневековья.
(обратно)79
См.: Pastoureau M. Ordo colorum. Note sur la naissance des couleurs liturgiques // La Maison-Dieu. Revue de pastorale liturgique. 1988.
(обратно)80
Об этом свидетельствует и геральдическая терминология, присваивающая цветам особые названия. Так, на старофранцузском и англо-нормандском языках были приняты названия gueules(червлень), azur(лазурь), sable(чернь), or(золото) и argent(серебро).
(обратно)81
В тот же период коэффициент частоты червлени (красного) постоянно снижается: в 1200 г. это 60 %, в 1300 – 50 %, в 1400 – 40 %. Подробнее с цифрами можно ознакомиться в моей кн.: Traité d’héraldique. Paris, 1993. Pp. 113–121, а также в моем исследовании: Vogue et perception des couleurs dans l’Occident médiéval: le témoignage des armoiries // Actes du 102econgrès national des sociétés savantes. Section de philologie et d’histoire (Limoges, 1977). Paris, 1979. T. II. P. 81.
(обратно)82
Ibid. Pp. 114–116.
(обратно)83
См. исследования, опубликованные в моем сборнике: L’Hermine et le Sinople. Paris, 1982. Pp. 261–314, а также в кн.: Figures et Couleurs. Étude sur la sensibilité et la symbolique médiévales. Paris, 1986. Pp. 177–207.
(обратно)84
Не только щит рыцаря, но и его табард, надеваемый поверх лат, его знамя и чепрак его лошади были одноцветными, и их было видно издалека. Вот почему в книгах говорится об Алом Рыцаре, Белом Рыцаре, Черном Рыцаре и т. п.
(обратно)85
Выбор слова, обозначающего оттенок красного, иногда привносит дополнительную черту в характеристику персонажа: так, если его называют не Красным, а Алым Рыцарем, значит, он знатного происхождения (но от этого не становится менее опасным); Огненный Рыцарь (affoué: это старое французское слово происходит от латинского affocatus, «пылающий») гневлив и вспыльчив; Багровый Рыцарь свиреп и жесток, он сеет смерть; Рыжий Рыцарь лукав и вероломен.
(обратно)86
В символике и в менталитете феодальной эпохи черный цвет имеет двоякое значение. Есть негативный черный, связанный с трауром, смертью, грехом и преисподней. Но есть и другой, положительный черный, знак смирения, внутреннего достоинства и воздержности: это цвет монашества.
(обратно)87
А вот в рыцарских романах XIV в. в персонаже Белого Рыцаря, напротив, появится нечто зловещее, у него возникнут таинственные связи со смертью и миром призраков. Но все это случится не раньше 1320–1340 гг. (за исключением, быть может, литературы Северной Европы).
(обратно)88
См. полный список «одноцветных» рыцарей Артуровского цикла в кн.: Brault G.J. Early Blazon. Heraldic Terminology in the XIIth and the XIIIth Centuries, with special Reference to Arthurian Literature. Oxford, 1972. Pp. 31–35. См. также примеры в: M. de Combarieu. Les couleurs dans le cycle du Lancelot-Graal // Senefiance. 1988. No. 24. Pp. 451–588.
(обратно)89
См. продолжающееся издание: J.H.M. Taylor и G. Roussineau (Genève, 1979–1992 – вышли 4 тома), а также Lods J. Le Roman de Perceforest. Lille; Genève, 1951.
(обратно)90
См.: Brault G.J. Op. cit. P. 32.
(обратно)91
См.: Cartier N.R. Le bleu chevalier // Romania. 1966. T. 87. Pp. 289–314.
(обратно)92
О рождении герба короля Франции см.: Pinoteau H. La création des armes de France au XIIesiècle // Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France. 1980–1981. Pp. 87–99; Bedos B. Suger and the Symbolism of Royal Power: the Seal of Louis VII // Abbot Suger and Saint-Denis. A Symposium. N.Y., 1984. Pp. 95–103; Pastoureau M. La diffusion des armoiries et les débuts de l’héraldique (vers 1175 – vers 1225) // Colloques internationaux du CNRS, la France de Philippe Auguste, Paris (1980). 1982. Pp. 737–760, и «Le roi des lis. Emblèmes dynastiques et symboles royaux», dans Archives nationales, Corpus des sceaux français du Moyen Âge, T. II: les Sceaux de rois et de régence. Paris, 1991. Pp. 35–48.
(обратно)93
Аналогичное изменение отношения к геральдической «лазури» отмечается и в гербах, описанных в литературе, и в вымышленных гербах (которыми наделены герои эпических поэм и рыцарских романов, библейские и мифологические персонажи, святые и божества, аллегорические образы пороков и добродетелей), но там этот процесс протекает медленнее. У литературных и вымышленных гербов символика всегда богаче, чем у реальных. О литературных гербах и о роли синего цвета в геральдике романов Артуровского цикла см.: Brault G.J. Early Blazon. Oxford, 1972. Pp. 31–35; Pastoureau M. La promotion de la couleur bleue au XIIIesiècle: le témoignage de l’héraldique et de l’emblématique // Il colore nel medioevo. Arte, simbolo, tecnica. Atti delle Giornate di studi (Lucca, 5–6 maggio 1995). Lucca, 1996. Pp. 7–16.
(обратно)94
De Poerck G. La Draperie médiévale en Flandre et en Artois. Techniques et terminologie. Gand, 1951. T. I. Pp. 150–168.
(обратно)95
Нормандия, по-видимому, была в числе тех регионов Европы, где растущий спрос на одежду синего цвета проявился раньше всего. С начала XIII в. в Руане и Лувье красильщики используют значительное количество вайды, которую привозят из соседней Пикардии. См.: Mollat du Jourdin M. La draperie normande // Pruduzione, commercio e consumo dei panni di lana (XIIe – XVIIe s.). Firenze, 1976. Pp. 403–422, и в особенности Pp. 419–420. В отличие от Руана, Кан долго хранит верность красному сукну, которое в XII в. принесло ему богатство и процветание. До самого заката Средневековья в Нормандии будут противопоставлять синее сукно Руана красному сукну Кана.
(обратно)96
См.: Le Goff J. Saint Louis. Paris, 1996 (русское издание: Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой / Перев. с франц. В. Матузовой. М.: Ладомир, 2001). Вернувшись из крестового похода, Святой Людовик во всем стал стремиться к аскезе (или, во всяком случае, к строгому воздержанию); поэтому не исключено, что его пристрастие к синей одежде было вызвано столько же соображениями морального порядка, сколь и желанием облечься в королевский цвет. Благодаря Жуанвилю и другим биографам этого короля, мы знаем, что в 1260-е гг. он решил изгнать из своего гардероба «алые одежды и беличий мех»: то есть отказался от роскошных тканей и слишком ярких цветов. О возникшей у Людовика Святого склонности к строгой и скромной одежде см.: Le Goff J. Ibid. Pp. 626–628.
(обратно)97
Brault G.J. Early Blazon. Oxford, 1972. Pp. 44–47; Pastoureau M. Armorial des chevaliers de la Table ronde. Paris, 1983. Pp. 46–47.
(обратно)98
По-видимому, во Флоренцию мода на благородные синие тона пришла раньше, чем в Милан, Геную и тем более в Венецию. Со второй половины XIII в. великолепный scarlatto(алый) и радостный vermiglio(пунцовый) начинают отступать под натиском всевозможных оттенков синего и голубого – persio, celeste, celestino, azzurino, turchino, pagonazzo, bladetto. См.: Hoshino H. L’arte della lana in Firenze nel basso medioevo. Firenze, 1980. Pp. 95–97.
(обратно)99
Наряду с общепринятым сейчас названием «вайда» (guède) в старой Франции употреблялось и другое название этой краски – pastel. Первым словом чаще обозначали растение, вторым – высушенные заготовки, предмет купли-продажи.
(обратно)100
Carus-Wilson E.M. La guède française en Angleterre. Un grand commerce au Moyen Âge // Revue du Nord. 1953. Pp. 89–105. Вплоть до XIV в. французская вайда, экспортируемая в Англию, производилась в основном в Пикардии и Нормандии (район Байе и Руана). На ней основано благосостояние таких городов, как Амьен и Корби. В дальнейшем лидирующее положение в отрасли займет Лангедок, который большими партиями будет вывозить вайду в Англию. Это продлится вплоть до XVI в. Лангедокцы пользовались тем, что культура вайды приходила в упадок – и не только в самой Англии, но также и в Нормандии, Брабанте и Ломбардии. В структуре импорта из Франции вайда занимала в Англии второе место после вина. См. далее, в третьей части книги, подробный рассказ о триумфе и упадке производства вайды в Лангедоке и Тюрингии в XIV–XVII вв.
(обратно)101
Lauterbach F. Der Kampf des Waides mit dem Indigo. Leipzig, 1905. S. 23. Перед тем как перейти к описанию конфликтов между торговцами вайдой и индиго в начале современной эпохи, автор сообщает некоторые интересные сведения о соперничестве вайды и марены в Тюрингии в XIII и XIV вв. Любопытные материалы на эту тему можно найти в статье: Jecht H. Beiträge zur Geschichte des ostdeutschen Waidhandels und Tuchmachergewerbes // Neues Lausitzisches Magazin. 1923. B. 99. Ss. 55–98; 1924. B. 100. Ss. 57–134.
(обратно)102
Jecht H. Op. cit. 1923. B. 99. S. 58.
(обратно)103
См.: Weckerlin J.B. Le Drap «escarlate» du Moyen Âge. Lyon, 1905. Исследование, посвященное этимологии и значению слова écarlate, обозначающего алый оттенок красного, с техническими пояснениями касательно производства алого сукна в Средние века.
(обратно)104
В XV–XVI вв. оттенки красного в одежде придворных, особенно мужской, постепенно вытесняются фиолетовыми и малиновыми тонами.
(обратно)105
В Париже самое раннее упоминание об исполнении вещи в синем, а не в красном, как прежде, цвете, содержится в обновленном тексте статутов цеха красильщиков, опубликованном по указу Франциска I в 1542 г.: «…и не смогут вышеозначенные ученики или подмастерья заниматься сим ремеслом, прежде чем пройдут испытание перед судом четырех опытных и сведущих мастеров-красильщиков и покажут, что умеют, как должно, приготовить и применить в деле раствор для окрашивания в светло-синее и раствор для окрашивания в темно-синее, а затем представят свои произведения на суд вышеозначенных мастеров, каковые, рассмотрев и одобрив оные, представят о том отчет, как должно, составленный, в течение суток после испытания» (Archives nationales. Y6, piéce V, fol. 98, article 2). Эти правила будут повторяться в большинстве последующих вариантов цеховых статутов.
(обратно)106
Самые ранние из дошедших до нас корпоративных статутов, относящихся к красильному делу, появились в Венеции. Они были выпущены в 1243 г., однако не исключено, что венецианские красильщики объединились в профессиональное сообщество еще в конце XIII в. См.: Brunello F. L’arte della tintura nella storia dell’umanita. Vicenza, 1968. Pp. 140–141. О красильном деле в Венеции в XII–XVIII вв. см. также: Monticolo G. I capitolari delle arti veneziane… Roma, 1896–1914. 4 vol. По-видимому, в Средние века венецианские красильщики пользовались гораздо большей свободой, чем их собратья в других городах Италии, в частности во Флоренции и Лукке. Кстати, мы располагаем цеховыми статутами луккских красильщиков, почти такими же ранними, как венецианские: они датированы 1255 г. См.: Guerra P. Statuto dell’arte dei tintori di Lucca del 1255. Lucca, 1864.
(обратно)107
В фундаментальном и обширном исследовании Франко Брунелло (см. выше) больше внимания уделено истории химии и техники окрашивания, чем социальной и культурной истории красильного дела. Раздел, посвященный Средним векам, значительно уступает другим работам Брунелло об этой эпохе, написанным позднее. Я имею в виду, в частности, его книгу о цехах венецианских ремесленников: Brunello F. Arti e mestieri a Venezia nel medievo e nel Rinascimento. Vicenza, 1980; а также работы о пигментах, которые использовали авторы средневековых миниатюр: Brunello F. «De arte illuminandi» e altri trattati sulla tecnica della miniatura medievale. Vicenza, 1992. См. также многократно переиздававшуюся работу Э. Плосса: Ploss E.E. Ein Buch von alten Farben. Technologie der Textilfarben im Mittelalter. München, 1989, где, впрочем, больше внимания уделено рецептам изготовления красок (как бытовых, так и художественных), чем ремесленникам, которые ими пользовались.
(обратно)108
См. в частности: De Poerck G. La Draperie médiévale en Flandre et en Artois. Bruges, 1951. 3 vol. (в особенности t. I, рp. 150–194). Впрочем, когда речь заходит о красителях и технике окрашивания, к утверждениям этого автора следует относиться с осторожностью; и дело даже не в том, что он скорее филолог, чем историк ремесел и технологий, а в том, что приводимые им сведения не взяты непосредственно из средневековых документов: чаще всего их источник – книги о красильном деле, написанные в XVII и XVIII вв. Поэтому, рассказывая о работе средневековых ремесленников, он иногда описывает методы и приемы, которыми начали пользоваться только в Новое время.
(обратно)109
При производстве тканей невысокого качества, которые в текстах, написанных на латыни, называются «panni non magni precii», шерсть иногда окрашивается в руне: напр., если ее предстоит смешать с другим материалом.
(обратно)110
de Lespinasse R., Bonnardot F. Le Livre des métiers d’Etienne Boileau. Paris, 1879. Pp. 95–96, articles XIX et XX (в русском переводе цит. по: Регистры ремесел и торговли города Парижа / Пер. Л.И. Киселевой // Средние века. М., 1957. Вып. 10. С. 360). См. также: de Lespinasse R. Les Métiers et corporations… T. III. P. 113. Подлинник указа королевы Бланки, изданного в период ее регентства, пока не найден.
(обратно)111
Traité de la police où l’on trouvera l’histoire de son établissement, les fonctions et les prérogatives de ses magistrats… / par M. Delamare, conseiller-commissaire du Roy au Châtelet. Paris: Michel Brunet, 1713. P. 620. Этот и следующий отрывки цитируются по автореферату магистерской диссертации: Debrosse J. Recherches sur les teinturiers parisiens du XVIeau XVIIIe siècle. Paris: EPHE (IVesection), 1995. Pp. 82–83.
(обратно)112
Traité de police. Ibid. P. 626.
(обратно)113
Выражаю благодарность Дени Юэ, который сообщил мне эту информацию, обнаруженную им в рукописи под шифром Y16 в Муниципальной библиотеке Руана: 11 декабря 1515 г. власти этого города выпустили постановление с указанием дней (и даже часов) доступа к чистой воде Сены для мастеров, красивших вайдой (в синий цвет), и для мастеров, красивших мареной (в красный цвет).
(обратно)114
Помимо специализации по цветам и красителям, мастера-красильщики различаются еще и по типу окрашиваемых тканей (шерсть или шелк, иногда лен, а в Италии – хлопок) и по характеру применяемого протравливания: так называемые «горячие красильщики» применяют сильное протравливание, а «кубовые», или «синильщики», либо не пользуются им вообще, либо применяют в течение недолгого времени и без нагрева.
(обратно)115
В Германии лидирующее положение в производстве и распространении марены (красной краски) занимает Магдебург, а в производстве и распространении вайды (синей краски) – Эрфурт. Соперничество между двумя городами становится особенно ожесточенным в XIII–XIV вв., когда недавно вошедшие в моду синие тона начинают все более успешно конкурировать с красными. И все же с конца XIV в. главный «красильный» центр Германии, который по значению можно сравнивать с Венецией или Флоренцией, – это Нюрнберг.
(обратно)116
Scholz R. Aus der Geschichte des Farbstoffhandels im Mittelalter. München, 1929. S. 2 et passim; Wielandt F. Das Konstanzer Leinengewerbe. Geschichte und Organisation. Konstanz, 1950. Ss. 122–129.
(обратно)117
Левит 19:19 и Второзаконие 22:11. Литература по библейским запретам на смеси и смешивание обширна, но не всегда содержательна. Наибольший интерес для историка представляют работы антрополога Мэри Дуглас, посвященные теме чистого и нечистого. См., напр.: Douglas M. Purity and Danger. London, 1992.
(обратно)118
Pastoureau M. L’Étoffe du Diable. Une Histoire des rayures et des tissus rayés. Paris, 1991. Pp. 9–15 (русское издание: Пастуро М. Дьявольская материя, или История полосок и полосатых тканей. М.: Новое литературное обозрение, 2008).
(обратно)119
Р. Шольц утверждает, что ни в одной немецкой книге рецептов для красильщиков ему не попадался рецепт приготовления зеленой краски путем смешивания желтой и синей, или накладывания синей поверх желтой. Так стали делать только в XVI в. (впрочем, отдельные эксперименты такого рода могли проводиться и раньше); см.: Scholz R. Op. cit. Pp. 2–3; Pastoureau M. La Couleur verte au XVIesiècle: traditions et mutations // Shakespeare. Le monde vert: rites et renouveau / éd. M. – T, Jones-Davies. Paris: Les Belles Lettres, 1995. Pp. 28–38.
(обратно)120
У Аристотеля нет специальной работы, посвященной цвету. Но проблемы цвета так или иначе затрагиваются во многих его сочинениях, в частности, в трактатах «О душе», «Метеорологика» (в связи с радугой), в трудах по зоологии и особенно в трактате «О чувстве и чувственно воспринимаемом». Пожалуй, здесь его идеи о природе и о цветовосприятии выражены яснее, чем где-либо. В Средние века пользуется известностью трактат, посвященный цвету и цветовому зрению, который так и называется – «О цветах». Он приписывается Аристотелю, а следовательно, его без конца цитируют, комментируют и копируют на все лады. Однако он не принадлежит ни Аристотелю, ни даже Теофрасту, а, по-видимому, одному из поздних перипатетиков. «О цветах» оказал большое влияние на энциклопедическое знание XIII в., в частности на девятнадцатую книгу энциклопедии Варфоломея Английского «О свойствах вещей», почти наполовину посвященную цветам. Тщательно подготовленное издание греческого текста этого трактата можно найти в книге Aristotle. Minor Works. Cambridge (Mass.), 1980. T. XIV. Pp. 3–45. Латинский текст трактата неоднократно издавался вместе с аристотелевскими «Малыми трудами по естествознанию». О Варфоломее Английском и проблемах цвета см.: Salvat M. Le trait des couleurs de Barthélemy l’Anglais // Senefiance. 1988. No. 24 (Les couleurs au Moyen Âge). Pp. 359–385.
(обратно)121
О запретах см.: De Poerck G. Op. cit. T. I. Pp. 193–198. Впрочем, на практике эти запреты можно обойти. Правда, нельзя бросить в чан два разных красителя, нельзя погрузить ткань сначала в одну краску, а затем в другую, чтобы получить третью, – но есть одна лазейка. Если шерстяное сукно при первом погружении не прокрасилось как надо, мастеру разрешается погрузить этот кусок ткани в чан с краской более темного тона, обычно с добавлением серого или черного красителя (из коры или корней ольхи или орешника), чтобы исправить брак.
(обратно)122
Espinas G. Documents relatifs à la draperie de Valenciennes au Moyen Âge. Lille, 1931. P. 130, pièce 181.
(обратно)123
Я уже рассматривал этот вопрос в других моих работах (Pastoureau M. Couleurs, images, symboles. Paris, 1989. Pp. 24–39; Du bleu au noir. Ethiques et pratiques de la couleur à la fin du Moyen Âge // Médiévales. 1988. T. XIV. Pp. 9–22), но чуть ниже, когда речь пойдет о законах против роскоши, я снова к нему вернусь, ибо это один из важнейших элементов средневековой системы ценностей.
(обратно)124
О книгах рецептов для красильщиков, появившихся в Средние века и в XVI в., подробно говорится в книге Э. Плосса (см. прим. 107). См. также прим. 126 (о проекте базы данных).
(обратно)125
Merrifield M.P. (ed.). Liber magistri Petri de Sancto Audemaro de coloribus faciendis // Original Treatises dating from the XIIth to the XVIIIth on the Art of Painting… London, 1849. P. 129. Полезную информацию по этим вопросам содержит готовящаяся к публикации в Национальной школе хартий диссертация Инес Виллела-Пти: Inès Villela-Petit. La Peinture médiévale vers 1400. Autour d’un manuscrit de Jean Le Bègue.
(обратно)126
Существует проект базы данных, в которой были бы собраны все средневековые рецепты красок (бытовых и художественных). Идею предложила Франческа Толаини, аспирантка Высшей нормальной школы в Пизе. См.: Tolaini F. Una banca dati per lo studio dei ricettari medievali di colori // Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturale (Pisa). Bollettino d’informazioni. 1995. Vol. V. Fasc. 1. Pp. 7–25.
(обратно)127
Об истории книг рецептов для красильщиков и о трудностях, возникающих при ее изучении, см.: Halleux R. Pigments et colorants dans la Mappae Clavicula // Guineau B. (éd.) Colloque international du CNRS. Pigments et colorants de l’Antiquité et du Moyen Âge. Paris, 1990. Pp. 173–180.
(обратно)128
История нарастающего соперничества красного и синего четко прослеживается в руководствах и трактатах, посвященных красильному делу, которые публиковались в Венеции в период с конца XV до начала XVIII в. В одном венецианском сборнике рецептов, созданном в 1480–1500 гг. и хранящемся в муниципальной библиотеке Комо (Rebora G. Un manuale di tintoria del Quattrocento. Milano, 1970), 109 из 159 позиций занимают рецепты красной краски. Такое же соотношение мы видим в знаменитой «Plictho», книге рецептов Розетти, опубликованной в Венеции в 1540 г. (см.: Evans S.M., Borghetty H.C. The «Plictho» of Gioanventura Rosetti. Cambridge (Mass.); London, 1969). Однако в многочисленных переизданиях этой книги, выходивших в течение всего XVII в., количество «красных» рецептов раз от раза уменьшается, а «синих» – увеличивается. В издании Дзаттони 1672 г. «синие» уже сравнялись по численности с «красными». А в сборнике рецептов «Nuovo Plico d’ogni sorte di tinture» Галлипидо Талльери, вышедшем опять-таки в Венеции, у Лоренцо Баcеджо в 1704 г., даже обогнали их.
(обратно)129
В своей диссертации Инес Виллела-Пти (см. прим. 125) подробно освещает эти проблемы на примере французской и итальянской живописи XV в., анализируя произведения фламандца Жака Куне – предполагаемого мастера «Часослова маршала Франции Жана Бусико», а также «Часослов» Микелино да Безоццо (Pp. 294–338).
(обратно)130
Следует, впрочем, заметить, что трактат в основном представляет собой выписки, которые Леонардо делал из разных книг, но, по-видимому, не успел привести в порядок (хотя некоторые знатоки и считают, что его кредо выражено там полностью). Об этом трактате, оригинал которого хранится в Ватиканской библиотеке, см.: Chastel A., Klein R. Léonard de Vinci. Traité de la peinture. Paris, 1960; второе издание этой книги вышло в 1987 г.
(обратно)131
Sone von Nausay / ed. M. Goldschmidt. Tübingen, 1889. P. 285.
(обратно)132
Froissart J. Poésies lyriques / éd. V. Chichmaref. Paris, 1909. T. I. P. 235.
(обратно)133
Общеизвестно, что в период с конца XII до середины XIII в. западноевропейские красильщики, работавшие с вайдой, достигли больших успехов, но мы пока не знаем, как им это удалось. Возможно, дело было не в усовершенствовании самой техники окрашивания, а в некоторой инновации, связанной с производством красителя. Древнейший способ окрашивания, который был известен еще со времен Античности, заключается в том, что свежие листья вайды замачивают в чане с горячей водой, и когда вода приобретает синеватый цвет, в нее погружают шерсть или ткань. Но чтобы при такой слабой концентрации красителя получить насыщенный цвет, придется повторить эту операцию несколько раз. Более эффективная техника, широко распространенная на исходе Средних веков, такова: листья измельчают, замачивают, дают им забродить, затем полученную массу высушивают и прессуют, придавая ей форму шаров. У этого метода три преимущества: краска долго хранится, легко перевозится и ее концентрация гораздо выше. Возможно, именно переход от первой техники ко второй и был секретом быстрого успеха «синих» красильщиков в конце XIII в. К сожалению, мы не располагаем ни одним документом, который мог бы подтвердить эту гипотезу.
(обратно)134
См. мою статью: Une histoire des couleurs est-elle possible? // Ethnologie française. Octobre – décembre 1990. Vol. 20/4. Pp. 368–377.
(обратно)135
По этому поводу стоит вновь обратиться к известному фундаментальному труду: Berlin B., Kay B. Basic Color Terms. Their Universality and Evolution. Berkeley, 1969, и к не менее содержательной рецензии на него: Conklin G.C. Color Categorization // The American Anthropologist. 1973. T. LXXV/4. Pp. 931–942. См. также: Voir et nommer les couleurs / dir. S. Tornay. Nanterre, 1978.
(обратно)136
От Аристотеля до Ньютона наиболее часто встречающейся линейной классификацией цветов была следующая: белый, желтый, красный, зеленый, синий, черный. То есть желтый здесь ближе к белому, чем к красному (а не посередине между ними), а зеленый и синий – очень близко к черному. Отсюда и тенденция группировать шесть цветов по трем зонам: белый-желтый/красный/зеленый-синий-черный.
(обратно)137
Dumézil G. Rituels indo-européens à Rome. Paris, 1954. Pp. 45–61. Сама триада заимствована у историка VI в. Иоанна Лида, применившего ее для обозначения трех частей, на которые разделялся римский народ на заре своей истории.
(обратно)138
См., напр.: Grisward J. Archéologie de l’épopée médiévale. Paris, 1981. Pp. 53–55, 253–264.
(обратно)139
См.: Berlioz J. La petite robe rouge // Formes médiévales du conte merveilleux. Paris, 1989. Pp. 133–139.
(обратно)140
Возьмем хотя бы игру в шахматы, в которой всю ее многовековую историю именно эти цвета всегда были антагонистами: то черные играли против красных, то красные против белых, то белые против черных. Появившись в Индии в VII в., игра распространилась по всему индийскому субконтиненту, а потом по мусульманскому миру, и вначале против красных фигур сражались черные (такими шахматами пользуются в землях Ислама до сих пор). Но когда на рубеже первого и второго тысячелетий шахматы проникли на Запад, черные фигуры и пешки очень скоро сменились белыми – в западноевропейской культуре черный и красный не воспринимались как антагонисты. Противостояние красных и белых на шахматной доске продлится до позднего Средневековья. Затем, с изобретением книгопечатания и массовым распространением черно-белых гравюр, антагонизм внутри пары «черное-белое» начинает ощущаться сильнее, чем внутри пары «красное-белое». И красные фигуры постепенно заменят черными.
(обратно)141
Vincent M. Costume and Conduct in the Laws of Basel, Bern and Zurich. Baltimore, 1935; Ceppari Ridolfi M., Turrini P. Il mulino delle vanità. Lusso e cerimonie nella Siena medievale. Siena, 1996. См. также след. прим.
(обратно)142
Литературы по этой теме достаточно, но зачастую она разочаровывает; см., напр.: Hunt A. Governance of the Consuming Passions. A History of Sumptuary Law. London; N.Y., 1996. В этой книге вообще не затрагивается историческая проблематика (к тому же о Средних веках там сказано очень мало). Помимо двух работ, упомянутых в пред. прим., рекомендую также: Baldwin F.E. Sumptuary Legislation and Personal Relation in England. Baltimore, 1926; Eisenbart L.C. Kleiderordnungen der deutschen Städte zwischen 1350–1700. Göttingen, 1962 (вероятно, лучшая книга о законах об одежде); Baur V. Kleiderordnungen in Bayern von 14. bis 19. Jahrhundert. München, 1975; Hugues D.O. Sumptuary Laws and Social Relations in Renaissance Italy // Disputes and Settlements: Law and Human Relations in the West. Cambridge (UK), 1983. Pp. 69–99; и La moda prohibita // Memoria. Rivista di storia delle donne. 1986. Pp. 82–105.
(обратно)143
Такое случалось и раньше. Уже в Древней Греции и Древнем Риме люди тратили целые состояния на дорогую одежду и краску для тканей. Для борьбы с этим явлением издавались специальные законы против роскоши, но все было тщетно (о римских законах см., напр.: Miles D. Forbidden Pleasures: Sumptuary Laws and the Ideology of Moral Decline in the Ancient Rome. London, 1987). Овидий в «Искусстве любви» (III, 171–172) потешался над римлянками, платившими непомерную цену за краску для своих одежд: «Право, безумно таскать на себе все свое состоянье, / Ежели столько вокруг красок дешевле ценой!» (русский перевод цит. по Овидий П.Н. Наука любви / Пер. с латин., коммент. С. Ошерова, пер. с латин., сост. М. Гаспарова. Новосибирск, 1990. С. 198).
(обратно)144
См. примеры предписаний о распорядке свадебных и похоронных церемоний в Сиене в XIV в. в: Crepari Ridolfi M.A., Turrini P. Op. cit. Pp. 31–75. О мании перечислений, типичной для позднего Средневековья, см.: Chiffoleau J. La Comptabilité de l’au-delà: les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Âge (vers 1320 – vers 1480). Rome, 1981.
(обратно)145
Вместе с тем в странах Священной Римской империи некоторые цвета закреплялись за исполнителями определенных функций или должностных обязанностей (красный – за судьями, зеленый – за охотниками, а позднее – служащими почты), а следовательно, для простых смертных их ношение было ограничено или запрещено. В Новое время такие ограничения и запреты будут только множиться – недаром именно тогда стали появляться всевозможные «униформы» и «ливреи».
(обратно)146
Pastoureau M. L’Étoffe du Diable. Une Histoire des rayures et des tissus rayés. Pp. 17–37 (русское издание: Пастуро М. Дьявольская материя, или История полосок и полосатых тканей. М.: Новое литературное обозрение, 2008).
(обратно)147
У нас пока еще мало работ, посвященных дискриминационным знакам и позорным меткам на одежде в Средние века. За отсутствием фундаментального, обобщающего исследования приходится снова отсылать читателя к посредственной книге прошлого столетия: Robert U. Les signes d’infamie au Moyen Âge: juifs, sarrasins, hérétiques, lépreux, cagots et filles publiques // Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France. 1888. T. 49. Pp. 57–172. В дополнение к этой во многом устаревшей книге (и в качестве поправок к ней) можно использовать отдельные сведения, содержащиеся в недавно опубликованных работах о проститутках, прокаженных, еретиках и обо всех изгоях и маргиналах средневекового общества. Некоторые из этих работ указаны в нижеследующих примечаниях.
(обратно)148
Grayzel S. The Church and the Jews in the XIIIth Century. N.Y., 1966. Pp. 60–70, 308–309. Заметим, что тот же Четвертый Латеранский собор обязал проституток носить отличительные знаки или особую одежду.
(обратно)149
Согласно предписанию об одежде, выпущенному в Шотландии в 1457 г., крестьяне по будням должны были носить серое, а синее, красное и зеленое надевать только по праздникам. См.: Acts of Parliament of Scotland. London, 1966. T. II. P. 49, paragraph 13. См. также: Hunt A. Op. cit. P. 129.
(обратно)150
Об отличительных знаках на одежде проституток см.: Otis L. Prostitution in Medieval Society. The History of an Urban Institution in Languedoc. Chicago, 1985; Rossiaud J. La Prostitution médiévale. Paris, 1988. Pp. 67–81, 227–228; Perry M. Gender and Disorder in Early Modern Seville. Princeton, 1990. А также: Dankert W. Unehrliche Leute. Die verfemten Berufe. München; Regensburg, 1979. Ss. 146–164; Trexler R. Public Life in Renaissance Florence. N.Y., 1980; Richards J. Sex, Dissidence and Damnation. Minority Groups in the Middle Ages. London, 1990.
(обратно)151
В частности, Б. Блюменкранц или P. Меллинкофф, авторы наиболее значительных работ. Среди их многочисленных публикаций рекомендую следующие: Blumenkranz В. Le Juif médiéval au miroir de l’art chrétien. Paris, 1966; Les Juifs en France. Écrits dispersés. Paris, 1989. Mellinkoff R. Outcasts. Signs of Otherness in Northern European Art of the Late Middle Ages. Berkeley, 1991. А также с некоторыми оговорками: Rubens А. A History of Jewish Costume. London, 1967; Finkelstein L. Jewish Self-Government in the Middle Ages. Wesport, 1972.
(обратно)152
Singermann F. Die Kennzeichnung der Juden im Mittelalter. Berlin, 1915; а также (обязательно): Kisch G. The Yellow Badge in History // Historia Judaica. 1957. Vol. 19. Pp. 89–146. Однако из тенденции, предписывавшей евреям ношение желтой метки, существовало множество исключений. Так, в Венеции желтый колпак постепенно превратился в красный, см.: Ravid B. From yellow to red. On the Distinguishing Head Covering of the Jews of Venice // Jewish History. 1992. Vol. 6. Fasc. 1–2. Pp. 179–210.
(обратно)153
Обширную библиографию по этому вопросу можно найти в двух статьях, приведенных в пред. прим. См. также: Sansy D. L’Image du Juif en France du Nord et en Angleterre du XIIeau XVesiècle. Paris: Université de Paris X-Nanterre, 1993. T. II. Pp. 510–543; Chapeau juif ou chapeau pointu? // Symbole des Alltags. Alltag der Symbole. Festschrift für Harry Kühnel zum 65. Geburtstag. Graz, 1992. Pp. 349–375.
(обратно)154
Я намеренно употребляю здесь термин «патрициат», от которого сегодня воздерживаются или вовсе отказываются отдельные историки. Этот термин охватывает широкий спектр явлений, он в равной степени применим к городам Италии, Германии и Нидерландов. О полемике вокруг этого термина см.: Monnet P. Doit-on encore parler de patriciat dans les villes allemandes à la fin du Moyen Âge? // Mission historique française en Allemagne. Bulletin. Juin 1996. No. 32. Pp. 54–66.
(обратно)155
О зависимости цены сукна от краски, которой оно было окрашено, см. таблицы в кн.: Doren A. Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte. Stuttgart, 1901. Band I: Die Florentiner Wollentuchindustrie. Ss. 506–517. Данные по Венеции см. также в старой, но не устаревшей кн.: Cechetti B. La vita dei veneziani nel 1300. Le veste. Venezia, 1886.
(обратно)156
О моде на цвета при Савойском дворе в XIV и XV вв. писали много и охотно, что неудивительно: по этой теме сохранились богатейшие и разнообразнейшие архивные материалы; о таком обилии данных по другим европейским дворам можно только мечтать. См. в частности: Costa de Beauregard L. Souvenirs du règne d’Amédée VIII…: trousseau de Marie de Savoie // Mémoires de l’Académie impériale de Savoie. 1861. T. IV. Pp. 169–203; Bruchet M. Le Château de Ripaille. Paris, 1907. Pp. 361–362; Pollini N. La Mort du prince. Les Rituels funèbres de la Maison de Savoie (1343–1451). Lausanne, 1993. Pp. 40–43; и особенно Page A. Vêtir le prince. Tissus et couleurs à la cour de Savoie (1427–1457). Lausanne, 1993. Pp. 59–104 и далее.
(обратно)157
Знаменитый «Черный принц» (1330–1376), старший сын английского короля Эдуарда III, который, по утверждению ряда современных авторов, всегда появлялся на поле брани и на турнире в черных латах, не сыграл никакой роли в распространении моды на черное среди английской знати. Во-первых, он умер лет на двадцать раньше, чем эта мода зародилась в Европе, а во-вторых, при жизни никогда не проявлял особого пристрастия к черному цвету: в документах XIV в. об этом не сказано ни слова, и только в 1540-х гг., спустя почти двести лет после его смерти, некоторые историки, по невыясненным пока причинам, начинают называть его «Черным принцем». См.: Barber R. Edward Prince of Wales and Aquitaine. London, 1978. Pp. 242–243. О том, как одевались англичане в XIV в., см.: Newton S.M. Fashion in the Age of the Black Prince. A Study of the Years 1340–1365. London, 1980.
(обратно)158
О Филиппе Добром и его пристрастии к черному цвету см.: Lory E.L. Les obsèques de Philippe le Bon… // Mémoires de la Commission des Antiquités du département de la Côte d’Or. 1865–1869. T. VII. Pp. 215–246; Cartellieri O. La Cour des ducs de Bourgogne. Paris, 1946. Pp. 71–99; Beaulieu M., Baylé J. Le Costume en Bourgogne de Philippe le Hardi à Charles le Téméraire. Paris, 1956. Pp. 23–26, 119–121; Grunzweig A. Le grand duc du Ponant // Moyen Âge. 1956. T. 62. Pp. 119–165; Vaughan R. Philip the Good: the Apogee of Burgundy. London, 1970.
(обратно)159
См., напр., пояснения Жоржа Шастеллена, который в своей хронике долго и подробно рассказывает об убийстве в Монтеро (это по сути отправная точка его повествования) и о том, как Филипп Добрый стал одеваться только в черное: Chastellain G. Œuvres / éd. Kervyn de Lettenhove. Bruxelles, 1865. T. VII. Pp. 213–236.
(обратно)160
См.: Vaughan R. John the Fearless: the Growth of Burgundian Power. London, 1966.
(обратно)161
О черном и сером цветах в одежде Рене Анжуйского см.: Piponnier F. Costume et vie sociale. La cour d’Anjou (XIVe– XVesiècles). Paris, 1970. Pp. 188–194.
(обратно)162
d’Orléans Ch. Poésies / éd. P. Champion. Paris, 1923–1927. Chanson 81, vers 5–8. О сером цвете как символе надежды в позднем Средневековье, см. замечательную статью А. Планша: Planche A. Le gris de l’espoir // Romania. 1973. T. 94. Pp. 289–302.
(обратно)163
По поводу нескончаемых дискуссий о культурной функции изображений и об их месте в храме стоит заметить следующее. После Второго Никейского собора, состоявшегося в 787 г., цвет буквально врывается в церкви Европы. С точки зрения историографии диспуты VIII в. о цвете пока еще изучены недостаточно или не изучены вообще, тогда как диспутам об изображениях посвящено множество работ; см., в частности: Böspflug F. – D., Lossky N. Nicée II, 787–1987. Douze siècles d’images religieuses. Paris, 1987.
(обратно)164
О различных версиях происхождения слова colorсм.: Walde A., Hofmann J.B., Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1930–1954. B. III. Ss. 151–153; а также: Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Paris, 1959. P. 133.
(обратно)165
Из всех вождей Реформации Лютер, по-видимому, занимал наиболее умеренную позицию по отношению к цвету в храме, богослужении, искусстве и повседневной жизни. Это и понятно: его главные заботы лежат в иной сфере, а в свете учения о благодати ветхозаветные запреты изображений лишены смысла. Вот почему у Лютера свое, особое мнение как об иконографии, так и о роли искусства и допустимости цвета. По вопросу отношения Лютера к изображениям (о его отношении к цвету пока нет никакого специального исследования) см.: Wirth J. Le dogme en image: Luther et l’iconographie // Revue de l’art. 1981. T. 52. Pp. 9–21. А также: Christensen C. Art and the Reformation in Germany. Athens (USA), 1979. Pp. 50–56; Scavizzi G. Arte e archittetura sacra. Cronache e documenti sulla controversia tra riformati e cattolici (1500–1550). Roma, 1981. Pp. 69–73; Eire C. War against the Idols. The Reformation of Workship from Erasmus to Calvin. Cambridge (Mass.), 1986. Pp. 69–72.
(обратно)166
Иеремии 22:13–14. Иезекииля 8:10.
(обратно)167
Andreas Bodenstein von Karlstadt. Von Abtung der Bylder… Wittenberg, 1522. Pp. 23, 39. См. также цитаты из Карлштадта в кн.: Barge H. Andreas Bodenstein von Karlstadt. Leipzig, 1905. B. I. Ss. 386–391; о позиции Хетцера см.: Garside C. Zwingli and the Arts. New Haven, 1966. Pp. 110–111.
(обратно)168
Когда речь идет об определениях цвета (и комментариях по этому поводу), историк должен с большой осторожностью относиться к тем изданиям, версиям, вариантам текста и переводам Библии, которыми пользовались вожди Реформации. История переводов библейских текстов с греческого и древнееврейского на латинский и с латинского на народные языки – это история неточностей, отсебятины и сдвигов смысла. В частности, средневековая латынь, а еще раньше – Вульгата, очень часто добавляют термины цвета там, где в древнееврейском, арамейском и греческом текстах указывались только вещество, степень освещенности, плотность и качество.
(обратно)169
Выражение Оливье Кристена. См.: Christin O. Une Révolution symbolique. L’Iconoclasme huguenot et la reconstruction catholique. Paris, 1991. P. 141, note 5. См. также: Scribner R.W. Reformation, Carnival and the World Turned Upside-Down. Stuttgart, 1980. Pp. 234–264.
(обратно)170
Pastoureau M. L’église et la couleur des origines à la Réforme // Bibliothèque de l’École des chartes. 1989. Vol. 147. Pp. 203–230; Bonne J. – C. Rituel de la couleur. Fonctionnement et usage des images dans le sacramentaire de Saint-Étienne de Limoges // Image et signification (rencontre de l’École du Louvre). Paris, 1983. Pp. 129–139.
(обратно)171
Garside C. Zwingli and the Arts. New Haven, 1966. Pp. 155–156. См. также замечательное исследование Ф. Шмидта-Клаусинга: Schmidt-Claussing F. Zwingli als Liturgist. Berlin, 1952.
(обратно)172
Barge H. Op. cit. P. 386; Stirm M. Die Bilderfrage in der Reformation. Gütersloh, 1977. S. 24.
(обратно)173
Pastoureau M. Une histoire des couleurs est-elle possible? // Éthnologie française. 1990. No. 4. Pp. 368–377.
(обратно)174
Многочисленные примеры приводятся (вернее, перечисляются) в кн.: Deyon S., Lottin A. Les Casseurs de l’été 1566. L’iconoclasme dans le Nord. Paris, 1981. См. также: Christin O. Op. cit. Pp. 152–154.
(обратно)175
В этом смысле очень типична позиция Лютера. См.: Wirth J. Op. cit. Pp. 9–21.
(обратно)176
Garside Ch. Op. cit. Chapitres IV, V.
(обратно)177
Bieler A. L’Homme et la Femme dans la morale calviniste. Genève, 1963. Pp. 20–27.
(обратно)178
Благодаря этому неявному, словно бы вибрирующему колориту в соединении с невероятной мощью света, большинство картин Рембрандта, даже сугубо светского содержания, обретает измерение сакральности. Среди обширной литературы на эту тему см. материалы берлинского коллоквиума (1970): von Simson O., Kelch J. (ed.). Neue Beiträge zur Rembrandt-Forschung. Berlin, 1973.
(обратно)179
Pastoureau M. L’Église et la couleur. Pp. 204–209.
(обратно)180
См. замечательно написанную краткую историю этих споров в кн.: Lichtenstein J. La Couleur éloquente. Rhétorique et peinture à l’âge classique. Paris, 1989. Небесполезно также перечитать книгу Роже де Пиля, лидера сторонников главенства цвета в живописи. Отвергнув все предшествующие теории, равно как и идеалы кальвинизма и янсенизма, автор возносит хвалу цвету, ибо это – прикраса, иллюзия, соблазн, одним словом – сама живопись: Roger de Piles. Cours de peinture par principes (1708).
(обратно)181
По мнению Кальвина, нет большей мерзости, чем когда мужчины переодеваются женщинами или животными, поэтому само существование театра оказалось под вопросом.
(обратно)182
См. его пылкую проповедь «Oratio contra affectationem novitatis in vestitu» – «Против стремления к новизне в одежде» (1527), в которой он советует всякому честному христианину носить одежду строгих темных цветов, а не «distinctus a variis coloribus velut pavo» – «пеструю и разноцветную, как у павлина» (Corpus reformatorum. Vol. 11. Pp. 139–149; см. также: Vol. 2. Pp. 331–338).
(обратно)183
Léonard E. – G. Histoire générale du protestantisme. Paris, 1961. T. I. Pp. 118–119, 150, 237, 245–246. О жизни в Женеве в XVI в. существует обширная литература; см.: de Gallantin M. – L. Ordonnances somptuaires à Genève. Genève, 1938.; Wallace R.S. Calvin, Geneva and the Reformation. Edinbourgh, 1988. Pp. 27–84. См. также: Bieler A. L’Homme et la Femme dans la morale calviniste. Genève, 1963. Pp. 81–89, 138–146.
(обратно)184
О революции в одежде, которую провозгласили мюнстерские анабаптисты, см.: Strupperich R. Das münsterische Taüfertum. Münster, 1958. Pp. 30–59.
(обратно)185
В 1666 г. благодаря изучению спектра и опытам с призмой Ньютону впервые удалось доказать, что черный и белый с точки зрения науки не являются цветами; в культурном аспекте это было признано уже несколько десятилетий назад и успело вписаться в светскую и религиозную жизнь общества.
(обратно)186
Thorner I. Ascetic Protestantism and the Development of Science and Technology // The American Journal of Sociology. 1952–1953. Vol. 58. Pp. 25–38; Bodamer J. Der Weg zu Askese als Überwindung der technischen Welt. Hamburg, 1957.
(обратно)187
См.: Lacey R. Ford, The Man and the Machine. N.Y., 1968.
(обратно)188
Marin L. Signe et représentation. Philippe de Champaigne et Port-Royal // Annales ESC. 1970. Vol. 25, Pp. 1–13.
(обратно)189
Данные по французской живописи см. в: Bergeon S., Martin E. La technique de la peinture française des XVIIeet XVIIIesiècles // Techné. 1994. Vol. 1. Pp. 65–78.
(обратно)190
Ibid. Pp. 71–72.
(обратно)191
О ляпис-лазури в живописи см.: Roy A. (ed.). Artists’ Pigments. A Handbook of their History and Characteristics. Washington; Oxford, 1993. Vol. 2. Pp. 37–65.
(обратно)192
Об азурите и смальте в живописи см. там же, pp. 23–34, 113–130.
(обратно)193
Об ограниченном использовании индиго живописцами XVII в. см. в замечательном каталоге выставки: Sublime indigo. Marseille, 1987. Pp. 75–98.
(обратно)194
См., напр., что говорит об этом Жан-Батист Удри в своей «Речи о живописной практике и ее главных методах», написанной в 1752 г. и опубликованной Э. Пио в журнале Le Cabinet de l’amateur (Paris, 1861. Pp. 107–117).
(обратно)195
Kühn H. A Study of the Pigments and the Grounds used by Jan Vermeer // National Gallery of Art (Washington), Report and Studies in the History of Art. Washington, 1968. Pp. 155–202; Wadum J. Vermeer Illuminated. Conservation, Restoration and Research. The Hague, 1995.
(обратно)196
По этим вопросам см.: Jacqueline Lichtenstein. Op. cit.; см. также: Heuck E. Die Farbe in der französischen Kunsttheorie des XVII. Jahrhunderts. Strasburg, 1929; Tesseydre B. Roger de Piles et les débats sur le coloris au siècle de Louis XIV. Paris, 1965; конкретнее по XVII в. см.: Gage J. Op. cit. Pp. 117–138.
(обратно)197
Недаром живописцы XVII и XVIII вв. подсинивали бумагу при помощи индиго, чтобы она не желтела, – для эскизов и чудесных рисунков пером, которые они делали коричневой тушью и разведенным индиго, добавляя кое-где пятнышки белил.
(обратно)198
Шарль Лебрен исчерпывающе выражает позицию противников цвета, когда говорит, что цвет – «это океан, в который многие бросаются, ища спасения, и тонут». Другие художники теоретически и практически настроены не так радикально, выдвигают не такие резкие аргументы, и их споры проходят с меньшей ожесточенностью. См. тексты в сборнике: Imdahl M. Couleur. Les Écrits des peintres français de Poussin à Delaunay. Paris, 1996. Pp. 27–79.
(обратно)199
Здесь не хватит места для подробного рассказа об опытах Ньютона и о перевороте, который они произвели в научных и философских представлениях о цвете. Об этом и так написано достаточно много. Из французских книг рекомендую доступные для широкого круга читателей труды Мишеля Бле: Blay M. La Conceptualisation newtonienne des phènomènes de la couleur. Paris, 1983, и Les Figures de l’arc-en-ciel. Paris, 1995. Pp. 36–77. Можно также прочитать или перечитать «Оптику» самого Исаака Ньютона.
(обратно)200
Gage J. Op. cit. Pp. 153–176, 227–236.
(обратно)201
Но это продолжалось недолго. Через несколько десятилетий в живописи утвердился новый стиль – неоклассицизм, который относился к цвету с недоверием и осторожностью; большинство теоретиков искусства вплоть до конца XIX в. упорно старались ограничить его права. Вот что писал Шарль Блан, основатель журнала Gazette des Beaux-Arts, в своей знаменитой, впервые опубликованной в 1867 г. и неоднократно переиздававшейся «Грамматике искусства рисунка» (Grammaire des arts du dessin): «Рисунок – это мужское начало в искусстве, а цвет – женское начало. <…> Необходимо, чтобы рисунок удерживал свое господство над цветом. В противном случае живопись обречена: цвет погубит ее, как Ева погубила род людской».
(обратно)202
См. список тех, кто преуспел в этом больше всех («Баланс живописцев»), составленный Роже де Пилем: de Piles R. Cours de peinture par principes. Paris, 1989. Pp. 236–241. См. также: Brusatin M. Storia dei colori. Torino, 1983. Pp. 47–69.
(обратно)203
См. в частности: Vorlesungen über die Aesthetik. Leipzig, 1931. Pp. 128–129 et passim.
(обратно)204
Об изобретении полихромной гравюры см. каталог замечательной выставки «Анатомия цвета», организованной Флорианом Родари и Максимом Прио: Anatomie de la couleur. Paris: Bibliothèque nationale de France, 1995. См. также: Le Blon J.C. Coloritto, or the Harmony of Colouring in Painting reduced to Mechanical Pratice. London, 1725; автор признает, что многое заимствовал у Ньютона, и утверждает, что есть три основных цвета: красный, синий и желтый. История цветной гравюры от самых ее истоков изложена в кн.: Friedman J.M. Color Printing in England, 1486–1870. Yale, 1978.
(обратно)205
См.: La couleur en noir et blanc (XVe – XVIIIe siècle) // Le Livre et l’Historien. Études offertes en l’honneur du Professeur Henri-Jean Martin. Genève, 1997. Pp. 197–213.
(обратно)206
Наиболее значительное исследование по этой теме: Shapiro A.E. Artists’ Colors and Newton’s Colors // Isis. Vol. LXXXV. Pp. 600–630.
(обратно)207
Это произойдет еще нескоро, лишь на рубеже XVIII–XIX вв. Заметим, однако, что уже с начала XVII в. некоторые теоретики стали называть красный, синий и желтый «главными» цветами, а зеленый, пурпурный и золотой (!) – производными от смешения главных. Первым эту идею высказал Франсуа д’Агилон (François d’Aguilon. Opticorum Libri VI. Anvers, 1613), составивший «таблицы гармонии», в которых зеленый был представлен как продукт смешения желтого и зеленого. По этой теме см.: Shapiro A.E. Op. cit.
(обратно)208
Гай Юлий Цезарь. Записки о Галльской войне. V, 14, 2; Плиний Старший. Естественная история. XXII, 2, 1.
(обратно)209
Luzzatto L., Pompas R. Il significato dei colori nelle civiltа antiche. Milano, 1988. Pp. 130–151.
(обратно)210
О вайде красильной в древности см.: Cotte J., Cotte C. La guide dans l’Antiquité // Revue des études anciennes. 1919. T. XXI/1. Pp. 43–57.
(обратно)211
Плиний, однако, считает индиго не камнем, а чем-то вроде пены или тины, затвердевшей, а затем измельченной: «Ex India venit indicus, arundinum spumae adhaerescente limo; cum teritur, nigrum; at in diluendo mixturam purpurae caeruleique mirabilem reddit» – Naturalis historia, XXXV, 27,1 («Она привозится из Индии, а представляет собой ил, пристающий к пене тростников. На вид она черная, но при разведении дает удивительное сочетание пурпура и лазури». Пер. Г.А. Тароняна. Источник: Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. М., 1994).
(обратно)212
Историки разных стран часто пользуются этой библейской цитатой (Исход, 3: 8), чтобы описать благосостояние регионов – производителей вайды.
(обратно)213
По истории тулузской пастели сохранилось много документальных материалов и существует обширная литература. См., в частности: Wolff P. Commerces et marchands de Toulouse (vers 1350 – vers 1450). Paris, 1954; Caster G. Le Commerce du pastel et de l’épicerie à Toulouse, de 1450 environ à 1561. Toulouse, 1962; Jorre G. Le Terrefort toulousain et Lauragais. Histoire et géographie agraires. Toulouse, 1971; Rufino P.G. Le Pastel, or bleu du pays de cocagne. Panayrac, 1992.
(обратно)214
Самый давний из известных запретов содержится во флорентийских статутах 1317 г. и касается гильдии шерстяников: «Nullus de hac arte vel suppositus huic arti possit vel debeat endicam facere vel fieri facere». Scholz R. Aus der Geschichte des Farbstoffhandels im Mittelalter. München, 1929. Pp. 47–48. («Никто, занимающийся этим делом, не может и не должен ни использовать, ни заставлять кого-то использовать индиго»).
(обратно)215
Очень любопытную таблицу постепенного снижения цены на фунт вайды в Нюрнберге и других городах Германии с XIV по XVI в. можно найти в кн.: Lauterbach F. Der Kampf des Waides mit dem Indigo. Leipzig, 1905. P. 37.
(обратно)216
А руководства по красильному делу XVII в. еще и предупреждают: никогда нельзя знать заранее, какого оттенка получится ткань, погруженная в чан с индиго, поэтому мастеру неизбежно придется погружать ее снова и снова, пока он не добьется равномерной, насыщенной окраски.
(обратно)217
Самое раннее техническое руководство по окрашиванию индиго содержится в рукописном итальянском сборнике рецептов, который хранится в муниципальной библиотеке Комо (codice Ms. 4. 4. 1), с этим сборником, составленным между 1466 и 1514 гг., можно ознакомиться в кн.: Rebora G. Un manuale di tintoria del Quattrocento. Milano, 1970. Сборник создан в Венеции, и хотя в нем и приводится инструкция по окрашиванию с помощью индиго, все же 109 из 159 рецептов посвящены красному цвету. А в первой печатной книге по красильному делу, появившейся в Европе, знаменитом «Plictho» Д. Розетти (Венеция, 1548), нет ни слова об индиго. См.: Evans S.M., Borghetty H.C. The «Plictho» of Giovan Ventura Rosetti. Cambridge (Mass.); London, 1969.
(обратно)218
Lauterbach F. Op. cit. Pp. 117–118; Scholz R. Op. cit. S. 107–116; Jecht H. Beiträge zur Geschichte des ostdeutschen Waidhandels und Tuchmachergewerbes // Neues Lausitzisches Magazin. 1923. B. 99. Ss. 55–98; 1924. B. 100. Ss. 57–134.
(обратно)219
Schmoller G. Die Stassburger Tuch– und Weberzunft. Strasbourg, 1879. P. 223.
(обратно)220
de Puymaurin M. Notice sur le pastel, sa culture et les moyens d’en tirer de l’indigo. Paris, 1810.
(обратно)221
Заметим: до сих пор некоторые историки искусства упорно отрицают, что живописцы прошлых веков могли пользоваться пигментами, изначально предназначенными для красильщиков. И тем не менее…
(обратно)222
Обстоятельства, при которых Дисбах и Диппель изобрели берлинскую лазурь, до сих пор остаются не вполне ясными. Кому из них принадлежит анонимный латинский текст об изобретении новой синей краски, который был напечатан в 1710 г. в газете одного берлинского научного общества? (Serius exhibita notitia coerulei Berolinensia nuper inventi // Micellanea Berolinensia ad incrementum scientiarum. Berlin, 1710. Pp. 377–381.)
(обратно)223
Woodward M.D. Preparatio coerulei prussiaci ex Germanica missa // Philosophical Transactions. London, 1726. Vol. 33/381. Pp. 15–22.
(обратно)224
Pinault M. Savants et teinturiers // Sublime indigo. Exposition (Marseille, 1987). Fribourg, 1987. Pp. 135–141.
(обратно)225
Macquer P. – J. Mémoire sur une nouvelle espèce de teinture bleue dans laquelle il n’entre ni pastel ni indigo // Mémoires de l’Académie royale des sciences. 1749. Pp. 255–265; Sublime indigo. Marseille, 1987. P. 158. No. 170–171.
(обратно)226
Raymond M. Procédé de M. Raymond… Paris, 1811. Метод Ремона состоит в следующем: ткань подвергается длительной обработке протравой на основе железа, затем ее погружают в раствор ферроцианида калия; при этом нельзя пользоваться инструментами или емкостями, содержащими медь.
(обратно)227
Pellegrin N. Les provinces du bleu // Sublime indigo. Exposition (Marseille, 1987). Fribourg, 1987. Pp. 35–39; Cardon D. Pour un arbre généalogique du jeans: portraits d’ancètres // Blu/Blue Jeans. Il blu popolare. Esposizione. Milano, 1989. Pp. 23–31.
(обратно)228
См. работы Мадлен Пино, в частности, ее диссертацию: Pinault M. Aux sources de l’Encyclopédie. La description des Arts et Métiers. Paris, 1984. 4 volumes (EPHE, 4e section), а также Savants et teinturiers // Sublime indigo. Op. cit. Pp. 135–141.
(обратно)229
В статье «Краска» из «Энциклопедии» 1765 г. также перечислены только тринадцать оттенков синего: это повтор списка из «Руководства по краскам», опубликованного еще в 1669 г. по указанию Кольбера. Однако примерно в это же время Дюамель де Монсо публикует «Описание искусств и ремесел», в котором много внимания уделено красильному делу: там указаны двадцать три или двадцать четыре оттенка синего. См. кроме работ, указ. в пред. прим.: Jaoul M., Pinault M. La collection Description des arts et métiers. Étude des sources inédites // Ethnologie française. 1982. Vol. 12/4. Pp. 335–360; 1986. Vol. 16/1. Pp. 7–38.
(обратно)230
von Wartburg W. Französisches etymologisches Wörterbuch. B. VIII. Col. 276–277a; Schäfer B. Die Semantik der Farbadjektive im Altfranzösischen. Tübingen, 1987. Ss. 82–88; Mollard-Dufour A. Le Dictionnaire des mots et expressions de couleur du XXe siècle. Le bleu. Paris, 1998. P. 200.
(обратно)231
Письмо Вертера Вильгельму от 6 сентября 1772 г. (русский текст цит. по Гёте И.В. Страдания юного Вертера. СПб., 2001. С. 110–111).
(обратно)232
Перевод Н. Касаткиной (прим. перев.).
(обратно)233
В романе платье Шарлотты не синее с белым, а просто белое. Правда, на этом платье у нее действительно розовый бант, который она дарит Вертеру, а тот хранит его, как святыню.
(обратно)234
См. последнюю по времени работу о несогласии Гете с теориями Ньютона и о его полемике с последователями английского ученого: Sepper D.L. Goethe contra Newton. Polemics and the Project for a new Science of Colour. Oxford, 1988.
(обратно)235
Richter M. Das Schrifttum über Goethes Farbenlehre. Berlin, 1938.
(обратно)236
О трудах Гете, посвященных цвету, существует обширная литература. См. прежде всего: Bjerke A. Neue Beiträge zu Goethes Farbenlehre. Stuttgart, 1963; Proskauer H.O. Zum Studium von Goethes Farbenlehre. Basel, 1968; Schindler M. Goethe’s Theory of Colours. Horsham, 1978.
(обратно)237
См. книгу И.В. фон Гете «К теории цвета», глава IV, параграфы 696–699; глава VI, параграфы 758–832. См. также: Schmidt P. Goethes Farbensymbolik. Stuttgart, 1965.
(обратно)238
Однако Гете считает синий цвет неподходящим для оформления интерьера; правда, голубые обои зрительно увеличивают комнату, но при этом делают ее «холодной и грустной». Он предпочитает зеленые обои.
(обратно)239
Об этом романе и об откликах, которые он вызвал, см.: Schulz G. (dir.). Novalis Werke commentiert. München, 1981. Ss. 210–225 et passim.
(обратно)240
См. тексты, объединенные в сборнике: Lochmann A., Overath A. Das blaue Buch. Ein Lesarten einer Farbe. Nördlingen, 1988.
(обратно)241
Rey A. (dir.). Dictionnaire historique de la langue française. Paris, 1992. T. I. P. 72.
(обратно)242
Голландское выражение «Dat zijn maar blauwe bloempjes» (в дословном переводе: «это всего лишь маленькие синие цветочки») имеет пренебрежительный смысл: речь идет не о волшебных сказках, а о самом обычном вранье. В Нидерландах синий плащ («de blauwe Huyck») – атрибут лжецов и лицемеров, обманщиков и предателей (в других традициях эту функцию обычно выполняет одежда желтого цвета). См.: Lebeer L. De blauwe Huyck // Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis. 1939–1940. B. VI. Ss. 161–226 (о синем плаще на знаменитой картине Брейгеля, посвященной пословицам).
(обратно)243
Приношу благодарность Инес Виллела-Пти, сообщившей мне эту информацию.
(обратно)244
Об истории и свойствах блюза, жанра, из которого вырос весь джаз, см.: Carles P., Clergeat A., Comoli J. – L. Dictionnaire du jazz. Paris, 1988. Pp. 108–110.
(обратно)245
В частности, с начала нынешнего столетия итальянские спортсмены на соревнованиях по всем видам спорта носят только синие майки. Трудно сказать почему, ведь синий никогда не фигурировал на итальянском флаге, не был династическим цветом Савойского дома или других домов, когда-либо правивших в Италии. Исторические корни этого выбора остаются тайной и для самих итальянцев. Быть может, именно этой таинственностью и объясняется тот факт, что на разных спортивных аренах итальянские сборные так часто одерживают победу?
(обратно)246
Как ни странно, происхождение французского флага во время Великой французской революции остается мало изученной проблемой, по которой ученые до сих пор не пришли к единому мнению. На эту тему написано сравнительно мало работ. Я имею в виду научные труды: понятно, что, как и обо всем, что связано с символикой, о трехцветном флаге написано много разной чепухи. И нет никаких сомнений в том, что о его происхождении нам еще многое предстоит узнать. То же самое, впрочем, можно сказать и о других флагах: древних и современных, европейских и неевропейских. Как будто бы для того, чтобы эффективно выполнять свои функции (эмблематические, символические, литургические, мифологические), необходимо облекать таинственностью свои корни, обстоятельства своего рождения и свой изначальный смысл. Возможно, флаг, история и смысловое значение которого были бы слишком ясны и понятны, стал бы неинтересным, невыразительным, нефункциональным. См.: Maury A. Les Emblèmes et les drapeaux de la France: le coq gaulois. Paris, 1904. Pp. 259–316; Girardet R. Les trois couleurs // Les Lieux de mémoire / dir. P. Nora. Paris, 1984. T. I. Pp. 5–35; Pinoteau H. Le Chaos français et ses signes. Étude sur la symbolique de l’État français depuis la Révolution de 1789. La Roche-Rigault, 1998. Pp. 46–57, 137–142 et passim; Pastoureau M. Les Emblèmes de la France. Paris, 1998. Pp. 54–61, 109–115.
(обратно)247
de La Fayette G. Mémoires, correspondances et manuscrits. Paris, 1837. T. II. Pp. 265–270.
(обратно)248
Bailly J. – S. Mémoires. Paris, 1804. T. II. Pp. 57–68.
(обратно)249
О трехцветной кокарде см.: Pinoteau H. Op. cit. Pp. 34–40; Pastoureau M. Les Emblèmes de la France. Op. cit. Pp. 54–61.
(обратно)250
Тем более что еще с XIV в., от Валуа до Бурбонов, синий с белым и красным были цветами королевской ливреи, которую носили все слуги и домочадцы короля.
(обратно)251
Pastoureau M. L’Étoffe du Diable. Une histoire des rayures et des tissus rayés. Paris, 1991. Pp. 80–90 (русское издание: Пастуро М. Дьявольская материя, или История полосок и полосатых тканей. М.: Новое литературное обозрение, 2008).
(обратно)252
По знамени сухопутных войск никакого решения пока не принято: в ту эпоху, как и раньше, при королевской власти, «государственный» флаг – это прежде всего флаг военно-морского флота. Однако 22 октября 1790 г. Национальное собрание предписывает всем полковым командирам добавить к знамени полка ленту с национальными цветами. Это предписание будет возобновляться несколько раз, до лета 1791 г. 10 июля 1791 г. принимается решение: у каждого полка на знамени должны быть элементы национального флага. Порядок расположения цветов, по-видимому, оставлен на усмотрение полка. Пехоте даны следующие рекомендации: у первого батальона должно быть белое знамя с белым крестом и тремя горизонтальными «полосками» в углу полотнища: синей, белой и красной. На деле размещение национальных цветов могло быть самым разнообразным, иногда неожиданным и дерзким, иногда кокетливым, зачастую непомерно усложненным или несуразным. Люди словно забыли, что флаг – это кусок ткани, который должен быть виден издалека. Так будет продолжаться до 1804 г., когда примут новое решение: знамена для всех полков должны быть разработаны на основе единого шаблона – на середине квадратного полотнища белый ромб, в углах – четыре треугольника: два синих и два красных. Размер полотнища позволяет расположить на нем дополнительно различные надписи и эмблемы.
(обратно)253
В самом деле французский флаг не так уж красив. Конечно, он несет в себе глубокий смысл и важные исторические ассоциации, это придает ему некое подобие красоты, но в принципе его визуальное решение нельзя назвать удачным ни в геометрическом, ни в эстетическом плане: он значительно уступает флагам пяти скандинавских стран, флагу Японии и многим другим. Причина проста: полосы расположены неправильно. Прямоугольный кусок ткани, разделенный на три части, выглядит гораздо естественнее и привлекательнее, если линии раздела параллельны его длинной стороне (как на флаге Нидерландов, Германии, Венгрии и др.). При расположении полос параллельно короткой стороне возникает неприятное ощущение, что прямоугольник распадается на три части – конечно, только в тех случаях, когда флаг развевается на ветру или лежит горизонтально.
(обратно)254
Charrié P. Drapeaux et étendards du XIXe siècle (1814–1880). Paris, 1992.
(обратно)255
О красном флаге см: Dommanget M. Histoire du drapeau rouge des origines à la guerre de 1939. Paris, 1967.
(обратно)256
О белом флаге см.: Garnier J. – P. Le Drapeau blanc. Paris, 1971.
(обратно)257
Agulhon M. Les couleurs dans la politique française // Ethnologie française. 1990/4. T. XX. Pp. 391–398.
(обратно)258
Желтый цвет, который в европейской традиции всегда имел дурную славу, редко находит применение в политической символике и эмблематике. Чаще всего он служит для обозначения предателей и штрейкбрехеров. См.: Marsaudon A. Les Syndicats jaunes. Rouen, 1912; Tournier M. Les jaunes. Un mot-fantasme de la fin du XIX siècle // Les Mots. 1984. Vol. 8.
(обратно)259
Кроме работ, указанных выше, см.: Geoffroy A. Étude en rouge, 1789–1798 // Cahiers de lexicologie. 1988. T. 51. Pp. 119–148.
(обратно)260
См. занятное сочинение, написанное в те годы: de Puymaurin M. Notice sur le pastel, sa culture et les moyens d’en tirer de l’indigo. Paris, 1810.
(обратно)261
Цитируется по кн.: Dilleman G. Du rouge garance au bleu horizon // La Sabretache. 1971 (1972). Pp. 63–69.
(обратно)262
В своем завещании Жюль Ферри (1832–1893), депутат, а затем сенатор от департамента Вогезы, просил похоронить его в родном городе Сен-Дье, «лицом к голубеющей вдали линии Вогезов, откуда до моего преданного сердца доносится горестный стон побежденных».
(обратно)263
Блейзер, легкий спортивный пиджак, изначально мог быть любого цвета. Нередко такие пиджаки бывали яркими или двухцветными, в полоску. В таком виде блейзер перебрался из Англии в континентальную Европу: это произошло в 1890–1900 гг. Но после Первой мировой войны яркие расцветки и полоски стали встречаться все реже, их вытесняли темные тона, в особенности темно-синий. Начиная с 1950-х гг. заимствованное из английского языка слово «блейзер» почти всегда означает «темно-синий пиджак».
(обратно)264
Работ, посвященных истории джинсов и знаменитой фирмы из Сан-Франциско, достаточно много, но не все они заслуживают внимания. См. прежде всего: Nathan H. Levi Strauss and Company. Taylors to the World. Berkeley, 1976; Cray E. Levi’s. Boston, 1978; Friedman P. Une histoire du Blue Jeans. Paris, 1987; а также каталоги выставок: Blu/Blue Jeans. Il blu populare. Milano, 1989; La Fabuleuse histoire du jean. Paris, musée Galliera. 1996.
(обратно)265
О рождении джинсов см.: Nathan H. Op. cit. Pp. 1–76.
(обратно)266
Nougarède M. Denim: arbre généalogique // Blu/Blue Jeans. Il blu populare. Milano, 1989. Pp. 35–38; а также каталог выставки Rouge, bleu, blanc. Teintures à Nîmes. Nîmes: musée du vieux Nîmes, 1989.
(обратно)267
Blum S. Everyday Fashions of the Twenties as Pictured in Sears and other Catalogues. N.Y., 1981; Everyday Fashions of the Thirthies as Pictured in Sears and other Catalogues. N.Y., 1986.
(обратно)268
Haïm G. The Meaning of Western Commercial Artifacts for Eastern European Youth. Tel Aviv, 1979.
(обратно)269
Среди многочисленных, но неравноценных публикаций на эту тему, рекомендую: Birren F. Selling color to people. N.Y., 1956. Pp. 64–97; Deribérè M. La Couleur dans les activités humaines. Paris, 1968; Descamps M. – A. Psychosociologie de la mode. Paris, 1984. Pp. 93–105. Статистику по Германии см. в замечательной работе Эвы Хеллер: Heller E. Wie die Farben wirken. Hamburg, 1989. Pp. 14–47.
(обратно)270
См: Granger G.W. Objectivity of Colour Preferences // Nature. 1952. T. CLXX. Pp. 18–24.
(обратно)271
Birren F. Selling Color to People. N.Y., 1956. Pp. 81–97; Color: A Survey in Words and Pictures from Ancient Mysticism to Modern Science. N.Y., 1963. P. 121.
(обратно)272
Кстати, с начала нашего столетия на эмблеме Олимпийских игр – пяти сплетенных кольцах – Европа представлена кольцом именно этого цвета; вдобавок, в 1955 г. синий стал цветом Совета Европы (а позднее – Европейского союза). См.: Pastoureau M., Schmitt J. – C. Europe. Mémoire et emblèmes. Paris, 1990. Pp. 193–197.
(обратно)273
В большинстве стран Латинской Америки первый по значению цвет – красный, за ним следуют желтый и синий. По-видимому, тут сказалось влияние местных индейских культур, которые усвоили европейские хроматические ценности, обогатив их и переделав на свой лад. В этих регионах наблюдаются любопытные случаи хроматической аккультурации. О взаимопроникновении разных культур см.: Gruzinski S. La Pensée métisse. Paris, 1999.
(обратно)274
Color Planning Center (Tokyo). Japanese Color Name Dictionnary. Tokyo, 1978.
(обратно)275
См. работы, опубликованные в сборнике: Voir et nommer les couleurs / dir. S. Tornay. Nanterre, 1978. В частности, работы Carole de Féral (Pp. 305–312) и Marie-Paule Ferry (Pp. 337–346). Статьи, объединенные в сборнике, предоставляют историку обширный материал для анализа, в основном в области этнолингвистики.
(обратно)276
См. об этом: Conklin H.C. Color Categorization // The American Anthropologist. 1973. Vol. LXXV/4. Pp. 931–942. Это отзыв на интересную, но вызвавшую споры работу: Berlin B., Kay P. Basic Colors Terms. Their Universality and Evolution. Berkeley, 1969.
(обратно)277
В самом деле глаз западного человека постепенно адаптируется к некоторым цветовым параметрам, принятым в Японии. Самый убедительный пример – матовая и глянцевая фотобумага: до войны она была практически неизвестна на Западе, но когда Япония добилась превосходства в фотопромышленности, это изобретение распространилось по всему миру. На Западе при печати фотографий самым главным стало их разделение на матовые и глянцевые, тогда как раньше важнее всего была зернистость бумаги, а также ее теплый или холодный тон.
(обратно)


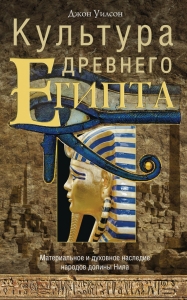
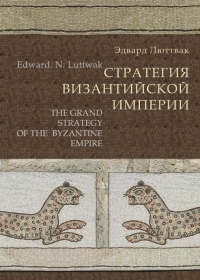
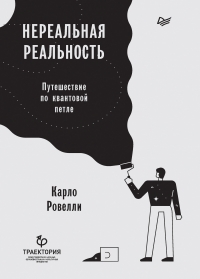
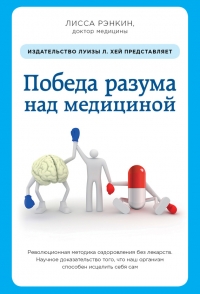

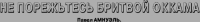


Комментарии к книге «Синий. История цвета», Мишель Пастуро
Всего 0 комментариев