Мишель Пастуро Черный. История цвета
© Éditions du Seuil, 2008 et 2011
© Norton Simon Art Foundation, Gift of Mr. Norton Simon
© Н. Кулиш, пер. с франц., 2017
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017
Благодарности
Перед тем как принять форму книги, эта моя версия социальной и культурной истории черного цвета была темой семинаров, которые я несколько лет вел в Практической школе высших исследований и в Высшей школе социальных наук. И мне хотелось бы поблагодарить всех моих учеников и слушателей за плодотворный обмен мнениями во время нашей совместной работы.
Выражаю благодарность также всем людям в моем окружении – друзьям, родным, коллегам, – которые помогали мне своими замечаниями, советами и предложениями, в частности Пьеру Бюро, Ивонне Казаль, Клод Купри, Марине Эскола, Филиппу Фаго, Франсуа Жаксону, Филиппу Жюно, Лоранс Клейман, Морису Олендеру и Лоре Пастуро. Благодарю также Клод Энар и ее сотрудников по издательству «Seuil»: Каролин Фюкс, Каролин Шамбо, Карин Бензакин и Фредерика Мазюи.
И наконец, я говорю огромное и сердечное спасибо Клодии Рабель, которая уже не в первый раз помогала мне своими советами, тонкими критическими замечаниями, а также строгой и эффективной вычиткой текста.
Введение Цвет в зеркале истории
Если нас спросят: «Что означают слова „красный“, „синий“, „черный“, „белый“?», то в ответ мы, конечно же, можем указать на предметы соответствующих цветов. Но дальше этого наша способность объяснить значение данных слов не идет.
Auf die Frage: «Was bedeuten die Wörter rot, blau, schwarz, weiss?» können wir freilich gleich auf die Dinge zeigen, die so gefärbt sind. Aber weiter geht unsere Fähigkeit die Bedeutungen dieser Wörter zu erklären nicht.
Людвиг Витгенштейн. Заметки о цвете / Ludwig Wittgenstein. Bemerkungen über die Farben, I. 68Несколько десятилетий назад, в начале прошлого века или даже в пятидесятые годы, название нашей книги могло бы удивить некоторых читателей, не привыкших считать черный цветом. Сегодня дело обстоит иначе: мало кто станет отрицать, что черный – это цвет. Черный снова обрел статус, которым он обладал в течение веков или даже тысячелетий, – статус цвета в полном смысле этого слова и даже полюса силы во всех цветовых системах. Как и его собрат, белый, с которым, однако, он был связан далеко не всегда, черный постепенно утрачивал цветовой статус в период, начавшийся на исходе Средневековья и продлившийся до XVII века: когда появились печатная книга и гравюра – текст и изображение, нанесенные черной краской на белую бумагу, – эти два цвета заняли особое положение; а затем Реформация и научный прогресс вывели их за рамки цветового мира. В самом деле, когда в 1665–1666 годах Исаак Ньютон открывает цветовой спектр, тем самым он создает новый цветовой порядок, в котором больше нет места ни для белого, ни для черного. Это настоящая революция в хроматическом делении цветов.
В течение более чем трех столетий черное и белое воспринимались и использовались как «не-цвета», иначе говоря, они вдвоем составили свой особый мир, противоположный миру цвета: «черно-белое» с одной стороны, «цветное» – с другой. В Европе это противопоставление было естественным для дюжины поколений, и пусть сегодня оно практически вышло из обихода, все же мы не находим его абсурдным. Но наше восприятие изменилось. Все началось с художников 1910-х годов, постепенно вернувших черному и белому полноправный хроматический статус, которым они обладали до позднего Средневековья. Примеру художников последовали ученые; одни лишь физики долгое время отказывались признать за черным статус цвета. Наконец новые взгляды распространились и в широкой публике, так что сейчас у нас уже нет оснований для того, чтобы в социальных кодах и в повседневной жизни противопоставлять цветной мир черно-белому. Лишь в отдельных областях, таких как фотография, кино, пресса и книгоиздание, эта оппозиция еще сохраняет смысл.
Таким образом, название нашей книги – не ошибка или же сознательная провокация. И не отсылка к знаменитой выставке, организованной в конце 1946 года в Париже галереей Маг, – выставке, которая имела дерзость заявить: «Черный – это тоже цвет». Это сенсационное заявление должно было не только привлечь внимание публики и прессы, но и выразить точку зрения, не совпадавшую с тем, что преподавали тогда в художественных школах или писали в трактатах о живописи. Возможно, участники выставки с опозданием в четыре с половиной века захотели вступить в полемику с Леонардо да Винчи – первым из художников, который еще в конце XV века сказал: черный – это, по сути, не цвет.
«Черный – это цвет»: сегодня такое утверждение воспринимается как очевидность, даже как банальность; сейчас провокацией было бы утверждать обратное. Однако задача нашего исследования лежит в иной плоскости. Его название отсылает не к выставке 1946 года, не к изречению великого Леонардо, а всего лишь к названию нашей предыдущей книги: «Синий. История цвета», вышедшей в 2000 году в этом же издательстве. «Синий» встретил благожелательный прием как в научном сообществе, так и у широкой публики, и у меня возникла мысль написать такую же книгу, посвященную черному цвету. Это не значит, что я задумал целую серию книг, в которой каждый том был бы посвящен истории одного из шести «основных» (белый, красный, черный, зеленый, желтый, синий), а затем и одного из пяти «второстепенных» (серый, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый) цветов в западноевропейской культуре. Создавать параллельные монографии было бы пустым делом: ведь любой цвет не существует сам по себе, он обретает смысл, «функционирует» а полную силу во всех аспектах – социальном, художественном, символическом – лишь в ассоциации либо в противопоставлении с одним или несколькими другими цветами. По этой же причине его нельзя рассматривать обособленно. Говорить о черном, как станет ясно из последующих страниц, значит – неизбежно – говорить о белом, красном, коричневом, фиолетовом и даже синем. Вот почему читатель будет иногда встречать здесь то, что уже знакомо ему по книге об этом последнем цвете. Надеюсь, мне это простят: ведь я не мог иначе. Долгое время синий, редкий и нелюбимый цвет, в Западной Европе считался «заменителем» либо особым типом черного. А значит, истории этих двух цветов практически неразделимы. Если, как надеется мой издатель, за первыми двумя книгам последует третья (о красном цвете? о зеленом?), она, несомненно, будет выстроена вокруг тех же проблем и на основе тех же документальных материалов.
Подобные исследования, обладающие лишь внешними (и только внешними) признаками монографии, должны стать кирпичиками в здании, о строительстве которого я мечтаю вот уже четыре десятилетия: истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Даже если, как мы увидим на последующих страницах, я по необходимости буду заглядывать в более далекие и более близкие к нам эпохи, мое исследование будет разворачиваться именно в этих (уже достаточно широких) хронологических рамках. Оно также будет ограничиваться обществами стран Западной Европы, поскольку, на мой взгляд, проблемы цвета – это прежде всего проблемы общества. А я, как историк, не обладаю достаточной эрудицией для того, чтобы рассуждать о всей планете, и не имею желания переписывать или пересказывать с чьих-то слов работы ученых, занимающихся неевропейскими культурами. Чтобы не городить чушь, чтобы не красть у коллег, я ограничиваюсь тем материалом, который мне знаком и который четверть века был темой моих семинарских курсов в Практической школе высших исследований и в Высшей школе социальных наук.
Попытаться создать историю цвета, даже в отдельно взятой Европе, – дело не из легких. А точнее, неимоверно сложная задача, за которую до недавнего времени не решались взяться ни историки, ни археологи, ни специалисты по истории искусства (в том числе и живописи!). Их можно понять: на этом пути они столкнулись бы со множеством трудностей. Об этих трудностях стоит сказать в предисловии, поскольку они – важная часть сюжета нашей книги и помогут нам понять, как возникла диспропорция между объемом наших знаний и тем, чего мы не знаем. Тут скорее, чем где-либо, стирается грань между историей и историографией. Так давайте сейчас забудем об истории черного цвета и кратко расскажем о некоторых из этих трудностей. Они бывают трех типов.
Во-первых, это проблемы идентификации: в памятниках, произведениях искусства, объектах и изображениях прошлых веков цвета предстают перед нами не в их первоначальном состоянии, а такими, какими их сохранило для нас время. Однако воздействие времени, в чем бы оно ни выражалось – в химических реакциях, которым подвержены красители, либо во вмешательстве людей, которые век за веком обновляли, переделывали по-своему, покрывали лаком, соскребали тот или иной слой краски, оставленный предыдущими поколениями, – само по себе является частью истории документа. Вот почему, когда мне сообщают о лабораторных экспериментах, основанных на новейших технологиях и ставящих себе целью «реставрировать» или, что еще хуже, «вернуть в изначальное состояние» цвета на старых полотнах, я, несмотря на рекламную шумиху, отношусь к таким затеям с большой настороженностью. Подобный научный позитивизм представляется мне бесплодным, опасным и несовместимым с миссией историка. Воздействие времени – тоже предмет нашего исследования. Так зачем игнорировать его, стараться приуменьшить или свести на нет? Историческая реальность включает в себя не только изначальное состояние объекта, но и его изменения. Давайте не забывать об этом и не увлекаться бездумным реставрированием.
Не забудем и о том, что сегодня мы видим произведения искусства, изображения и краски, пришедшие из прошлого, при свете, не имеющем ничего общего с условиями освещения, которые были известны в Античности, в Средневековье или в раннее Новое время. Свет от факела, масляной лампы или свечи несравним с электрическим. Факт, казалось бы, очевидный, но кто из историков считается с этой очевидностью? В итоге дело доходит до абсурда. Возьмем хотя бы недавнюю реставрацию сводов Сикстинской капеллы: какие чудеса техники и сколько шума в средствах массовой информации ради того, чтобы «вернуть краскам Микеланджело первозданную свежесть и чистоту»! Правда, эти неимоверные усилия оказываются тщетными, если мы рассматриваем или изучаем открывшиеся слои краски при электрическом освещении. Разве такой свет может дать истинное представление о красках Микеланджело? Разве замысел художника искажается при этом не сильнее, чем время и люди успели исказить его за все минувшие столетия? Сама судьба произведения искусства вызывает тревогу: вспомним, что наскальные рисунки в пещере Ласко и другие доисторические памятники, которые дошли до нас неповрежденными, оказались под угрозой разрушения из-за чрезмерного интереса к ним со стороны наших современников.
И еще о проблемах идентификации: заметим, что с XVI века историки и археологи привыкли работать по черно-белым изображениям, сначала гравюрам, потом фотографиям. Об этом мы подробно поговорим в четвертой и пятой главах нашей книги. А сейчас напомним только, что в течение четырех столетий все визуальное наследие прошлого, в том числе и живопись, изучалось не иначе как в черно-белом варианте, по репродукциям и книгам. В итоге мышление и восприятие историков тоже стали черно-белыми… Проще говоря, до недавнего времени ученые воспринимали и исследовали прошлое либо как мир, состоящий из черных, белых или серых изображений, либо как мир, где цвет полностью отсутствовал.
Появление «цветной» фотографии мало что изменило в этой ситуации, по крайней мере на сегодняшний день. С одной стороны, жизни одного-двух поколений было недостаточно, чтобы избавиться от шаблонов в восприятии и в интерпретации фактов; с другой стороны, доступ к цветным фотоматериалам долгое время оставался роскошью, доступной лишь немногим. Даже просто заказать диапозитивы в музее, в библиотеке или на выставке для молодого ученого или студента было очень трудным, почти невозможным делом. Приходилось либо преодолевать бесчисленные бюрократические препоны, либо раскошеливаться. Вдобавок издатели журналов и составители научных сборников по финансовым соображениям часто были вынуждены отказываться от цветных иллюстраций. Из-за разного рода проблем – финансовых, бюрократических, юридических – в области гуманитарных наук возник огромный разрыв между передовыми техническими средствами исследования и кустарными методами, которыми приходилось пользоваться ученым при работе с визуальными документами минувших эпох. К сожалению, сегодня эти проблемы еще не до конца преодолены, более того, к прежним правовым барьерам добавились новые.
Следует упомянуть и о трудностях методологического порядка. Едва ли не всегда историк цвета оказывается в тупике, пытаясь понять роль и принцип действия цвета в том или ином изображении, объекте или произведении искусства: перед ним встает множество разнообразных проблем – технических, химических, иконографических, эстетических, связанных со свойствами материалов и с символикой. Как нужно строить исследование? Какие вопросы задать и в какой очередности? Ни один исследователь, ни один научный коллектив до сих пор не предложили приемлемую шкалу измерения, которой могло бы пользоваться все научное сообщество. А в отсутствие четких параметров исследования любой ученый – не исключая и меня самого – склонен выбирать из многообразия фактов только то, что необходимо для подтверждения выдвигаемой им теории, и игнорировать все то, что заставляет в ней усомниться. Такой подход, хоть он и является самым распространенным, нельзя не назвать порочным.
Вдобавок документы, созданные тем или иным социумом, будь они текстовыми или визуальными, никогда не бывают нейтральными и однозначными. Каждый документ обладает собственной спецификой и дает собственную интерпретацию реальности. Специалист по истории цвета, как и любой другой историк, должен с этим считаться и признавать, что у каждой категории документов есть свои средства кодификации и свои правила функционирования. У текстов и у изображений совершенно разная система понятий, поэтому их нельзя изучать и использовать, прибегая к одним и тем же методам. А мы нередко забываем об этом, в частности когда, вместо того чтобы находить информацию об изображениях внутри них самих, механически переносим на них информацию, которую черпаем из других источников, например из текстов. Признаться, иногда я завидую исследователям первобытного общества, которые, не располагая никакими текстами, должны анализировать наскальные рисунки, находить в самих этих изображениях отправные точки для гипотез, поводы к размышлениям, возможные варианты смысла. Историкам стоило бы воспользоваться теми же методами, по крайней мере на начальном этапе исследования.
Но в любом случае историкам необходимо отказаться от поисков какого бы то ни было «реалистического» значения цвета в изображениях и памятниках искусства. Визуальный документ, созданный в эпоху Античности, в Средние века или в Новое время, никогда не «фотографирует» реальность. Не в этом его задача, не эту функцию призваны выполнять его формы и его краски. Например, будет наивным анахронизмом думать, что черная дверь на миниатюре XIII века или на живописном полотне XVII века изображает настоящую дверь, которая и вправду была черного цвета. Тот, кто так думает, вдобавок совершает и методологическую ошибку. На любом изображении дверь бывает черной прежде всего потому, что ее задача – контрастировать с другой дверью либо окном или же каким-то иным предметом, выкрашенным в белый либо красный цвет или же в другой оттенок черного; причем вторая дверь либо окно может присутствовать как на этом, так и на каком-то другом изображении, которое представляет собой отклик на первое либо призвано полемизировать с ним. Никакое изображение, никакое произведение искусства не воспроизводит реальность со скрупулезной хроматической точностью. Это относится и к документам былых веков, и к самым современным фотографиям. Давайте представим себе, что через двести или триста лет какой-нибудь историк цвета решит изучать цветовой мир, окружавший нас в 2008 году, по фотографиям, модным журналам или кинофильмам: он увидит буйство красок, не имеющее ничего общего с хроматической реальностью, в которой мы живем сейчас, по крайней мере в Западной Европе. Вдобавок в изучаемом им материале будут подчеркнуты такие характеристики, как светимость, яркость и насыщенность цвета, а многочисленные нюансы серого, занимающие главное место в нашей повседневной жизни, будут приглушены либо вовсе скрыты.
Сказанное выше можно отнести не только к изображениям, но и к текстам. Всякий письменный документ дает специфическую и искаженную картину реальности. Если автор средневековой хроники утверждает, что король надел черную мантию, это еще не значит, что мантия действительно была черной. Но это и не позволяет утверждать, что мантия была другого цвета. Просто мы не можем ставить вопрос таким образом. Любое описание, любое упоминание цвета несет на себе культурную и идеологическую нагрузку, даже если мы имеем дело всего-навсего с описью имущества или с обычным нотариальным актом. Упоминание или отсутствие упоминания о цвете того или иного предмета уже само по себе многозначительный факт, в котором отражаются экономические, политические и социальные задачи либо символические смыслы, вписанные в некий точный контекст. Чрезвычайно важен также и выбор слова, обозначающего цвет: почему именно это слово, а не какое-либо другое должно было сообщить нам о природе, качестве и функции данного цвета. Иногда между реальным цветом и цветом, фигурирующим в названии предмета, пролегает целая пропасть, а порой смысл названия выхолащивается, превращаясь в надпись на этикетке. Так, мы с незапамятных времен называем «белым вином» напиток, не имеющий никакого отношения к белому цвету.
Третий тип трудностей – гносеологического порядка. Мы не можем применять к изображениям, памятникам и предметам, созданным в прошедшие века, наши современные определения, концепции и классификации цвета. У обществ прошлого эти критерии были иными (а у будущих обществ, возможно, появятся свои…). При исследовании артефакта историк (а историк искусства, возможно, чаще других) постоянно рискует допустить анахронизм. Но когда речь идет о цвете, о его определениях и классификациях, этот риск значительно возрастает. Вспомним, например, что долгие века черный и белый считались хроматическими цветами; что до XVII века люди не знали о существовании цветового спектра и спектрального порядка цветов; что только тогда, в XVII веке, возникло и начало закрепляться разделение цветов на основные и дополнительные, а окончательно оно было признано лишь в XIX веке; что противопоставление холодных и теплых тонов – чистая условность, которая менялась от эпохи к эпохе и от общества к обществу… Например, в Средние века и в эпоху Возрождения в Западной Европе синий считался теплым цветом, а в отдельные периоды даже самым теплым из цветов. Следовательно, если некий историк живописи возьмется изучать соотношение теплых и холодных тонов на картине Рафаэля или Тициана, наивно полагая, что в XVI веке синий, как в наши дни, считался холодным цветом, он совершит непростительную ошибку.
Разделение цветов на теплые и холодные, на основные и дополнительные, спектр, хроматический круг, законы цветовосприятия и одновременного контраста – не вечные истины, а всего лишь этапы в непрерывно развивающейся истории познания. Поэтому не следует обращаться с ними бесцеремонно и своевольно, неосторожно применять их к социумам прошлых веков.
Возьмем простой пример, относящийся к спектру. Нам, современным людям, знающим об опытах Ньютона и спектральном распределении цветов, представляется неопровержимым фактом, что место зеленого в спектре – где-то между желтым и синим. Подтверждение этому мы видим сплошь и рядом: в общепринятых правилах, в научных выкладках, в «наблюдениях за природой» (радуга), в повседневном быту. Но в эпоху Античности или Средневековья все было иначе. Ни в одной из античных или средневековых классификаций цвета зеленый не занимает место между желтым и синим. Два последних цвета находятся на разных шкалах и в разных плоскостях, а значит, у них не может быть точки пересечения, «промежуточной территории», которой мог бы стать зеленый. По тогдашним представлениям, зеленый цвет тесно связан с синим, а вот с желтым у него нет ничего общего. До XV века ни в одном руководстве по приготовлению красок, как для бытового окрашивания, так и для живописи, не указывается, что для получения зеленого цвета надо смешать синюю краску с желтой. Разумеется, живописцы и красильщики не могут обойтись без зеленой краски, но производится она другим способом. То же происходило и с фиолетовым: чтобы получить этот цвет, синюю краску обычно смешивали не с красной, а с черной. В античном и средневековом мире красок фиолетовый близок к черному и часто воспринимается как «заменитель» черного: он долго будет играть эту роль в католической литургии и в траурной одежде.
Итак, главная опасность для историка – впасть в анахронизм. Он не только не должен наделять людей прошлого своими собственными познаниями в физике и в химии красителей, он должен перестать воспринимать спектральное распределение цветов и все вытекающие из него научные теории как неопровержимую, незыблемую истину. Для него, как и для специалиста по этнологии, спектр должен стать лишь одной из существующих систем классификации цвета. Системой, которая сегодня признана всеми, доказана и подтверждена множеством экспериментов, а через два, пять или десять столетий, возможно, будет вызывать улыбку или будет объявлена безнадежно устаревшей. Ведь понятие «научного доказательства» также является фактом культуры, у него есть своя история, свое обоснование, свои идеологические и социальные задачи. Аристотель, чья теория цвета не имеет ничего общего с нашим спектром, тоже приводит «научные» (в соответствии с тогдашним уровнем знаний и возможностей для эксперимента) доказательства физической и оптической, чтобы не сказать онтологической, истинности своей классификации цветов. Дело происходит в IV веке до нашей эры, поэтому черный и белый также присутствуют в этой классификации и, более того, располагаются на ее полюсах.
Если не подвергнуть сомнению само понятие «научного доказательства», что думать о людях Античности и Средневековья (чей зрительный аппарат нисколько не отличался от нашего), воспринимавших цветовые контрасты совершенно иначе, нежели мы? Сочетание цветов, которое нам кажется резким, для них было вполне терпимым, и наоборот. Здесь будет уместно снова вспомнить о зеленом. Скажем, в Средние века совмещение красного и зеленого (самое распространенное сочетание цветов в одежде от эпохи Карла Великого до эпохи Людовика Святого) воспринималось не как контрастное, а почти как монохромное. Для нас же речь идет о шокирующем контрасте одного из основных цветов с одним из дополнительных. Зато совмещение желтого и зеленого, двух соседних цветов спектра, кажется нам пусть и контрастом, но приемлемым, не оскорбляющим наш взгляд. А вот для Средневековья это было самое шокирующее сочетание цветов, какое только можно себе представить: его использовали в костюмах шутов, а также для того, чтобы отметить людей, представлявших общественную опасность, преступников или одержимых дьяволом!
Все эти идентификационные, методологические и гносеологические трудности показывают нам, какую важную роль в вопросах, связанных с цветом, играет культурный релятивизм. Нельзя изучать эти вопросы вне времени и пространства, за рамками определенного культурного контекста. Вот почему история цвета должна быть прежде всего историей общества. Для историка, так же как, впрочем, для социолога и антрополога, цвет – явление прежде всего социальное. Именно общество «производит» цвет, дает ему определение и наделяет смыслом, вырабатывает для него коды и ценности, регламентирует его применение и его задачи. Именно общество, а вовсе не художник и не ученый и уж тем более не биологический аппарат человека и не созерцаемая нами картина природы. Проблемы цвета – это всегда социальные проблемы, ибо человек живет не обособленно, а внутри общества. Если мы не признаем это, то можем легко скатиться к примитивному нейробиологизму или увязнуть в опасном сциентизме, и тогда все наши старания создать историю цвета неминуемо потерпят крах.
Чтобы выполнить свою миссию, историк цвета должен проделать двойную работу. С одной стороны, ему нужно смоделировать то, что могло быть миром цвета для различных обществ, предшествовавших нашему, включив в свою модель все составляющие этого мира – лексику и подбор названий, химию красок и разнообразную технику окрашивания, регламентации ношения одежды и коды, которые лежат в основе такой регламентации, место, отводимое цвету в повседневной жизни и в материальной культуре, декреты правителей, нравоучения духовных лиц, теории ученых, творения художников. Областей для сбора и анализа данных очень много, и всюду возникают самые разнообразные вопросы. С другой стороны, погрузившись в прошлое и замкнувшись в пределах одной-единственной культуры, историк должен изучать ее обычаи, коды и системы, выяснять причины изменений и исчезновений, исследовать инновации или взаимопроникновения, которые имели место во всех аспектах существования цвета, доступных исторической науке.
При этом двустороннем исследовании нельзя пренебрегать никакими фактами: ведь цвет, по сути, пронизывает собой весь комплекс жизненных явлений, все виды деятельности. Но есть сферы, где поиск оказывается особенно успешным. Например, лексика: здесь, как, впрочем, и везде, история слов неизменно обогащает наши знания о прошлом обширной и полезной информацией; если речь идет о цвете, она наглядно показывает нам, что в любом обществе изначальная функция цвета – классифицировать, метить, оповещать, вызывать ассоциации с чем-либо или противопоставлять чему-либо. Другой источник сведений – история красильного дела, тканей и одежды. Ведь именно в этой области, более чем в сфере художественного творчества, одна группа проблем – вопросы химии, технологии, свойства материалов – теснее всего связана с другой – с проблемами социальными, идеологическими, вопросами символики.
Наглядным примером этой закономерности может служить история черного цвета в западноевропейских странах, которой мы посвятили настоящую книгу.
Первозданная тьма. От начала начал до XI века
«В начале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил свет от тьмы»[1]. Если верить первым строкам «Бытия», тьма возникла раньше света, она обволакивала землю еще тогда, когда на земле не было ничего живого; для того чтобы на земле появилась жизнь, необходим был свет: Fiat lux! Итак, согласно Библии или по крайней мере ее рассказу о сотворении мира, черный возник раньше всех остальных цветов. Он – первозданный цвет, но он также и цвет, изначально наделенный негативным статусом: во тьме жизнь невозможна; свет хорош, а тьма – нет. Всего пять библейских стихов – и в цветовой символике черный становится бесполезным, несовместимым с жизнью цветом.
Картина останется прежней, если мы заменим акт творения на Большой взрыв и перейдем из области теологии в область астрофизики. Эта наука также утверждает, что тьма предшествовала свету: когда сразу после своего рождения Вселенная начала расширяться, вокруг нее уже существовала некая «темная материя»[2]. По крайней мере, так сказано в упрощенческой теории Большого взрыва, которая представляет рождение Вселенной как взрыв атома или простого вещества. Впрочем, эта модель, некогда пользовавшаяся таким успехом, сегодня отвергнута большинством физиков: по-видимому, Вселенная все же возникла не в одно мгновение. Но даже если предположить, что у Истории не было начала, что Вселенная вечна и бесконечна, перед нашими глазами снова и снова встает эта картина – мир, порожденный тьмой, то есть материей, поглощающей всю электромагнитную энергию, какая в нее поступает; беспросветно темный мир, изначальный и в то же время пугающий; эта двойственная символика будет сопровождать черный цвет на протяжении всей его истории.
Мифология тьмы
Такую картину можно найти не только в Библии или в астрофизике. Большинство мифологических систем, когда им приходится описать или объяснить рождение мира, прибегают к тому же образу: праматерью всего сущего была ночь, бескрайняя изначальная ночь, и жизнь обрела форму, возникая из тьмы. Например, в древнегреческой мифологии Никта, богиня ночи, – дочь Хаоса, то есть первозданного Ничто, и в то же время мать Урана и Геи, то есть неба и земли[3]. Ее обитель – пещера на западном краю мира; она пребывает там в течение дня, а затем свершает свой путь по небу в черном одеянии на колеснице, влекомой четырьмя конями того же цвета. В некоторых вариантах мифа у нее черные крылья, в других у нее настолько мрачный и устрашающий вид, что ее боится сам Зевс. В архаическую эпоху во всей Греции ей приносят в жертву овец и ярок черного цвета. Помимо неба и земли, Никс, хтоническое божество, породила еще много других сущностей; в разных источниках они называются по-разному, но у всех есть более или менее выраженная символическая связь с черным цветом – сон, сновидения, тоска, тайна, разлад, томление, старость, беда и смерть. Некоторые авторы причисляют к дочерям Ночи еще и эриний, а также мойр, владычиц людских судеб, и, наконец, Немесиду, в которой воплощена неоднозначная идея божественного возмездия: она карает за преступления и за деяния, угрожающие космическому порядку. Святилище Немесиды находилось в маленьком аттическом городке Рамнунте; там можно было увидеть гигантскую статую богини, изваянную в V веке до нашей эры великим Фидием из цельного куска черного мрамора.
Черный цвет как обозначение первозданной тьмы встречается и в других мифологиях, не только в Европе, но также в Азии и Африке. Часто он бывает связан с идеей плодородия, как, например, в Древнем Египте, где земледельцы каждый год ждут, когда разлившийся Нил покроет их поля слоем плодородного черного ила; противоположность такого черного – красный, цвет пустыни с ее бесплодными песками. В других культурах носителями этой функции черного выступают большие темные тучи, готовые пролиться на землю дождем, чтобы оплодотворить ее. Черный цвет встречается также на небольших статуэтках доисторической эпохи, изображающих богиню-мать, а также на более поздних изваяниях богинь, которые ассоциируются с идеей плодородия (Кибелы, Деметры, Цереры, Гекаты, Исиды, Кали): иногда они представлены чернокожими, держащими в руках черные предметы, и животные, которых надо приносить им в жертву, должны быть того же цвета. Представления о черном как о цвете плодородия прослеживаются до самого Средневековья, где они будут связаны с символикой стихий и с ее помощью закрепятся надолго: огонь – красный, вода – зеленая, воздух – белый, а земля – черная. Эту символику, созданную еще Аристотелем за четыре века до нашей эры, откроют заново великие энциклопедисты XIII века, в частности Бартоломей Английский[4], и она будет присутствовать в печатных книгах по эмблематике и трактатах по иконологии конца XVI века[5]. Черный как цвет земли, ассоциируемый с плодородием, часто будет выступать в дуэте с красным, который символизирует жизненную силу, будь то пламя или кровь. Ни тот, ни другой в данном случае не содержат в себе ничего негативного или разрушительного. Напротив, эти два цвета воспринимаются как два источника жизни, а их союз свидетельствует о процветании.
О том, что черный, цвет первоначала, символизировал плодородие, мы можем судить и по изображениям тройственной структуры многих античных и средневековых социумов: священнослужители, как правило, обозначаются белым цветом, воины – красным, а ремесленный люд, производящий материальные ценности, – черным. Особенно четко эта привязка трех цветов к трем классам общества была выражена в Древнем Риме на раннем этапе его истории[6]. Ее можно встретить и у многих греческих авторов, описывающих устройство идеального города[7], а позднее, в эпоху средневекового феодализма, – в хрониках и литературных текстах, но также и на изображениях: белым цветом обозначены молящиеся (oratores), красным – те, кто сражается (bellatores), черным – те, кто трудится (laboratores)[8]. Их принадлежность к соответствующим сословиям распознается по одежде, цвету волос, всевозможным эмблемам и атрибутам, которые, понятно, на разных изображениях могут быть разными[9]. Среди исследователей есть мнение, что цветовая триада как символ классового разделения общества имеет индоевропейские корни[10]; эта точка зрения выглядит обоснованной, однако символика черного цвета в его связи с полезным трудом или с плодородием, по-видимому, восходит к еще более далекому прошлому.
Длительное время черный, цвет первоначала, ассоциировался с пещерами и другими местами, которые, как считается, открывают доступ к недрам земли, – звериными норами, гротами, пропастями, подземными или горными туннелями. Хоть эти пустоты и лишены света, в них заключена оплодотворяющая сила: здесь происходят чудесные рождения и превращения, здесь скрыты источники энергии, и, наконец, здесь находятся святилища – вероятно, древнейшие места отправления культа, какие знало человечество[11]. От палеолита до начала исторических времен именно здесь, в подземельях, вершились почти все магические либо религиозные церемонии. Позднее гроты и пещеры стали любимым местом рождения для богов и героев, затем превратились в убежища, где можно укрыться от опасности, восстановить силы, наскоро совершить религиозный обряд. В дальнейшем, вероятно под влиянием скандинавских мифологий, культовые церемонии стали проходить в лесах, но пещеры с царящими в них тьмой или таинственным полумраком по-прежнему считались местами священными.
Однако, как всегда бывает в мифологиях и в религиях, пещеры обладают двойственной символикой, в которой ощутимо присутствует негативная составляющая. Подземелья часто ассоциируются со страданием и несчастьем. Там обитают чудовища, там держат пленников, там скрыты всевозможные опасности, которые кажутся вдвое страшнее оттого, что в подземелье темно. Вспомним «миф о пещере» из платоновского диалога «Государство» – сочинения, ставшего одной из основ западноевропейской культуры. В нем описывается именно такая пещера – место страдания и искупления, куда боги заточили души людей и надели на них оковы; люди замечают на стене движущиеся тени, которые символизируют обманчивый мир видимостей; узники хотели бы сбросить оковы и выйти из пещеры, чтобы узреть истинный мир, мир Идей, но не могут это сделать[12]. В данном случае тьма не является скрытым источником жизни или энергии, напротив, она превращает пещеру в тюрьму, место, где наказывают и истязают, в гробницу или в ад. Здесь черный цвет говорит о смерти.
От мрака к многоцветью
Человек всегда боялся темноты. Ведь он не принадлежит и никогда не принадлежал к числу ночных животных, и даже если за долгие века ему и удалось более или менее приспособиться к ночному мраку, он был и остается существом дневным, радующимся свету, ясному небу и ярким краскам вокруг[13]. И пусть со времен Античности поэты по примеру Орфея воспевали ночь, «мать богов и людей, первоначало творения», простые смертные всегда боялись ее. Боялись ночного мрака и таившихся в нем опасностей; боялись хищников, которые живут и охотятся в темноте; боялись животных и птиц, чья шерсть или оперение цветом напоминает о мраке; боялись ночи, несущей кошмарные сны и погибель. Не надо быть помешанным на архетипах, чтобы прийти к выводу: эти страхи восходят к далеким, очень далеким временам, когда люди еще не научились добывать огонь, а вместе с ним и свет. Признаюсь, я никогда не верил в существование некоей универсальной цветовой символики, независимой от эпохи и общей для всех цивилизаций. Напротив, я настаивал на том, что проблемы и задачи цвета неразрывно связаны с культурой, а следовательно, историк в своей работе обязан учитывать специфику эпохи и географического региона. И тем не менее должен сказать: существуют такие хроматические ассоциации, которые являются общими почти для всех социумов. Их немного: огонь и кровь в представлении людей ассоциируются с красным цветом, растительность – с зеленым, свет – с белым, а ночь – с черным. Ночь при всей ее неоднозначности всегда и всюду воспринимается скорее как нечто пугающее или разрушительное, чем плодотворное или умиротворяющее.
Невозможно переоценить тот поворот в истории человечества, какой полмиллиона лет назад совершили наши предки, научившись добывать огонь. Именно укрощение огня отделило Homo erectus от животного и превратило его в человеческое существо. Для человека стало возможным не только согреваться, приготовлять пищу и возводить алтари для богов, но также – и это самое важное – обеспечивать себе освещение. Непреодолимый прежде страх темноты начал ослабевать, а вместе с ним и ужас, который прежде вызывали у людей ночь, темные помещения и подземелья. Мрак уже не был беспросветным.
Далее, с эпохи позднего палеолита, когда люди научились пользоваться огнем для самых разных целей, они стали изготавливать искусственные красители, сжигая растения или минералы. Первым таким красителем, вероятно, был уголь, который получали путем сжигания без доступа воздуха кусков дерева, древесной коры, корней, скорлупы или косточек фруктов. В зависимости от сырья и степени прокаливания черный цвет получался более или менее ярким, более или менее насыщенным. С помощью этой техники художники палеолита обогащали свою палитру, в которой прежде присутствовали лишь красители, взятые непосредственно у природы. Теперь живописцы каменного века могли создавать разнообразные оттенки черного. Позднее, когда они научились сжигать также кости, зубы и рога животных, их черные тона стали еще ярче. Наконец, мастера взялись за минералы: камни растирали, толкли, подвергали окислению, добавляли в них связывающие вещества и получали новые красители, если не более яркие, то, во всяком случае, более прочные. Для получения черной краски вместо древесного угля все чаще стали использовать оксид марганца. Так, в наскальных картинах пещеры Ласко, созданных 15 000 лет назад, в этом великолепном и разнообразном бестиарии, главным украшением которого является черный бык, в изображении большинства животных была использована черная краска из оксида марганца. Однако это не значит, что краски на основе древесного угля полностью вышли из употребления. В гроте Нио (департамент Арьеж), в знаменитой «Черной комнате» (она находится в 700 метрах от входа), можно увидеть прекрасно сохранившиеся наскальные рисунки. На них изображено множество животных черного цвета (бизонов, лошадей, каменных баранов и даже рыб), которые нарисованы почти исключительно красками из древесного угля. А ведь эти рисунки были созданы на два или три тысячелетия позже, чем картины в пещере Ласко[14].
За долгие века палитра древних художников неуклонно расширяется, а красителей становится все больше. Живописцы Древнего Египта уже имеют в своем распоряжении огромный выбор красок, причем многие из пигментов – новые, их изобрели сравнительно недавно. Но для создания черного цвета, как и в более ранние эпохи, чаще всего используют древесный уголь и оксид марганца. Даже для производства чернил (которые появились значительно позже) применялся все тот же древесный уголь либо ламповая сажа, разведенные водой и разбавленные костным клеем либо аравийской камедью. В Египте впервые появляется новый цвет – серый; различные нюансы серого занимают значительное место в росписи погребальных камер. Чтобы получить серую краску, египтяне смешивают древесный уголь со свинцовыми белилами.
В некоторых странах Ближнего Востока черную краску делают также из битума, вязкого вещества, выступающего на поверхности почвы в нефтеносных регионах. А в Греции и Риме художники активно используют сажу, особенно на небольших пространствах, и с помощью некоторых сортов древесного угля создают великолепные оттенки черного. Самый изысканный краситель получают, сжигая высушенные побеги виноградной лозы: он дает глубокий черный цвет с синеватым отливом, весьма ценимый римлянами. Конечно, наиболее красивый оттенок черного дает жженая слоновая кость, но употребление этой краски ограничено из-за слишком высокой цены. Однако для приготовления большинства красок в черно-коричневой гамме художники все же используют оксид марганца. Стоит он недешево, поскольку руду приходится ввозить издалека (из Испании или из Галлии, например), и дает более матовые оттенки черного, чем пигменты растительного происхождения или ламповая сажа.
В изготовлении бытовых красок технический прогресс развивается не такими быстрыми темпами. Правда, приготавливать краски люди научилось достаточно рано, но красильное дело как ремесло оформилось только в эпоху неолита, когда наши предки перешли на оседлый образ жизни и началось производство текстиля в больших масштабах. Отныне для окрашивания тканей требуются особые профессиональные навыки; пигменты растительного или животного происхождения больше не используются в природном виде; сначала их надо выделить из сырья, освободить от примесей, подвергнуть химической обработке, затем пропитать ими волокна тканей и попытаться закрепить их там. Это сложный процесс, занимающий много времени. Раньше всего красильщики научились обращаться с красными пигментами – мареной, кермесом, багрянкой – и не растеряли свое мастерство на протяжении нескольких тысячелетий. А вот окрашивание в черное долго оставалось исключительно трудным делом – во всяком случае, в Западной Европе.
Первые красители на основе древесного угля или сажи были летучими и неровно ложились на ткань. Эти краски никогда не выходили из употребления: еще на излете Средневековья люди подавали в суд на красильщиков, которые утверждали, что используют в работе дорогостоящие устойчивые красители, а на самом деле красили простой сажей; однако их постепенно начинают вытеснять пигменты, изготовленные на основе жженой коры или корней деревьев, богатых танином: ольхи, ореха, каштана, некоторых разновидностей дуба. Но такие растительные красители выгорают на солнце, выцветают от стирки или просто от длительного использования. В некоторых регионах люди быстро научились добавлять в них болотный или речной ил, богатый солями железа, выполняющими роль протравы. Однако в других местах это было невозможно. И красильщики изобрели новый пигмент из очень дорогого сырья. Это сырье – так называемый чернильный орешек, или галл, маленький шарообразный нарост, появляющийся на дубовых листьях. В эти листья некоторые насекомые откладывают яйца; когда появляются личинки, дерево начинает выделять особый сок; затвердевая, он образует вокруг каждой личинки нечто вроде кокона. Галлы надо собирать до наступления лета, когда личинка еще находится внутри, затем медленно высушивать. Тогда орешек сохранит весь свой богатый запас танинов и даст красивую устойчивую черную краску. Но такая краска слишком дорого стоит, поэтому ее применение ограничено.
Из-за всех этих трудностей в Европе от ранней Античности до позднего Средневековья красильщики очень редко добивались ярких, насыщенных черных тонов. Черный цвет, который у них получался, больше напоминал коричневый, серый или темно-синий; к тому же краска не всюду впитывалась одинаково, плохо закреплялась и придавала ткани неприятный грязновато-тусклый вид. Вот почему черную одежду носили только люди низших социальных классов, те, кто занимался грязной работой либо зазорным ремеслом; все прочие надевали черный только при особых обстоятельствах, в знак траура или в знак покаяния. Лишь черный мех считается изысканным, в особенности мех соболя: его цвет – самый красивый из всех оттенков черного, какие способен произвести животный мир.
От палитры к словарю
У древних цивилизаций восприимчивость к черному была глубже и многостороннее, чем у современных социумов. Не было такой области жизни, в которой существовал бы один-единственный, универсальный черный цвет: всюду были распространены различные тона и оттенки черного. Борьба с мраком, страх темноты, стремление к свету постепенно научили сначала доисторические племена, затем людей Античности различать мельчайшие градации и нюансы тьмы, и в итоге они создали целую шкалу разных оттенков черного. Самое раннее свидетельство об этом – живопись эпохи палеолита: уже тогда у художников было несколько красителей для создания черного цвета, а впоследствии их число медленно, но неуклонно возрастало. А спустя несколько тысячелетий, в Древнем Риме, живописцы располагают целой гаммой оттенков черного: матовыми и блестящими, слабыми и насыщенными, резкими и мягкими, с сероватым, коричневатым или даже синеватым отливом. Причем художники тех времен, в отличие от красильщиков, умеют обращаться со всем этим богатством и с помощью разработанных ими технических приемов добиваются нужного колорита[15].
Еще одно доказательство того, что древним были известны разные тона черного, мы находим в лексике. Идет ли речь о цветовых нюансах в произведениях живописи или об оттенках черного, встречающихся в природе, греки и римляне всегда находят разнообразные слова для их обозначения. В большинстве древних языков эта часть цветовой лексики часто оказывается богаче, нежели в современных. Однако вся эта лексика – за исключением, пожалуй, слов, обозначающих красный, – отличается изменчивостью, неточностью и удивительной неопределенностью: такое впечатление, что свойства пигментов и колористические эффекты для тогдашних людей были важнее, чем хроматическая идентичность красок. Текстура, плотность, насыщенность или блеск тона имеют первостепенное значение, а сам по себе тон вторичен. Вдобавок одно и то же слово может обозначать не один цвет, а несколько – например, синий и черный (kyanos по-гречески; caeruleus по-латыни) либо зеленый и черный (латинское viridis); и наоборот, один и тот же цветовой нюанс обозначается разными словами[16]. Отсюда и огромные, порой непреодолимые трудности, сплошь и рядом возникающие при переводе древнееврейского текста Библии и произведений греческих авторов классического периода[17].
Латинский язык несколько ближе к современным в том, что касается цветовой лексики. Однако, по-видимому, и он тоже (с помощью разнообразных суффиксов и префиксов) стремится дать нам представление прежде всего об интенсивности свечения (светлый/темный, матовый/блестящий), о текстуре краски (насыщенная/легкая) или о структуре поверхности (однородная/разнородная, плоская/рельефная), а уж потом о цвете. Если речь идет о черном, не всегда можно провести четкую хроматическую границу между ним и другими упоминаемыми цветами (коричневым, синим, фиолетовым); и еще, что гораздо важнее, существуют две разновидности этого цвета: черный матовый (ater) и черный блестящий (niger). Эта двойственность – главная характеристика черного; для обозначения красного (ruber[18]) и зеленого (viridis) достаточно одного базового термина, а у синего и у желтого вообще нет своего названия – чтобы их обозначить, прибегают к неточным определениям, которые от раза к разу могут меняться (возможно, это доказывает, что синий и желтый не пользовались у римлян большой популярностью). Зато у черного и у белого по два названия, два общеупотребительных базовых термина, и их семантическое поле достаточно разнообразно, чтобы выразить все хроматическую гамму и всю символику этих двух цветов. Ater и niger – названия черного, albus и candidus – обозначения белого.
Слово ater, предположительно этрусского происхождения, долгое время оставалось в латинском языке наиболее употребительным названием черного цвета. Вначале оно было нейтральным по смыслу, но потом все чаще стало обозначать матовый или приглушенный оттенок черного, а ко II веку до нашей эры приобрело негативную коннотацию: теперь это неприятный черный цвет, отталкивающий, грязный, печальный, даже ужасный. А вот niger, слово неизвестного происхождения, долгое время употреблявшееся гораздо реже, чем ater, вначале означало только «черный блестящий»; затем его стали применять для обозначения всех оттенков черного, упоминаемых в позитивном смысле, и, в частности, великолепных оттенков черного, какие встречаются в природе. В начале императорской эпохи оно уже стало более употребительным, чем ater, и от него произошла целая семья обиходных слов: perniger (очень черный), subniger (почти черный, фиолетовый), nigritia (чернота), denigrare (чернить, очернять) и т. д.[19]
Классическая латынь располагает также двумя базовыми терминами для определения белого цвета: albus и candidus. Первый долгое время был наиболее употребительным, а затем приобрел специфически узкий смысл – «молочно-белый» или «белый нейтральный». Второй, напротив, вначале означал только «ослепительно белый», затем стал определением для всех белых тонов, близких к цвету снега, а также оттенков, имевших особое сакральное, общественное или символическое значение[20].
В старогерманских языках также имеется по два определения для черного и для белого. Это подчеркивает значимость данных цветов для «варварских» народов, а кроме того, как и у римлян, по всей вероятности указывает на главенство цветовой триады (черный, белый, красный) над остальными цветами. Но за долгие века одно из двух определений исчезло, и сейчас в немецком, английском, нидерландском и других германских языках осталось по одному базовому общеупотребительному термину для черного и для белого: в немецком schwarz и weiss, в английском black и white и т. п. Однако в общегерманском, а позднее во франкском, саксонском, старо– или среднеанглийском, средневерхненемецком или средненидерландском языках дело обстояло иначе. До позднего Средневековья, а кое-где и дольше в различных германских языках, как в латыни, сохранялись два общеупотребительных названия для черного цвета и два для белого. Так, в древневерхненемецком есть слово swarz (тускло-черный) и слово blach (яркий черный), есть wiz (матово-белый) и blank (белоснежный). В старо– и среднеанглийском то же самое: swart означает тускло-черный, black – яркий черный, wite – матово-белый, а blank – белоснежный. Однако в разных языках этот процесс проходил с разной скоростью. Например, у Лютера мы находим одно-единственное обиходное слово для черного (Schwarz). А Шекспир несколькими годами позже все еще пользуется двумя словами для обозначения черного цвета – black и swart. В XVIII веке прилагательное swart, хоть и считается устаревшим, все еще употребляется в некоторых графствах на севере и западе Англии.
Изучая историю германских языков, мы узнаём не только о существовании двух определений для черного и для белого цветов. Нас ждет еще одно открытие: оказывается, black (ярко-черный) и blank (белоснежный) имеют общую этимологию: оба они происходят от общегерманского глагола *blik-an (блестеть). То есть первое значение этих слов связано с их яркостью, а не с их хроматической идентификацией. Здесь мы снова сталкиваемся с феноменом, который уже встречался нам в других древних языках (древнееврейском, греческом и даже латыни): в названии цвета степень его яркости играет более важную роль, чем хроматическая идентификация. Называя цвет, в первую очередь надо указать, матовый он или блестящий, светлый или темный, насыщенный или блеклый, и только потом определить, относится ли он к гамме белых тонов либо черных, красных либо зеленых, желтых либо синих. Об этом удивительном явлении в языке и в человеческом восприятии историк должен помнить постоянно, если он берется изучать не только тексты, но также изображения и произведения искусства, оставленные нам древними. В мире красок главный показатель – степень яркости. Вот почему, хотя черный – цвет мрака, существуют также «светящиеся» оттенки черного, которые светятся до того, как померкнуть, сияют перед тем, как почернеть.
За долгие века чувствительность к свету, столь важная для европейских народов Античности, успела притупиться, а терминология для обозначения черных и белых тонов стала скуднее. В языках, прежде имевших по два базовых термина для обозначения черного и белого, сохранилось только по одному[21]. Так, старофранцузский отказывается от слова ater (хотя оно еще существует в средневековой латыни) и оставляет себе одно только слово noir (neir), от латинского niger. В результате это слово берет на себя всю негативную смысловую нагрузку, которая полагается черному цвету (печальный, зловещий, безобразный, гнусный, жестокий, пагубный, дьявольский и т. д.). А для того чтобы обозначить оттенки или степень яркости (матовый, блестящий, густой, насыщенный и т. п.), приходится прибегать к сравнениям: черный, как смола, черный, как тутовая ягода, черный, как вороново крыло, черный, как чернила[22]. В современном французском языке действует тот же принцип, но сравнения далеко не такие разнообразные и впечатляющие, поскольку мы уже не различаем столько оттенков. Как если бы черный, утратив в XV–XVI веках статус цвета, вместе с ним потерял и часть своих нюансов.
Смерть и ее цвет
Черный – не только цвет ночи и тьмы, земных недр и подземного мира, но еще и цвет смерти. В эпоху неолита черные камни использовались в погребальных обрядах, иногда к ним добавляли фигурки и различные предметы очень темных цветов. Те же обычаи были распространены в исторические времена по всему Ближнему Востоку, а также в Древнем Египте. Но этот хтонический черный цвет еще не стал дьявольским или пагубным. Напротив, он ассоциируется с плодородной силой земли: он благотворен, поскольку охраняет усопшего, которого сопровождает в загробный мир, он символизирует и обещает возрождение после смерти. Вот почему в египетской живописи богов, связанных со смертью, всегда рисуют черными красками. У Анубиса, бога в облике шакала и покровителя бальзамировщиков, тело черного цвета. Обожествленные цари и царицы, предки фараона также изображаются чернокожими, и это их вовсе не принижает. В Египте цветом, вызывающим тревогу и негативные ассоциации, является не черный, а красный; но это не великолепный алый цвет солнечного диска на утренней или вечерней заре, а багровый цвет Зла, цвет бога Сета, брата и убийцы Осириса, который несет миру гибель и разрушение[23].
В Библии все иначе. Пусть даже черный обладает двойственным значением (как и все цвета), пусть даже невеста из «Песни песней» гордо заявляет: «Черна я, но красива»[24], этот цвет, как и другие темные цвета, чаще воспринимается здесь негативно: это цвет злодеев и нечестивцев, он ассоциируется с врагами Израиля и с божественным проклятием. Это также цвет первозданного хаоса, зловещей и грозной ночи, а главное, цвет смерти. Один лишь свет есть источник жизни и свидетельство присутствия Бога. Он – противоположность «тьмы» (это слово – одно из наиболее часто встречающихся в Библии), которая неизменно ассоциируется со злом, нечестивостью, наказанием и страданием. В Новом Завете идея божественного света получает дальнейшее развитие: Христос – свет миру[25]; он спасает праведников от власти зла и от «князя тьмы» (дьявола) и открывает им путь в небесный Иерусалим, где они узрят лицо Бога и более не будут иметь нужды в светильнике[26]. Соответственно, белый, цвет Христа и небесного света, – цвет славы и воскресения; черный же – цвет Сатаны, греха и смерти. Конечно, образ ада здесь не такой впечатляющий, каким станет впоследствии, и прорисован не вполне четко, однако он уже существенно отличается от ветхозаветного Шеола: это обиталище, уготованное после смерти грешникам, где их ждут мучения, где слышен «плач и скрежет зубовный»[27] – возможно, пылающая печь или огненное озеро. К непроглядной черной тьме добавляется еще красный цвет вечного пламени, которое горит, но не освещает. С самого возникновения христианства ад уже был черно-красным; эти два цвета надолго останутся цветами ада и дьявола.
В других древних религиях и мифологиях ад почти монохромный, скорее черный, чем красный. Нередко в мифологической преисподней вообще нет огня, поскольку огонь – божественная, священная стихия и злые души его недостойны, поэтому их удел – пребывать во мраке и страдать от холода. В подземном мире царят лютый холод и беспросветная тьма. Прототипом такой преисподней стал греческий аид; во всяком случае, в эпоху эллинизма он был первым в своем роде. Аид находится глубоко под землей, возле царства Ночи, в него попадают после смерти души всех умерших. От мира живых его отделяют несколько рек, в частности Ахерон, катящий свои темные илистые воды. Перевозчик Харон, безобразный старик в лохмотьях и круглой шапке, за обол переправляет умерших на другой берег в своей лодке. Но там, на другом берегу, их поджидает страж преисподней – Цербер, чудовищный трехглавый пес, из шеи которого вырастают змеиные головы. У него темная шерсть, острые зубы и ядовитая слюна. За высокими вратами заседает суд, перед которым по очереди предстают новоприбывшие. В зависимости от того, какую жизнь умерший вел на земле, его душу отправляют либо направо, в светлую обитель праведников, либо налево, в темную обитель грешников, где каждому уготовано наказание сообразно тяжести его проступков. За самые страшные злодеяния души попадают в Тартар, самую глубокую и темную часть аида, с озерами серы и кипящей смолы. Здесь томятся низвергнутые божества (гиганты, титаны) и преступники, осужденные на вечные муки (Тантал, Сизиф и Данаиды). В центре, за тройной стеной, находится дворец Аида, владыки преисподней, восседающего на троне из черного дерева. Аид – брат Зевса, его атрибут – змея, символ подземного мира, который он почти никогда не покидает. А вот его супруга Персефона живет у него лишь по шесть месяцев в году: остальное время она проводит на земле и на небе.
Образ греческой преисподней складывался постепенно. Древнейшие авторы определяют ее местоположение по-разному. Гомер утверждает, что аид находится на краю земли, за рекой Океан, где царит вечная ночь и вечно лежит туман. Гесиод помещает аид между небесным сводом и Тартаром, в некоем темном пространстве, за страной киммерийцев, куда не заглядывает солнце. По мнению других, аид – подземная страна теней, откуда растут корни земли и моря; тройная стена окружает это мрачное царство, где владычествует Эреб, сын Хаоса и брат Ночи. Однако все авторы едины в одном: цвет обители мертвых – черный.
У римлян преисподняя мало отличается от греческой; и для них тоже черный – цвет смерти. Уже в ранний период Республики черный цвет присутствует в похоронных ритуалах в разнообразных формах (статуэтки, приношения, настенные росписи). Затем, с III века до нашей эры, римские магистраты начинают надевать на похороны тогу-претексту темного цвета (praetextam portent pullam). Так зародилась европейская традиция носить траур; вначале она имела небольшое распространение, но затем стала неуклонно развиваться, захватывая все новые социальные слои и географические регионы, и дожила в Европе до наших дней. Уже в эпоху Империи знатные римляне последовали примеру магистратов: родственники усопшего носят черные одежды, причем не только на похоронах, но и в течение более или менее долгого времени после них; период траура завершается пиром, на который гости являются уже не в черных одеждах, а в белых[28].
По правде говоря, траурные одежды в Риме – скорее темные, чем черные; прилагательное pullus, которым их определяют, обозначает шерсть невзрачного темного цвета, среднего между серым и коричневым[29]. Некоторые авторы даже используют pullus как синоним ater; однако цвет надеваемой на похороны toga pulla, по-видимому, все-таки ближе к дымчато-серому, чем к полноценному черному[30]. Но тем не менее именно черный у римлян чаще всего ассоциируется со смертью, которую поэты иногда называют hora nigra, черным часом[31].
Итак, в императорском Риме черный, по всей видимости, утратил позитивный аспект (плодоносность, плодородие, связь с божеством), который был ему присущ на Ближнем и Среднем Востоке, в Египте и в архаической Греции. За обоими прилагательными, определяющими этот цвет, ater и niger, отныне тянется шлейф уничижительных переносных значений: грязный, печальный, жуткий, враждебный, коварный, жестокий, гибельный, смертоносный. Когда-то все эти негативные смыслы были связаны только с ater, а теперь и niger вызывает те же ассоциации. Многие авторы даже считают это последнее слово происходящим от глагола nocere, причинять вред[32]. Niger, черный, так же опасен (nuxius), как nox, ночь; об этой забавной этимологии вспомнят авторы христианского Средневековья, когда будут изображать олицетворенный Грех и выстраивать негативную символику черного[33].
Черная птица
Как и в греко-римском пантеоне, в пантеоне германцев и скандинавов имеется божество ночи: это Нотт, дочь великана Норви. В черных одеждах она проезжает по небу на колеснице, влекомой черным конем, резвым и норовистым Хримфакси. И Нотт, и ее конь отнюдь не всегда ведут себя враждебно по отношению к богам и к людям, чего не скажешь о богине Хель, грозной властительнице царства мертвых, дочери злокозненного Локи, сестре волка Фенрира и змея Ёрмунганда. Вид Хель ужасен, и не только потому, что черты ее безобразны, а волосы всклокочены: лицо богини как бы разделено надвое – половина черная, половина «белесая» (blass)[34]. Эта бихромия пугает гораздо больше, чем если бы лицо Хель было целиком черным либо черно-белым (последний вариант был бы просто знаком амбивалентности). Здесь идет речь о чем-то поистине ужасающем. Черный представлен в дуэте с «белесым», мертвенно-бледным цветом, которого так боялись германцы: белесый – цвет тумана, цвет призраков и цвет облака, окружающего злых духов. Таким образом, у Хель половина лица – цвета мрака, а другая половина – цвета призраков, то есть она дважды связана со смертью[35]. Даже брат Хель, чудовищный волк Фенрир, которому суждено смертельно ранить Одина и сыграть решающую роль в гибели богов, выглядит не так пугающе, поскольку на изображениях он всегда одноцветный (серый).
Итак, для германцев черный – не самый неприятный из цветов. К тому же есть черный и черный, как показывают примеры из древнегерманской лексики, приведенные выше. Бывает swart, матовый, тусклый, всегда несущий в себе угрозу, а порой и возвещающий о смерти, а бывает black – насыщенный, плодоносный, такой яркий, что разгоняет мрак и позволяет видеть в темноте. Black, сияющий черный цвет, является также атрибутом Знания; самое убедительное его воплощение – оперение мудрой птицы, которая созерцает мир и знает судьбы людей, – Вόрона.
Со времен Античности для людей Северного полушария ворон – наиболее черное существо из живущих на свете. Как и сам черный цвет, ворон может восприниматься как в позитивном, так и в негативном смысле. У германцев он всегда воспринимается позитивно: это божественная птица, всеведущая птица, птица-воин. Один, верховное божество скандинавского пантеона, стар и одноглаз, но два его ворона, Хугин (мысль) и Мунин (память), вместо него странствуют по миру, наблюдают и прислушиваются, а затем рассказывают ему об увиденном и услышанном. Благодаря им Один знает обо всем происходящем, подчиняет себе будущее и решает судьбы смертных. А еще он охотно превращает в воронов всех, кто его разгневал, либо сам принимает облик этой птицы, чтобы мучить и убивать их.
Бог знания и волшебства, владыка жизни и смерти, Один еще и бог войны. Вот почему воины-германцы, желая заручиться покровительством Одина, берут с собой в бой изображения его любимой птицы – черного ворона, которого считают своим защитником[36]. Изображения ворона появляются на шлемах, пряжках поясов, инсигниях и знаменах, они могут быть и чьим-то личным талисманом, и коллективной эмблемой. Археологи нашли множество разнообразнейших значков такого рода; а в сагах рассказывается, что у скандинавских воинов был боевой клич, подобный крику ворона – вот как велика была их вера в магическую силу священной птицы. Ворон сопровождал их и в море – его изображение было либо нашито на парус, либо вырезано на носу корабля. На суше с этим изображением выходили на поле битвы, либо прикрепив его к древку, либо вышив на куске ткани. Неизвестный летописец, повествуя о событиях конца IX – начала X века, рассказывает даже, что когда в 876–878 годах на севере Англии король Альфред боролся с нашествием датчан, у этих последних было волшебное знамя: в мирное время его цвет был белым, но во время войны на полотнище появлялся черный ворон, который хлопал крыльями, размахивал лапами, наносил удары клювом и издавал устрашающее карканье[37].
Свидетельства о существовании культа ворона у древних германцев можно найти и в антропонимике[38]. Однако помимо имен[39] об этом убедительно свидетельствуют и рассказы христианских миссионеров, с ужасом наблюдавших за религиозными обрядами, которые воины-язычники совершали в лесах Саксонии или Тюрингии: жертвоприношения животных, поклонение идолам в образе животных, привычка класть в могилы кости животных, чтобы они сопровождали усопшего в загробный мир, но главное – ритуальные пиры, когда воины, перед тем как пойти на битву, пили кровь и ели мясо диких животных, чтобы обрести их силу и заручиться их покровительством. Чаще всего эти животные – кабан и медведь[40]. Но иногда в этой роли выступает ворон, что, вообще говоря, неудивительно: крупный взрослый ворон в бою может быть грозным противником. Однако миссионеры в полном недоумении. Для Библии и Отцов Церкви ворон – существо нечистое, поскольку оно питается падалью, и дьявольское, поскольку оно покрыто сплошь черными перьями; следовательно, есть его мясо, а тем более пить его кровь категорически запрещено. Однако некоторые миссионеры достаточно быстро поняли, что не смогут, по крайней мере в первое время, запретить новообращенным или обращаемым язычникам соблюдать все их привычные ритуалы. Культ деревьев, источников и камней уже запрещен, так нужны ли еще запреты на еду? А если да, то на какую именно? С 751 года святой Бонифаций, архиепископ Майнцский и «апостол» Германии, а затем Фрисландии, пишет по этому поводу письмо папе Захарии I; в письме содержится список диких животных, мясо которых христиане не употребляют в пищу, а германцы обыкновенно съедают после жертвоприношения. Список длинный, всех животных оттуда вычеркнуть невозможно. Вот почему Бонифаций спрашивает у папы, каких надо исключить в первую очередь. Захария отвечает: в первую очередь надо запретить есть воронов, ворон, аистов, диких лошадей и кроликов. Ворон, священная птица германцев, должен быть под абсолютным запретом, как и его родственница ворона[41]. Христианин не ест черных птиц.
Однако если Отцы Церкви и прелаты-миссионеры зачисляют ворона в бестиарий дьявола, причина не только в том, что у него оперение цвета смерти. Они также опираются на Библию, которая чаще всего относится к ворону отрицательно. Вспомним библейский рассказ о всемирном потопе. После сорока дней плавания Ной велит ворону вылететь из ковчега и посмотреть, не спала ли вода. Вылетев, ворон видит, что вода спадает, но вместо того чтобы вернуться и сообщить об этом Ною, задерживается, чтобы поклевать трупы. Не дождавшись ворона, Ной проклинает его и посылает вместо него голубку, которая на второй раз вернется в ковчег, держа в клюве оливковую ветвь – знак того, что вода спала[42]. Так на заре истории человечества ворон – первая по счету птица, упоминаемая в Библии, и второе животное (после Змея) – уже предстает перед нами как существо отталкивающее, как падальщик и враг Бога. Такой образ ворона проходит через весь Ветхий Завет: он живет в развалинах, пожирает трупы, выклевывает глаза у грешников[43]. Напротив, голубка – существо кроткое и миролюбивое. С этих пор за цветом каждой из птиц закрепится символика, которой они были наделены в истории о потопе: белый цвет – сияние чистоты и добродетели, символ жизни и надежды; черный – пятно грязи и порока, знак греха и смерти. Итак, всего через несколько абзацев после рассказа о сотворении мира мы снова встречаемся с той же символикой белого и черного. Такой она и останется и на протяжении всего текста Библии, и во всем раннехристианском сообществе: белый – позитивный, черный – негативный.
Тут просматривается существенное различие библейской символики черного и белого и символики этих двух цветов в большинстве древних культур. Помимо того, что в древних культурах не всегда прослеживается четко выявленная оппозиция белого и черного (а эта оппозиция вовсе не представляет собой некий архетип, как можно было бы подумать[44]), как мы уже видели, каждый из цветов имеет двойственное толкование, может восприниматься как позитивно, так и негативно. Например, ворон у греков и у римлян трактуется амбивалентно, а у кельтов и германцев воспринимается исключительно позитивно. В греческом мифе рассказывается, что ворон, птица Аполлона, был белым, как гусь или лебедь, но затем по собственной вине сделался черным. Аполлон полюбил смертную девушку Корониду, которая зачала от него Эскулапа. Однажды, отправляясь в Дельфы, он поручил ворону стеречь возлюбленную в его отсутствие. Ворон увидел, как Коронида на берегу моря встречается со своим любовником Исхием. И хотя осторожная ворона пыталась убедить ворона, что ему лучше промолчать, он поспешил к Аполлону с доносом. Разгневанный бог убил Корониду. Позже он пожалел о том, что слушал ворона-доносчика, проклял его и решил изгнать из семьи белых птиц: отныне оперение ворона будет черным[45].
Было еще одно обстоятельство, которое могло сделать ворона в глазах христиан птицей дьявола: его ведущая роль в языческих гадательных практиках. Почти все народы Античности внимательно следили за полетом воронов, изучали его скорость и направление, подсчитывали взмахи крыльев, определяли оттенок оперения, всматривались в движения этих птиц на земле, вслушивались в их карканье, надеясь таким образом узнать волю богов[46]. Конечно, для этого использовались и другие птицы, но чаще всего ворон, который у греков и римлян считался умнейшей из птиц. Плиний даже утверждает, что это единственный из пернатых, кто понимает смысл приходящих через него пророчеств[47]. И черное оперение нисколько не вредит его репутации, скорее даже напротив. Впрочем, смышленость ворона, о которой в один голос говорят все греческие и римские авторы, подтверждается и исследованиями современных орнитологов. По данным многочисленных экспериментов, проведенных за последние годы, ворон (а также ворона) умом превосходит не только всех птиц, но и вообще всех животных. Во многих областях его интеллектуальные возможности поднимаются до уровня крупных обезьян[48].
Возможно, ворон, которым восхищались римляне, которого почитали германцы, этот живой пример позитивного восприятия черного, был слишком проницателен для средневекового христианства?
Черный, белый, красный
Действительно, в христианской теологии на раннем этапе ее развития белый и черный составляют пару противоположностей и часто представляют собой хроматическое выражение Добра и Зла. Эта оппозиция опирается на Книгу Бытия (свет/тьма), а также на привычные ассоциации, связанные с природой (например, день – ночь). Ее комментируют и развивают Отцы Церкви и их продолжатели. В религиозной практике, однако, встречаются исключения. Не то чтобы символический код был обратим – христианство не знает негативного восприятия белого, – но отдельно взятый черный в некоторых случаях может восприниматься положительно и быть выражением той или иной добродетели. Давний и доживший до наших дней пример – монашеское одеяние: с конца каролингской эпохи черный цвет, так презираемый первыми христианами, становится общим для облачений всех монахов-бенедиктинцев, хотя в уставе ордена сказано, что им не следует заботиться о цвете одежды[49]. Но черный цвет бенедиктинцев, которому суждено столь долгое будущее, ни в коей мере не является принижающим или демоническим. Напротив, это знак смирения и воздержания, двух основных монашеских добродетелей, как мы увидим далее.
Однако тех областей религиозной жизни, в которых черный цвет является знаком скорби или покаяния, гораздо больше. Именно так, например, обстоит дело в литургии. В эпоху раннего христианства священник отправляет службу в своей обычной одежде; это способствует его единению с паствой, а также приводит к тому, что в литургии чаще всего используется одеяние из белых или неокрашенных тканей. С течением времени, однако, белое облачение начинают надевать только на Пасху и на самые большие праздники богослужебного календаря. Святой Иероним, Григорий Великий и другие Отцы Церкви единогласно считают, что белый цвет придает литургии наибольшую торжественность. К IX–X веку, несмотря на наличие между епархиями расхождений по отдельным вопросам, в западноевропейском христианстве уже успели сложиться некоторые общие богослужебные традиции, по крайней мере относительно больших праздников. Вместе они формируют систему, которая в дальнейшем будет описана и прокомментирована всеми литургистами XI–XII веков, а затем, в 1195 году, и будущим папой Иннокентием III (в то время еще кардиналом) в его знаменитом трактате о мессе[50]. Вкратце эта система такова: белый цвет, символ чистоты, следует надевать на праздники, посвященные Христу, а также ангелам, девственницам и исповедникам; красный, напоминающий о крови, пролитой Христом и за Христа, подобает надевать на праздники, посвященные апостолам и мученикам, Кресту и Святому Духу, в частности на Пятидесятницу; черный – в периоды ожидания и покаяния (Адвент, Великий пост), а также на мессы по усопшим и в Страстную пятницу[51].
Эту тройственную систему нельзя объяснить ни чьим-то личным выбором, ни какими-либо специфически религиозными мотивами. Зато она помогает нам понять, что в эпоху раннего Средневековья белый, красный и черный все еще играют в символике гораздо более важную роль, чем остальные цвета. Так было в Античности, так будет и дальше, вплоть до хроматической перестройки в зените Средневековья, когда в моду войдет синий, а в большинстве кодов и систем произойдет переход от трех основных цветов к шести основным (белый, красный, черный, зеленый, желтый, синий)[52]. А пока что в хроматическом мире продолжает доминировать античная триада. Это проявляется не только в богослужебной практике и в христианской символике, но также и в мирской жизни. Например, в топонимике: когда надо дать название какому-либо населенному пункту, люди словно забывают обо всех цветах, кроме белого, красного и черного. Аналогичная ситуация наблюдается и в антропонимии, при том что имена людей всегда больше привязаны к текущему моменту, чем названия городов, нередко восходящие к очень далеким временам. Начиная от эпохи Меровингов и до эпохи феодализма в хартиях, хрониках и литературных текстах часто встречаются реальные личности или вымышленные персонажи, которых называют «Белый», «Красный» или «Черный». За редкими исключениями, мы не можем понять, на какие особенности данного человека или персонажа указывают эти прозвища: на цвет волос (белый – блондин, красный – рыжий, черный – брюнет), на предпочтения в одежде, на человеческие качества (белый означает мудрость либо добродетель, красный – вспыльчивость, черный – греховность)? Мы также не знаем, были ли эти прозвища даны людям при их жизни либо уже после смерти. Впрочем, иногда в какой-нибудь хронике можно найти некоторые разъяснения. Например, мы знаем, что император Священной Римской империи Генрих III Черный (1039–1056) получил такое прозвище не за смуглую кожу и не за черные волосы, а за то, что он жестко подчинил своей власти Церковь и папство. «Черный» в данном случае означает «Скверный» или «Враг Церкви». Что же касается знаменитого Фулько Черного, графа Анжуйского (987–1040), то он заслужил эту характеристику своим нравом, в котором сочетались коварство и буйная жестокость. И хотя последние годы жизни он провел в покаянии, хотя он многократно совершал паломничество в Иерусалим, надеясь искупить свои грехи, прозвище, полученное в молодости, так и осталось за ним.
В литературных текстах (где, вообще говоря, редко встречаются упоминания о цвете) преобладание белого, красного и черного еще заметнее. Часто цветовая триада служит для того, чтобы различать персонажей – например, трех братьев – и возвращает нас к древней трифункциональной структуре социума: жрец (белое), воин (красное), крестьянин-ремесленник (черное)[53]. В сказках и баснях в хроматической системе доминирует та же триада, но здесь у нее другие задачи. Возьмем в качестве примера «Красную Шапочку». Самая ранняя запись этой сказки происходит из Льежа и датируется началом XI века, однако, по-видимому, ей предшествовала долгая устная традиция[54].
«Почему красная?» – пытаются понять многие толкователи сказки. Некоторые довольствуются простыми ответами: красный цвет, говорят они, предупреждает об опасности и предрекает кровопролитие. Такую трактовку мы назвали бы поверхностной, даже если в ней содержится утверждение, что волк (он ведь черный) – это Дьявол. Другие, допустив некоторый анахронизм, предложили смелую психоаналитическую версию: красный – цвет сексуальности; девочке очень хотелось оказаться в объятиях волка (или, в новейших вариантах, в постели с волком). Весьма заманчивое объяснение, но слишком уж современное: неужели в средневековой цветовой символике красный ассоциировался с сексуальностью? В это трудно поверить. Толкования исторические выглядят более убедительно, однако оставляют нас неудовлетворенными. Например: одевать детей в красное – распространенный и очень давний обычай, особенно в крестьянской среде. Правильное ли это объяснение? Что ж, возможно. Осталось только предположить, что в тот день был праздник – иначе непонятно, почему девочка надела свой лучший наряд, каковым у женщин и девочек Средневековья всегда считалась одежда красного цвета. Или же, как указывает наиболее ранняя версия сказки, девочку, родившуюся в день Пятидесятницы, с самого рождения одевали в красное, цвет Святого Духа? Эта версия убедительнее других, но и она оставляет нас неудовлетворенными. Остается прибегнуть к структуральной трактовке, основанной на цветовой триаде: девочка в красном несет белый предмет (горшочек масла), и по дороге ей попадается черный волк. Эту же схему мы встречаем в других старинных сказках[55] и баснях. Например, в «Вороне и Лисице» черная птица роняет белый сыр, который подхватывает красная лисица. Распределение цветов здесь другое, но в сюжете просматриваются все те же хроматические полюса – белый, красный, черный.
По-видимому, в эпоху раннего Средневековья в Европе сосуществуют две хроматические системы, на базе которых и выстраивается цветовая символика: оппозиция белое/черное, унаследованная от Библии и раннего христианства, и триада белое – красное – черное, позаимствованная из других, более древних или более отдаленных источников. Сама эта триада может быть разложена на три оппозиции: белое/черное, белое/красное и красное/черное, и в результате ее станет легче применять к определенным объектам или к определенным областям жизни. Подходящим примером в данном случае могут служить шахматы.
Зародившись в Северной Индии в VI веке нашей эры, игра распространилась по двум направлениям: в сторону Персии и в сторону Китая. В Персии шахматы обрели те основные параметры, которые известны нам теперь. Когда в VII веке арабы завоевали Персию, им понравилась эта игра, и благодаря им она попала на Запад. В Европу шахматы проникли на рубеже первого и второго тысячелетий, двумя путями одновременно: через Средиземное море (Испания, Сицилия) и через север, куда скандинавские купцы завезли их из Причерноморья. Со временем игра получила признание во всем христианском мире, но при этом претерпела целый ряд изменений. В частности, изменился цвет фигур. На этом стоит остановиться подробнее.
На заре существования шахмат в Индии, а затем в арабо-мусульманском мире черные сражались против красных (такими шахматами пользуются в землях ислама до сих пор), поскольку в Азии с незапамятных времен именно эти два цвета составляли устойчивую оппозицию. Но эта оппозиция, столь важная для Востока, полностью утратила смысл, когда шахматы оказались на Западе. В западноевропейской культуре черный и красный не воспринимались как антагонисты. Вот почему уже в XI веке пришлось изменить цвет фигур у одной из сторон, чтобы создать оппозицию, доступную западному пониманию: отныне на шахматной доске белые будут сражаться с красными. В феодальную эпоху антагонизм белого и красного среди мирян ощущался более остро, чем оппозиция белое/черное, особенно когда речь шла о религии. Два или три столетия на шахматных досках Европы красные будут сражаться против белых, и клетки будут выкрашены в соответствующие цвета. Затем, с середины XIII века, все опять начинает меняться: сначала фигуры, а потом и клетки на доске становятся такими, какими мы воспринимаем их сейчас, – черными и белыми[56].
Как мы видим, в Западной Европе на рубеже первого и второго тысячелетий черный и белый не всегда воспринимаются как антагонисты. И не только потому, что в культурном плане у белого есть еще один антагонист – красное (причем иногда в этой роли он «эффективнее» черного); в природе черный и белый редко существуют в единстве друг с другом либо в оппозиции друг к другу. Только у немногих животных и растений встречается такое сочетание цветов, как, например, у сороки, загадочной птицы, которую в бестиариях описывают как болтунью и воровку и называют символом лжи и двуличия. Такую же характеристику получает лебедь, поскольку под своим белоснежным оперением он будто бы скрывает черную плоть[57]. Нехорошо быть черно-белым в эпоху раннего Средневековья.
На палитре дьявола. С X по XIII век
С наступлением нового тысячелетия роль, которую черный цвет играет в повседневной жизни и в социальных кодах, постепенно становится менее важной, а затем он начинает терять значительную часть своей символической амбивалентности. В Древнем Риме и в эпоху раннего Средневековья черный цвет в восприятии людей мог быть и плохим, и хорошим; с одной стороны, черный цвет ассоциировался со смирением, воздержанием, с высоким саном или с внутренним достоинством; с другой стороны, он напоминал о загробном мире и вечной тьме, о временах скорби и покаяния, о грехах и силах Зла. Теперь, однако, с позитивным восприятием черного покончено, все грани его символики превратились в негативные. Эпоха феодализма в Западной Европе – время, когда черный стал однозначно «плохим», более того, очень плохим цветом. Трактаты теологов и моралистов, богослужебные правила и ритуалы погребения, изобразительное искусство и иконография, законы рыцарства и ранние геральдические коды – все способствует тому, чтобы черный превратился в устрашающий, смертоносный цвет. Что касается одежды, то теперь одни лишь монахи-бенедиктинцы с гордостью носят свои черные рясы как знак былой славы цвета, ставшего отталкивающим, презираемым или ненавистным. Но бенедиктинцы – исключение, которое подтверждает правило. Повсюду и во всем черный цвет уже воспринимается как часть палитры Дьявола. С этого времени и на долгие века он станет адским цветом.
Дьявол и его изображения
Дьявол – не изобретение христианства. Однако он почти не представлен в иудейской традиции и вообще не появляется в Ветхом Завете, по крайней мере в том обличье, каким впоследствии наделила его христианская традиция. О его существовании сообщается только в Евангелии, а Откровение отводит ему место на первом плане. В дальнейшем Отцы Церкви окончательно превратят его в демоническую силу, дерзко бросающую вызов самому Богу. Дуалистическая концепция мира, в которой Добро и Зло мыслятся как два противоборствующих начала, была совершенно чужда Ветхому Завету; однако о христианской традиции этого сказать нельзя. Разумеется, она не впадает в манихейство, до этого ей очень далеко: христианская теология даже объявляет ересью – притом, возможно, худшей из всех – веру в существование двух божественных сил и стремление поставить на одну доску Бога и Дьявола. Последнего ни в чем нельзя равнять с первым: это падшее творение, вождь мятежных ангелов, который в адской иерархии занимает примерно то же место, какое архангел Михаил занимает в иерархии небесной. Откровение предрекает его недолгое владычество, которое наступит перед концом времен. Так говорят ученые богословы и мудрые мыслители. Но в повседневной жизни обычных людей, как мирян, так и (даже еще в большей степени) монахов, дело обстоит иначе: Дьявол присутствует всюду, и у него большая власть, почти такая же, как у самого Бога; вот почему в пастырском служении и в духовной жизни обычных людей постоянно сталкиваются Добро и Зло – в чистом виде, без нюансов. В день Страшного Суда с одной стороны будут восседать праведники, которые попадут в рай, а с другой – зиять адская пропасть, куда будут низвергнуты грешники. Вера в некую третью обитель, расположенную между адом и раем, то есть чистилище, возникнет не сразу и примет знакомую нам форму лишь в XII–XIII веках[58].
Средневековое христианство, не подвергая сомнению всемогущество Бога, все же признает существование некоей злой силы, которая, не будучи равной Богу, располагает большой свободой действий: имя ей Сатана. Это имя впервые упоминается в Ветхом Завете. Оно происходит от древнееврейского слова, означающего «противник в споре»: так в Книге Иова называется ангел, который должен искушать героя, дабы испытать его твердость в вере[59]. Это у Отцов Церкви слово «сатана» превратилось в имя собственное, имя вождя мятежных ангелов, восставшего против Бога и воплотившего в себе силы Зла. Сатана – термин редкий, понятный только ученым; в феодальную эпоху в текстах, написанных на латыни, а позднее на местных языках, гораздо чаще встречается слово «Дьявол» (diabolus). Это слово греческого происхождения (diabolos); и перед тем, как стать существительным, оно долгое время было прилагательным. На древнегреческом языке оно означало «тот, кто сеет ненависть, раздор, зависть», а в широком смысле – обманщик или клеветник. Самые ранние изображения Дьявола в европейском искусстве навеяны древнегреческой иконографией сатира: мохнатые уши, маленькие, как у фавна, рожки, козлиные ноги и хвост; позже ему пририсуют крылья (ведь это падший ангел), затем сделают заметнее все черты, что роднят его с животными.
Дьявол почти не появляется в изобразительном искусстве и на иных изображениях до VI века, а до конца каролингской эпохи появляется достаточно редко. Однако романский стиль выдвигает его на первый план: с середины XI века его фигура встречается почти так же часто, как фигура Христа. Впрочем, он появляется не один, а с целой свитой демонов, чудовищ и животных темного цвета, словно вынырнувших из адской бездны, чтобы прельщать или мучить людей. Люди, слабые и грешные создания, повсюду видят вырастающую перед ними фигуру Дьявола, особенно в скульптурном убранстве церквей, где Сатана и его приспешники должны постоянно напоминать им об угрозе вечных мук. Тему Страшного суда, о котором неоднократно упоминается в Библии, западноевропейское искусство откроет для себя еще в каролингскую эпоху. Но свою классическую форму этот сюжет обретет в романской скульптуре, на тимпанах больших храмов: там изображен Христос, восседающий, как судия; архангел Михаил отделяет праведников от грешников, подсчитывая их добрые и злые дела. Архангел взвешивает души на весах, показания которых демон мошенническим образом пытается изменить в свою пользу. С правой стороны от Христа праведники в длинных одеяниях, ведомые ангелами, направляются в Рай, где их встречают либо Авраам и другие праотцы, либо апостол Петр – его можно узнать по громадному ключу. С левой стороны ухмыляющиеся, гримасничающие демоны низвергают в ад нагих, обезумевших от ужаса грешников. Сегодня на этих скульптурных группах (в Отене, Конке, Везле, Болье и других) мы не видим красок, которые некогда играли очень важную роль как в выстраивании самого образа, так и в раскрытии его значения. Но среди этого многоцветья резко выделялся черный: ведь он был необходим для изображения Дьявола и его приспешников.
В книжной миниатюре, как и в скульптуре, ад изображается в виде пасти гигантского чудовища, откуда вырываются языки пламени, а в глубине видна пылающая печь; демоны с вилами в руках подталкивают грешников к печи, при этом подвергая их гнусным и жестоким истязаниям. Эта пасть напоминает о пасти чудовища Левиафана, о которой идет речь в книге Иова (XLI, 11), однако сама картина ада со сценами садистских пыток во многом восходит к апокрифическим текстам Нового Завета и к комментариям Отцов Церкви. Для этих последних ад – одновременно бездна, находящаяся в центре земли, царство тьмы и океан огня. Это копия рая, только с обратным знаком: печь, истязания и тьма на одной стороне, прохлада, блаженство и свет – на другой. Адское пламя – особое пламя, которое сжигает, но не дает света; его задача – не уничтожать тела грешников, а, подобно соли, сохранять их, чтобы они испытывали вечные муки[60].
По мнению виднейших богословов, ад как неизбежный удел грешного человечества – не реальная перспектива, а всего лишь предупреждение, которое должно заставить людей покаяться и найти путь ко Христу, дабы не умереть в смертном грехе. Самое страшное наказание, уготованное закоснелым грешникам в аду, – лишение созерцания Божия; к этому добавляются различные моральные страдания, такие как отчаяние, угрызения совести, мучительная зависть при виде праведников, пребывающих в раю. По поводу физических наказаний, то есть связанных с ощущениями, богословы высказываются с меньшей определенностью: огонь, холод, мрак, гул, томление. Череда ужасающих пыток, запечатленная сначала на фресках, позднее на тимпанах и капителях колонн и наконец на витражах и миниатюрах, – это продукт творчества нескольких писателей и множества художников романской эпохи, наделенных богатым воображением. Со временем богословы выдвигают идею, что каждому типу греха должен соответствовать свой тип наказания: это позволит создавать изображения, которые послужат моральным уроком. Когда к началу XIII века получит свою окончательную форму тезис о семи смертных грехах, каждый из них начнут ассоциировать с определенным цветом: гордыню и прелюбодеяние – с красным, зависть – с желтым, чревоугодие – с зеленым, леность – с белым, гневливость и скупость – с черным[61].
Дьявол и его цвета
Итак, образ Дьявола складывается в период с VI по XI век и долго остается зыбким и полиморфным. В начале второго тысячелетия он начинает стабилизироваться и принимать отвратительную звероподобную форму. Тело у Сатаны, как правило, тщедушное, высохшее: это должно подчеркнуть, что перед нами – выходец из царства мертвых; он наг, весь покрыт шерстью либо чирьями, иногда пятнистый или полосатый, обычно двухцветный (черный с красным), но всегда омерзительный; за спиной у него хвост (обезьяний или козлиный) и крылья летучей мыши, какие и полагаются падшему ангелу; раздвоенные копыта напоминают козлиные. А вот голова, напротив, огромная, темного цвета, на ней острые рога и стоящие дыбом волосы, похожие на языки адского пламени. На лице (часто вместо лица свиное рыло либо звериная морда) застыла ужасная гримаса; рот громадный, до ушей; взгляд беспокойный и злобный. Обличья Дьявола в романском искусстве, всегда проявляющем в изображении Зла больше фантазии, чем в изображении Добра, отличаются удивительным разнообразием и выразительностью.
Вот, например, как в первой половине XI века монах и хронист Рауль Глабер описывает Дьявола, который явился ему однажды ночью, «перед заутреней», в монастыре Сен-Леже в Шампо, в Бургундии: «У изножья моей кровати вдруг появился словно бы некий человек, ужасный на вид. Как мне показалось, он был мал ростом, с тонкой шеей, исхудалым лицом, черными-черными глазами, выпуклым наморщенным лбом, втянутыми ноздрями, ртом как звериное рыло, с толстыми губами, скошенным назад подбородком и козлиной бородой; уши его были острыми и покрытыми шерстью, всклокоченные волосы стояли дыбом, зубы похожи на собачьи клыки; голова у него была яйцевидная, грудь выпячена, а на спине горб; ягодицы у него были отвислые и трясущиеся, тщедушное тело едва прикрыто грязными лохмотьями темного цвета»[62]. Последняя деталь примечательна, поскольку Дьявол обычно является совершенно нагим и художники изображают его именно в таком виде.
Как и сам Сатана, его слуги-демоны («имя им легион») чаще всего изображаются нагими, черными, волосатыми и безобразными; как и у него, у них на той или иной части тела – обычно это низ живота либо зад – имеется второе или даже третье лицо в форме маски: подобно их настоящему лицу, оно также искажено гримасой. Демоны мучают людей, вселяются в них, склоняют их к порокам и насилию, зажигают пожары, вызывают бури, распространяют эпидемии. Но вот что самое страшное: они неотступно следят за хилыми и хворыми, и если бедняга вдруг лишится чувств, пытаются завладеть грешной душой умирающего в момент, когда она готова покинуть тело. От них защищаются молитвой и верой во Христа; если они вдруг нападут, надо зажечь свечи, зазвонить в колокола, оросить все кругом святой водой. Еще одно средство – экзорцизм, обряд изгнания демонов, который проводит епископ или назначенный им священник.
Идет ли речь о самом Сатане или о его слугах, при их описании или в их изображениях постоянно присутствует один и тот же цвет: черный. Начиная с XI века в Западной Европе черный становится главным дьявольским цветом. Причины этого остаются неясными. Понятно, что из-за вечной тьмы, царящей в аду, его постоянные обитатели, а также те, кто приходит туда или выходит оттуда, все сплошь выглядят темными или даже черными; но этого объяснения недостаточно. В Библии, где мало говорится о красках и куда больше внимания уделяется свету, часто заходит речь о тьме, гнетущей или карающей; однако тьма не всегда ассоциируется с черным цветом, а черный не воспринимается как цвет Зла[63]. Этой чертой его наделили западные Отцы Церкви, и, возможно, скорее под влиянием языческих традиций, чем собственно библейских.
Как бы то ни было, на рубеже тысячелетий в течение нескольких веков черный считается цветом тела или одежды тех, кто находится в родстве с Дьяволом или служит ему. И не только черный, но и вообще все темные цвета: коричневый, серый, фиолетовый и даже синий. До XII века, когда произойдет переоценка синего и он получит новый, высокий статус, темный оттенок этого цвета используется как эквивалент черного или как своего рода «получерный», особенно когда надо изобразить ад и демонов. Мы можем составить себе представление об этой функции темно-синего в романском искусстве, если взглянем на тимпан церкви в Конке, на котором сохранились остатки полихромной росписи. Или на потолок церкви в Циллисе (сейчас в швейцарском кантоне Граубюнден), построенной почти в это же время (около 1120 года), где имеется несколько изображений синего Дьявола. Этот отнюдь не единичный случай – уместный повод напомнить о печальной судьбе синего цвета в раннем Средневековье, когда он считался тусклым и унылым или даже зловещим[64].
И все же синих дьяволов существенно меньше, чем черных и красных либо черно-красных: черное тело и красная голова, красное тело и черная голова, или же туловище двухцветное (полосатое либо пятнистое), а голова сплошь черная. Эти два цвета – порождение преисподней, адской тьмы и адского пламени. А то, что их видят на самом Дьяволе, делает их еще ужаснее. Конечно, в романской иконографии и романской символике красный имеет и другие, позитивные смыслы: искупление (кровь, пролитая Христом), очищение (Святой Дух и огонь Пятидесятницы[65]), но красный в сочетании с черным может ассоциироваться исключительно с дьяволом. Несколько позже, в середине XII века, в книжных миниатюрах и на фресках появятся зеленые дьяволы. Вскоре они составят конкуренцию черным и красным: в XIII веке их будет все больше, особенно на витражах, и теперь уже зеленый по их вине станет нелюбимым цветом. Причину, по-видимому, следует искать во все обостряющейся вражде между христианами и мусульманами: поскольку зеленый – цвет Пророка и цвет исламской религии, христианская иконография в эпоху крестовых походов охотно раскрашивает Дьявола и демонов в зеленое.
Помимо черного и всех вообще темных тонов, главная особенность палитры Дьявола в романском искусстве – плотность красочного слоя. Фигура Сатаны – это бросается в глаза, когда разглядываешь миниатюры, и можно подметить, если всмотреться в некоторые скульптуры, – почти всегда представляет собой самый хроматически насыщенный элемент изображения. Этот прием позволяет еще больше выделить ключевую фигуру и создать ощущение непроглядной адской тьмы, контрастирующей с прозрачностью света и чистотой божественного начала. Не зря святой Бернар Клервоский называет цвет вообще и черный в особенности (мы поговорим об этом подробно, когда речь будет идти о конфликте черных и белых монахов в первой половине XII века) грубой оболочкой, отгораживающей человека от божественного света. Для него черное – это плотная субстанция, а плотная субстанция – это ад[66].
Однако, как часто бывает в Средние века, правила и коды вдруг почему-то нарушаются или выворачиваются наизнанку: в противоположность Дьяволу, демонов рисуют не густыми, а блеклыми красками, создавая впечатление мертвенной, ужасающей бледности. Бесцветное иногда пугает больше, чем нарисованное слишком густыми или слишком яркими красками. Говорят, будто некоторые демонические существа и вовсе не имеют цвета. Это создает живописцам и миниатюристам немалые технические трудности: как изобразить нечто, лишенное цвета? Как передать в цвете понятие бесцветности? Вот несколько приемов, к которым прибегали художники: не закрашивать основу; сильно разбавлять краску (это подтверждает тезис некоторых теологов, что цвет – прежде всего материя, плотное вещество); пользоваться красками зеленоватого оттенка: в Средневековье, как и в Античности, люди воспринимали зеленый как наименее «цветной» среди цветов. Но важно отметить вот что: желая создать эффект бесцветности, художники никогда не пользовались для этого белой краской. Неудивительно: ведь в Средние века и даже много позже, в Новое время, белый, как и черный, считался полноправным хроматическим цветом.
Зловещий бестиарий
Не только Дьявол и его пособники демоны наводят ужас своей чернотой. Их сопровождает стая зверей: как мы понимаем, они тоже вышли из адской бездны и несут на себе частицу царящего там адского мрака. Перечень тварей, в обличье которых любит являться Сатана, которые служат ему эскортом или составляют его двор, достаточно длинен. Среди них и реальные животные, такие как медведь, козел, вепрь, волк, кот, ворон, сова и многие другие, но также полуфантастические и просто фантастические: аспид, василиск, дракон, летучая мышь (в средневековой зоологии летучая мышь – полукрыса-полуптица), и полулюди-полуживотные – сатир, кентавр, сирена. Все это существа, которые в средневековой культуре по той или другой причине считаются гадкими и достойными презрения. Заметим, что большинство обитателей этого обширного бестиария либо покрыты темной шерстью или оперением, либо активны по ночам: в обоих случаях речь идет о животных, которые находятся в особых, тесных отношениях с черным цветом. Они – слуги Дьявола, поскольку черны телом или же потому, что живут во мраке. Взглянем повнимательнее на некоторых из этих черных тварей, центральных фигур адского бестиария.
Самая символически значимая из них – ворон, о котором мы подробно говорили в предыдущей главе. Античная мифология почитала ворона за сметливость, мудрость и пророческий дар, но в Библии он показан с дурной стороны – в эпизоде с Ноевым ковчегом он выступает как недруг праведников, и христианство относится к нему резко отрицательно: ворон – черная птица, пожиратель падали и воплощение Зла. Тем более что в Северной Европе христианской Церкви пришлось выдержать длительную борьбу с языческими культами ворона, птицы Одина, вестника богов, защитника воинов и хранителя мировой памяти. Поэтому Отцы Церкви давно уже отвели ему почетное место в дьявольском бестиарии и сделали его эмблемой множества пороков. Угольно-черное оперение связывает его с негативной символикой этого цвета, мрачного, устрашающего и несущего смерть[67].
Другой пример, близкий к первому, – это медведь. На значительной части европейской территории вплоть до XII века медведь почитается как царь зверей. Охотники и воины восхищаются его непобедимой мощью, сходятся с ним один на один, пьют его кровь и едят его мясо перед тем, как отправиться на войну. У королей и князей медведь – любимое животное в их зверинце, некоторые даже утверждают, будто ведут свой род от легендарного «сына медведя», то есть сына женщины, похищенной и изнасилованной медведем. Действительно, из всех животных медведь обладает наиболее выраженными антропоморфными чертами; он считается первопредком или родственником человека и даже якобы испытывает неудержимое плотское влечение к женщинам. У Церкви такое животное не может не вызывать ужас. И она объявляет ему войну: начиная с каролингской эпохи устраиваются систематические облавы на медведей, чтобы истребить их и тем самым покончить с последними языческими культами Медведя, еще сохранившимися в христианских землях. Кроме того, она объявляет его дьявольским животным. Опираясь на Библию, которая высказывается о медведе только в негативном смысле[68], и на Блаженного Августина, утверждавшего, что «медведь – это Дьявол»[69], христианские писатели причисляют его к свите Сатаны. Как и этот последний, медведь темного цвета и весь покрыт шерстью, как и он, жесток и зловреден, как и он, любит затаиться в сумраке. И вообще: куда девается медведь во время зимней спячки? Отправляется в страну тьмы, то есть в ад. Вот почему его пороки неисчислимы: буйный нрав, жестокость, похотливость, нечистоплотность, обжорство, леность, гневливость. И мало-помалу бывший царь зверей, животное, которым так восхищались германцы, кельты и славяне, превращается в одну из центральных фигур адского бестиария[70].
Кошка не подвергается таким ожесточенным нападкам, но это еще не то домашнее животное, которое на исходе Средневековья войдет в человеческие жилища и займет место у очага; это существо хитрое и скрытное, коварное и непредсказуемое; она бродит вокруг дома или монастыря, разгуливает по ночам, а мех у нее часто черный или полосатый. Ее боятся, особенно если она совсем дикая, как боятся волка, лисицы или совы, других ночных тварей, спутников Лукавого. Если в феодальную эпоху людям докучают крысы и мыши, они охотнее берут в дом не кошку, а ласку; этот зверек был наполовину приручен еще в древнеримские времена и останется наполовину ручным до XIV века[71].
Но, пожалуй, идеальное воплощение образа дикого зверя, который так ненавистен христианству, – это кабан. Медведь – только бурый, а вот кабан – черный. В трудах Отцов Церкви начиная с V–VI века это животное, которым так восхищались римские охотники, кельтские друиды и германские воины, постепенно превратилось в мерзкого, ужасающего зверя, врага Добра, коему уподобляется грешник, восставший против Бога. И здесь тоже первенство принадлежит Блаженному Августину: именно он объявил «лесного вепря, который подрывает лозу Господню» (Псалом LXXIX) порождением Дьявола[72]. Двумя веками позже Исидор Севильский пускается в сложную словесную эквилибристику, стремясь доказать, что само название «кабан» указывает на свирепость этого зверя[73]. Некоторые из его фраз потом слово в слово повторят авторы латинских бестиариев XI и XII веков, а затем и великие энциклопедисты XIII века[74]. Подобные рассуждения о дьявольской свирепости кабана встречаются в церковных проповедях, в дидактических сборниках Exempla, в трактатах о пороках и даже в книгах об охоте: для средневековых охотников кабан – самый страшный из «черных зверей». Отвага этого животного, воспетая римскими поэтами, здесь описывается как слепая, смертоносная ярость. Его ночной образ жизни, его черная или бурая шерсть, его глаза и сверкающие клыки – все это характеризует его как существо, явившееся прямо из адской бездны, чтобы бросить вызов Богу и мучить людей. Кабан уродлив, пускает слюни, воняет, производит шум, у него спина усеяна колючками, щетина полосатая, у него «рога растут из пасти»[75] – ни дать ни взять Сатана[76].
В бестиарии Дьявола есть не только животные темного окраса, но и животные с особенностями телосложения. Достаточно, чтобы у них была человеческая нога, или рука, или рот, либо просто какое-то расхождение с «обычной» анатомией того или иного существа. Здесь нет четкой грани, отделяющей реальных животных от фантастических и фантастических животных от монстров. Изображая обитателей бестиария, художники с особой тщательностью прорисовывают поверхность их тел. Если вглядеться повнимательнее, увидишь, с каким искусством переданы малейшие изъяны и повреждения на коже, шерсти, перьях и чешуе Сатаны и его спутников. Чтобы добиться этого, мастера используют контрасты гладкого и полосатого, крапчатого и пятнистого, а также разных линейных или ячеистых структур.
Гладкие и одноцветные фрагменты занимают небольшую часть изображения, их функция – оттенять проработанные участки рисунка. Контраст одноцветному обычно составляет полосатое: оно всегда ассоциируется с чем-то недозволенным, постыдным или опасным[77]. Похоже обстоит дело с ячеистыми структурами (составленными из клеток, ромбов, овалов или чешуек); они создают ритм и с помощью игры цветовых нюансов успешно вызывают у зрителя довольно-таки неприятные ощущения. В этом смысле типичен прием, которым художники передают скользкость – качество, столь распространенное в мире драконов и змей. Ощущение скользкости достигается волнистыми линиями, образующими ячейки, которые вдвигаются внутрь чешуек, и с помощью различных оттенков зеленого, особенно блекло-зеленого, поскольку в восприятии и культуре Средневековья влажное всегда связано с отсутствием густоты и плотности. Сделать цвет блеклым, особенно зеленый и черный, – значит сделать его влажным. Пятнистое вызывает другие ассоциации: беспорядок, беззаконие, порочность. В дьявольском мире пятнистость служит для изображения волос на теле (растущих неровными пучками) или, что чаще, разных чирьев и язв на коже. Пятнистое наводит на мысль о золотухе, бубонной чуме, проказе. В обществе, где кожные заболевания – самые распространенные из недугов, самые тяжелые и вызывающие наибольший страх, пятнистость ассоциируется с полной потерей социального статуса, с положением изгоя, с преддверием смерти, особенно если пятна красные, бурые или черные.
Разогнать тьму
Черноте Дьявола и адскому мраку противостоят силы света. Согласно средневековой теологии, в мире, доступном нашим ощущениям, свет – единственная часть, которая является одновременно и видимой, и нематериальной. Свет – это «зримость неизреченного» (Блаженный Августин), а значит, эманация божества. Тут возникает вопрос: является ли и цвет нематериальным? Верно ли, что цвет есть свет или по крайней мере частица света, как утверждают многие философы Античности и раннего Средневековья?[78] Или же он есть материя, всего лишь оболочка, в которой предстают нам объекты? К этим главным вопросам сводятся все богословские, этические, даже социальные проблемы, какие у людей Средневековья связаны с цветом.
Для Церкви этот вопрос очень важен. Если цвет – это свет, то он по самой своей природе причастен к божественному, ибо Бог есть свет. А следовательно, дать цвету больше места – значит оттеснить тьму ради торжества света, то есть Бога. Стремление к цвету и стремление к свету неразрывно связаны друг с другом. Если же, напротив, цвет – материальная субстанция, всего лишь оболочка, то он ни в коей мере не является эманацией божества: это бесполезная прикраса, которую Человек добавил к божественному Творению. Ее нужно отбросить, изгнать из Храма, исключить из литургии, ибо она не только суетна, но и вредна, поскольку загораживает путь, который ведет грешника к Богу.
Эти вопросы важны не только для богословов. Они тесно связаны с материальной культурой и повседневной жизнью. Ответы на них определяют роль цвета в привычном поведении доброго христианина и в окружающей его среде, в обстановке тех мест, которые он посещает, в изображениях, которые он созерцает, в одежде, которую он носит, в предметах, которые ему приходится держать в руках. А главное, они определяют место и роль цвета в церковном убранстве и в религиозных обрядах. Однако с поздней Античности и до заката Средневековья религиозные мыслители отвечали на эти вопросы по-разному. В своих речах, как и в своих действиях, богословы и прелаты выказывали по отношению к цвету то благосклонность, то враждебность. Однако в начале второго тысячелетия большинство прелатов, руководивших строительством храмов, проявляли себя как сторонники цвета. Эта точка зрения, самым видным сторонником которой был аббат Сугерий (1081–1151), в романскую эпоху стала доминирующей. В 1130–1140 годах, когда Сугерий руководил перестройкой церкви своего аббатства Сен-Дени, он был одним из тех, кто считал, что Бог есть свет, а цвет – частица света, и ничто не может быть слишком прекрасным для дома Божьего. Все искусства и ремесла, все материальные носители, живопись, витражи, эмали, ткани, украшения из драгоценных камней и металлов должны способствовать превращению обновленной церкви аббатства в подлинный храм цвета, ибо красота и роскошество, потребные для богопочитания, прежде всего выражаются через цвет. А цвет для Сугерия – прежде всего свет (вот почему он придавал такое значение витражам), а уж потом материя[79].
Эта концепция цвета неоднократно встречается в сочинениях Сугерия, в частности в трактате «De consecratione»[80], написанном в 1143–1144 годах. Идеи Сугерия разделяет большинство прелатов, и не в одном только XII веке, но и в гигантском пласте истории, от эпохи Карла Великого до эпохи Людовика Святого. Так, например, Сент-Шапель в Париже, законченная в 1248 году, была задумана и построена как святилище света и цвета. В масштабах всего западнохристианского мира сторонники противоположной точки зрения, например цистерцианцы, оказываются в меньшинстве. Всюду или почти всюду церкви благосклонны к цвету, ибо цвета, подобно свету, оттесняют тьму и тем самым расширяют пространство божественного в земном мире.
Такая позиция закономерно приводит к вопросу о месте черного в системе цветов. Если для большинства прелатов и теологов XII–XIII веков цвета противостоят тьме, то черный, цвет тьмы, не может быть в их числе. Он даже являет собой противоположность цвету как таковому. Не тогда ли начинает созревать идея, зародившаяся еще в романскую эпоху и получившая дальнейшее развитие позже, много позже – сначала у некоторых живописцев итальянского Возрождения, затем у великих протестантских реформаторов XVI века и наконец у большинства ученых Нового времени и современности? Так или иначе, на рубеже первого и второго тысячелетий эта идея была совершенно новой. Ее не было в античных теориях о природе цвета, и она едва просматривается в текстах раннего Средневековья; по-видимому, впервые она была сформулирована в конце XI – начале XII века в связи с новой богословской концепцией света. Через несколько десятилетий эта концепция даст жизнь первым готическим соборам, а затем станет основным стержнем для всех научных теорий XIII века, посвященных оптике и физике цвета.
Однако, выдвигая эту гипотезу, следует сделать две оговорки. С одной стороны, согласно этой новой точке зрения из числа цветов должен выпасть только черный. О белом речь не идет. Его судьба не зависит от судьбы черного, потому что эти два цвета не рассматриваются во взаимосвязи. С другой стороны, в XII веке, когда возникает такое множество новых теорий и новых практик, противники цвета – прелаты и въедливые моралисты – тем самым отнюдь не становятся рьяными сторонниками черного. Если они рассматривают цвет как прикрасу и бессмысленную роскошь, это не значит, что они предлагают черный как альтернативу и тьму как выход из положения. Напротив, они тоже апостолы света, только на свой манер. В пример можно привести прежде всего святого Бернара Клервоского, а если посмотреть шире – и всех богословов-цистерцианцев вообще.
Для святого Бернара цвет – прежде всего материя, а не свет. А значит, проблема заключается не столько в цвете красок (кстати, святой Бернар очень редко упоминает конкретные цвета – красный, желтый, зеленый и т. д.), сколько в их густоте и непрозрачности. Цвет – не только пышность, порок и тщета (vanitas), он также сродни чему-то грубому и темному. В этом смысле большой интерес представляет лексика святого Бернара. Слово color (цвет) ни разу не ассоциируется у него с такими понятиями, как свет или ясность, зато иногда получает такие определения, как «мутный» (turbidus), «сгущенный» (spissus) и даже «глухой» (surdus)[81]. Цвет не освещает, а затемняет; цвет – нечто удушающее, дьявольское. Из этого следует, что прекрасное, светлое и божественное, три феномена, несовместимые с непрозрачностью, должны отказаться от цвета и уж тем более многоцветья.
В самом деле, полихромия вызывает у святого Бернара неодолимое отвращение. Если цистерцианские монахи иногда соглашаются на присутствие в своих храмах монохромных композиций, в которых гармония основана на игре нюансов, то святой Бернар отвергает все, в чем предполагается «разнообразие цветов» (varietas colorum), – разноцветные витражи, полихромную миниатюру, золотые и серебряные изделия, переливчатые драгоценные камни. Он ненавидит все, что искрится, все, что блестит, особенно золото – оно ему омерзительно. Для святого Бернара – и в этом он непохож на большинство людей Средневековья – светлое и блестящее суть разные понятия. Вот почему он испытывает какую-то свою, необычную для его современников боязливую неприязнь к различным свойствам цвета. Вот почему светлое и размытое (а порой и прозрачное) для него близкие понятия (тут мы с ним отчасти согласились бы), но для того времени это было непривычно. Он всегда воспринимает цвет как густой и темный[82]. Поэтому он не восхищается черным, а, напротив, избегает его и называет худшим из цветов. А ссора из-за монашеского облачения, которая вспыхнет между ним и аббатом Клюнийским Петром Достопочтенным и будет продолжаться много лет, даст ему возможность излить всю свою ненависть к черному цвету.
Война монахов: белое против черного
К сожалению, в работах по истории монашеской одежды – работы эти вообще немногочисленны и неудовлетворительны[83] – очень мало говорится о цвете. На раннем этапе своего существования западное монашество стремится к простоте и скромности в одежде: монахи одеваются как крестьяне, не отбеливают и не аппретируют шерсть. Так, устав святого Бенедикта, созданный в VI веке, гласит: «Пусть монахи не заботятся о цвете своих одежд, ни о том, чтобы таковые были плотными и теплыми»[84]. Для отца западного монашества цвет – бесполезная прикраса. Однако со временем вопрос одежды становится для монахов все более важным: это и символ их статуса, и эмблема сообщества, к которому они принадлежат. Отсюда и все возрастающее расхождение между монашеским одеянием, тяготеющим к единообразию, и костюмом мирян. В каролингскую эпоху это единообразие уже начинает искать себе выражение через цвет, причем не какой-либо определенный цвет (черное), а через гамму различных цветовых нюансов (темное). Впрочем, вплоть до XIV века окрасить одежду в настоящий, насыщенный черный цвет – дело очень трудное как для мирян, так и для монахов[85].
Позже, однако, черный будет играть в жизни монахов все более и более важную роль. Начиная с IX века этот цвет – цвет смирения и покаяния – становится главным монашеским цветом. И хотя в повседневной жизни того времени черная ткань никогда не бывает действительно черной, хотя порой ее заменяет синяя, коричневая либо серая, а то и ткань так называемого «естественного» цвета (color nativus), в текстах все чаще говорится о «черных монахах» (monachi nigri)[86]. Эта практика окончательно устанавливается в X–XI веках, когда возрастает влияние Клюнийской конгрегации и число монахов, живущих по уставу святого Бенедикта, становится весьма значительным. Доказательством от противного в данном случае можно считать позицию монашеских общин, тяготевших к отшельничеству. Эти общины, которых в XI веке становилось все больше, отвергали клюнийскую роскошь; в одежде и в быту они стремились к исконной иноческой бедности и простоте. Они носили рясы из грубой шерсти, или немытой и неотбеленной, или смешанной с козьей (у картезианцев), или же разложенной на лугу и очищенной утренней росой (камальдолийцы). В этом стремлении вернуться к суровой жизни первых анахоретов заложено еще и неприятие цвета как излишества, не подобающего монаху. Возможно, монахи также хотели поразить христианский мир; грань между человеком, носящим на себе немытую шерсть, и животным представляется весьма зыбкой. По сути, большинство этих сепаратистских монашеских движений XI века были на пороге ереси: в Средние века ересь часто проявлялась в манере одеваться. Многие отказывались носить черное и белое, потому что избрали примером для себя Иоанна Крестителя, которого часто изображают наподобие дикаря, прикрытого лишь лоскутами из козьей и верблюжьей шкуры.
На заре своего существования цистерцианский орден также примыкает к движению противников цвета. Учрежденный в самом конце XI века, этот новый орден сразу же начинает выступать против черного облачения клюнийцев и ставит себе целью возвратиться к первоначальной суровости монастырской жизни. А в том, что касается цвета, вернуться к основным принципам устава святого Бенедикта: носить одежду только из самых простых и дешевых тканей, спряденных и сотканных самими монахами в монастыре. Но цвет некрашеной шерсти очень близок к серому. Вот почему первых цистерцианцев, как и представителей некоторых других орденов, стали называть «серыми монахами» (monachi grisaei)[87]. Как и когда они перешли от серого к белому, то есть, по сути, от бесцветности к цвету? Ответить на этот вопрос невозможно: слишком мало документальных данных. Вероятно, это случилось еще при святом Альберике (1099–1109) или в начале правления Стефана Хардинга (1109–1133), быть может, не в Сито, а еще раньше, в аббатстве Клерво, которое было основано в 1115 году. С какой целью был изменен цвет облачения? Чтобы можно было отличать монахов от послушников? Приходится признаться: мы ничего об этом не знаем[88]. Однако не подлежит сомнению, что ожесточенная распря из-за роскоши в убранстве храмов и цвета монашеских одеяний, которая в течение двух десятилетий (1124–1146) бушевала между клюнийцами и цистерцианцами, окончательно превратила цистерцианцев в белых монахов. Об этом конфликте стоит поговорить подробнее, поскольку он сыграл большую роль не только в истории западного монашества, но и в истории цвета.
Военные действия в 1124 году начинает клюнийский аббат Петр Достопочтенный. В знаменитом письме Бернару, аббату Клерво, он обращается к адресату, иронически называя его «белым монахом» (o albe monache), и за выбор этого цвета упрекает его в гордыне: «Белый – цвет праздника, славы и воскресения», в то время как черный, традиционный для монахов, живущих по уставу святого Бенедикта, «есть цвет смирения и отречения от мирской суеты»[89]. Почему же цистерцианцы осмеливаются расхаживать в белом, даже «белоснежном» (monachi candidi), хотя все прочие монахи смиренно облачаются в черное? Какая гордыня! Какое неприличие! Какое презрение к традициям! Святой Бернар отвечает ему в столь же резком тоне. Он напоминает, что черный – цвет Дьявола и ада, «цвет греха и смерти», в то время как белый – «цвет чистоты, невинности и всех добродетелей»[90]. Распря то затухает, то вспыхивает с новой силой и в итоге превращается в настоящую догматическую и хроматическую войну между черными и белыми монахами: каждое из писем, которыми обмениваются враждующие стороны, представляет собой целый трактат о том, какой должна быть истинная жизнь монаха. Несмотря на периодические попытки примирения, конфликт продлится до 1145–1146 годов[91].
В результате через два десятилетия цистерцианцы будут неразрывно связаны с белым цветом, так же как клюнийцы издавна были связаны с черным. В дальнейшем возникнут различные легенды о чудесах, которые побудили цистерцианцев облачиться в белое. В одной из таких легенд, документально зафиксированной в XV веке (но, вероятно, сложившейся несколько раньше), рассказывается о том, как где-то в первом десятилетии XI века святому Альберику явилась Пресвятая Дева и приказала ему облачиться в белые одежды, дабы белый, цвет девственности, стал символом чистоты его ордена. По правде говоря, складывается впечатление, что белый цвет цистерцианцев долгое время был белым только по названию (так же как черный у клюнийцев был черным только в символическом смысле). Вплоть до XVIII века выкрасить ткань в белоснежный цвет было чрезвычайно трудно. Это можно сделать только с льняной тканью, да и то в результате очень сложной технической обработки. Шерсть часто не красят, а расстилают на лугу, чтобы под воздействием солнечных лучей и утренней росы, насыщенной кислородом, ее натуральный цвет стал немного светлее. Но это длительная процедура, для которой требуется много места, и кроме того, ее нельзя осуществить зимой. Вдобавок полученный таким способом белый цвет остается белым очень недолго: через какое-то время он превращается в коричневато-серый, желтый или светло-бежевый. В средневековых социумах еще не знали отбеливания хлором[92], поэтому там очень редко можно было встретить человека в белой одежде, которая была действительно белой[93]. Применение некоторых красителей (например, мыльнянки), стирка с использованием золы и минералов (магнезии, мела, свинцовых белил) придают белому сероватый, зеленоватый либо синеватый оттенок и делают его тусклым.
Но не это главное. Самое важное в эпистолярной войне Петра Достопочтенного с Бернаром Клервоским, разгоревшейся в первой половине XII века, – это новая тенденция: цвет облачения становится эмблемой соответствующего монашеского ордена. Теперь каждый орден имеет свой цвет и провозглашает себя его поборником. История противостояния Клюни и Сито – это история противостояния черного и белого, цветов, которые до этого почти никогда не выступали как антагонисты; во многих областях жизни, как мы видели, антагонистом белого является красный. Это новое противостояние будет становиться все более четким и ощутимым. Ведь отныне цвета приобретут эмблематический характер, которого у них до сих пор не было, по крайней мере в одежде. Скоро наступит время геральдики; она появится два десятилетия спустя и внесет масштабные изменения во все хроматические системы.
Новый цветовой порядок: геральдика
Первые гербы возникают в Европе около середины XII века. Их появление на полях сражений и на рыцарских турнирах вначале было вызвано чисто практической необходимостью. Рыцарские доспехи постоянно усовершенствовались. И в определенный момент оказалось, что в шлеме и кольчуге новой конструкции рыцаря нельзя узнать. Тогда рыцари завели обычай наносить красками на щит изображения животных, растений либо геометрические фигуры, чтобы их легче было опознать в схватке. Но одного этого объяснения недостаточно. Гербы – порождение нового социального порядка, который вносит глубокие изменения в феодальное общество. Как родовые имена и особые детали костюма (два нововведения, которым предстоит большое будущее), гербы имеют идентификационную функцию. Вначале гербы были строго индивидуальными, и на них имели право только рыцари; постепенно, однако, у знатных людей гербы начинают передаваться по наследству и в итоге превращаются в семейную собственность. Даже женщины начинают заказывать себе гербы. Позднее, в XIII веке, гербы появятся у духовных лиц, у мещан, у ремесленников, а в некоторых регионах Европы даже у крестьян. Еще через некоторое время гербы начнут присваивать целым сообществам: городам, ремесленным цехам, аббатствам, капитулам, различным институциям и учреждениям.
Здесь уместно будет опровергнуть весьма распространенное, но не подтвержденное никакими историческими данными мнение, будто на гербы имела право одна только аристократия. Ни в одну историческую эпоху ни в одной стране гербы не были привилегией какой-либо одной социальной группы. Любой человек, любая семья, любое сообщество всегда и всюду имели право выбрать себе герб и использовать его по своему усмотрению с единственной оговоркой: ограничиться собственным гербом и не присваивать чужие. Поскольку герб является и личным идентификатором, и знаком собственника, и декоративным элементом, гербы помещаются на множестве предметов, на надгробиях и на документах человека, которому тем самым присваивают гражданское состояние[94].
В гербе присутствуют две составляющие: фигуры и цвета (тинктуры), они размещаются на гербовом щите, форма которого может быть различной. Треугольная форма, заимствованная у средневековых щитов, вовсе не является обязательной, просто она встречается наиболее часто. Цвета и фигуры располагаются на щите в строго определенном порядке, согласно немногочисленным, но строгим правилам геральдики. Именно эти правила более, чем что-либо другое, отличают европейские гербы от других категорий эмблем, принятых в других культурах. Основное правило касается применения цветов. В отличие от фигур, которые могут быть самыми разными, число цветов ограничено (в Средние века в обиходе было всего шесть). В геральдике для каждого цвета есть особое название: так, желтый называется «золото», белый – «серебро», красный – «червлень», синий – «лазурь», черный – «чернь», зеленый – «зелень». Заметим, что эти шесть цветов со времен Средневековья являются шестью базовыми цветами европейской культуры[95].
Цвета в геральдике – это абсолютные, абстрактные, почти нематериальные цвета; геральдическая палитра не знает нюансов. Скажем, червлень может быть светлой, темной, матовой, блестящей, близкой к розовому или к оранжевому; это не имеет никакого значения. Цвет здесь важен как идея, а не как материальная и хроматическая реальность. То же относится и к лазури, черни, зелени и даже к золоту и серебру – две последние тинктуры могут быть желтыми и белыми (самый частый случай) или же золотистыми и серебристыми. Например, на гербе короля Франции – «лазурный щит, усыпанный золотыми лилиями» – лазурь может выглядеть и как светло-синий, и как просто синий, и как темно-синий цвет, а лилии могут быть лимонно-желтыми, оранжево-желтыми либо золотистыми; для узнаваемости и для символического значения герба это совершенно неважно. Художник вправе воспроизводить лазурь и золото как ему вздумается, в зависимости от носителей, с которыми он работает, применяемой им техники и эстетических задач, которые он ставит перед собой. Таким образом, на одном и том же гербе цвета могут изображаться с самыми разными оттенками[96].
Но это еще не все. Шесть цветов на гербе нельзя распределять произвольно. По правилам геральдики они делятся на две группы; в первую входят белый и желтый, во вторую – красный, черный, синий и зеленый. Базовое правило использования цветов запрещает располагать рядом или напластовывать один на другой (если только речь не идет о мелких деталях) два цвета, относящиеся к одной группе. Возьмем для примера щит, на котором изображен лев. Если поле щита черное (чернь), то лев может быть белым (серебро) или желтым (золото), но не может быть ни синим (лазурь), ни красным (червлень), ни зеленым (зелень), поскольку синий, красный и зеленый принадлежат к той же группе, что и черный. И наоборот: если поле щита белое, лев может быть черным, синим, красным либо зеленым, но никак не желтым. Это базовое правило, существующее с тех пор, как появились гербы, соблюдалось всегда и везде (отклонения от базового правила не превышают 1 % от всех известных гербов). Есть предположение, что геральдика позаимствовала свое базовое правило у знамен и флагов (их влияние на самые первые гербы было значительным), и главная его цель – чтобы гербы были видны с большого расстояния[97]. В самом деле, первые гербы были двухцветными, и их отлично было видно издалека. Но даже это не вполне объясняет происхождение базового правила: ведь раньше, насколько нам известно, ничего подобного не существовало. Возможно, его породила богатая цветовая символика феодальной эпохи, символика, в тот момент претерпевавшая коренные изменения. Новому обществу, которое формируется в Западной Европе в начале второго тысячелетия, соответствует новый цветовой порядок: белый, красный и черный больше не являются тремя основными цветами, как было во времена Античности и раннего Средневековья. Теперь в общественной жизни и во всех привязанных к ней социальных кодах на первый план выдвигаются синий, зеленый и желтый.
Одним из таких кодов, возможно самым необычным, и является новая дисциплина – геральдика. Родившись в особом мире – мире войны, турниров и рыцарства, она быстро распространилась на все общество в целом, а затем ввела в этом обществе свою систему классификации и свою систему ценностей, в частности внесла изменения в иерархию цветов. В этом смысле показателен пример черного.
Черный рыцарь: кто он?
С появлением геральдики черный утратил статус одного из основных цветов, который был у него во всех предшествующих хроматических системах, так же как у белого и красного. В гербах черный – самый обычный цвет, он встречается не чаще и не реже остальных, не обладает какой-то особой выразительностью или особой значимостью в эмблематическом и символическом плане. Однако это незаметное положение не вредит ему, а, напротив, смягчает его негативные аспекты. В XIII веке, когда мода на гербы начинает захватывать все области общественной и повседневной жизни, геральдика помогает черному цвету покинуть палитру Дьявола, к которой он был прикован более трех столетий. Тем самым она подготавливает грядущий триумф черного цвета на исходе Средневековья.
О том, что черный цвет в геральдике занимает не высокое и не низкое, а, так сказать, промежуточное положение, свидетельствуют прежде всего статистические данные. Во всей совокупности европейских гербов XII–XIII веков коэффициент частоты черного составляет 15–20 %: в лучшем случае черный встречается на одном гербе из пяти. То есть гораздо реже, чем красный (60 %), белый (55 %) и желтый (45 %), но все же чаще, чем синий (10–15 %) и зеленый (менее 5 %). Если смотреть по географии, мы увидим, что черный чаще встречается в Северной Европе и в странах Священной Римской империи; на юге Франции и в Италии черный встречается гораздо реже. Зато в социологическом плане никакой разницы не отмечено: все классы и социальные категории используют в своих гербах черный цвет. Вообще говоря, мода на геральдические фигуры и цвета всегда больше зависит от географического фактора, чем от социального[98]. И блистательная знать, и небогатые дворяне, и даже мещане – все они носят «чернь» на гербовом щите. Среди наиболее могущественных можно назвать графа Фландрского, который гордится своим знаменитым «черным львом на золотом поле», и еще, конечно, императора Священной Римской империи, у которого с середины XII века сначала на знамени, а затем на гербе красуется огромный черный орел (в начале XV века этот орел станет двуглавым[99]). Если бы в геральдике черный цвет считался негативным, император, разумеется, не выбрал бы его для своей эмблемы. Но теперь этот цвет воспринимается иначе. Черный цвет императорского орла не имеет в себе ничего дьявольского или злотворного, напротив, он придает царю пернатых несравненную мощь и величие, какими не могут похвастать ни белый орел польских королей, ни красный орел маркграфов Бранденбургских и графов Тирольских, ни даже золотой орел императоров Византии.
В геральдическом языке слова, обозначающие цвет, не принадлежат к обиходным, у цветов необычные, часто старинные названия. Во французской геральдике черный называется sable. Этимология этого слова восходит к русскому «соболь». Мех этого пушного зверька, самый красивый и самый ценный из мехов, в Средние века был предметом оживленной торговли[100]. Его вывозили из России и Польши в Западную Европу, где в XIII веке он становится украшением королевского и княжеского гардероба; соболий мех, как и геральдика, поспособствует переоценке черного. Ткани, окрашенные в глубокий, насыщенный черный цвет, с начала XIII столетия будут называть sobelins или sabelins[101]; но геральдический термин «sable» появится только во второй половине века, а в начале следующего утвердится окончательно[102]. Это обстоятельство указывает на все возрастающую вычурность геральдического языка и на возросшую роль черного в мире знаков, эмблем, костюма и аксессуаров.
Мы увидим ту же картину, если обратимся к истории литературных гербов. Вскоре после того, как геральдика стала неотъемлемой частью жизни общества, авторы рыцарских романов начали придумывать гербы своим персонажам. Эти литературные гербы – богатейший материал для изучения символики геральдических фигур и тинктур: сопоставляя все то, что автор сообщает нам о своем персонаже (его роль в повествовании, его характер, семью, дружеские и/или вассальные отношения, связывающие его с другими персонажами), и фигуры или цвета на его гербе, историк получает ценнейшую информацию о геральдической символике и о том, как она функционирует в литературных текстах. По реально существующим гербам эту символику изучать гораздо труднее – их особенности были обусловлены историческими обстоятельствами и требованиями генеалогии; кроме того, надо признать, что зачастую мы не можем разобраться в их значении, не символическом, а прямом.
Говоря о литературной геральдике и о символике цветов, стоит отметить один любопытный сюжетный ход, часто встречающийся в романах артуровского цикла XII–XIII веков как в стихах, так и в прозе: плавный ритм повествования внезапно нарушается появлением таинственного рыцаря с одноцветным («гладким», как в старину говорили во Франции[103]) гербом на щите. Обычно этот рыцарь появляется на турнире или же преграждает путь герою, вызывает его на поединок и вовлекает в новые приключения. Эта сцена – своего рода пролог к другому, более важному событию: описывая цвет герба на щите таинственного рыцаря, автор позволяет нам понять, с кем мы имеем дело, и угадать, что будет дальше. Ведь в рыцарских романах активно применяется хроматический код. Так, Черный рыцарь – это почти всегда один из главных персонажей (Тристан, Ланселот, Говейн), по какой-то причине скрывающий свое имя; обычно у него добрые намерения, и он готовится показать свою отвагу и ловкость на предстоящем турнире. А вот Красный рыцарь часто оказывается врагом главного героя; он коварен и замышляет недоброе (порой это посланец Дьявола или же загадочный выходец из Потустороннего Мира[104]). Менее заметный персонаж, Белый рыцарь, чаще бывает добрым; нередко это пожилой человек, друг или покровитель главного героя, которому он дает мудрые наставления[105]. Напротив, Зеленый рыцарь – это, скорее всего, пылкий юноша, недавно посвященный в рыцари, который своим дерзким или наглым поведением посеет смуту; он может оказаться добрым или злым. Иногда, но редко встречаются также Желтые или Золотые рыцари, а Синих не бывает вообще[106].
Этот хроматический литературный код поражает не только полным отсутствием Синих рыцарей[107]. Он вводит в повествование множество Черных рыцарей, то есть персонажей первого плана, которым по той или иной причине на короткое или долгое время приходится скрывать свое имя. Лицо у такого рыцаря спрятано под шлемом, а вместо щита со своими гербами он несет «гладкий» (то есть одноцветный) черный щит. Часто черным бывает не только щит, но также знамя рыцаря и чепрак его коня: герой и его верный конь с головы до ног одеты в черное. Если в раннесредневековых героических поэмах этот цвет всегда воспринимался как цвет смерти, язычества или ада, то сейчас он только указывает на инкогнито героя.
В рыцарских романах XIII века черный стал цветом тайны. И останется им надолго: спустя шесть столетий, в 1819 году, в своем знаменитом «Айвенго» (этот образцовый рыцарский роман стал одним из главных бестселлеров в истории книжной торговли) Вальтер Скотт выводит на сцену таинственного Черного рыцаря, который во время турнира помогает герою и его сторонникам одержать победу. Все вокруг гадают, кто это такой, но рыцаря невозможно разглядеть под щитом и доспехами сплошь черного цвета. Позже читатель узнаёт, что Черный рыцарь – это король Ричард Львиное Сердце. Короля не было в Англии почти четыре года. Возвращаясь после крестового похода, он попал в плен к австрийскому герцогу Леопольду и провел в заключении пятнадцать месяцев, сначала в Австрии, потом в Германии. Черные доспехи и щит – это маскировка, необходимая при переходе от статуса узника к вновь обретенному статусу свободного человека и короля Англии. Черный цвет здесь не воспринимается ни негативно, ни позитивно: это нечто промежуточное[108].
Модный цвет. XIV–XVI века
Во всех аспектах жизни общества заключительный период Средневековья станет для черного цвета периодом экспансии, какой этот цвет не знал прежде. Разумеется, «дьявольский и смертоносный» черный не исчезает окончательно – о нем напоминают процессы над ведьмами и обычай носить траур, – но во многих других областях жизни черный обретает положительный смысл, становится респектабельным, модным и даже роскошным. Почву для такой кардинальной переоценки подготовила геральдика, введя черный в свой цветовой порядок, вернув ему тем самым статус цвета и не усмотрев в нем ничего мрачного и зловещего. С конца XIII века эту инициативу подхватывает городской патрициат, чиновники и судейские: они заводят обычай одеваться в черное, и теперь этот цвет начинает ассоциироваться с такими понятиями, как достоинство и высокая мораль. Это впечатление только усилится после того, как в следующем столетии будут приняты предписания об одежде и законы против роскоши. Затем, когда новоизобретенная техника окрашивания позволит мастерам окрашивать ткани (в частности, шелк и шерсть) в яркий, насыщенный черный цвет, сильные мира сего начнут проявлять жгучий интерес к цвету, который прежде внушал им отвращение. Черный становится цветом князей Церкви и даже королей; он все еще будет таковым и в Новое время, по крайней мере до середины XVII века.
Цвета кожи
Как большинство социумов старого времени, средневековое христианское общество уделяет пристальное внимание цвету кожи человека, а также, хоть и в меньшей степени, цвету глаз или волос. Тексты и изображения предоставляют нам большой объем полезной информации по данному вопросу. Информация эта может быть различной в зависимости от эпохи и региона исследования. В период расцвета средневековой культуры темная кожа всегда воспринимается негативно, ее обладатели – люди, находящиеся за рамками общества, морали и религии. Эти изгои тем или иным образом поддерживают тесные связи с миром Дьявола и преисподней: темная кожа – явный знак того, что им нельзя доверять, что они язычники либо преступники. О том же свидетельствуют и другие необычные особенности в одежде или во внешнем виде, которые часто можно у них заметить.
В этом отношении показателен пример Иуды. Ни в одном каноническом тексте Нового Завета, ни в одном из апокрифических евангелий ничего не говорится о его внешнем виде. Неудивительно поэтому, что на изображениях Иуды в палеохристианском, а затем каролингском искусстве мы не видим никаких особых примет. Правда, изображая Тайную вечерю, художники все же пытаются наделить Иуду чем-то, что отличало бы его от других апостолов: это относится к его месту за столом, его росту, позе. Однако с началом второго тысячелетия, и в особенности с XII века, сначала на изображениях, а затем и в текстах предатель-ученик обретает множество черт, которые указывают на его демоническую природу: малый рост, низкий лоб, зверское или искаженное гримасой лицо, огромный рот, черные губы (намек на поцелуй), отсутствие нимба либо нимб черного цвета[109], рыжие волосы и борода, очень темная кожа, желтое одеяние, беспорядочная жестикуляция, рука, сжимающая украденную рыбину или кошель с тридцатью сребрениками, жаба или черный демон, вылезающие изо рта. Каждый век наделяет Иуду новыми атрибутами. Два из них относятся к его коже и волосам и повторяются особенно часто: темная кожа и рыжие волосы[110].
Это сочетание уже встречалось в литературе; именно так в старофранцузских героических поэмах описываются сарацины, сражающиеся с христианскими рыцарями: у них рыжие волосы, а главное, темная, иногда даже черная кожа; чаще всего это их отличительная черта и несомненный признак их зловредности. Чем темнее кожа у персонажа, тем он опаснее[111]. Чтобы дать полное представление о негативной сущности такого персонажа, некоторые авторы нанизывают эффектные сравнения: кожа у него «чернее вороны», «черная, как уголь», «черная, как кипящая смола» и даже «черная, как соус с перцем»[112]! Эти клише употребляются так часто, что прилагательное, которым обычно обозначают такой цвет кожи, – mor, maure – в итоге субстантивируется и превращается в этноним: сарацины становятся маврами. И это название распространяется не только на жителей Северной Африки (именно они в классической латыни иногда назывались mauri), но и на всех вообще мусульман, от Испании до Среднего Востока. В небольшой анонимной поэме «Взятие Оранжа», записанной в конце XII века, герой, Гийом Оранжский, и два его товарища вымазывают себе лица древесным углем, чтобы походить на мавров и тайно проникнуть в город. Дело в том, что Гийом заочно влюбился в сарацинскую королеву Орабль, наслушавшись рассказов о ее красоте. Однако троих друзей быстро разоблачили: искусственная чернота сползла с их лиц под воздействием пота и дождя[113]. К счастью, с помощью Орабль им удастся спастись, молодая мавританка примет христианство, сменит имя и станет женой Гийома.
В рыцарских романах цвет кожи и волос – примета, которая помогает отличить нехристиан от мусульман, а знать от простонародья или, что еще чаще, рыцарей от вилланов. Первые покоряют дам (и читателя) не столько своей физической мощью, как было в героических поэмах, сколько изяществом одежды, благородством манер и телесной красотой. Красота эта выражается не в атлетическом сложении и развитой мускулатуре, ее признаки – здоровый цвет лица, белая кожа, белокурые волосы. Рыцарь – светлое существо; его противоположность – черноволосый, чернокожий виллан. Вот как в 1170-е годы в романе Кретьена де Труа «Рыцарь со львом» доблестный Калогренан описывает королю Артуру и его двору крестьянина-волопаса, которого встретил во время своего странствия и вначале не принял за человеческое существо: «Это был виллан, весь черный, словно мавр, огромный, страшный, такой безобразный, что и описать невозможно»[114]. Несколькими годами позже в начале своей «Повести о Граале» тот же Кретьен де Труа описывает рыцарей, выехавших навстречу Персевалю. Великолепие их вооружения и одежд было таково, что наивный юноша принял этих лучезарных, сверкающих яркими красками существ за ангелов:
Но когда они выехали из леса на опушку и он смог разглядеть их, когда он увидел их блистающие кольчуги, ослепительные шлемы, копья и щиты, коих никогда прежде не видел, когда он увидел, как сияют на ярком солнце зеленое и алое, и золото, и лазурь, и серебро, он нашел это благородным и прекрасным и воскликнул: «Господи Боже мой, не ангелов ли я здесь вижу?»[115]Зеленое, красное, желтое, синее, белое: для описания этих лучезарных существ автор использовал все цвета. Все, кроме черного. Мало того что темная кожа не говорит о знатном происхождении и едва ли говорит о принадлежности к роду человеческому; мы понимаем, что черное – презренный цвет, если рыцари в сверкающих доспехах гнушаются им. Через два или три десятилетия все будет иначе.
Сказанное о мужчинах в той же (или даже большей степени) следует отнести и к женщинам. В рыцарских романах это лучезарные существа: они прекрасны, потому что у них светлая кожа и свежий цвет лица, грациозный облик и белокурые волосы. И наоборот, смуглая кожа и темные волосы – признак уродства. Вот как в той же «Повести о Граале» Кретьен де Труа описывает самую безобразную особу женского пола, какую кто-либо когда-либо видел:
Шея и руки у нее были чернее, чем самый черный из металлов; глубоко сидящие, похожие на впадины глаза были крошечными, как у крысы; нос был похож то ли на обезьяний, то ли на кошачий; уши – что-то среднее между бычьими и ослиными; зубы были цвета яичного желтка, а на подбородке росла козлиная борода; на груди торчал горб, такой же, как на спине[116].
Это жуткое описание во многом показательно. Оно придает «безобразной особе» облик животного – еще одно подтверждение того, что особенности внешности, за которые человека можно уподобить животному, в Средние века воспринимались как мерзость. Однако в системе ценностей, где красота – это всегда свет и сияние, основной и наиболее постыдный признак уродства – даже не зооморфные черты, а темная кожа: «Шея и руки у нее были чернее, чем самый черный из металлов…»
Такое же отвращение к темной коже наблюдается и в изобразительном искусстве. Начиная от каролингской эпохи и до самого заката Средневековья оно создало великое множество изображений, где черной либо темной кожей наделены не только черти и демоны, сарацины или язычники, изменники и предатели (Иуда, Каин и Далила в Библии; Ганелон, предатель в «Песни о Роланде»; Мордрет, предатель из легенды об Артуре), но также всевозможные преступники и злоумышленники, прелюбодейные жены, непокорные сыновья, вероломные братья, дядья-узурпаторы, а еще люди, которые из-за своего позорного ремесла или по иным причинам оказались вне общества: палачи (в частности, палачи Христа и святых), проститутки, ростовщики, колдуны, фальшивомонетчики, прокаженные, нищие и калеки. Все они лишены права на светлую кожу, по которой узнаются добрые христиане, порядочные люди и потомки знатных родов.
Христианизация темнокожих
Конец XIII – начало XIV века – переломная эпоха, когда на смену старым приходят новые системы ценностей и отношение к черному цвету меняется в лучшую сторону. Конечно, в большинстве случаев темная кожа пока еще воспринимается негативно, однако в книжных миниатюрах, на витражах, на фресках, а позднее также на шпалерах и картинах начинают появляться темнокожие персонажи, которые отнюдь не вызывают антипатии.
Самый древний из этих персонажей, безусловно, невеста из «Песни песней», сказавшая «Черна я, но красива» (I, 5); однако в средневековой иконографии она занимает скромное место. Чаще можно увидеть царицу Савскую, прибывшую с визитом к Соломону: слава о нем дошла до нее, хоть она и обитает вдали от его царства. С конца XIII века на различных изображениях, в частности на географических картах, художники иногда наделяют царицу Савскую темной кожей. Этот новый атрибут (в предыдущем веке такой случай наблюдался только однажды[117]) призван подчеркнуть не ее демоническую сущность, а ее экзотичность. Она прибыла из далекой страны и привезла Соломону великолепные дары: золото, пряности, драгоценные камни (I Книга Царств, X, 1–3). Ее приезд, как считается, предвещает прибытие волхвов к младенцу Христу. Во многих текстах говорится, что волхвы были потомками царицы Савской. А другие авторы называют ее прообразом Церкви, воздающей почести Спасителю; одним из его прототипов выступает Соломон. Есть и те, кто видит в ней волшебницу, даже ведьму, которую иконография позднего Средневековья и Нового времени наделяет не только темной кожей, но иногда еще и волосатым телом и перепончатыми ступнями, как у Королевы Гусиной Лапки[118]. Впрочем, в Средние века такие изображения царицы Савской встречаются редко; их будет много в XVII веке, на лубочных картинках.
Легендарный пресвитер Иоанн, родственник или потомок царицы Савской, имеет некоторые сходные иконографические особенности. Его, как и царицу Савскую, в конце XIII века начинают изображать на портуланах чернокожим королем, живущим в Индии и воюющим одновременно с мусульманами и с монголами. Но при этом в нем нет ничего негативного или демонического. Напротив, он выступает как христианский государь далекой страны, где проповедовал Евангелие апостол Фома. Со второй половины XII века римские папы мечтают о союзе с пресвитером Иоанном, чтобы вести совместную борьбу против ислама. Многие путешественники пытаются добраться до его королевства. Они ищут его сначала в Азии, позднее в Африке, близ Эфиопии. В миниатюрах и на картах таинственный пресвитер Иоанн запечатлен во всем своем величии, с такими же регалиями, как у западных монархов (скипетр, держава, корона), но кожа у него черная[119]. Здесь, как и у царицы Савской, это не признак язычника или еретика, а всего лишь свидетельство его экзотичности. А еще это должно наводить на мысль об универсальности христианской веры, миссия которой – нести слово Христа «всем народам», как сказано в Деяниях апостолов. И наконец, это говорит о любознательности, о тяге к неизведанному, пробудившейся у европейцев: в последнее время они все чаще пускаются в далекие путешествия, бороздят моря и в неведомых странах встречают местных жителей, которые оказываются вовсе не демонами и монстрами из бестиариев и энциклопедий романской эпохи, а своеобычными, но радушными людьми, порой даже готовыми принять крещение. Теперь, на исходе XIII века, темнокожие мужчины и женщины в перспективе могут стать христианами, а иногда уже и стали ими.
Понятно, что новая система ценностей и новые принципы в иконографии проявились и в изображении соседей пресвитера Иоанна и потомков царицы Савской – волхвов, пришедших от краев земли поклониться младенцу Христу. Один из них просто обязан был стать черным. Естественно, это был пришелец из Африки – Бальтазар, который во второй половине XIV века стал изображаться темнокожим. Любопытно, что самое раннее из сохранившихся свидетельств этой метаморфозы мы находим не на миниатюре, не на витраже, не на картине или шпалере, а в геральдическом документе, «Гельдернском гербовнике», большом сборнике гербов, составленном в районе Кельна и Льежа в 1370–1400-х годах. В этом обширном универсальном гербовнике мы впервые видим воображаемые гербы волхвов: у Каспара это щит с полумесяцем и звездой; у Мельхиора – щит, усыпанный звездами; на гербе Бальтазара изображен чернокожий человек, держащий пику с насаженным на нее флажком. Эта фигура, а также шлем, которым увенчан гербовый щит, с огромным нашлемником в виде головы чернокожего, ясно дают понять, что отныне в триаде волхвов присутствует темнокожий африканец[120]. В этом геральдика значительно опередила другие фигуративные документы эпохи: на миниатюрах и картинах чернокожий волхв появится только в 1430–1440-х годах. В дальнейшем, во второй половине XV века, присутствие чернокожего в триаде волхвов становится систематическим. Тексты объясняют это так: Бальтазар, самый молодой из трех королей, ведет свой род от Хама, сына Ноя, и правит страной, у жителей которой кожа обожжена солнцем, как у невесты в «Песни песней».
Метаморфоза, которая произошла с волхвом Бальтазаром, безусловно, была впечатляющей и необратимой. Однако это не самый ранний и не самый знаменитый пример христианизации темнокожего персонажа. В этом качестве Бальтазара опередили не только царица Савская и пресвитер Иоанн, но также и один святой, почитаемый во всей Западной Европе: святой Маврикий. К концу XIII века он становится темнокожим святым, архетипом христианина-африканца.
По преданию, человек по имени Маврикий, из семьи коптов, жил во второй половине III века; он стал начальником большого легиона, набранного из жителей Верхнего Египта. Легион Маврикия отправили сражаться на границу империи, в самое сердце Альп. Он был отважным воином, не раз отражавшим натиск варваров, и верно служил Риму. Но, будучи христианином, он отказался жертвовать языческим богам и при императоре Максимиане был казнен вместе со всеми своими солдатами в Агаунуме (ныне – местность Агон в швейцарском кантоне Вале). В Средние века Маврикий был весьма почитаемым святым. Аббатство в Агоне, где хранились его реликвии, стало местом паломничества, одним из самых посещаемых во всем западнохристианском мире. Маврикий вызывал восхищение своей отвагой в бою, верностью императору и твердостью в вере, и за это в XII веке рыцари избрали его своим покровителем; он разделял эту честь с архангелом Михаилом и святым Георгием. Однако по мере того, как росло почитание Маврикия и множились его изображения, облик святого менялся. Вначале он был белокожим, с европеоидными чертами лица, как архангел Михаил и святой Георгий. Постепенно, однако, на изображениях и в произведениях искусства его черты стали меняться, кожа потемнела: художники хотели напомнить о его нубийском происхождении. Двумя веками раньше такая метаморфоза повредила бы святому покровителю рыцарей, а сейчас, напротив, только укрепила его авторитет. Одно из самых древних и самых замечательных изображений чернокожего святого находится в Магдебургском соборе, на востоке Германии; эта статуя из песчаника, стоящая у боковой южной стены клироса, представляет святого Маврикия в облике рыцаря, в великолепной цельной кольчуге с капюшоном, оставляющей открытым только его лицо, типичное лицо африканца. Эта удивительная скульптура свидетельствует о глубоком почитании святого Маврикия в Германии; за ней последует множество подобных статуй, изображающих чернокожего рыцаря, и их вереница протянется до раннего Нового времени[121].
Приблизительно в это же время, в середине XIII века, но по менее понятным причинам святой Маврикий становится также и покровителем красильщиков. Красильщики очень гордятся этим и охотно заказывают произведения искусства, которые изображают столь почитаемого святого. Они представляют историю его жизни в живописи и на витражах, в мистериях и в процессиях, даже в геральдике. Во многих городах на гербе цеха красильщиков красуется изображение святого Маврикия во весь рост[122], а цеховые статуты и уставы запрещают «мастерам-красильщикам, соблюдающим древние и достохвальные обычаи, занимать своих работников и держать открытыми мастерские в праздник святого Маврикия»[123]. Этот праздник отмечается в большинстве городов Западной Европы 22 сентября, когда Маврикий и его товарищи приняли мученический венец.
Возможно, в эпоху, когда было так трудно окрашивать в черное, именно кожа святого Маврикия, такая черная и блестящая, побудила красильщиков в начале XIII века избрать его своим покровителем. Впрочем, святого стали воображать и изображать чернокожим не только из-за его африканских корней, но и из-за имени: для средневекового общества, которое ищет истинную правду о людях и вещах в их именах и названиях, переход от Маврикия к мавру вполне закономерен – человек по имени Маврикий просто не может не быть чернокожим. А потому египтянин Маврикий должен был рано или поздно превратиться в мавра[124].
Христос у красильщика
Красильщики гордятся не только покровительством святого Маврикия. У них есть и еще более могущественный заступник: сам Иисус Христос. Они вспоминают об одном из самых поразительных эпизодов в истории Спасителя – о Преображении, когда Христос предстает перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном не в обычной земной одежде, а во всей славе своей, и рядом с ним были Моисей и Илия. «И преобразился пред ними; и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как снег»[125]. Красильщики захотели увидеть в этом изменении цветов обоснование их профессиональной деятельности, а потому часто называли своим покровителем и защитником Христа. Не дожидаясь, когда Церковь официально объявит Преображение общим праздником (это случится только в 1457 году), они уже с середины XIII века заказывают художникам алтарные картины, на которых изображается преображенный Христос, в белых одеждах и с лицом, написанным желтой краской[126].
Однако иконография покровителя красильщиков не исчерпывается изображением Христа во славе. Иногда, в частности на витражах, они представляют в этом качестве юного Христа, основываясь на эпизоде, рассказанном в одном из апокрифических евангелий, где говорится, что в детстве Он был учеником у одного тивериадского красильщика. Этот эпизод, взятый из неканонических текстов, малоубедителен с богословской точки зрения, зато легче поддается интерпретации, чем Преображение. До нас дошло несколько версий этой истории, как на латыни, так и на народных языках (в частности, на англо-нормандском), заимствованных из арабского и арамейского евангелий, повествующих о детстве Христа. Эти версии дали иконографии новые темы, которые начиная с XII века будут появляться на различных носителях: прежде всего, конечно, на миниатюрах, но также и на витражах, алтарных картинах, изразцах[127]. История существует в разных вариантах, но если не принимать во внимание расхождения (порой значительные) во всех этих текстах, в большинстве своем неизданных, рассказ о том, как юный Христос был учеником у красильщика, сводится к одной и той же сюжетной канве[128]. Вкратце ее можно изложить так.
Когда Иисусу исполняется семь лет, Мария и Иосиф решают, что мальчика пора обучить какому-нибудь ремеслу, и отдают его в ученики одному красильщику в Тивериаде. Мастер (в одних источниках его зовут Израиль, в других Салем) показывает мальчику чаны с краской и рассказывает о свойствах каждого цвета. Затем дает ему дорогие ткани, которые получил от богатых горожан, и объясняет, как окрасить каждую ткань в тот или иной цвет. Поручив мальчику эту работу, он уходит в город по своим делам. А в это время Иисус, забыв о наставлениях мастера и желая поскорее вернуться к родителям, кладет все ткани в один и тот же чан и бежит домой. В чане была синяя краска (по другим источникам – черная или желтая). Вернувшись, красильщик видит, что все ткани выкрашены в синий (черный, желтый) цвет. В ярости он бросается к Марии и Иосифу, ругает Иисуса и кричит, что тот опозорил его на весь город. Тогда Иисус говорит: «Не беспокойся, мастер, сейчас я придам каждой ткани положенный ей цвет». Затем он снова погружает все ткани в тот же самый чан, потом достает их одну за другой, и оказывается, что каждая приобрела нужный цвет.
В некоторых версиях Иисусу даже не приходится снова погружать ткани в чан, чтобы придать им соответствующий цвет. В других чудо совершается перед толпой любопытных, которые принимаются славить Бога и признают в Иисусе сына Божьего. А еще есть версии (вероятно, самые ранние), где Иисус не ученик красильщика, а просто маленький озорник: вместе с другими мальчишками-сорванцами он тайком проникает в мастерскую, которая находится рядом с родительским домом, и шалости ради бросает в один и тот же чан все ткани и одежды, которые надо было окрасить в разные цвета. Но он сразу исправляет последствия своего проступка и придает каждой ткани самый устойчивый и приятный для глаз цвет, какой только можно увидеть. Наконец, еще в одной версии Иисус бросает ткани в чан, когда они вместе с матерью просто заходят в мастерскую тивериадского красильщика, и это Мария просит сына исправить сделанное, словно уже знает, что он способен творить чудеса.
Но какую бы из этих версий мы ни предпочли, эпизод с мастерской красильщика мало отличается от других рассказов о чудесах, которые Христос совершал в раннем детстве, во время бегства в Египет или уже по возвращении в Назарет[129]. В канонических евангелиях об этом нет ни слова, зато в апокрифах сказано очень много: этим последним надо восполнить пробелы в первых, удовлетворить любопытство верующих и впечатлить их умы чудесными событиями. Часто сюжет играет бόльшую роль, чем сама притча, и из таких рассказов затруднительно почерпнуть какое-либо пастырское или же богословское поучение. Поэтому их достаточно рано исключили из канонического корпуса, а Отцы Церкви всегда относились к ним с большим недоверием. Что же касается их смысла, тут возможны различные толкования.
Для средневековых красильщиков, которых прочие ремесленные цехи презирали, а народ ненавидел и боялся[130], важнее всего напомнить, что в детстве Господь заходил в мастерскую красильщика. А значит, зайти в такое место после него – великая честь для всякого: это ремесло, которое многие напрасно недооценивают или даже считают позорным, дало возможность Иисусу совершать чудеса. Но нам, исследующим проблему переоценки черного цвета в позднем Средневековье, история с тивериадским красильщиком и ее различные версии интересны в другом плане.
В наиболее ранних версиях, записанных на заре Средневековья, маленький Иисус окрашивает ткани в синее: он погружает их в чан с синей краской. В тогдашней Европе, как в Древнем Риме, синий был малоценным и нелюбимым цветом, который редко использовали для окрашивания тканей и для одежды. Позднее, в феодальную эпоху, когда произошла переоценка синего, он вошел в моду и даже стал любимым цветом королей, Иисус стал красить ткани в черное. Как мы знаем, черный тогда был гадким цветом, цветом Дьявола; логично поэтому, что юный ученик красильщика (или юный озорник) погружает все ткани в чан с черной краской. Однако начиная с XIV века это станет невозможным: в свою очередь, черный цвет входит в моду и не может вызвать негативных ассоциаций. Теперь уже проступок, связанный с черным цветом, будет выглядеть неубедительно, по крайней мере в том, что касается одежды или тканей. Стало быть, маленький Иисус должен выбрать для своих проделок иную цветовую гамму. В версиях, относящихся к позднему Средневековью, на смену черному приходит желтый, цвет лжи и предательства, цвет Иуды и Синагоги. Отныне мальчик погружает ткани в чан с желтой краской перед тем, как совершить чудо и наделить каждую ткань положенным ей цветом. С этих пор чан с желтой краской в символическом плане становится более неприятным или зловещим, чем чан с черной. Это нечто новое[131].
Окрашивание в черное
Кстати, следует заметить, что в реальной красильной мастерской XIV века чаны с этими двумя красками не могли бы находиться в одном помещении. В большинстве городов, где развито ткацкое дело (а текстильная промышленность – единственная настоящая промышленность в средневековой Западной Европе), среди красильщиков существует строгое разделение труда, и вся их профессиональная деятельность жестко регламентирована. Начиная с XIII века разработано множество документов, в которых описываются организации красильщиков, указывается местонахождение их мастерских, разъясняются их права и обязанности. Приводится перечень дозволенных и запрещенных красителей[132]. У красильщиков также существует специализация по окрашиваемым тканям (шерсть, шелк, лен, конопля, а в нескольких городах Италии еще и хлопок) и по используемым красителям или группам красителей. Согласно установленным правилам, мастер не имеет права работать с тканями или с красками, на которые у него нет разрешения. Например, с XIII века красильщик, работающий с шерстью, имея разрешение окрашивать в красный цвет, не может окрашивать в синий, и наоборот. Правда, «синие» красильщики часто окрашивают еще и в зеленые и черные тона, а «красные» работают с белым и всеми оттенками желтого.
А в некоторых городах Германии и Италии (Эрфурт, Венеция, Лукка) красильщики разделяются не только по цветам, но еще и по красителям: каждая группа может использовать один-единственный (вайда, марена, кермес). В других городах (например, в Нюрнберге) в каждой цветовой группе различают тех, кто окрашивает в обычные тона, и красильщиков высшей категории (Schoenfaerber). Последние используют дорогостоящие красители, которые благодаря их искусству глубоко пропитывают волокна тканей.
Однако к черному все это практически не относится. Окрашивание в этот цвет долго оставалось очень сложным процессом, и до середины XIV века оттенки черного, которые можно было увидеть на большинстве тканей и предметов одежды, имели мало общего с настоящим черным цветом. Они получались сероватыми или синеватыми, иногда коричневатыми, но всегда тусклыми; к тому же краска ложилась неравномерно. Красильщики еще не умеют добиваться от черного таких же ярких, насыщенных тонов, каких давно уже научились добиваться от красного, а несколько десятилетий назад – и от синего.
Пигменты, необходимые для окрашивания в черное, обычно добывают из коры, корней или плодов различных деревьев: ольхи, грецкого ореха, каштана и некоторых разновидностей дуба. С помощью протравы, в качестве которой используют оксиды железа, из этого сырья вырабатывают коричневую или серую краску: после нескольких погружений ткани в красильный чан коричневый тон становится все темнее. Лучшие результаты дают кора и корни грецкого ореха: краска из них получается почти совсем черная. Но идея вырабатывать краситель из грецкого ореха встречает резкий отпор. Дело в том, что в Средние века это дерево считается вредоносным. Таково мнение ученых-ботаников, так гласят народные поверья. Корни грецкого ореха ядовиты, они не только губят все растения вокруг, но еще и отравляют скот, если оказываются слишком близко от хлевов. Это дерево представляет опасность даже для людей: заснешь под орехом – того и гляди прихватит лихорадка или головные боли замучают; а еще может нагрянуть нечистая сила и даже сам Дьявол собственной персоной. Такие поверья существовали в Европе еще в Античности, а в деревнях существуют и по сей день. Они развивают у людей предубеждение по отношению к дереву, которое дает ценную древесину и всеми любимые плоды. Однако его кора и корни считаются ядовитыми. Вслед за Исидором Севильским[133] многие авторы возводят латинское название ореха (nux) к глаголу nucire (вредить): раз это дерево так называется, объясняют они, значит, его следует опасаться. В Средние века истинную правду о людях и о вещах всегда ищут в их именах и названиях[134].
Чтобы улучшить качество красок, вырабатываемых из растительных пигментов, красильщикам порой приходится прибегать к технике, которую запрещают все цеховые уставы. Они делают краску из железных опилок, подобранных в кузнице или из-под точильных камней ремесленников и длительное время выдержанных в уксусе. Краска, полученная таким образом, дает очень красивый черный цвет, но не отличается прочностью и вдобавок часто разъедает ткань. Для смягчения ее разбавляют коричневыми или серыми тонами, добытыми из отвара древесной коры и корней. Получается краска, в которой смесь железных опилок и уксуса действует как протрава и успешно превращает все темные тона в черные, особенно после нескольких погружений и последующего выдерживания на открытом воздухе.
Другой технический прием для более качественного окрашивания ткани в черный цвет – предварительное окрашивание в синий. Перед тем как погрузить кусок ткани в чан с краской из ореховой, ольховой или каштановой коры, его раз или два погружают в чан с вайдой, самой распространенной в то время синей краской. Ткань приобретает прочный синий фон и становится более или менее темной. Хотя смешение красок строго запрещено, формально такая процедура не является нарушением, поскольку речь идет не о смешении, а о наложении одной краски на другую. Однако осуществлять ее может только «синий» красильщик, поскольку только у него есть право окрашивать также и в черное. «Красный» красильщик мог бы применить ту же хитрость, предварительно погрузив ткань в чан с мареной, но это запрещено: согласно цеховому уставу, «красные» красильщики не имеют права окрашивать в черное. Впрочем, иногда, особенно в XV веке, «красные» красильщики все же нарушают запрет и часто добиваются лучшего результата, чем «синие».
Некоторые недобросовестные красильщики не считают нужным возиться с железными опилками или тратить время на предварительное замачивание: они добавляют в обычные растительные красители сажу либо древесный уголь, и у них получается красивый, насыщенный, ровный черный цвет. Однако такая краска ложится только на поверхность волокон и держится очень недолго. Красильщиков-мошенников быстро разоблачают, начинаются конфликты, судебные процессы, а в итоге историку достаются обширные архивы. В Европе с XIII по XVII век красильщики сплошь и рядом обманывают своих заказчиков, беря с них плату за дорогую, стойкую краску и отдавая ткань, которая очень быстро выцветает. Такой мошеннический фокус проделывают не только с шерстяными и шелковыми тканями, но и с мехами: достаточно один раз обработать лису или кролика сажей, и получается великолепный, похожий на соболя мех, который можно продать за большие деньги.
Для того чтобы получить настоящий, ровный, стойкий черный цвет, средневековый красильщик может использовать один-единственный краситель: галл, или чернильный орешек (granum quercicum), маленький шарообразный нарост, появляющийся на дубовых листьях. В эти листья некоторые насекомые откладывают яйца; когда появляются личинки, дерево начинает выделять особый сок; затвердевая, он образует вокруг каждой личинки нечто вроде кокона. Галлы надо собирать до наступления лета, когда личинка еще находится внутри, затем медленно высушивать. Тогда орешек сохранит весь свой богатый запас танинов и даст красивую черную краску, но, так же как отвар из древесной коры или корней, этот краситель надо закреплять протравой – солями железа. Такая краска из чернильных орешков стоит неимоверно дорого: для нее требуется огромное количество сырья, и вдобавок сырье это приходится импортировать из Восточной Европы, с Ближнего Востока или из Северной Африки, потому что дубы, растущие в Западной Европе, дают либо очень мало чернильного орешка, либо плохого качества. В позднем Средневековье, когда европейские государи заводят обычай одеваться в черное, в больших городах с развитой текстильной промышленностью красильщики расходуют гигантские количества чернильного орешка, при том что цена его неуклонно возрастает.
Историк вправе задаться вопросом: что породило неслыханную моду на черные тона в позднем Средневековье – технические достижения в красильном деле или же появление какого-то неизвестного прежде, более совершенного красителя? Ни в архивных документах, ни в книгах рецептов для красильщиков не содержится данных, подтверждающих вторую гипотезу; мы находим только счета за поставку чернильного орешка, который во все возрастающих количествах ввозят из Польши и Восточной Европы. Судя по всему, западноевропейские мастера-красильщики просто стали активнее работать с черным, стремясь удовлетворить огромный спрос на одежду этого цвета со стороны коронованных особ, княжеских дворов и знати. Они усовершенствовали традиционную технику, забыли о своей давней неприязни к грецкому ореху, стали в бόльших дозах применять закрепители, чаще прибегать к предварительному окрашиванию в синее, а главное, импортировать больше чернильного орешка. В результате они стали окрашивать ткани в яркие, насыщенные тона черного, добились высокой прочности окраски, расширили ассортимент продукции, подняли цены и увеличили свои доходы, однако не изобрели ничего нового. Не они сумели привить обществу моду на черное, которая с середины XIV века захватила всю зажиточную Европу, а, наоборот, требования общества, его изменившаяся идеология стали катализатором прогресса в химии и технологии. Как это часто случается, сначала была символика, а химия пришла следом.
Цвет и мораль
Для историка важно также установить точную хронологию моды на черное в эпоху позднего Средневековья. Когда она возникла? До или после Черной смерти, опустошительной эпидемии чумы 1346–1350-х годов, когда Европа потеряла треть своего населения? Логично было бы ответить «после» и рассматривать внезапно вспыхнувший интерес к черному цвету как реакцию на страшное бедствие, которое люди воспринимали как наказание свыше. Господь разгневался, говорили они, и покарал грешников. Если так, черная одежда должна была стать знаком скорби и коллективного покаяния: черный цвет символизировал благочестие и искупление, ношение черного было сродни религиозному обряду, сродни черному убранству церквей во время Адвента и Великого поста. Такая версия представляется обоснованной, поскольку этический аспект моды на черное прослеживается во всем: в законах против роскоши, в литературных текстах, в произведениях искусства, в уставах монашеских орденов и статутах ремесленных корпораций. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что мода на черное возникла еще до эпидемии. Она уже существовала в конце XIII века и в первые десятилетия XIV века, по крайней мере в определенных слоях общества.
По имеющимся данным, первыми в черное облачились юристы, судейские и чиновники, состоявшие при княжеских дворах: во Франции это началось в царствование Филиппа Красивого (1285–1314), в Англии – в конце царствования Эдуарда Первого (1271–1307), в нескольких городах Италии – в 1300–1320-е годы. У этих людей, как и у представителей многих монашеских орденов и религиозных конгрегаций, черный цвет ассоциируется не с преисподней и силами зла, а с аскетизмом и добродетелью; вот почему он, как никакой другой, приличествует представителям власти, закона и правосудия, а также нарождающемуся сословию бюрократов. И вот все, кто занимает судейскую должность или состоит на службе у государства, начинают одеваться в черное, как духовные лица, на которых они желали бы походить и с которыми работают в тесном сотрудничестве. Спустя какое-то время их примеру последуют университетские преподаватели, затем и другие просвещенные люди. К середине XIV века люди, которые принадлежат ко всем этим социальным и профессиональным категориям и которых начинают называть «людьми в длинной одежде» (поскольку они остаются верны длинному одеянию, в то время как владетельные князья и знать уже носят только короткое), облачились в черное. Разумеется, речь идет не об униформе и не об обязательном в любых обстоятельствах цвете одежды; однако черный стал отличительным признаком некоего особого статуса и некоей гражданской сознательности[135].
Во второй половине столетия моду на черное подхватят купцы, банкиры и вообще все, кто имеет отношение к финансам. Возможно, это одно из последствий эпидемии – искреннее стремление к воздержности и добродетели после того, как Бог явил свой гнев: богатые должны подать пример честной и благочестивой жизни, внешним признаком коей является прежде всего одежда. Более вероятно, однако, что в этой среде мода одеваться в черное стала ответом на законы против роскоши, которые ввели жесткую социальную сегрегацию в одежде, в частности запретив использование некоторых цветов и красителей (самых ярких и самых дорогих) тем, кто не принадлежит к знати. Оскорбленные этими мерами, идущими вразрез с экономической и социальной эволюцией, представители городского патрициата найдут способ обойти законы или выхолостить их смысл: начнут одеваться в черное. Именно они, представители патрициата и состоятельные дельцы, скорее даже, чем судейские и чиновники, потребуют от красильщиков, чтобы те усовершенствовали технику окрашивания в черный цвет – цвет, прежде малоупотребительный, считавшийся тусклым и унылым. Создайте такие яркие, насыщенные оттенки черного, говорят они, такую стойкую краску, чтобы окрашенные ею шерстяные и шелковые ткани по красоте не уступали самым великолепным мехам, которые носят лишь государи.
Удовлетворить требования таких богатых и влиятельных заказчиков – дело чести. И за два-три десятилетия красильщики решают эту задачу сначала в Италии, потом в Германии, а затем и во всей Европе. В 1360–1380-х годах мода на черный цвет окончательно восторжествует. И ее всевластие продлится до середины XVII века.
Распространению этой моды немало способствуют законы против роскоши и сопровождающие их предписания об одежде. Законы эти начали появляться еще в последние годы XIII века, а после опустошительной эпидемии чумы их стали принимать по всему христианскому миру[136].
Почему они появились? Причин было три. Во-первых, экономическая: необходимость ограничить расходы на одежду во всех классах и категориях общества, ибо это были непродуктивные инвестиции. Во второй половине XIV века среди знати и патрициата расходы на одежду становятся непомерными, страсть к великолепным нарядам уже граничит с безумием[137]. Надо обуздать эту расточительность, объявить войну кичливой роскоши, которая заставляет людей влезать в долги, доводит их до разорения. Кроме того, надо предотвратить повышение цен, переориентировать экономику, стимулировать местных производителей, приостановить импорт предметов роскоши, которые привозятся издалека, иногда из самых отдаленных стран Востока. Затем – причина морального свойства: пора отказаться от чрезмерной заботы о внешнем виде и вспомнить христианскую традицию скромной и добродетельной жизни. В этом смысле данные законы, уложения и предписания следует рассматривать в рамках мощного морализаторского движения, которое появилось на исходе Средневековья и продолжательницей которого стала Реформация. В большинстве своем эти законы могут показаться реакционными, ведь они осуждают различные перемены и нововведения, приводящие к нарушению существующего порядка вещей и к порче нравов; кроме того, они часто бывают направлены против молодежи и против женщин, ведь представителей этих двух социальных категорий обычно привлекает новизна. И наконец, главная причина появления законов против роскоши и предписаний об одежде – идеологическая: одежда должна стать средством сегрегации, каждый обязан носить платье, подобающее его полу, возрасту, сословию, рангу или должности. Чтобы различные классы общества не смешивались, надо установить между ними непроницаемые барьеры. Отныне представителя того или иного класса можно будет распознать по одежде. Разрушить эти барьеры – значит посягнуть на порядок, заведенный не только властями предержащими, но и самим Господом Богом; в некоторых нормативных актах так прямо и написано.
Таким образом, одежда человека отныне строго регламентируется его происхождением, уровнем доходов, возрастом и родом занятий. От этого зависит подбор и количество вещей, составляющих его гардероб, цвет и качество тканей, из которых они сшиты, наличие или отсутствие мехов, украшений, драгоценностей и прочих аксессуаров. Разумеется, законы против роскоши распространяются не только на одежду, но и на все, что окружает человека (посуду, столовое серебро, еду, мебель, дома, кареты, слуг, даже домашних животных), но одежда важнее всего, потому что она приобретает знаковый характер в новом, только начинавшем складываться обществе, где внешний вид будет играть все большую роль. Вот почему законы против роскоши имеют такое значение для историка, изучающего одежду европейцев на закате Средневековья, пусть даже законы эти зачастую были малоэффективны, их приходилось издавать заново и тексты их становились все более длинными и подробными, причем некоторые подробности сейчас кажутся труднообъяснимыми, а порой и экстравагантными[138]. В текстах законов о роскоши (к сожалению, по большей части неопубликованных) много сказано о цвете.
Некоторые цвета объявляются запретными для той или иной социальной категории не потому, что цвета эти слишком яркие, бросающиеся в глаза, а потому, что для их получения нужны очень дорогие красители, каковые могут быть использованы лишь для одежды наиболее знатных, богатых и высокопоставленных людей. Так, в Италии знаменитое «алое венецианское сукно», для окраски которого требуется дорогостоящий сорт кошенили, имеют право носить лишь владетельные князья и сановники высшего ранга. По всей Европе одежду дорогостоящих или слишком ярких цветов запрещается носить тем, чей облик должен быть важным и суровым: в первую очередь, конечно же, священникам, затем вдовам, судьям и чиновникам. А всем остальным запрещается носить многоцветную одежду со слишком резким сочетанием красок, сшитую из ткани в полоску, в шашечку или в разводах[139]. Она считается недостойной доброго христианина.
Однако в законах против роскоши и различных декретах об одежде основное место уделяется не запретным, а предписанным цветам. Здесь уже речь идет не о качестве красителя, а о цвете как таковом, независимо от его оттенка, степени яркости или насыщенности. Предписанный цвет не должен быть нежным или блеклым, напротив, он должен бросаться в глаза, ибо это отличительный знак, эмблема позора, клеймо бесчестия, которое должны носить на себе представители особых общественных категорий, а также все презираемые и отверженные. На городских улицах их должно быть видно издалека, поэтому предписания об одежде разработаны в первую очередь для них. Для поддержания существующего порядка, для сохранения добрых нравов и обычаев, завещанных предками, необходимо отделить почтенных горожан от мужчин и женщин, которые обретаются на задворках общества, а то и за его пределами.
Перечень тех, к кому относятся такие предписания, очень длинен. Прежде всего это мужчины и женщины, которые занимаются опасным, постыдным или просто подозрительным ремеслом: врачеватели и хирурги, палачи, проститутки, ростовщики, жонглеры, музыканты, нищие, бродяги и оборванцы. Затем – все те, кто был признан виновным в каком-либо проступке, от обычных пьяниц, затеявших драку на улице, до лжесвидетелей, клятвопреступников, воров и богохульников. Затем – убогие и увечные (в средневековой системе ценностей любое увечье, физическое либо умственное, почиталось за великий грех): хромые, калеки, шелудивые, прокаженные, «немощные телом и недужные умом». И наконец, все нехристиане, евреи и мусульмане: во многих городах и регионах существовали еврейские и мусульманские общины; особенно многочисленными они были на юге Европы[140]. По-видимому, первые декреты о ношении одежды определенного цвета, принятые в XIII веке IV Латеранским собором (1215), предназначались именно для иноверцев. Такое решение было связано с запретом браков между христианами и нехристианами и необходимостью идентифицировать этих последних[141].
Какие бы мнения ни высказывались на этот счет, совершенно очевидно, что в западнохристианском мире не существовало единой системы цветовых отличий для маргиналов. В разных городах и регионах были приняты различные системы, и даже в одном городе они с течением времени могли меняться. Например, в Милане и Нюрнберге, городах, где в XV веке были приняты многочисленные и очень подробные предписания об одежде, цвета, которые должны были носить изгои общества – проститутки, прокаженные, евреи, – менялись от поколения к поколению, а порой даже от десятилетия к десятилетию. Тем не менее здесь обнаруживается некая закономерность, о которой стоит рассказать вкратце.
Дискриминационную функцию выполняют в основном пять цветов: белый, черный, красный, зеленый и желтый. Синий не фигурирует ни в одном из предписаний[142]. Эти пять цветов используются различным образом. Иногда знаки бывают и одноцветными, но чаще двухцветными. В последнем случае указанные пять цветов используются во всех возможных сочетаниях, однако наиболее распространенные комбинации следующие: красный и белый, красный и желтый, белый и черный, желтый и зеленый. Пары цветов располагаются в тех же конфигурациях, что и на гербовом щите (по расположению цветов щиты в геральдике делятся на несколько типов: рассеченный, пересеченный, разделенный на четыре части, препоясанный, обнесенный кольями). Если попытаться установить, какие цвета присваивались той или иной категории изгоев, то при известном упрощении можно заметить, что белый и черный чаще всего были отличительными знаками убогих[143], а также калек (особенно прокаженных); по красному знаку узнавали палачей и проституток; по желтому – фальшивомонетчиков, еретиков и евреев; зеленые либо желто-зеленые знаки носили музыканты, жонглеры, шуты и умалишенные. Но есть и множество других примеров.
Роскошь венценосцев
Вернемся к черному и к его внезапной экспансии в середине XIV века, которая представляется прямым следствием законов против роскоши и предписаний об одежде. Мода на черное рождается в Италии и вначале захватывает лишь горожан. В соответствии с законами против роскоши некоторые купцы, достаточно богатые, но еще не успевшие пробиться в круг знати или в высший патрициат[144], лишаются права носить одежду из роскошных красных (как, например, великолепные алые венецианские сукна, scarlatti veneziani di grana) или ярко-синих (как знаменитые флорентийские «павлиньи» сукна, panni paonacei)[145] тканей. Поэтому, возможно в знак насмешки или вызова, они заводят привычку одеваться в цвет, не запрещенный новыми законами, цвет, считавшийся скромным и отнюдь не почетным: черный. Но, как мы сказали, эти люди богаты: они требуют, чтобы красильщики создали для них более стойкие, яркие и привлекательные оттенки черного. Красильщики берутся за дело, и в 1360-е годы им удается выполнить эту задачу. Рождается мода на черный цвет, и благодаря этой моде состоятельные люди, пока не сумевшие подняться на вершину социальной лестницы, смогут, не нарушая законов и предписаний, одеваться по собственному вкусу. А еще новая мода позволит им обойти другой запрет, действующий во многих городах: запрет на ношение роскошных мехов, таких как соболь, самый дорогой и самый черный из всех мехов. И, наконец, она даст им возможность появляться перед людьми в строгом и полном достоинства одеянии – на радость городским властям и бдительным моралистам.
Вот что говорится по этому поводу в трактате о цветах под названием «Сицилийский гербовник» (1430):
Хотя черный цвет кажется печальным, он благороден и исполнен добродетели. Вот почему купцы и богатые горожане, как мужчины, так и женщины, охотно одеваются в черное <…>. Черный ничем не ниже и не хуже всех прочих цветов, в какие красильщики окрашивают ткани в своих чанах и котлах. Некоторые черные ткани стоят так же дорого, как драгоценные алые сукна <…>. И даже если бы черный использовался только для траура, этого было бы достаточно, чтобы он занял почетное место среди цветов, ибо черное в знак траура носят государи и знатные дамы[146].
В самом деле, мода на черное захватила не только купечество, судейских, чиновников и ученых. Очень скоро их примеру последуют представители высшего патрициата, а затем и государи. С конца XIV века черная одежда появляется в гардеробе венценосцев: герцога Миланского, графа Савойского[147], а также властителей Мантуи, Феррары, Римини, Урбино. В начале следующего столетия новая мода перешагнет границы Италии: короли и принцы других стран оденутся в черное. При французском дворе черная одежда появляется в период душевной болезни короля Карла VI; впервые ее наденут дяди короля, а чаще всего в черном будет появляться его брат Людовик Орлеанский – возможно, под влиянием жены, Валентины Висконти, дочери герцога Миланского, которая привезла с собой обычаи своей родины. То же самое можно наблюдать в Англии в последние годы царствования Ричарда II (1377–1399), зятя Карла VI: при его дворе едва ли не все ходят в черном. Северная Италия ввела моду на черную одежду для государей, затем ее подхватили Франция и Англия, а следом и остальная Европа: страны Священной Римской империи, Скандинавия, Испания и Португалия, даже Венгрия и Польша.
Но решающую победу черный цвет одержит несколько десятилетий спустя, в 1419 или 1420 году, когда юный принц, коему суждено стать самым могущественным государем Европы, оденется в черное; будущий герцог Бургундский Филипп Добрый сохранит верность этому цвету в течение всей жизни[148]. Все хронисты отмечали у Филиппа эту привязанность к черному и объясняли ее тем, что герцог носил траур по отцу, Жану Бесстрашному, убитому Арманьяками на мосту в Монтеро в 1419 году[149]. Это, безусловно, так, однако следует учесть, что сам Жан Бесстрашный постоянно носил черное – после крестового похода, в котором он участвовал и который завершился поражением христиан в битве при Никополе в 1396 году[150]. Очевидно, сразу несколько факторов – династическая традиция, мода княжеских дворов, политические события и личные обстоятельства – привели к тому, что Филипп Добрый стал одеваться в черное. Авторитет герцога обеспечил черному цвету окончательную победу во всей Западной Европе.
В самом деле, XV век стал веком славы для черного цвета. Вплоть до восьмидесятых годов этого столетия не было такого короля или владетельного князя, в чьем гардеробе не хранилось бы изрядное количество черной одежды как из шерстяных, так и из шелковых тканей, а также мехов. Порой одежда бывала сплошь черной, а порой черный цвет в ней сочетался с каким-нибудь другим, обычно белым, серым или фиолетовым. Мода на черное не проходит ни после смерти в 1477 году последнего герцога Бургундского из дома Валуа, Карла Смелого (который, подобно своему отцу, часто одевался в черное), ни даже после завершения XV века. В следующем столетии популярность черного возрастет чуть ли не вдвое. Помимо того, что короли и владетельные князья сохранят верность черному (черный цвет в придворном костюме продержится еще очень долго, до начала Нового времени), этот цвет сохранится и приумножится в одежде тех, у кого он по уже сложившейся традиции символизирует высокую нравственность, – священников, судей, чиновников, ученых. А Реформация, как мы увидим далее, считает черный самым достойным, самым добродетельным цветом.
Обычай венценосцев одеваться в черное, появившийся в конце XIV века, соблюдается при европейских дворах в течение всего XVI века и даже первой половины XVII века. Теперь уже австрийские и испанские Габсбурги, как достойные наследники герцогов Бургундских, становятся верными поклонниками черного цвета. В самом деле, Мария Бургундская (1457–1482), дочь Карла Смелого, приносит в приданое своему мужу Максимилиану Габсбургу (1459–1519) не только громадную политическую мощь и господство над обширными территориями, но также придворный этикет и моду, которая спустя несколько десятилетий станет модой испанского двора. Начиная с 1520-х годов этот двор будет диктовать свои нравы и обычаи всей Европе: вплоть до середины следующего столетия повсюду восторжествует знаменитый «испанский этикет». И неотъемлемой частью этого этикета будет черный костюм, как в предыдущем столетии он был частью бургундского протокола, тем более что Карл Пятый (1500–1558), король Испании и император Священной Римской империи, а также внук Марии и Максимилиана, во всех обстоятельствах выказывает личное пристрастие к черному цвету. Для этого глубоко религиозного государя черный – цвет, исполненный величия, достойный его сана и его могущества, и к тому же цвет добродетели, символ смирения и воздержности. По примеру своего прапрадеда Филиппа Доброго он на всю жизнь сохранит верность черному цвету – это подтверждают и счетные книги, и хроники, и свидетельства очевидцев, и почти все дошедшие до нас портреты императора. Его сын Филипп II (1527–1598), король Испании в период ее наивысшего могущества, выказывает такую же приверженность черному цвету. И ему, быть может даже больше, чем его отцу, важен этический аспект черного. Для этого государя-мистика, считавшего себя наследником царя Соломона и защитником веры, черный цвет – символ всех христианских добродетелей. «Золотой век» в Испании – великий век для черного цвета.
Серый цвет надежды
Мода на черное при княжеских дворах, начавшаяся в позднем Средневековье и продолжавшаяся до начала Нового времени, способствует популярности двух других цветов, близких ему и на хроматической шкале, и по своей символике. О коричневых тонах речь не идет – они отсутствуют в гардеробе князей и патрициата и еще несколько столетий остаются уделом крестьян и беднейших ремесленников. Иначе обстоит дело с серым и фиолетовым. Этот последний, редко встречающийся в европейской одежде до XV века, прежде использовался главным образом для богослужебных надобностей как заменитель черного в дни скорби и покаяния. Этот «заменитель черного» (по-латыни subniger, «недочерный») в то время получали не так, как сейчас, смешивая синюю краску с красной, а из смеси синей и черной или же путем погружения ткани сначала в чан с синей краской, а затем в чан с черной. Но с начала XV века традиционный фиолетовый уже почти не встречается, во всяком случае в красильных мастерских. На смену ему приходит новый фиолетовый, вернее целая гамма фиолетовых тонов, которые с этих пор будут ближе к красному, чем к синему. Самые чистые и яркие краски вырабатываются из нового сырья, привозимого с Цейлона, Явы и из тропических районов Индии. Это древесина фернамбукового дерева (brasileum), которая также дает очень красивые розовые и даже оранжевые тона[151]. Самые темные и прочные оттенки фиолетового теперь получают путем погружения ткани сначала в чан с вайдой, а затем в чан с мареной. Для этого «красным» красильщикам приходится нарушать правила цехового устава, которые их собратья по ремеслу свято соблюдали в течение столетий: они прячут в мастерской чаны с вайдой для предварительного окрашивания. Окрасив ткань в синее, они могут затем погрузить ее в чан с желтой краской (цервой или дроком) и получить очень прочные зеленые тона либо в чан с красной (мареной или рокцеллой) и получить темно-фиолетовые. Мир венценосцев очарован новыми фиолетовыми тонами, которые теперь ближе к красному, чем к синему, и напоминают античный пурпур; по-видимому, они не вызывают негативных ассоциаций, характерных для символики фиолетового: печаль, затворничество, дурное предзнаменование и даже измена (как считается, фиолетовую одежду носил Ганелон, предатель из «Песни о Роланде»). Эти новые фиолетовые и малиновые тона останутся в моде при княжеских и королевских дворах до середины XVII века.
Но вернемся в пятнадцатое столетие. От всеобщего помешательства на черном выиграет не только один фиолетовый, но и другой цвет, близкий к черному: я говорю о сером. Впервые в истории западноевропейского костюма этот цвет, прежде использовавшийся для рабочей одежды, одежды бедняков и облачения монахов-францисканцев (по уставу оно должно быть бесцветным, однако миряне называют его «серым»), стал привлекать принцев и поэтов. За два поколения красильщики сумеют сделать то, чего они не могли сделать за несколько веков, а быть может и тысячелетий: создать чистый, ровный и даже яркий серый цвет. Чтобы получить такие красивые оттенки серого, они сочетают отвары ольховой или березовой коры с различными протравами и добавляют сульфаты железа, а иногда и небольшое количество чернильного орешка. От всех этих хитростей серый цвет делается темнее, зато становится более ровным, более стойким, более ярким. Спрос на серое со стороны знатных и венценосных особ возрастет настолько, что начиная с 1420 – 1430-х годов некоторые центры текстильной промышленности (Руан и Лувье, например) целиком перейдут на производство высококачественного серого сукна. Веком раньше такое было бы немыслимо. Во Франции серый цвет станет настолько модным, что многие принцы крови сделают его цветом своих ливрей в сочетании с красным (Жан де Берри), с черным (Филипп Добрый в конце жизни) или с черным и белым (Рене Анжуйский[152]). Бело-серо-черное считалось самой эффектной комбинацией, так утверждает «Сицилийский гербовник». Автор этой книги умер в 1435 году, но последняя часть дописана его анонимным продолжателем в 1480 – 1490-е годы. Рассуждая о ливреях и о «приятном для глаза соединении цветов», он пишет:
Чаще всего на ливреях можно увидеть синее с зеленым и зеленое с красным, но это не очень красиво. А значение у этих трех цветов, соединенных вместе, тоже не очень важное: всего лишь тихая радость. А вот черное с белым на ливрее – это красиво. Но соединение черного с серым красивее. А соединение трех этих цветов еще красивее, и означает оно неугасимую надежду[153].
В самом деле, многие авторы видят в сером противоположность черному. А поскольку черный иногда еще воспринимается как знак скорби или отчаяния, то серый становится символом надежды и радости; об этом часто поет в своих песнях Карл Орлеанский, герцог и поэт «с сердцем, одетым в черное»[154]. Попав в плен к англичанам во время битвы при Азенкуре (1415), он двадцать пять лет провел в Англии и уже думал, что не увидит вновь «свой милый французский край»; но то, что он носил серое, помогло ему сохранить надежду:
Оказавшись вне пределов Франции, за горами Монсени, он не утратил надежду, вот почему он одет в серое[155].В другом стихотворении Карл Орлеанский предлагает всем тем, кто живет во Франции и считает его умершим, одеваться не в черное, цвет скорби, а в серое, цвет жизни и надежды:
Пусть никто не надевает черное, думая обо мне, Серое сукно стоит дешевле, И пусть каждый знает: Серая мышь еще жива[156].Во французской лирической поэзии XV века серому цвету надежды противопоставляется не только черный, но и «дубленый» (то есть рыжевато-коричневый; этот цвет считался неприятным, даже отталкивающим), а порой и темно-зеленый – все три цвета ассоциируются с горестью и смертью. Процитируем еще раз Карла Орлеанского:
Черный и дубленый – вот мои цвета, Серый больше не хочу носить, Потому что нет сил терпеть Мои слишком тяжкие горести[157].Эта позитивная символика серого проявляется не только в одежде. Она распространяется также на декоративные ткани и на некоторые предметы обихода. Так, презираемая прежде оловянная посуда в XV веке становится престижной, и цена ее значительно возрастает. Серый или тускло-серый цвет такой посуды напоминает серебро, и на олово уже смотрят как на драгоценный металл. В 1440-х годах даже серые в яблоках лошади на скачках и турнирах считаются самыми изысканными, хотя прежде серо-пегих и серых в яблоках не держали за породистых[158]. Серый цвет становится «выразительным», выступает в сочетании с черным, белым, красным и даже с золотым.
Но эта мода продлится лишь несколько десятилетий. К концу XV века она пойдет на убыль, а к 1530-м годам исчезнет совсем. И серый снова станет тем, чем был в продолжение долгих веков, – нелюбимым цветом, цветом грусти и старости. Придется дождаться эпохи романтизма, чтобы увидеть, как он снова выходит на передний план в социальном и символическом плане.
Рождение черно-белого мира. XVI–XVIII века
В конце XV века черный цвет вступает в новую фазу своей истории. Как и белый, с которым отныне он будет неразрывно связан (раньше так бывало не всегда), он займет в хроматическом порядке особое место, и в результате люди постепенно перестанут воспринимать его как цвет в полном смысле слова. В XVI–XVII веках начинает складываться некий особый черно-белый мир; сначала он существует на обочине цветного мира, позже – вне этого мира и даже превращается в его противоположность. Этот процесс, протекавший медленно и длившийся долго, более двух столетий, начался в 1450-х годах с изобретением книгопечатания и оборвался в 1665–1667 годах, когда Исаак Ньютон провел успешные опыты с призмой и открыл новую систему цветов – цветовой спектр, который, конечно же, не будет признан сразу всеми и во всех областях, но становится – и остается на сегодняшний день – основной научной системой для классификации, измерения, изучения или упорядочения цветов. Так вот, в этой новой хроматической системе больше нет места ни для черного, ни для белого.
Откуда взялся черно-белый мир? Его возникновение было вызвано несколькими причинами. Главная из них, по-видимому, – появление морализаторских тенденций в религиозной и общественной жизни позднего Средневековья, а также Реформация, ставшая их продолжательницей. Далее инициативу подхватывают художники эпохи Возрождения, пытающиеся «создать черно-белый колорит». Затем настает очередь ученых, которые готовят почву для открытий Ньютона. Но первопричину следует искать в более отдаленном времени – в середине XV века, когда было изобретено книгопечатание. Бесспорно, основной вектор этого процесса – не старания моралистов, не творчество художников, не работа ученых, а распространение печатных книг и гравюр. Причем гравюры, изображения, вырезанные или вытравленные на твердой поверхности, а затем напечатанные черной краской на белой бумаге, еще в большей степени, чем книги, поспособствовали превращению черного и белого в особые, «отдельные» цвета. Все или почти все средневековые изображения были полихромными. Подавляющее большинство изображений, которые появляются в книгах и помимо книг в Новое время, – черно-белые. Речь идет о культурной революции огромного масштаба, и не только в области знаний, но и в человеческом восприятии.
Краска и бумага
В Средние века в старо– и среднефранцузском языках есть много выражений, в которых с помощью простых сравнений определяется степень черноты какого-либо предмета или живого существа: «черный, как вороново крыло», «черный, как смоль», «черный, как уголь», «черный, как тутовая ягода», «черный, как чернила»[159]. С изобретением книгопечатания последнее выражение переосмысляется и, как кажется, начинает употребляться чаще остальных, потому что под «чернилами» люди подразумевают прежде всего типографскую краску. Хотя она совсем не похожа на те чернила, которыми пользовались для написания рукописных книг: жидкие, ложащиеся неровным слоем, искусно нанесенные на пергамент и со временем иногда становящиеся не столько черными, сколько бурыми или бежевыми. Это жирная, густая угольно-черная краска, вдавленная механическим прессом в волокна бумаги и стойко переносящая все злоключения, какие выпадают на долю книг. Любой читатель или просто любопытный, который сегодня откроет печатную книгу XV века, будет поражен белизной бумаги и чернотой краски, и это спустя пять столетий!
Без этой стойкой, быстро высыхающей и долго не выцветающей краски книгопечатание, вероятно, не имело бы такого скорого и повсеместного успеха. Конечно, краска тут была не единственным фактором: производство подвижных металлических литер из сплава свинца, олова и сурьмы, механический пресс (прообразом которого, возможно, стал пресс рейнских виноградарей), употребление бумаги в качестве носителя, обеспечивающее двустороннюю печать, тоже были огромным прогрессом по сравнению с рукописными книгами и старой техникой ксилографии[160]. Но изобретение специальной типографской краски стало очень важной инновацией, благодаря которой между сферой книгопечатания и черным цветом устанавливаются тесные связи как в материальном и техническом плане, так и в области символики и даже в мире воображения. С самого начала своего существования (и долгое время в дальнейшем) печатня напоминает адскую пещеру: здесь не только пахнет краской во всех углах, но и каждый предмет пропитан этим запахом. Кругом черно, темно, все жирное и даже липкое. Все, кроме бумаги, белоснежной и тщательно оберегаемой от загрязнений (хотя «кляксы» и «ляпы» случаются достаточно часто). Вокруг печатной книги постепенно складывается свой особый цветовой мир, в реальности и в воображении; в этом мире чернота краски и белизна бумаги сливаются в гармоничном единстве, заполняя собой все или почти все пространство. Вот почему появившиеся много позже книги, напечатанные краской не черного, а какого-то другого цвета, и не на белой, а на цветной бумаге, не будут производить впечатления настоящих книг. В настоящей книге все должно быть написано «черным по белому»!
Краска, разработанная первыми печатниками, возможно даже самим Гутенбергом во время его пребывания в Страсбурге в 1440-х годах либо его помощником Петером Шеффером (который с ним поссорился и основал собственную печатню), несомненно, стала итогом долгих и мучительных экспериментов. Однако краска эта присутствует уже на почти тысяче страниц знаменитой «Библии в 42 строки», вышедшей из-под пресса Гутенберга в Майнце в 1455 году. До нас дошли сорок девять экземпляров этой книги (это очень много), и в каждой из них краска оставила на бумаге безупречно четкие оттиски. Следовательно, рецепт краски был уже почти доведен до нужной кондиции и она полностью покрывала металлические литеры (их насчитали 290 штук). В дальнейшем состав типографской краски не будет меняться вплоть до начала XIX века. Однако он остается практически неизвестным: у каждой печатни свои рецепты краски и свои секреты производства. Исследование показало, что по химическому составу краска очень близка к средневековым чернилам для рукописных книг: содержащийся в ней черный пигмент растительного и животного происхождения (напомним, самые красивые оттенки черного давали жженые виноградные ветви и жженая слоновая кость) разведен жидкостью (вода, вино), к которой добавлено связывающее вещество (гуммиарабик, яичный белок, мед, казеин, оливковое масло), а также различные субстанции, стабилизирующие полученную смесь: благодаря им краска прочно пристает к бумаге и быстро высыхает. Однако все средневековые чернила для манускриптов были суспензиями и лишь иногда представляли собой разводимую водой лепешку; проникая в волокна носителя, такие чернила не вступают с ними в химическую реакцию: они не только выцветают, но иногда, в частности на монастырских уставах, оказываются настолько непрочными, что их можно соскоблить пальцем[161]. Но у типографской краски первопечатников нет таких недостатков. Содержащееся в ней льняное масло делает ее жирной и липкой, так что она легко пристает к бумаге; добавление сульфата железа или меди придает ей красивый, насыщенный оттенок черного, а соли металлов обеспечивают быстрое высыхание. Кроме того, краска и бумага вступают в химическую реакцию, после которой окрашивание становится необратимым; именно этим объясняется стойкость краски в старопечатных книгах.
Огромный шаг вперед – применение в качестве основы льняного масла, которое широко использовали живописцы середины XV века. В результате краска первопечатников становится очень жирной и маркой, а типографские рабочие – похожими на чертей. Черные, грязные, вонючие, всегда торопливые и суетящиеся, нередко вспыльчивые, они, так же как красильщики и угольщики, кажутся выходцами из преисподней. В городах, где есть печатни, этих рабочих побаиваются, их избегают и добиваются переноса их мастерских куда-нибудь подальше от центра и богатых кварталов. Вдобавок люди, участвующие в создании книги, не такие забитые и невежественные, как остальные представители их класса; поэтому в течение нескольких столетий власти будут считать типографских рабочих особо опасными элементами.
Но, как мы уже заметили, в печатной мастерской не все черно. Бумага привносит сюда толику белизны и вместе с краской превращает книгу в маленькую черно-белую вселенную. Бумага впервые появилась в Китае в начале (или незадолго до начала) нашей эры; в Западную Европу ее завезли арабы. Мы знаем, что в XI веке она была в Испании, а в начале XII века – в Сицилии. Два века спустя бумагу уже широко используют в Италии: на ней пишутся некоторые нотариальные акты и большинство частных писем. Затем она появляется во Франции, в Англии и в Германии. К середине XV века бумага используется во всей Европе и уже несколько десятилетий составляет конкуренцию пергаменту в тех случаях, когда надо выполнить копии некоторых рукописных книг. В городах, особенно в тех, где проводятся ярмарки, появляется множество бумажных фабрик; постепенно Западная Европа перестает быть импортером бумаги и становится ее экспортером. На сырье для ее изготовления, тряпье, идут лоскуты пеньковых либо льняных тканей, особенно тех, из которых кроят рубахи. В те времена рубаха – единственная разновидность нижнего белья, с XIII века ее носят все, и мужчины, и женщины. Текстильная промышленность производит рубахи в огромном количестве; когда они приходят в негодность, то становятся сырьем для бумажных фабрик. Однако бумага – продукт дорогой и останется таким вплоть до XVIII века. Владельцы бумажных фабрик – люди состоятельные, и нередко именно они предоставляют первопечатникам средства на оборудование типографии. Да, так было с самого начала: чтобы напечатать книгу, нужны прежде всего деньги[162].
Первая писчая бумага, которая использовалась во Франции для архивных документов, деловых писем, университетских работ, а позднее для гравюр по дереву, не была по-настоящему белой. Бумага производства разных фабрик имела желтоватый, бежевый или кремовый оттенок, а со временем еще и темнела. Когда появляется книгопечатание с его гигантской потребностью в бумаге, она становится менее плотной, менее шероховатой, на нее лучше ложится краска, но главное, она теперь светлее и прочнее. Мы не знаем, по каким причинам и ради каких целей, но цвет бумаги быстро меняется: из бежевой она становится грязновато-белой и затем из грязновато-белой превращается в белоснежную. В средневековых рукописных книгах чернила никогда не были по-настоящему черными, а пергамент – по-настоящему белым. Только теперь, с появлением печатной книги, читатель впервые увидел угольно-черные буквы на белоснежной бумаге. Это подлинная революция, которая повлечет за собой коренные изменения в восприятии цвета. Кстати, она затрагивает не только книгу, но также – и даже в большей степени – изображение.
Черно-белый колорит
Невозможно переоценить значение события, которым стало в европейской культуре появление и распространение изображения, выгравированного на твердой поверхности и оттиснутого на бумаге. А в истории цвета это был крутой поворот: всего за несколько десятилетий с середины XV по начало XVI века подавляющее большинство изображений, доступных людям в книге и вне книги, из цветных превратились в черно-белые. В Средние века все или почти все изображения были полихромными; изображения Нового времени в большинстве своем будут черно-белыми. Это революция, которая в итоге приведет к изменениям в восприятии цвета и заставит людей пересмотреть большую часть научных теорий, касающихся цвета. В самом деле, для глаза средневекового человека черное и белое были полноценными хроматическими цветами. С конца XV века и особенно с середины следующего столетия все изменится – черный и белый станут особыми цветами, более того, и тот и другой начнут восприниматься как некая противоположность цвету. Эта новая точка зрения получит научное обоснование во второй половине XVII века, когда Ньютон проведет свои опыты[163]. Рассмотрим поподробнее этот процесс и в особенности те проблемы, которые вызвало появление выгравированного и оттиснутого на бумаге изображения. Потому что наиболее важные изменения происходят именно в этой сфере.
Хотя ксилографию изобрели еще во второй половине XIV века, а первые гравюры на дереве стали появляться в печатных книгах с 1460-х годов[164], в области изображений переход от средневековой полихромии к господству черной краски и белой бумаги случился не сразу. Еще долгое время, по крайней мере до 1520–1530-х годов, гравюры в печатных книгах раскрашивали вручную, чтобы они походили на миниатюры в рукописях. Однако в практике раскрашивания гравюр многое еще предстоит изучить и прояснить. Где и когда их раскрашивали? Прямо в печатной мастерской или за ее пределами? Сразу после печати или несколькими неделями, а то и несколькими годами позже? Кто заказывал работу – владелец книги или сам печатник? Возможно, все гравюры должны были быть раскрашены и задумывались именно такими? Если да, кто принимал соответствующее решение? Возможно, в некоторых печатнях работали мастера, которые подбирали пигменты и цвета, продумывали их расположение на гравюре? Существовали ли некие общие правила подбора цветов или у каждой мастерской были свои? Никто пока не удосужился четко сформулировать все эти вопросы.
Каждая книга, каждая гравюра – это новые неожиданности и новые загадки. На некоторых гравюрах цвет положен небрежно: он «выплывает» за периметр, в котором должен быть заключен, и не помогает различить отдельные фигуры, отдельные зоны, передний, средний и задний планы. На других гравюрах (таких меньше) цвет положен аккуратнее и, как кажется, подчинен определенным композиционным или иконографическим задачам. Или, например, одни и те же фигуры раскрашены одним и тем же цветом, причем не только в одной книге, но в целой партии книг, отпечатанных в одной и той же мастерской[165]. К сожалению, сейчас мы только в очень редких случаях можем без лабораторного анализа типографской краски и пигментов ответить на вопрос, были ли гравюры раскрашены сразу после получения оттисков или же это произошло позже, гораздо позже, в XIX либо в XX веке. Дело в том, что рыночная стоимость раскрашенной гравюры долгое время была выше, чем черно-белой. Отсюда и позднейшее раскрашивание, и всевозможные мошеннические уловки, которые вводили людей в заблуждение относительно подлинной ценности черно-белых гравюр. Сегодня коллекционеры охотятся именно за черно-белыми, а не за раскрашенными, причем в большей степени за эстампами и географическими картами, чем за иллюстрированными книгами.
Для историка цвета нераскрашенные гравюры представляют даже больший интерес. Независимо от своей рыночной стоимости они имеют ценность как исторические документы. Ведь цвет – не только хроматическая категория; он включает в себя и такие составляющие, как яркость, блеск, насыщенность, текстура, контраст, ритм, и все это вполне можно передать на изображении, созданном с помощью черной типографской краски и белой бумаги. С самого рождения гравюры мастера постоянно пытались решить эту задачу и решали ее более или менее успешно – в зависимости от их таланта или от эстетической значимости проекта, над которым они работали. Они умело использовали не только особенности разных сортов краски и бумаги, но также – и даже в большей степени – линию, симметрию, контур, различные типы штриховки, чтобы создавать хроматические эффекты, в частности эффект яркости и насыщенности. Так, черные линии, очерчивающие контуры фигур, могут быть тонкими или жирными, прямыми, кривыми или ломаными, сплошными или прерывистыми, одинарными, двойными или тройными, расположенными близко или на расстоянии друг от друга. Они могут быть горизонтальными, вертикальными или диагональными, параллельными или перпендикулярными, перекрещиваться под разными углами, переплетаться, располагаться друг к другу по касательной, соединяться в букеты или пучки. Сочетаясь с россыпью точек или черточек, заполняющих пустоты, они могут отграничивать ту или иную зону, противопоставлять два плана, создавать эффект тени или гризайли, вызывать ощущение неподвижности или движения. А сами эти точки или черточки могут быть едва заметными или жирными, расположенными редко или часто, быть правильной или неправильной, одинаковой или разной формы. Вся эта игра, для которой раньше требовалась полихромия, теперь может быть выстроена с помощью лишь двух цветов – черного и белого. К тому же граверы становятся все изобретательнее, своими линиями, точками и черточками они не только придают черно-белой картинке хроматические параметры, но и создают настоящую живопись. Уже с конца XV или начала XVI века этих искусников, вырезающих изображение на деревянной или медной доске, смазывающих его черной краской и делающих с него оттиск на белой бумаге, смело можно называть мастерами колорита. А техника углубленной гравюры, или эстампа, позволяет добиться еще более утонченных и нюансированных «хроматических» эффектов.
Историки гравюры не уделяли особого внимания всем этим вопросам[166], а вот художники XVI–XVII веков проявляли к ним большой интерес. Они часто просили граверов, чтобы те, воспроизводя их картины с помощью иглы или резца, «верно передавали цвета». Такой великий колорист, как Рубенс, в своих письмах постоянно дает соответствующие указания граверам, которые работают на него и благодаря которым его живопись становится известной во всей Европе. В его переписке с Лукасом Форстерманом (1595–1675) то и дело встречаются просьбы как можно точнее передавать цвета[167]. Нередко между ними возникают ссоры по этому поводу. Рубенс упрекает гравера, одного из искуснейших мастеров своего времени, в том, что он неверно передал тот или иной цвет, игру нюансов либо какой-то другой прием, характерный для живописи. Форстерман, знающий себе цену как художнику и резчику, возражает, брюзжит, спорит. Порой он пререкается с Рубенсом, а порой соглашается с ним, переделывает и дорабатывает «цвета», выполняя пожелания живописца[168]. Как мы видим, в начале XVII века в Антверпене и повсюду в Нидерландах люди умеют создавать виртуозный колорит, используя всего два цвета – черный и белый.
Точки и штрихи
Однако несмотря на мастерство граверов черно-белое изображение не может выполнять все функции цвета. Это становится неразрешимой проблемой для многих отраслей науки, которым цвет жизненно необходим, например картографии, ботаники, зоологии или геральдики. Ведь в этих дисциплинах изображения выполняют информативную, обучающую и даже таксономическую функцию; цвет в них играет роль определителя и классификатора. Как же быть, если цвет отсутствует или, вернее, сводится лишь к двум краскам – черной и белой?
Возьмем для примера геральдику, где эта проблема представляется наиболее сложной. Ведь для герба цвет – все равно что язык, на котором он разговаривает. Без цвета, с одними лишь фигурами и делениями, гербовый щит может дать лишь неполную или, что еще хуже, искаженную информацию о своем хозяине, а это, в свою очередь, вызовет путаницу и различные недоразумения. Поэтому в период с конца XV по начало XVII века граверы и печатники прибегали ко всевозможным хитростям, чтобы дать представление о геральдических цветах: ставили условные буквенные символы, типографские значки, миниатюрные орнаментальные композиции. Некоторые из этих приемов были напрямую заимствованы у средневековой рукописной книги: так, обозначение цветов по первым буквам их названий издавна практиковалось в монастырских скрипториях[169]. Однако в эпоху печатной книги эти обозначения давались уже не на латыни, а на местных языках, и, соответственно, в каждом языке инициалы были разными; отсюда постоянная путаница и многочисленные ошибки. В зависимости от языка, на котором описывается герб, одна и та же буква алфавита может отсылать к двум или трем различным геральдическим цветам: например, буква g в германоязычных странах обычно обозначает золото (gold), а во Франции и в Германии – червлень (gueueles); кроме того, некоторые печатни в Швейцарии используют ее и для обозначения зелени (gruen).
Гравюра на дереве в начале своего существования пыталась обойти эти трудности, в одних случаях пользуясь строчными буквами, в других – заглавными либо обозначая некоторые цвета не одной начальной буквой, а двумя; ошибок стало меньше, но не намного. В германоязычных странах граверы порой заменяют буквы маленькими значками (звездочками, кружками, цветками лилии, розами, листьями падуба), каждый из которых отсылает к определенному цвету, а еще используют условные значки в виде звезд и планет, поскольку трактаты о геральдике иногда усматривают связи между звездами и цветами[170]. В течение XVI века граверы разрабатывают всевозможные способы передачи цвета на гербах, но они оказываются почти такими же неэффективными, как буквенный код. В итоге этот последний, несмотря на его недостатки, до конца XVI века будет использоваться чаще других.
С начала следующего столетия в трактатах о геральдике и в книгах, где в большом количестве воспроизводились гербы (например, в трудах по истории и генеалогии), граверы и печатники станут прибегать к другим методам, основанным на таких элементах рисунка, как россыпь точек или различно сгруппированных черточек. На рубеже веков они будут делать это с осторожностью, а в течение первых десятилетий XVII века это станет системой. Преимущество точек и черточек состояло в том, что они всегда помещались внутри геральдической фигуры, цвет которой должны были обозначить. Для тех случаев, когда изображение было небольшого размера или перегружено различными мелкими элементами, это был несомненный прогресс. Новую систему кодирования цвета опробовали на географических картах – изображениях большого формата, перегруженных значками, рисунками и всевозможными надписями. Карты были напечатаны в Антверпене в последние годы XVI века[171]. Однако новая система была применена не к собственно географическим и картографическим изображениям, а только к гербам, которые во множестве красовались на картах[172].
В первые десятилетия следующего века эта практика распространилась на книги и эстампы. Но мастера еще не пришли к единому мнению насчет того, следует ли в одной книге от начала до конца придерживаться какой-то определенной кодировки цветов. Кроме того, новая система существовала в разных вариантах, и ни один из них не смог выйти за пределы той типографии или того города, где его изобрели, и получить статус универсального[173]. Наконец, в 1630-х годах итальянский геральдист и типограф, иезуит Сильвестро Пьетра Санта, разработал вариант, который был одобрен другими геральдистами, а затем принят граверами и печатниками всей Европы. В своем сочинении «Tesserae gentilitiae», объемистом геральдическом трактате, напечатанном и опубликованном в Риме в 1638 году[174], отец Пьетра Санта утверждает, что придумал хитроумную систему кодировки цветов: параллельные вертикальные штрихи для красного (червлень), горизонтальные для синего (лазурь), диагональные штрихи, направленные слева направо, для зеленого (зелень), горизонтальные и вертикальные, пересекающиеся под прямым углом, для черного (чернь)[175] и, наконец, россыпь мелких точек для желтого (золото) и незаполненное пространство для белого (серебро). Система простая, удобная для чтения и весьма эффективная, хоть и не отличается особым изяществом. Действительно ли ее автором был отец Пьетра Санта? Очень сомнительно. Его «изобретение» можно увидеть на многих географических картах и книжных иллюстрациях, напечатанных в типографиях Антверпена в период с 1595 до 1625 года[176]. Очевидно, что авторство тут принадлежит не итальянскому иезуиту, а фламандским граверам 1600-х годов.
Первой из европейских стран новую систему подхватила Франция: уже в 1650–1660-х годах ею стали пользоваться в королевской типографии[177]. В Англии и Соединенных Провинциях это произошло лишь в конце века, а в Германии, Италии и Испании – в начале следующего. Но с этих пор кодовая система точек и штрихов в книжной гравюре воцарилась полновластно. В XVIII веке ее даже распространили на скульптуру и металл (в ювелирном деле). Такое ее применение было неправомерным и даже нелепым по своей сути, ибо система эта родилась в среде граверов и печатников и была предназначена исключительно для бумажных носителей и для одних только графических искусств[178].
Война с цветом
Все более широкое распространение печатных книг и гравированных изображений стало, по-видимому, главной причиной того, что с конца XV до середины XVII столетия черный и белый превратились в два совершенно особых цвета, а затем и вовсе стали расцениваться как не-цвета. Главной, но не единственной. Общественные и религиозные морализаторские движения также сыграли здесь важную роль, в частности недавно сформировавшаяся протестантская мораль, уделявшая большое внимание вопросам цвета. Зародившись в начале XVI века, в те годы, когда печатная книга и гравюра распространяют среди европейцев «черно-белую» культуру и «черно-белую» картину мира, протестантизм проявляет себя как наследник позднесредневековых представлений о связи цвета с моралью и в то же время как выразитель современной ему системы ценностей: во всех областях религиозной и общественной жизни (богослужение, одежда, искусство, домашняя обстановка, коммерция) он предписывает либо устанавливает обычаи и коды, почти целиком базирующиеся на использовании черного, серого и белого. Ярким или слишком насыщенным цветам объявлена война[179].
Вначале «цветоборчество» протестантов распространяется только на храмы. По мнению вождей Реформации, цвет занимает там слишком много места; надо либо заставить его потесниться, либо вообще изгнать. Подобно святому Бернару Клервоскому в XII веке, Цвингли, Кальвин, Меланхтон и сам Лютер[180] осуждают буйство цвета в храмах. Вслед за библейским пророком Иеремией, который осыпал упреками царя Иоакима, они в своих проповедях обрушиваются на тех, кто строит храмы, похожие на дворцы, «и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красной краскою»[181]. Вообще красный цвет – в Библии самый яркий из цветов – воспринимается как главный символ роскоши, греха и «безумия людского»[182]. Лютер видит в нем эмблему папской власти, нарумяненной, словно блудница вавилонская.
Итак, общие установки вождей Реформации нам хорошо известны. Однако выяснить, как эти идеи проводились в жизнь, узнать точную хронологию и географию изгнания цвета из храма – дело затруднительное.
Сколько церквей было просто разрушено, а во скольких многоцветное убранство закрыли от верующих либо превратили в одноцветное (стерли позолоту, настенную роспись закрасили однотонной краской либо забелили известью)? Трудно сказать. Всегда ли добивались абсолютного отсутствия цвета, или же в некоторых местах, в некоторых случаях, в некоторые моменты проявлялась бόльшая терпимость (как, например, у отдельных последователей Лютера в XVII веке)? И потом, что это такое – абсолютное отсутствие цвета? Все должно стать белым? Или серым? Или черным? Или остаться некрашеным?[183] Кроме того, когда речь идет о разрушении храмового убранства, цветоборчество трудно отделить от иконоборчества. Например, полихромная раскраска скульптур, особенно статуй святых, в глазах протестантов, конечно же, превращает их в идолов; но тут дело не в одной только полихромии. Что именно стремились уничтожить сторонники Реформации в тех многочисленных случаях, когда они разбивали витражи: изображение или цвет? А быть может, сюжет (представление божественных сущностей в антропоморфном облике, сцены из жизни Богоматери, подвиги святых, портреты пап и епископов)? И на эти вопросы у нас пока нет ответа.
Еще более жесткой была позиция вождей Реформации в отношении богослужебных цветов. В ритуале католической мессы цвет играет первостепенную роль: церковная утварь и облачения священников не только выполняют функцию, обусловленную их местом в системе богослужебных цветов, они гармонично сочетаются со светильниками, с полихромным архитектурным декором и полихромной скульптурой, с миниатюрами в священных книгах и со всеми драгоценными украшениями храма; в итоге получается настоящий спектакль, герой которого – цвет. Как движения и позы священнослужителей, как ритмы и звуки молитв, цвета необходимы для католической церковной службы. В своей борьбе против мессы, этого непристойного балагана, который выставляет напоказ никчемные украшения и богатства, «превращает служителей Церкви в фигляров» (Меланхтон), Реформация не могла нейтрально отнестись к цвету – и к самому факту его присутствия в храме, и к его роли в литургии. По мнению Цвингли, внешняя красота обрядов препятствует искреннему богопочитанию[184]. А Лютер считает, что людскому тщеславию не место в храме. Карлштадт убежден в том, что церковь должна быть «чиста, словно синагога»[185]. Лучшее украшение храма, говорит Кальвин, это слово Божие. И все они сходятся в том, что храм должен приводить верующих к святости, а значит, должен быть простым, гармоничным, без прикрас и излишеств, ибо чистота его облика очищает души верующих. Поэтому в протестантских храмах не найдется места богослужебным цветам, которые так важны для католицизма, и, более того, цвет не будет играть никакой роли в отправлении религиозного культа.
Такое же критическое отношение к Цвету или, во всяком случае, к ярким цветам мы находим и в художественном творчестве сторонников Реформации, в частности в их живописи. Несомненно, палитра художников-протестантов резко отличается от палитры их собратьев-католиков. Она складывалась в XVI–XVII веках, и на ее формирование напрямую влияли высказывания вождей Реформации об искусстве и об эстетическом восприятии. А высказывались они в разные годы по-разному[186]. Так, например, Цвингли (1484–1531) в конце жизни стал относиться к ярким краскам менее враждебно, чем в 1523–1525 годах. Правда, его, как и Лютера, гораздо сильнее беспокоит музыка, чем живопись[187]. Возможно, именно поэтому наибольшее количество замечаний или указаний, касающихся изобразительного искусства и цвета, мы находим не у Лютера и Цвингли, а у Кальвина. К сожалению, они рассеяны по очень объемным текстам его сочинений и их приходится собирать по крупицам. Постараемся изложить их вкратце, по возможности не искажая смысла.
Кальвин не против изобразительного искусства, но считает, что оно должно иметь исключительно светскую тематику и дидактическую направленность, должно «радовать» (в теологическом смысле) и чтить Бога. Его задача – изображать не Творца (что недопустимо и чудовищно), а Творение. Соответственно, художник должен избегать пустых и легковесных сюжетов, склоняющих к греху или разжигающих похоть. Искусство не обладает самостоятельной ценностью; оно дается нам Богом, чтобы мы могли лучше понять Его. Поэтому живописец должен в своей работе соблюдать умеренность, стремиться к гармонии форм и красок, вдохновляться окружающим миром и воспроизводить увиденное. По Кальвину, у красоты три составляющие: ясность, соразмерность и совершенство. Самые прекрасные цвета – это цвета природы, и, похоже, больше всего ему нравятся синие тона у некоторых растений, ибо они «приятней на вид»[188].
Если в том, что касается выбора сюжетов (это портреты, пейзажи, изображения животных, натюрморты), связь между этими рекомендациями и картинами художников-кальвинистов XVI–XVII веков прослеживается сравнительно легко, то с цветом дело обстоит сложнее. Существует ли в живописи кальвинистская палитра? Или, если брать шире, протестантская палитра? Я ответил бы «да». На мой взгляд, у протестантских художников есть характерные, повторяющиеся особенности, которые позволяют говорить о несомненной хроматической специфике их живописи: строгость и сдержанность в подборе цветов, отсутствие цветовых контрастов, обилие черных и темных тонов, эффект гризайли, игра оттенков серого, стремление избегать всего, что бросается в глаза, что может нарушить хроматический лаконизм картины слишком резким перепадом тонов. У многих художников-кальвинистов можно даже говорить о пуританизме колорита, настолько радикально они придерживаются этих принципов. В качестве примера можно привести Рембрандта, у которого мы часто видим прямо-таки аскетический колорит, базирующийся на темных тонах (столь однообразных, что художника часто упрекали в монохромии), нарочито приглушенных, чтобы они не мешали вибрациям света и тени. Эта единственная в своем роде палитра обладает музыкальностью и неоспоримой, глубоко религиозной проникновенностью[189].
Однако этот хроматический лаконизм не является монополией художников-протестантов. Он наблюдается и у некоторых живописцев-католиков, главным образом у тех, кто разделял взгляды янсенистов. Так, палитра Филиппа де Шампеня становится все более скупой, все более аскетичной и темной с того момента (1646), когда он сближается с мыслителями из Пор-Руаяля, чтобы позднее окончательно обратиться в янсенизм[190]. В Западной Европе на протяжении долгого времени сохранялась определенная критическая позиция по отношению к цвету в искусстве. Цистерцианское искусство в XII веке, миниатюры, выполненные гризайлью в XIV–XV веках, волна хромофобии в начале Реформации и кальвинистская и янсенистская живопись XVII века – все это, по сути, опирается на один и тот же тезис: цвет есть прикраса, роскошь, фальшь, иллюзия.
Хромофобия в искусстве Реформации была не таким уж новшеством; более того, она была в какой-то мере реакционной. Но она сыграла важнейшую роль в эволюции отношения к цвету в Западной Европе. С одной стороны, она усилит противопоставление черно-белого и других, «цветных» цветов, с другой – она вызовет в католическом мире реакцию в виде хромофилии и косвенным образом приведет к возникновению барочного искусства. Ибо для Контрреформации церковь – это образ Неба на земле, почти Небесный Иерусалим, и догмат о реальном присутствии оправдывает любые роскошества внутри храма. Ничто не может быть слишком прекрасным для дома Божьего: мрамор, золото, драгоценные ткани и металлы, витражи, статуи, фрески, картины, сверкающие краски – словом, все то, что было изгнано из протестантского храма и богослужения. С появлением искусства барокко церковь снова станет святилищем цвета, которым она была в эстетике и литургии клюнийцев в романскую эпоху.
Протестантская одежда
Однако если говорить о влиянии Реформации на изменения в восприятии европейцев в раннее Новое время, то главным фактором этого влияния была все же не живопись, а гравюра. Активно используя в целях пропаганды книгу, гравюру и эстамп, Реформация способствовала массовому распространению черно-белых изображений. Тем самым она ускорила глубокие изменения в европейской культуре, которые привели к разрушению прежней хроматической системы и задолго до Ньютона придали особый статус черному и белому цветам. Причем изменения эти затрагивают не только искусство и систему образов; они также затрагивают и повседневную жизнь общества. Речь пойдет об одежде.
Пожалуй, именно в этой сфере влияние протестантской хромофобии оказалось наиболее мощным и длительным. И именно в этой сфере высказывания разных вождей Реформации обнаруживают наибольшее совпадение. По поводу роли цвета в искусстве, в мире изображений, в интерьере храма и в богослужении идеологи протестантизма в принципе одного мнения, однако по мелким деталям наблюдается множество расхождений. А вот по поводу одежды все практически единодушны. Разница лишь в нюансах и в степени благочестивого рвения, ибо в каждой протестантской конфессии и в каждой секте имеются свои умеренные и свои радикалы.
В протестантизме одежда – почти всегда знак стыда и греха. Она связана с первородным грехом[191], и одна из ее главных функций – напоминать человеку о грехопадении. Вот почему она должна быть проникнута духом самоуничижения и раскаяния, а значит, должна быть строгой, простой, неприметной, приближающей своего обладателя к природе и приспособленной для работы. Все варианты протестантской морали выражают глубокое отвращение к роскоши в одежде, к румянам и украшениям, к переодеваниям, к слишком часто меняющейся или эксцентричной моде. По мнению Цвингли и Кальвина, носить украшения недостойно, румяниться – позор, а надевать маскарадный костюм – мерзость[192].
Меланхтон считает, что человек, уделяющий слишком много внимания своему телу и своей одежде, хуже животного. И все они сходятся в том, что роскошь – это разврат, и единственное украшение, коего следует желать, это красота душевная. Внутренний мир должен быть важнее, чем внешний облик.
В итоге внешний вид протестантов приобрел необычайную строгость и суровость: их одежду отличали простота покроя, тусклые цвета, отказ от любых аксессуаров и любых ухищрений, которые помогли бы скрыть природные недостатки. Вожди Реформации сами подают пример аскетизма как в своей повседневной жизни, так и на своих живописных либо гравированных портретах. Все они позируют художникам в одежде темных, блеклых тонов, навевающих грусть.
Стремление к простоте и строгости заставляет протестантов изгонять из своего гардероба все «непристойные», то есть яркие, цвета: прежде всего, конечно, красный и желтый, но также и все оттенки розового и оранжевого, большинство оттенков зеленого и даже фиолетового. Зато в большом ходу темные цвета: все оттенки черного, серого и коричневого. Белый, цвет чистоты, рекомендуется носить детям (а иногда и женщинам). Синий цвет считается допустимым, но только тусклый, приглушенный. А вот пестрая или просто разноцветная одежда, которая, по выражению Меланхтона, «превращает людей в павлинов»[193], – это объект ожесточенных нападок. Таким образом, запрет, наложенный Реформацией на полихромию, распространяется не только на убранство храма и богослужебные обряды, но также и на одежду.
Цветовая гамма протестантизма мало отличается от той, которую в течение нескольких столетий предлагала набожным христианам мораль позднего Средневековья. Однако в эпоху Реформации запреты касаются только самих цветов; о красителях, слишком дорогих или слишком концентрированных, речь не идет. Некоторые цвета запрещены, другие рекомендованы к ношению. Об этом ясно и определенно сказано во всех нормативных актах по поводу одежды и в законах против роскоши, изданных протестантскими властями, – и в Цюрихе и Женеве в XVI веке, и в Лондоне в середине XVII века, и в Пенсильвании в середине XVIII века. Члены многих пуританских или пиетистских сект одевались еще более строго, чем требовала идеология протестантизма, и еще более единообразно (униформа, которую ввели анабаптисты в Мюнстере в 1535 году, всегда оставалась сильным искушением для идеологов Реформации, видевших в ней противоядие от мирской суеты[194]). Это способствовало тому, что протестантские тенденции в одежде стали восприниматься не только как аскетические и пассеистские, но и как реакционные, поскольку они отвергают современную моду и вообще любые перемены и новшества.
А впрочем, не надо приводить примеры из истории наиболее радикальных пуританских сект, чтобы доказать очевидное: обычай носить одежду темных цветов, введенный вождями Реформации, лишь продолжил моду на черное, захватившую Европу в конце XV века. В самом деле, протестантское пристрастие к черному и пристрастие к черному у католиков словно бы вступили в союз (или слились воедино), чтобы сделать этот цвет самым востребованным для мужской одежды в Европе в период с XV по XIX век. Ничего подобного не наблюдалось ни в эпоху Античности, ни в более ранние периоды Средневековья. В те времена мужчины могли носить красное, зеленое, желтое, в общем, все яркие и светлые тона. Теперь с этим покончено: кроме редких исключений, обусловленных особыми обстоятельствами (ритуалы, праздники, экстравагантное поведение), яркие цвета в мужском гардеробе недопустимы. Всякий добрый христианин, всякий добропорядочный гражданин, будь он протестант или католик, в повседневной жизни будет носить одежду темных тонов: черное, серое, коричневое, а позднее темно-синее. Но чаще всего он одевается в черное. И символика у этого черного двойственная. С одной стороны, это цвет королей и принцев, роскошный цвет, который вошел в моду при бургундском дворе в эпоху Филиппа Доброго, а потом вместе со всем бургундским наследием достался Испании; с другой – цвет монахов и служителей Церкви, символ смирения и воздержности, а также всех тех религиозных движений, которые под теми или иными лозунгами стремились вновь обрести чистоту и простоту, какие некогда были присущи христианской Церкви. Это черный цвет Уиклифа и Савонаролы, цвет Реформации, но также и Контрреформации.
По отношению к цвету Контрреформация занимает двойственную позицию: если Церкви и богослужению приличествуют яркость и богатство красок, то прихожанам, напротив, положено соблюдать строгость и воздержность. Месса – это театр цвета, но доброму католику, будь он даже государь, не должно появляться в яркой одежде. Следовательно, когда Карл Пятый одевается в черное – а он делает это в продолжение почти всей своей жизни, – значение черного цвета может быть различным. Порой это свидетельство княжеской роскоши, наследие великолепного бургундского двора, а порой, напротив, проявление монашеского смирения, наследие средневековой морализаторской традиции. Последний вариант сближает его с Лютером и показывает нам, что и католическая, и протестантская этика стремятся к одному и тому же: подчинить христиан, всех христиан, единой хроматической системе ценностей. В середине XVI века черный цвет занимает верхнюю строчку этого рейтинга и будет оставаться там в течение долгих десятилетий.
Очень темный век
XVII век в Европе смело можно назвать черным веком как в социальном и религиозном плане, так и в плане морали и символики. Пожалуй, никогда еще европейцы не были так несчастны. Когда речь заходит о грубости нравов, дикарских проявлениях нетерпимости, чудовищных злодеяниях и бедствиях, люди обычно говорят: «прямо как в Средние века». Но они ошибаются, и мы, историки, хорошо это знаем. Им следовало бы сказать: «прямо как в XVII веке». Ибо этот век, век Людовика XIV и Версаля, великих художников и писателей, был веком тьмы и смерти. Несмотря на блестящую придворную жизнь и пышные празднества, расцвет живописи и литературы, прогресс науки и знаний, кругом царят нетерпимость, деспотизм и ужасающая нищета. К бедствиям войны, религиозным конфликтам, непосильным налогам добавляются еще климатические аномалии, экономический и демографический кризис, чума и другие опустошительные эпидемии, постоянный страх и голод. Смерть подстерегает повсюду. Со времен раннего Средневековья продолжительность жизни никогда еще не была такой низкой, никогда еще мужчины, женщины и даже животные не были такого маленького роста, а подати и преступность не вырастали до такого уровня. Изнанка «Великого века» была темной, очень темной[195]. И черный во всех отношениях был его цветом.
Начать хотя бы с религии. Этот век, такой блестящий, с одной стороны, и такой ужасный, с другой, был веком глубокой религиозности. В протестантской Европе по-прежнему, быть может даже строже, чем в прошлом столетии, соблюдается хроматический лаконизм. В странах Скандинавии и в Соединенных Провинциях черная одежда стала почти униформой, по крайней мере для мужчин. Об этом свидетельствуют полотна художников. В Англии в середине столетия, при диктатуре Кромвеля и «круглоголовых» (1649–1660), дело обстоит еще хуже: пуританизм распространяется на все области политической, религиозной, общественной и повседневной жизни; все становится черным, серым, коричневым. И католическая Европа не отстает от протестантской. Ничто не может быть слишком прекрасным для дома Божьего, храмы эпохи барокко блистают золотом и сверкают яркими красками, однако простые смертные – совсем другое дело. Как и всякий уважающий себя протестант, добрый католик должен одеваться в черное, в своем доме и в своей повседневной жизни избегать ярких цветов, прикрас и побрякушек. Если мы заглянем в описи наследственного имущества, составленные в период с конца XVI века до первых десятилетий XVIII века, то в каждой из них отметим явное преобладание драпировок и одежды темных цветов. Так, в Париже в 1700 году у дворян (и мужчин, и женщин) 33 % предметов одежды были черного цвета, 27 % – коричневого, 5 % – серого. У чиновников процент предметов одежды темных цветов еще выше: 44 % черных, 13 % серых, 10 % коричневых; но выше всего этот процент у слуг: 29 % черного, 23 % коричневого, 20 % серого[196].
В эту эпоху представители духовенства контролируют не только общественную, но и частную жизнь людей и повсюду стараются найти проступок или грех. Люди должны исповедоваться, предаваться самобичеванию и в знак покаяния одеваться в черное. Такие наставления дают своей пастве не только иезуиты, но и янсенисты. Несмотря на все разногласия по догматическим и дисциплинарным вопросам, они сходятся по крайней мере в одном: в цвете одежды. В тот недолгий период, когда Расин вращался в свете (1660-е годы), он с юмором рассказывал о том, как возмутились «господа из Пор-Руаяля», его духовные наставники и близкие друзья, увидев его в темно-зеленом костюме; по их мнению, приличным цветом для одежды был только черный[197].
Этот же цвет выбирают для своего облачения и новые монашеские ордены, основанные в XVII веке. Их много, и все их члены облачаются в черное, серое или коричневое (иногда двухцветное, но неизменно темных тонов). Только монахини еще до некоторой степени сохраняют верность белому.
Однако темные тона преобладают не только в одежде, но также и в оформлении домашнего интерьера; особенно это заметно в первой половине столетия. В богатых домах оконные стекла делаются толще, их покрывают резными узорами или накладными украшениями, и в результате они пропускают меньше света. Помещения становятся теснее, появляется все больше темных комнат, чуланов, потайных уголков; люди прячутся, шпионят друг за другом, замышляют недоброе под покровом тьмы. В моду входит громоздкая, тяжеловесная мебель, чаще всего из ореха (это благородная древесина, но темных тонов), которая зрительно уменьшает пространство и создает ощущение сумрака. В бедных домах царят нищета и грязь (в Лондоне стирка белья в 1660-е годы стоит вдвое дороже, чем в 1550-е[198]), освещение все еще остается недоступной роскошью. В некоторых городах к обычному средневековому загрязнению окружающей среды добавляются и недавно появившиеся промышленные выбросы. Кругом грязь, серость, уныние, и гравюры, оставившие нам бесчисленные свидетельства тогдашней неприглядной жизни, еще усиливают это тягостное впечатление: штрихи на них делаются все чернее, гуще и чаще. Не только реальность, но и ее изображение становятся очень мрачными.
В эти годы и сама Смерть настойчивее прежнего напоминает о себе, и не только на гравюрах и картинах, запечатлевших болезненные фантазии их создателей, но также на улице и внутри дома. Это эпоха, когда ношение траура становится общепринятой традицией. Конечно, траурная одежда существовала и раньше, но ее носили лишь представители наиболее состоятельных классов общества и в основном на юге Европы. К тому же траурные драпировки, которыми затягивали стены, и одежды родственников покойного отнюдь не всегда бывали черными: они могли быть и серыми, и темно-синими, а чаще всего фиолетовыми. Некоторые государи в знак траура даже облачались в одежду ярких цветов: так, траур королей Франции долго был красным, затем стал темно-малиновым либо фиолетовым, а траур королев был белым. Так же поступали по случаю траура и некоторые вельможи во Франции и в соседних странах. Но с XVII века все меняется: отныне существует только один траурный цвет – черный. Традиция, которую до сих пор соблюдали лишь в Испании, во Франции и в Италии, распространяется на северные страны и в итоге захватывает всю Западную Европу, причем этой традиции следует не только аристократия, но также патрициат и часть буржуазии[199]. Появляются новые правила, регламентирующие всё вплоть до мелочей: перечень предметов траурной одежды, длину и ширину драпировок на мебели и на фасадах домов, длительность траура – целый календарь с указанием дней, когда вместо черного можно иногда надеть фиолетовое (полутраур), а затем и серое (четверть траура). Однако четкое соблюдение траурных кодов войдет в обычай лишь в XIX веке. До этого они встречаются преимущественно в литературе – в перечнях обязательных предметов одежды и учебниках хороших манер[200]. Смерть же по-прежнему связывается только с черным.
Возвращение Дьявола
Пугающая чернота присутствует и в иных областях жизни, например в народных поверьях: Дьявол и его приспешники, которые в предшествующие десятилетия словно бы ушли в тень, во второй половине XVI века снова напоминают о себе. В 1550–1560-е годы множатся судебные дела о колдовстве и усиливается борьба с любыми формами поведения, которые подходят под определение ереси либо сношений с нечистой силой. Здесь мы сталкиваемся еще с одним распространенным заблуждением: принято считать, что суды над колдунами и ведьмами – характерная особенность средневекового мира с его так называемым обскурантизмом. Неправда: процессы над ведьмами, зародившись на закате Средневековья, достигли наибольшего размаха в XVI–XVII веках. Реформация с ее пессимистической концепцией жизни Человека укрепит в народе веру в существование сверхъестественных сил и в возможность заключить с ними сделку ради того, чтобы сполна насладиться жизнью либо приобрести какой-то особый дар – ясновидение, дурной глаз, умение насылать порчу, готовить волшебные зелья, изводить скот, губить урожай, сжигать дома и причинять разнообразный вред своим врагам. Дело довершит печатная книга, которая, появившись в середине XVI века, начнет распространять в больших масштабах не только сборники рецептов, но и трактаты по демонологии. И те и другие становятся бестселлерами. Среди авторов таких сочинений попадаются и просвещенные умы. Например, Жан Боден (1529–1596), философ, юрисконсульт, автор опередивших свое время трудов по экономике, праву и политологии: в 1580 году выходит его книга под названием «О демономании колдунов», где он рассуждает о силах Зла, о сделках с демонами, подробнейшим образом описывает колдунов и ведьм, перечисляет пятнадцать видов совершаемых ими преступлений (в том числе принесение в жертву детей, каннибализм и совокупление с Дьяволом) и уверяет, что лучшие средства для искоренения этих злодеяний – пытка и костер[201]. Вслед за книгой Бодена, выдержавшей несколько изданий, в последние годы XVI – в начале XVII века появилось множество других, написанных его подражателями. По всей Европе в судах все чаще рассматриваются дела о колдовстве, причем обвиняемые – сплошь и рядом женщины, которых обвиняют в плотской связи с Сатаной или его присными. У колдовства выявляется женское лицо, одержимость дьяволом опять становится актуальной темой, шабаш вновь оказывается в центре внимания, и охота на ведьм приобретает такой размах, какого не знала никогда прежде, в особенности в Германии, во Франции и в Англии. Причем протестанты в этих обстоятельствах часто выказывают большую жестокость и нетерпимость, чем католики[202].
У охоты на ведьм есть свой цвет: черный. В протоколах судебных заседаний, в подробных описаниях сатанинских обрядов, в трактатах по демонологии и руководствах по экзорцизму – всюду фигурирует этот цвет. Возьмем для примера шабаш, который в первые годы XVII столетия, похоже, становится навязчивым кошмаром для всей Европы. Шабаш происходит ночью, во мраке, возле развалин или в лесной чаще, а иногда в подземелье, где царит кромешная тьма. Гости прибывают на это сборище в черных одеяниях, покрытых сажей (чтобы попасть на шабаш, некоторым из них пришлось вылететь через трубу); они сбрасывают эти одеяния перед тем, как принять участие в черной мессе, трапезе, жертвоприношениях и оргиях. Дьявол является в облике большого черного зверя, ужасного и омерзительного на вид, рогатого, мохнатого или когтистого. Часто это козел, иногда пес, волк, медведь, олень или петух. Его сопровождает множество зверей и птиц с черной шерстью или перьями: коты, псы, вόроны, совы, летучие мыши, василиски, скорпионы, змеи, драконы и всевозможные чудища, реже кони, ослы, свиньи, лисы, куры, крысы и насекомые. Во время «черной» мессы (черной в буквальном и в символическом смысле), которая читается задом наперед и с добавлением кощунственной брани, используются различные предметы этого цвета. Облатки причастия или то. что их заменяет (обычно мелкая репа), – тоже черные либо мгновенно чернеют, как и кровь принесенных в жертву младенцев, после произнесения неких кощунственных заклинаний. После мессы и оргий «князь тьмы» и его свита совершают различные ритуалы черной магии, чтобы обучить своих приспешников и навредить праведным и невинным душам[203].
По-видимому, именно рассказы про шабаш и вера в Дьявола породили суеверный страх, широко распространенный в сельской Европе: страх, который вызывают животные черного цвета (лесные звери, вόроны, вороны и хищные птицы, но также и обычные домашние животные: собаки, кошки, петухи, куры и даже коровы, козы или бараны). Раз они черные, значит, приносят несчастье, особенно если встречаются вам неожиданно или в непривычных обстоятельствах. Если рано утром вам перешел дорогу черный кот, это очень плохая примета: надо вернуться и снова лечь в постель. Две вороны дерутся на лету – это к большому несчастью. Черный петух запел не ко времени – то же самое. Съесть яйцо от черной курицы – подвергнуть себя смертельной опасности; такие яйца надо уничтожать, так же как и черных цыплят[204]. Конечно, подобные страхи уходят корнями в Средние века, а быть может и глубже, но в раннее Новое время, когда постоянная тревога и неуверенность в будущем становятся общим уделом, люди особенно склонны к суевериям. В этот период появляются новые пословицы, поговорки и притчи, которые призывают остерегаться зверей и птиц с черной шерстью или оперением. Эти продукты народного творчества позволяют наглядно представить себе верования и обычаи, распространившиеся тогда по всей Европе, и осознать, сколько людей воспринимали тогда черный цвет как мрачный, отталкивающий, злотворный[205].
Однако сфера влияния черного не ограничивается ведьминским шабашем, миром тени и мрака. Этот цвет властвует и в мире правосудия. Тюрьмы, застенки, процессы, инквизиция, пытка: аппарат юстиции любит черный цвет и охотно демонстрирует его, чтобы поразить умы, придать драматизма своим ритуалам, подчеркнуть суровость своих вердиктов, добавить тяжести наказаниям. На судебных процессах над ведьмами и колдунами все одеты в черное, в том числе судьи и палачи, которые обычно бывают в красном. Эти два цвета встречаются только на костре, где языки пламени добавляют яркую, пикантную нотку к общей черноте. Впрочем, не всегда: некоторые трибуналы приказывают складывать костер из свежих веток, которые горят плохо и медленно – чтобы казнь длилась дольше. Но есть и менее строгие судьи: они верят в символику цветов или, возможно, в искупление через цвет, а потому приказывают одевать ведьм, приговоренных к сожжению, в белые одежды.
Новые спекуляции, новые классификации
XVII век, который был эпохой усиления религиозной нетерпимости, веры в демонов и яростной охоты на ведьм, был также и великой эпохой для науки. Во многих областях человеческое знание пополняется либо претерпевает метаморфозы, появляются новые теории, новые дефиниции, новые классификации. Это происходит с физикой, в частности с оптикой – наукой, в которой с XIII века не было никакого существенного прогресса. Однако начиная с 1580-х годов появляется все больше трудов, посвященных свету и, следовательно, цветам, их природе, иерархии, восприятию человеком. В тот самый момент, когда художники опытным путем открывают новую классификацию цветов (которая несколько десятилетий спустя приведет в теоретическому разделению цветов на основные – синий, желтый, красный, и дополнительные – зеленый, фиолетовый, оранжевый), ученые, со своей стороны, также предлагают новые гипотезы и новые схемы сочетаемости, которые подготовят почву для исследований Ньютона и открытия цветового спектра[206].
Ученые Средних веков и Возрождения мало что добавили к знаниям о природе цвета и цветового зрения, накопленным в эпоху Античности, когда в науке доминировали теории Платона и Аристотеля. В частности, по вопросу цветового зрения исследователи оставались в плену давно устаревших идей[207]. Одни продолжали верить, как Пифагор за шесть веков до нашей эры, что из человеческого глаза исходят потоки лучей, которые распознают сущность и «свойства» видимых предметов (а среди этих «свойств» фигурирует и цвет). Другие вслед за Платоном полагают, что цветовое зрение – это результат взаимодействия некоего зрительного «огня», исходящего от глаза (или находящегося внутри глаза), и световых потоков, испускаемых видимым предметом; частицы из потоков зрительного огня и частицы из световых потоков, испускаемых предметом, могут быть разной величины: в зависимости от того, как соотносятся по размеру первые и вторые, глаз видит тот или иной цвет. Несмотря на дополнения, внесенные в эту гибридную теорию Аристотелем (о влиянии окружающей среды и вещества, из коего состоит видимый предмет, о роли личности и характера видящего), и несмотря на появление новых знаний о структуре человеческого глаза, о природе различных его частей, о мембранах и жидкостях, о роли зрительного нерва (которому придавал такую важность Гален во II веке нашей эры), именно эта древняя теория будет господствовать в европейской науке на исходе Средневековья и вплоть до середины XVI века[208]. Постепенно, однако, ученые начинают пересматривать эту теорию; в частности, Кеплер утверждает, что цвета образуются не столько на поверхности предметов или в потоке света, сколько внутри самого глаза, каждая часть коего выполняет определенную функцию, и самой важной является функция сетчатки (прежде ведущую роль отводили хрусталику)[209].
Что касается природы цвета, то многие авторы вслед за Аристотелем до сих пор считают, что цвет – это свет, который, проходя сквозь различные предметы или сквозь определенную среду, частично ослабевает или меркнет. Ослабевая, свет теряет в количественном и качественном выражении, а также в степени чистоты и при этом порождает различные цвета. Вот почему, если создать хроматическую шкалу, все цвета окажутся на ней между двумя полюсами, белым и черным, которые являются неотъемлемыми частями цветовой системы. Другими словами, белый и черный – цвета в полном хроматическом смысле слова. Однако остальные цвета на этой шкале располагаются не так, как в реальном спектре, а в совершенно ином порядке. Есть, конечно, разные варианты, но в Средние века и до самого конца XVI века цвета обычно выстраиваются в порядке, предложенном Аристотелем: белый, желтый, красный, зеленый, синий, черный. Во всех областях жизни эти шесть цветов являются базовыми. Если есть желание создать семичастную хроматическую систему, которая в символическом плане более эффективна, чем шестичастная, можно добавить в качестве седьмого цвета фиолетовый; его помещают между синим и черным.
Итак, в 1600 году общепринятая хроматическая шкала выглядит так: белый, желтый, красный, зеленый, синий, фиолетовый, черный. Белый и черный – все еще полноценные хроматические цвета; зеленый не является промежуточным цветом между желтым и синим; с другой стороны, он не представляет собой противоположность зеленому, а фиолетовый считается не смесью красного с синим, как сейчас, а смесью синего с черным. Кажется, что до открытия спектра еще очень далеко, даже если живописцы (в этом они были первыми) уже поставили под сомнение тысячелетнюю систему, придали белому и черному особый статус и опытным путем установили, что можно получить большое количество тонов, оттенков и нюансов, просто смешав в различных пропорциях три «чистых» цвета – красный, синий, желтый – либо один с другим или третьим, либо с белым или черным.
В последующие два или три десятилетия ученые интенсивно проводят эксперименты, пишут множество теоретических трудов. Некоторые из них подхватывают идеи художников, касающиеся природы цвета, его классификации и даже цветового зрения. Так, парижский врач Луи Саво беседует с живописцами, красильщиками, мастерами витражей, расспрашивает их, а затем строит на этом материале, полученном эмпирическим путем, свои научные гипотезы[210]. А фламандский натуралист Ансельм Де Боодт, которого принимают при дворе императора Рудольфа II и который никогда не упускает случая осмотреть императорскую кунсткамеру, ставит в центр своих исследований серый цвет и доказывает, что для его получения вовсе не обязательно смешивать все цвета, какие есть в мастерской (так делают красильщики), достаточно просто смешать белое и черное (так уже много веков поступают художники)[211]. Но наиболее ясные и четко сформулированные теории, оказавшие наибольшее влияние на ученых середины века, выдвинул Франсуа д’Агилон, друг Рубенса, иезуит и автор работ по разным вопросам науки. Д’Агилон делит цвета на «крайние» (белый и черный), «срединные» (красный, синий, желтый) и «смешанные» (зеленый, фиолетовый и оранжевый). На созданной им великолепной, удивительной по простоте диаграмме он показывает, как одни цвета, сливаясь вместе, порождают другие. По мнению д’Агилона, белый и черный – полноправные хроматические цвета; правда, у них статус «крайних», но все же они остаются в пределах хроматической системы. Кроме того, полагает д’Агилон, если один из «срединных» цветов разбавить черным или белым, его хроматическая идентичность останется прежней, изменится лишь степень насыщенности[212]. В это же самое время другие ученые утверждают – вполне в духе Аристотеля, – что цвет есть движение: как и свет, цвет движется и приводит в движение все, чего ни коснется. Таким образом, цветовое зрение есть весьма динамичный процесс. Для возникновения «феномена цвета» необходимы три составляющие: луч света, предмет, на который падает этот свет, и человеческий взгляд, действующий одновременно как передатчик и как приемник. Эта концепция менее сложна и более близка нашим современным взглядам, чем концепция Аристотеля, основанная на взаимодействии четырех стихий: светоносного огня, материальной субстанции предметов (то есть земли), жидкостей глаза (то есть воды) и воздуха, играющего роль модулятора оптической среды. Некоторые ученые XVII века (в частности, Кеплер[213]) пойдут дальше и выскажут мнение, что цвет существует только тогда, когда на него устремлен человеческий взгляд. На тот момент это новаторская идея; в следующем веке ее будет развивать Гете.
Что касается классификации цветов, то многие авторы, поддерживающие концепцию цвета как движения, приходят к выводу: цвета должны быть выстроены не по линейной шкале, а по кругу. Так считает, в частности, английский врач Роберт Фладд (1574–1637), ученый-физик, но также и философ-мистик, член общества розенкрейцеров: в своей книге «Medicina catholica» (1631), проникнутой спиритуализмом, он предлагает, разъясняет и наглядно показывает с помощью великолепной гравюры новую модель хроматической системы – «цветовое кольцо» (colorum annulus); эта гравюра, судя по всему, – самое раннее печатное изображение хроматического круга. Количество цветов прежнее – семь, и расположены они в том же порядке, как и на Аристотелевой линейной шкале: белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий, черный. Итак, к шести базовым цветам здесь добавляется не фиолетовый, а оранжевый. Но главное отличие от предшествовавших систем и схем состоит в том, что шкала закруглена и концы ее сходятся, образуя правильную окружность. При этом белый и черный оказываются рядом; следовательно, чтобы уяснить себе принцип действия «цветового кольца», надо представить прочный барьер, разделяющий эти два цвета. Остальные цвета, напротив, занимают в круге сектора, разделенные проницаемыми границами. Это еще не спектральный «континуум» Ньютона, но это уже некий его прообраз. С другой стороны, в этой новой концепции, как и в прежних, каждый из цветов, составляющих хроматическую систему, мыслится как соединение света и мрака, смешанных в различных пропорциях. У двух «центральных» цветов, красного и зеленого (в этой системе, как и во всех предыдущих, унаследованных от Аристотеля, они располагаются рядом), свет и мрак смешаны в равных частях. В желтом и оранжевом доля света больше, чем доля мрака; в синем – наоборот[214].
В такой кольцеобразной модели, новой и в то же время традиционной, черный и белый по-прежнему являются частью системы и от их слияния в различных пропорциях рождаются остальные цвета. То же самое мы видим на большинстве диаграмм, схем, чертежей и систем, предлагаемых разными авторами в первой половине XVII века. Одним из самых смелых стал вариант, предложенный знаменитым ученым-иезуитом Атаназиусом Кирхером (1601–1680), специалистом по разным отраслям науки, интересовавшимся всем, в том числе и проблемами цвета. Эта диаграмма была представлена в капитальном труде Кирхера, посвященном свету, – «Ars magna lucis et umbrae» (Рим, 1646). Возможно, он не был сам ее автором, однако в ней как в зеркале отразились попытки его современников отойти от упрощенческой линейной шкалы и воспроизвести в схематичном изображении сложные взаимосвязи, существующие между цветами. Диаграмма Кирхера представляет собой нечто вроде генеалогии цветов, имеющей вид семи полукружий разного размера, расположенных внахлест. Структура диаграммы и пояснительная лексика близки к тем, что были предложены Франсуа д’Агилоном еще тридцать лет назад. «Срединные» цвета (желтый, красный, синий) рождаются от союза двух «крайних» цветов (белого и черного), а «смешанные» цвета (розовый, оранжевый, фиолетовый, зеленый, серый и коричневый) – от союза белого либо черного с одним из трех «срединных»[215]. Есть даже два «пограничных» цвета – «полубелый» (subalbum) и темно-синий (subcaeruleum): первый происходит от смешения белого с желтым, второй – от смешения синего с черным[216]. На такой схеме, как и на схеме д’Агилона и других подобных чертежах, созданных живописцами того времени, зеленый, представленный как смесь желтого с синим, уже не является одним из основных цветов, цветов первого плана. Это важная инновация, которая противоречит всем обычаям и всей символике, традиционно связывавшимся с этим цветом, и которая становится провозвестницей теории основных и дополнительных цветов.
Новый цветовой порядок
Но не все эти хитроумные схемы, не оригинальные смешения красок, изобретенные художниками, не новые теории цветового зрения проложили дорогу Ньютону и его революционному открытию. На мой взгляд, главную роль тут сыграли исследования, лежащие в несколько иной области, – работы, посвященные природе радуги.
В XVII веке эта проблема занимает наиболее видных ученых (Галилея, Кеплера, Декарта, Гюйгенса) и даже некоторых теологов. Все они изучают «Метеорологику» Аристотеля, труды арабских оптиков, в частности Ибн аль-Хайсама, и европейских авторов XII века – Роберта Гроссетеста[217], Джона Пэкхэма[218], Роджера Бэкона[219], Дитриха Фрейбергского[220], Витело[221]. Начиная с 1580-х годов работы о радуге появляются все чаще, в них становится все меньше поэтических и метафизических отступлений и рассуждений о символике цветов, которыми последние три века были переполнены трактаты на эту тему; внимание авторов сосредотачивается на вопросах метеорологии, физики и оптики: солнце, облака, капли дождя, кривизна дуги, а главное, отражение и преломление лучей света[222]. По-видимому, Джамбаттиста делла Порта (1535–1615) был первым, кто на серьезном научном уровне продолжил опыты с призмой, когда-то проводившиеся арабскими учеными, и выдвинул более или менее новые гипотезы, объясняющие, почему луч солнца, проходя сквозь стеклянную призму, «рождает» цвета[223]. Другие авторы полемизируют с ним, предлагают иные эксперименты, иные, более новаторские объяснения[224]. И пусть авторы всех этих трактатов, мягко говоря, не придерживаются единого мнения, всех их объединяет страсть к познанию, упорное стремление обосновать свою точку зрения. В частности, они пытаются установить, сколько цветов можно различить в радуге, а затем определить их последовательность. Вслед за учеными Античности и Средневековья[225] они считают, что этих цветов четыре, или пять, или шесть; но никто из них не упоминает о черном. Все ученые объясняют появление радуги эффектом рассеяния, которое претерпевает солнечный свет при прохождении через влагу, среду более плотную, чем обычный воздух. Разногласия наблюдаются преимущественно в таких вопросах, как отражение и преломление света или поглощение световых лучей, их яркость и различные углы падения, а также последовательность цветов в радуге.
А затем на сцену выходит Исаак Ньютон (1642–1727), возможно величайший ученый в мировой истории. В 1665–1666 годах во время вынужденных каникул (из-за вспыхнувшей эпидемии чумы ему приходится уехать из Кембриджа и вернуться к матери в Вулсторп, графство Линкольншир) он за несколько месяцев совершает ряд величайших открытий: в частности, открывает дисперсию цвета и природу спектра, а также закон всемирного тяготения. По Ньютону, цвета представляют собой «объективное» явление; надо оставить в стороне вопросы о нашем видении цвета, поскольку они тесно связаны со зрением (которому, по его мнению, «не стоит доверять») и восприятием, которое находится в слишком большой зависимости от различных культурных контекстов, и сосредоточиться исключительно на проблемах физики. Так он и поступает: вытачивает стеклянные призмы и начинает экспериментировать. В принципе опыты с призмами давно известны, только он проводит их по-своему. Он берет за основу гипотезы своих предшественников, в особенности Декарта[226], утверждавшего, что цвет – не что иное, как свет, который, распространяясь и встречая на своем пути предметы, претерпевает различные физические изменения. Ньютона не волнует вопрос, бурно обсуждаемый его современниками: является ли природа света волновой либо корпускулярной[227]. Для него важнее другое: наблюдать за модификациями света, дать им определения и, если возможно, измерить их. После многочисленных опытов с призмами он обнаруживает, что белый солнечный свет при этом не ослабевает и не тускнеет, но образует цветное пятно удлиненной формы, в котором он распадается, образуя несколько лучей неравной длины. Эти лучи формируют некую хроматическую последовательность, всегда одну и ту же – спектр. Причем этот процесс обратим: белый солнечный свет можно не только разложить на цветные лучи, но и восстановить из них заново. Этим Ньютон доказывает: порождая цвета, свет не теряет часть своей силы, а остается тем же, чем был, – результатом слияния разноцветных лучей в одно целое. Открытие Ньютона было поистине великим. Отныне свет и цвета, которые в нем заключены, можно будет распознавать и воспроизводить, укрощать и измерять[228].
Эти идеи, ставшие поворотным моментом не только в истории цветов (в частности, черного, который в новой системе отсутствует), но и в истории науки в целом, получили признание далеко не сразу. И прежде всего потому, что сам ученый хранил их в секрете шесть лет и лишь потом предал гласности, но постепенно, в несколько этапов, начиная с 1672 года. Только в его суммарном труде по оптике, опубликованном на английском языке в 1704 году[229] и включавшем в себя материалы всех его предыдущих работ, научный мир смог наконец полностью ознакомиться с его теориями о свете и цветах. Ньютон объясняет, каким образом белый свет составляется из совокупности разноцветных лучей, как, проходя сквозь призму, вновь распадается на лучи разного цвета, всегда одни и те же, состоящие из крохотных материальных частиц, обладающих громадной скоростью, притягиваемых или отталкиваемых предметами. Тем временем другие ученые, и прежде всего Карл Гюйгенс (1629–1695), успели провести свои исследования и доказали, что свет имеет скорее волновую природу, чем корпускулярную[230]. Однако работа Ньютона имела триумфальный успех и, чтобы обеспечить ей еще более широкое распространение, ее сразу же перевели на латинский язык[231]. Ньютон, гениальный ученый, честно признавался, что не смог найти решение для всех поставленных им проблем и оставил потомству тридцать загадок, которые еще предстоит решить.
Было одно обстоятельство, которое вредило популярности его открытий и в течение десятков лет приводило к досадным недоразумениям: он пользовался профессиональной терминологией живописцев, но при этом придавал словам другие значения. Например, определение «первичные цвета» (primary, primitive) имело для него особый смысл и подразумевало не только три цвета (красный, синий и желтый), как в профессиональном языке художников второй половины XVII века. В результате – путаница и неверное прочтение; так было в XVII веке и все еще продолжалось век спустя: подтверждение можно найти в трактате Гете «К теории цвета», написанном через столетие. Кроме того, Ньютон не мог с полной уверенностью назвать точное количество разноцветных лучей, на которые разбивался луч света, проходя сквозь призму; ученый несколько раз менял свое мнение и за это подвергся нападкам. Его критики иногда бывали не вполне добросовестны[232], однако он и сам признавался, что так и не пришел к окончательному выводу. В первое время (в конце 1665 года) он считал, что спектр содержит пять цветов: красный, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Затем, в 1671–1672 годах, он добавил к этим пяти еще два, оранжевый и индиго, чтобы получилась «седмица»: он рассчитывал, что в этом случае его идеи встретят большее понимание и не будут отталкивать консервативных читателей, которые привыкли к хроматической гамме из семи цветов. Сам он сравнивал свой спектр с музыкальной гаммой, состоящей из семи нот. Впоследствии его за это критиковали; впрочем, Ньютон уточнял, что разделение спектра на семь цветов – условное и искусственное, что на самом деле речь идет о цветовом континууме, который можно разделить на части как-то иначе и увидеть в нем гораздо большее число цветов. Но было уже поздно: спектр, а с ним и радуга стали прочно ассоциироваться с семью цветами.
Но для историка цвета все это не главное. Главное – это новый хроматический порядок, созданный Ньютоном; порядок, который не имел прецедентов в прошлом, базировался на совершенно новой хроматической последовательности и до сих пор остается базовой научной классификацией цветов: фиолетовый, индиго, синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный. Прежний, традиционный порядок цветов нарушен: красный теперь находится не в центре, а с краю; зеленый занимает место между желтым и синим, подтверждая то. что живописцы и красильщики доказали на практике еще много лет назад: чтобы получить зеленую краску, надо смешать желтую с синей. И, наконец, в этом новом хроматическом порядке нет больше места ни для черного, ни для белого. Это революция: черный и белый перестали быть цветами. Причем черный даже в большей степени, чем белый. Ведь белый – основа спектра, поскольку заключает в себе все его цвета. А черный окончательно выведен за рамки хроматической системы, выброшен из цветового мира.
Все оттенки черного. XVIII–XXI века
Даже если открытия Ньютона не сразу оказали влияние на жизнь большинства людей, в истории знаний о цвете, а также традиций и практик, связанных с цветом, они стали поворотным моментом и, быть может, самым важным событием со времен неолита и первых опытов по окрашиванию. Когда английский ученый доказал, что цвет возникает в результате распространения и дисперсии света и, как и свет, поддается измерению, цвет утратил часть своей загадочности. Теперь оптики и физики смогут сами создавать его и управлять им: цвет укрощен. В результате отношения, которые связывают его не только с учеными и художниками, но также с философами и богословами и даже с простыми ремесленниками, начинают понемногу трансформироваться. Привычки меняются, взгляды тоже. Некоторые вопросы, волновавшие умы в течение столетий, например цветовая символика, в какой-то мере теряют свою актуальность. На передний план выходят другие проблемы, появляются новые науки, в частности колориметрия, которая с 1700-х годов буквально врывается в живопись и в разные области знания. Появляются альбомы с образцами красок, хроматические схемы и шкалы, демонстрирующие законы и нормы, которым цвет отныне призван повиноваться[233]. Люди думают, что могут контролировать его и распоряжаться им по своему усмотрению.
Так в конце XVII века цвет входит в новую фазу своей истории, которая с разными зигзагами и перипетиями будет продолжаться до наших дней.
Триумф цвета
Одним из первых последствий этой новой волны интереса к цвету, захлестнувшей науку и искусство, становится победа цвета в старом споре, который с незапамятных времен бушевал между сторонниками рисунка и сторонниками цвета. Что важнее в изобразительном искусстве – форма или цвет? Рисунок или колорит? Эта жгучая проблема занимала не одних только живописцев.
Самые ранние свидетельства этой дискуссии мы находим в XIV веке, когда в иллюминированных рукописях появляются первые миниатюры, выполненные гризайлью, то есть не полихромные изображения, а состоящие из множества оттенков черного, серого и белого. И возникает идея, что сочетание этих трех цветов, считающихся более возвышенными или морально значимыми, чем остальные, идеально подходит для определенных изображений, либо самых важных, либо, наоборот, самых обыденных. Так, в некоторых иллюминированных книгах духовного содержания (бревиариях, часословах, молитвенниках) все сцены жизни Девы Марии и Страстей Христовых выполнены гризайлью – кроме двух самых важных: Благовещения и Распятия, выполненных полихромной росписью. А в других полихромии нет вообще, только гризайль; тут профессиональные амбиции взяли верх над моральным или религиозным чувством: художник захотел показать, как виртуозно он владеет новой техникой. Очень скоро гризайль оказывается востребованной в живописи как на холсте, так и на дереве, особенно в алтарных картинах: она незаменима во время Адвента и Великого поста, двух периодов, когда не следует смущать умы прихожан слишком яркими и красочными зрелищами; да и вообще в литургии гризайль с ее абсолютным превосходством рисунка над цветом более уместна, чем полихромная живопись. И наконец, в позднем Средневековье многие живописцы любят гризайль за то, что она дает им возможность проявить их талант рисовальщика[234].
Позднее, в Италии эпохи Возрождения, некоторые художники, больше других интересующиеся теорией искусства, ставят вопрос о статусе цвета в живописи, а затем – о сравнительных возможностях рисунка и колорита, о способности каждого из них правдиво изображать живых существ и неодушевленные предметы. Во Флоренции, где художники часто занимаются также и архитектурой и где все формы художественного творчества проникнуты философией неоплатонизма, считается, что рисунок точнее, глубже, «правдивее» цвета отображает жизнь. А в Венеции считают иначе. И начинается спор[235]. Он продлится два столетия и будет будоражить умы многих художников и философов сначала в Италии, а потом и во Франции, главным образом в Королевской академии живописи и ваяния, в последней трети XVII века[236].
У противников цвета имеется множество доводов. Рисунок, говорят они, гораздо выше и благороднее цвета, потому что он – создание духа, а цвет – лишь материальная субстанция, продукт красящих веществ. Рисунок – порождение идеи, поэтому он обращается к разуму человека. Цвет же обращается только к чувствам, его цель – не открыть нам истину, а ввести нас в соблазн. Цвет не дает четко различить контуры предметов и определить их форму; тем самым он отвращает людей от истины и добра. Его прелесть обманчива и коварна, по сути это не что иное, как уловка, фальшь, ложь, измена; все эти идеи еще в XII веке выдвинул святой Бернар Клервоский, затем их подхватили идеологи Реформации, и, наконец, в период с 1550-х по 1700-е годы они служат аргументом для тех, кто отстаивает преимущество рисунка перед цветом. К этим старым упрекам теперь добавляется новый: цвет опасен потому, что неуправляем и непостижим: он не поддается никакому обобщению, внятному истолкованию или просто анализу. Цвет – это смутьян, встречи с которым надо избегать всякий раз, когда есть такая возможность[237].
У их оппонентов, сторонников колорита, свои доводы: цвет, говорят они, может показать то, что рисунок без его помощи показать не в состоянии; без цвета живопись утратит силу эмоционального воздействия, к тому же глаз попросту перестанет различать на полотне зоны и планы, главные и второстепенные фигуры, а также те элементы композиции, которые подчеркивают другие элементы либо перекликаются с ними. Цвет не только несет в себе чувственность и музыкальность, он еще и выполняет важную классификационную функцию, необходимую для преподавания некоторых научных дисциплин (зоологии, ботаники, картографии, медицины). И все же для большинства художников главное преимущество цвета в другом: только он дает жизнь существам из плоти и крови, без которых живопись теряет смысл, а значит, цвет и есть живопись. Вплоть до конца века Просвещения у этого тезиса будет множество сторонников, а позднее его подхватит Гегель в своих трудах по эстетике[238]. Если и стоит кому-то подражать, то не Леонардо и не Микеланджело, а венецианским мастерам, и в первую очередь Тициану: никто еще не превзошел их в искусстве изображать человеческую плоть[239].
В начале XVIII века этот спор завершился полной победой сторонников цвета, а вместе с ними и самого цвета, который уже не считается опасным: теперь наука умеет измерять его, контролировать, воспроизводить по своему усмотрению. Теории Ньютона открывают дорогу другим открытиям, в частности в области книги и гравюры. Так, живущий в Лондоне немецкий гравер французского происхождения Жакоб Кристоф Леблон (1667–1741) разрабатывает в 1720–1725 годах способ печатания гравюр, позволяющий получить полихромное изображение; он последовательно делает оттиски с трех досок, покрытых разными красками – красной, синей и желтой; использование этих трех красок в сочетании с обычной черной дает возможность получить на белом листе бумаги оттиски всех цветов[240]. Это техническое новшество имеет огромное значение: оно не только позволяет гравюре выполнять недоступные ей ранее художественные и научные задачи, но еще и окончательно утверждает новую иерархию цветов, которую живописцы открыли опытным путем много десятилетий назад и которая подготовит почву для будущей теории основных и дополнительных цветов. Теория эта пока еще не сформулирована окончательно[241], но три главных цвета уже определились: красный, синий и желтый.
К 1720-м годам, после новых классификаций цветов, разработанных художниками, открытий Ньютона и Леблона, мир цвета перестраивается: отныне он будет организован не вокруг шести основных цветов, как повелось с давних пор, еще до заката Средневековья, а вокруг трех. Мало того что белый и черный выведены за рамки хроматического мира, но теперь еще и зеленый, получаемый из смеси желтого и синего (которые в античной и средневековой традициях никогда не смешивались), опустился на более низкую ступень в хроматической генеалогии и хроматической иерархии. Эти инновации приведут к переменам во всех областях общественной жизни, художественного творчества и интеллектуальной деятельности.
Век Просвещения
В обрамлении таких беспросветно темных веков, как семнадцатый и девятнадцатый, век Просвещения являет собой некий красочный оазис. В самом деле, в XVIII столетии свет озарял не только умы, но также и повседневную жизнь. Почти везде можно наблюдать массовое отступление коричневых, фиолетовых и темно-малиновых тонов, темных, насыщенных оттенков и резких контрастов – в общем, всего того, что было так модно в прошлом веке. В одежде и оформлении интерьера преобладают чистые, яркие краски, радостные цвета, пастельные оттенки, преимущественно в гамме синего, розового, желтого и серого. Конечно, интенсивность этих изменений зависит от профессии человека и от его принадлежности к тому или другому классу общества: они затрагивают в основном городское население и верхние социальные слои. Но они отражают общую тенденцию, проявлявшуюся в продолжение почти всего столетия, с 1720-х по 1780-е годы; во всяком случае, так было во Франции, в Англии и в Германии. Испания и Италия дольше будут хранить верность темным тонам; так же поступит и Северная Европа, которой правила протестантской морали запрещают носить одежду слишком ярких или легкомысленных цветов. При испанском дворе, несмотря на смену династии и восшествие на трон в начале века одного из Бурбонов, по-прежнему безраздельно властвует черный цвет. Как и при дворе австрийских Габсбургов, где черный костюм продержится до начала XIX века[242], как и в Венеции, где количество людей, одетых в черное, особенно во время Карнавала, вызывает изумление у приезжих[243].
Однако в остальной Европе черный уступает первенство другим цветам. Синий, такой редкий в предыдущем столетии, теперь можно увидеть повсюду. Массовый импорт американского индиго обогащает крупные морские порты, как Нант или Бордо, и одновременно разоряет города, процветание которых было основано на производстве или продаже красильной вайды, – Тулузу, Амьен, Эрфурт. Синий цвет все больше и все чаще затребован в повседневной жизни, а его оттенки становятся все светлее; к этому времени красильщики уже научились создавать целую гамму чистых и нежных светло-синих тонов, которые так долго им не удавались[244]. Белый тоже в моде, особенно для женской одежды и для драпировок в личных апартаментах; однако он необходим и для мужского костюма, к которому полагаются кружевное жабо и манжеты. В оформлении интерьера белый редко используется сам по себе, но чаще в сочетании с другими светлыми тонами, в первое время – с розовыми и желтыми, позднее с синими, зелеными, серыми. Надо сказать, серый цвет, почти совсем исчезнувший из поля зрения после окончания Средних веков, в 1730-х годах снова выходит на первый план и останется там надолго. Но это уже не тот темный, суровый цвет, который когда-то носили чиновники и судейские, и тем более не тот грязный, тусклый либо вылинявший серый цвет, который используется для рабочей одежды; нет, это совсем другой серый – яркий и поблескивающий цвет бумажных тканей, переливчатый цвет шелка. А еще желтые тона начинают самостоятельную жизнь, теперь они не опираются на светло– или темно-золотистые, как было в два предыдущих столетия, а, наоборот, отдаляются от них, становятся более холодными и одновременно менее тяжелыми и в итоге с большей легкостью сочетаются с любым другим цветовым тоном. Что касается зеленого, то своим успехом он обязан окончательной отмене запрета на смешивание красок; теперь любой живописец и любой красильщик может смешать желтый и синий для получения зеленого. Кроме того, все увеличивающийся импорт американского индиго и случайное открытие аптекарем Диппелем в 1709 году берлинской лазури[245] позволяют создавать не только более широкую гамму синих тонов, но и более широкую гамму зеленых. Как и синие, зеленые в течение столетия будут становиться все светлее и разнообразнее. Начиная с 1750-х годов зеленый станет самым модным цветом для обоев и драпировок в спальне и останется в этом качестве до конца века. Гете упоминает об этом в своем трактате о цвете: он считает зеленый самым гармоничным из цветов и самым подходящим для отдохновения тела и спокойствия души[246].
Во Франции в век Просвещения черный цвет сдает позиции всюду и везде, как в оформлении интерьера, так и в одежде[247]. Ему начинают изменять даже те, чьи отцы и деды по законам профессии или по традиции всегда одевались в черное, – чиновники, судейские, дворянство мантии. Разумеется, они не носят светлого, но иногда могут появиться в сером, коричневом, синем или темно-зеленом. Красильщики оперативно реагируют на открытия ученых: каждое десятилетие в их мастерских появляются новые цвета и новые оттенки[248]. Некоторые из этих новинок не выходят из моды несколько лет, о других забывают через несколько месяцев. Так, в последние недели 1751 года, когда Версаль, а затем и Париж праздновали рождение первого внука Людовика XV, герцога Бургундского (умершего через десять лет), в большой моде был зеленовато-желтый цвет с поэтичным названием «кака дофина». Этот своеобразный оттенок коричневого, который мы сегодня назвали бы горчичным, еще в Средние века считался самым уродливым из цветов[249]. Однако благодаря изобретательности и веселому нраву века Просвещения он получил свои несколько недель славы.
Все путешественники, посещающие Францию в XVIII веке, восхищаются разнообразием цветов, которые используются в одежде, и быстротой, с которой одна мода сменяет другую[250]. Конечно, в других европейских странах тоже можно наблюдать это явление, но не в таких масштабах. В течение нескольких десятилетий Франция будет страной ярких, сияющих красок, а Париж – самым легкомысленным и самым элегантным городом Европы. Правда, незадолго до Революции произойдет крутой поворот: в 1785–1788 годах в моде снова будут более темные тона, в том числе черный, который в дальнейшем, в революционное лихолетье, даже станет «культовым» цветом.
Но это произойдет только в конце века. А пока… Живопись, пусть ее и нельзя считать абсолютно верным отражением действительности, доносит до нас веселую и красочную атмосферу века Просвещения. Такое впечатление, что Караваджо, Латур и Рембрандт остались в далеком прошлом: теперь на картинах не увидишь игру светотени, темных тонов совсем мало, черный и коричневый уже не занимают значительную часть полотна. У искусства барокко и рококо другие предпочтения. Даже в Венеции Гварди и Каналетто выбирают более светлую палитру. Все художники вдруг разлюбили черный, словно после того, как этот цвет вывели за пределы спектра и стали не так широко использовать в повседневной жизни, необходимо было ограничить его роль и в изобразительном искусстве. В театре черный тоже сходит со сцены: актеры не желают одеваться в черное, так же как столетие назад отказывались одеваться в зеленое (и будут оказываться опять – позже, в эпоху романтизма). Если раньше дурной приметой, предзнаменованием провала у актеров считался зеленый костюм, то в театре XVIII века эта роль перешла к черному. Во многих областях жизни люди избегают этого цвета, который в глазах науки даже и не цвет вовсе. Даже траур (в это время его ношение уже становится обязательным почти для всего общества) теперь далеко не всегда бывает черным, часто это просто одежда темных тонов, в частности фиолетовых[251]. Более того, обычные домашние свиньи, которых в течение долгих тысячелетий разводили на скотных дворах Европы и которые все это время были в подавляющем большинстве черными, вдруг стали розоветь: благодаря скрещиванию с азиатскими породами у европейских свиней повысилась жирность и посветлела щетина. Одного этого превращения черной свиной шкуры в розовую достаточно, чтобы понять, как изменилось отношение к черному и другим темным цветам в век Просвещения.
Черный цвет был изгнан почти отовсюду, но долго так продолжаться не могло. К концу столетия маятник моды качнется в другую сторону. Этого следовало ожидать: слишком резко Франция и другие страны отвернулись от цвета, который оставался на переднем плане в течение четырех столетий. Например, в геральдике, где историк цвета располагает точными статистическими данными, можно найти интересную информацию: на закате Средневековья черный цвет (на языке геральдики – «чернь») присутствует в 27 % французских гербов; к концу XVII века эта цифра снижается, но ненамного – 20 %, если верить объемистому «Всеобщему французскому гербовнику» 1696 года, а через два поколения, в XVIII веке, она падает до 14 %! Люди, впервые заказывающие себе герб (пожалованные дворянством, выскочки, разбогатевшие мещане и ремесленники), попросту игнорируют черный, зато сплошь и рядом выбирают «лазурь», частота встречаемости которой бьет все рекорды[252].
Итак, европейцы в своем неприятии черного цвета зашли слишком далеко. И вот в 1760-е годы он начинает понемногу возвращаться в мир искусства и литературы – окольным путем, благодаря всеобщему интересу к экзотике. Далекие путешествия, открытие неведомых стран, новые горизонты международной торговли – все это расширяет кругозор европейцев, пробуждает в них любопытство и любознательность. Так, обитатели Африки вызывают у них гораздо больший интерес, чем прежде; в одних случаях это низменные меркантильные соображения – работорговля стала прибыльным занятием, в других – желание понять, почему в разных широтах живут люди с разным цветом кожи. На этот вопрос, которым в Средние века люди задавались крайне редко, есть несколько ответов, но чаще всего существование темнокожих людей объясняют особенностями климата и жарким солнцем. Отзвук этих этнологических и философских дискуссий мы находим в устной и письменной речи того времени: чернокожих африканцев, которых раньше называли «маврами», как жителей стран Магриба, или, неизвестно почему, «эфиопами», теперь называют «черными» или «неграми» (слова «цветные» тогда еще не было[253]). Оно появится позднее, в конце века, когда в 1794 году Конвент впервые в истории примет закон об отмене рабства. Возможно, это лексическое сближение человека с черной кожей и «цветного» человека в какой-то мере поспособствовало возвращению черного цвета в ряд хроматических цветов. Возвращение белого произошло гораздо позже.
Но до отмены рабства еще далеко. А в 1760-е годы работорговля, которая зародилась очень давно, с десяток поколений тому назад, переживает невиданный подъем. Европейцы везут в Африку ткани, оружие и спиртное, затем отправляются в Америку с большой партией рабов; тех из них, кто выжил после путешествия в чудовищных условиях, меняют на хлопок, сахар и кофе, которые привозят в Европу. По подсчетам историков, в XVIII веке из Африки в Америку было вывезено от 7 до 9 миллионов мужчин и женщин[254]. Находятся люди, которые осуждают работорговлю и даже предлагают отменить рабство, но их голоса раздаются редко и звучат негромко. Другие размышляют над тем, как наделить десятки тысяч чернокожих мужчин и женщин, проживающих в Западной Европе, хоть каким-то законным статусом и подобием гражданских прав[255]. Идут годы, десятилетия, а чернокожих становится все больше: какое место следует уделить им в обществе? Большинство чернокожих, живущих во Франции, – слуги, кое-кто – ремесленники (столяры, повара, изготовители париков, швеи); и только очень немногим удалось пробиться в приличное общество. Знаменитый шевалье де Сен-Жорж (1745–1799), сын плантатора и чернокожей рабыни, родившийся на Гваделупе, а затем ставший знаменитым музыкантом и фехтовальщиком, является абсолютным исключением.
В это же время, в 1760–1780-х годах, искусство и литература порождают моду на чернокожих. Художники и скульпторы часто используют их как натурщиков – экзотики ради, а у многих романистов африканские берега и близкие к ним острова становятся местом действия чувствительных историй о любви, как, например, у Жака-Анри Бернардена де Сен-Пьера в его слащавом романе «Поль и Виргиния» (1787), вызвавшем массу подражаний[256]. В такой литературе, далекой от реальности, чернокожие персонажи играют весьма незначительную роль, а колониальный патернализм соседствует с мифом о добром дикаре. А вот авторов, которые обличают эксплуатацию чернокожих людей белыми рабовладельцами, очень немного.
Поэзия меланхолии
Но интерес к колониальной экзотике и к чернокожим жителям Африки – не слишком распространенное явление, и его недостаточно, чтобы вернуть черному цвету престиж, который он утратил за последнее столетие. Условия для этого появятся только спустя несколько лет, когда Европу захватит новое эстетическое движение – романтизм. Он наводнит литературу и искусство своими мрачными видениями и постепенно вернет черному цвету его прежний статус важнейшего из цветов. Эта мутация произойдет не сразу, а в несколько этапов.
Романтиков первого поколения больше привлекают природа и мечта, чем тьма и ужас ночи. Поэтому их любимыми цветами вначале будут зеленый и синий, и лишь впоследствии эта честь перейдет к черному. Во второй половине XVIII века впервые в Западной Европе представление о природе постоянно связывается уже не со стихиями (воздухом, водой, землей и огнем), как повелось еще со времен Аристотеля, а с растительностью. Теперь природа – это луга и рощи, деревья и леса, листья и ветви. Она превращается в место отдыха и раздумий и даже приобретает некое метафизическое измерение: среди полей присутствие Создателя чувствуется чаще, чем в городе, и притом иначе, с большей мощью и в то же время с большей мягкостью. Конечно, идеи эти не совсем новы, но в 1760–1780-е годы они приобретают такую популярность, что под их влиянием взгляды и восприятие европейцев резко меняются. И, в частности, меняется отношение к цветам: зеленый, до сих пор второстепенный цвет, о котором редко вспоминали поэты, становится самым желанным цветом для тех, кто влюблен в природу, «любителей одиноких прогулок», воспетых Жан-Жаком Руссо[257]. А вместе с зеленым и голубой, цвет мечты, ибо любители одиноких прогулок часто погружаются в грезы и уносятся в фантастические миры. Пожалуй, наиболее убедительный символ этих поисков недостижимого идеала – таинственный «голубой цветок», о котором рассказывает Новалис (1772–1801) в своем незаконченном романе «Генрих фон Офтердинген»[258]. Однако этот образ – не отправная точка, а скорее итог. Мода на романтическую синеву зарождается гораздо раньше, скорее всего в 1774 году, когда Гете публикует свой роман в письмах «Страдания юного Вертера» и одевает его героя в синий фрак и желтые панталоны. Книга становится одним из главных бестселлеров в истории книжной торговли, всю Европу, а затем и Америку охватывает «вертеромания»: художники создают картины или гравюры, на которых представлены самые известные сцены из романа, а молодые люди в продолжение как минимум двух десятилетий желают одеваться «а-ля Вертер» и заказывают себе пресловутый синий фрак[259].
А между тем другой цвет, оставаясь в тени, ждет своего часа. И дождется: в начале следующего столетия романтическая или преромантическая мода на зеленый и синий сойдет на нет и появится новый модный цвет – черный. Растворение в природе, грезы о прекрасном и бесконечном – все это приелось; отныне искусству и литературе нужны мрачные сюжеты и страшные видения, которые останутся в центре внимания в продолжение жизни трех поколений. Теперь романтический герой не просто отвергает господство рассудка, провозглашает всевластие чувства и проливает слезы над собственной печальной участью: он превратился в неуравновешенное, охваченное вечной тревогой существо, которое не только отстаивает свое право на «невыразимое счастье пребывания в скорби» (Виктор Гюго), но еще и считает себя отмеченным злым роком и чувствует неодолимое влечение к смерти. Мода на мрачное стала распространяться в 1760-е годы, с появлением в Англии жанра готического романа. Первой публикацией такого рода был роман Хораса Уолпола «Замок Отранто» (1764). К концу века, когда выходят «Удольфские тайны» Анны Радклиф (1794) и «Монах» Мэтью Г. Льюиса (1795), популярность готических романов достигает пика – и в результате происходит триумфальное возвращение моды на черное. Это триумф тьмы и смерти, колдуний и кладбищ, всего причудливого и жуткого. На сцене вновь появляется Сатана, он становится героем многих поэм и новелл: в Германии у Гофмана, во Франции у Шарля Нодье, Теофиля Готье и Вилье де Лиль-Адана. Повышению интереса к такой тематике способствовал и «Фауст» Гете, особенно его первая часть, вышедшая в 1808 году. Главный герой поэмы (у него был реальный прототип, ярмарочный астролог XVI века, быстро ставший легендой) заключает сделку с Мефистофелем (одно из имен Дьявола – «тот, кто не любит свет»); за душу Фауста Дьявол обещает вернуть ему молодость, а вместе с ней и все наслаждения, которые смогут насытить его чувства. Действие поэмы разворачивается в исключительно мрачной атмосфере. Здесь есть всё: ночь, темница, кладбище, развалины замка, застенок, лесная чаща, пещера, ведьмы и шабаш, Вальпургиева ночь на Броккене, в горах Гарца. Эпоха Вертера и его синего фрака осталась в далеком прошлом, автору теперь близка более темная палитра.
С приходом романтизма сама ночь приобретает особый, таинственный смысл: все поэты, воспевая ее, говорят, что она и сладостна, и ужасна, дарит отдохновение – и навевает кошмары, порождает страшных призраков и увлекает в странные миры. «Гимны к ночи» Новалиса (1800) и «Ночи» Мюссе (1835–1837) стали откликом на поэму «Ночи» Эдварда Янга, опубликованную много лет назад (1742–1745). Эти мрачные размышления, в которых главной темой является смерть, были переведены на все европейские языки; а позже, в 1797 году, Уильям Блейк создал к ним иллюстрации, похожие на жуткие видения. В стихотворении Мюссе «Декабрьская ночь» с героем беседует таинственный гость, который является ему в разных обличьях (мальчик-бедняк, сирота, чужестранец), но всякий раз «одет в черное» и похож на поэта, «как родной брат». Явление двойника ночью – тема, которая в музыкальном переложении встречается во многих ноктюрнах Шопена (1827–1846). Повсюду царит дух меланхолии, этой болезни века, которая в Средневековье считалась физическим недугом – «черножелчием» (в буквальном переводе с древнегреческого), а у поэтов XIX века считается каким-то обязательным состоянием, чуть ли не добродетелью. Всякий уважающий себя поэт должен быть меланхоликом, умереть молодым (Новалис, Китс, Шелли, Байрон) либо замкнуться в неисцелимой скорби. Вот как говорит об этом Жерар де Нерваль в начале своего сонета «El Desdichado» («Обездоленный», 1853), в самом знаменитом четверостишии во всей французской поэзии:
Я – мрачный, я – вдовец, я сын того гнезда, Тех башен княжеских, чьи древле пали стены, Явилась мне моя померкшая звезда, Как солнце черное с гравюры незабвенной[260].Это черное солнце, которое много раз встречается в произведениях Нерваля и фигуративным источником которого, по-видимому, была одна миниатюра XIV века[261], заменило собой голубой цветок Новалиса. Оно превратилось в символ целого поколения, которому нравится пребывать в различного рода болезненных состояниях, и стало предвестником ужасной строки Бодлера, прозвучавшей несколько лет спустя: «Склонись, о Сатана, склонись к моим страданьям»[262]. Сделка Фауста с Дьяволом актуальна как никогда.
По сути, «фантастическая» струя пронизывает почти весь XIX век. И хотя во французском языке слово «фантастика» стало существительным лишь в 1821 году[263], то, что оно обозначает, появилось гораздо раньше. Это уже не описание сказочных чудес, как у ранних романтиков, а гораздо более мрачное литературное направление, в котором сплавлены воедино причудливое, оккультное, безумное и даже сатанинское. В моду входят эзотеризм и спиритизм; некоторые поэты собираются на кладбищах, другие пробуют заняться черной магией, третьи вступают в тайные общества либо устраивают траурные застолья и пьют вино из человеческих черепов. В конце XIX века в своем романе «Наоборот» (1884) Жорис-Карл Гюисманс (1848–1907) начинает повествование с описания подобной «траурной трапезы», во время которой «за столом прислуживали нагие негритянки, стены залы были задрапированы черным, а скрытый от глаз присутствующих оркестр играл похоронные марши». Присутствующим подавали исключительно черные, коричневые или фиолетовые кушанья и наливали напитки тех же цветов:
Мы ели на тарелках с черной каймой черепаховый суп, русский ржаной хлеб, спелые турецкие маслины, черную икру, икру султанки, копченую франкфуртскую кровяную колбасу, дичь под соусом цвета сапожной ваксы, трюфельную подливку, золотисто-коричневые шоколадные кремы, пудинги, темные персики, виноградное варенье, ежевику и лиловую черешню; пили из темных бокалов вина из Лимани и Русильона, из Тенедо, из Валь-де-Пена, а также портвейны, а после кофе с ореховым ликером наслаждались квасом и крепким портером[264].
Тот же интерес ко всему мрачному и кровавому появляется и в драматургии уже с 1820-х годов; отныне никто не боится показывать на сцене всевозможные жестокости и преступления. В конце XVIII века французы заново открыли для себя Шекспира; романтизм пойдет дальше – присвоит и переделает по-своему многих его персонажей. Так, Гамлет превратится в романтического героя, а его знаменитый черный костюм станет чем-то вроде униформы, более созвучной моде и вкусам сегодняшнего дня, чем окончательно устаревший синий фрак Вертера, такой приличный и такой скучный[265].
Общество, со своей стороны, тоже поддержит новую моду: черный станет преобладающим цветом мужского костюма, и притом на очень долгое время. Эта тенденция зародится в последние годы XVIII века, усилится во время революции (каждый добропорядочный гражданин должен носить костюм из черного сукна), достигнет апогея в эпоху романтизма, продлится весь XIX век и сойдет на нет лишь в 1920-е годы. Она распространяется не только на элегантные костюмы денди и светских львов, которые в 1810-е годы подражали Браммелу, но и на одежду людей скромного достатка: их гардероб весьма скуден, и они (по наивности?) полагают, что на черном будут не так заметны грязь и копоть от фабричных труб, которые дымят все сильнее и сильнее[266].
Время угля и заводов
В самом деле, к середине XIX века черный цвет будет царить не только в гардеробе денди и в сердцах поэтов. Теперь и простым смертным придется иметь с ним дело, ведь в повседневной жизни от него никуда не скроешься: в эти годы начинается вторая индустриальная революция, из-за которой в городах и в пригородных зонах Европы и Америки все неотвратимо начнет чернеть, и так будет продолжаться до середины XX века. Это время угля и гудрона, время железных дорог и битума, а позднее – стали и нефти. Повсюду горизонт покрывается темным налетом, если не черным, то серым или коричневым. Символом этой новой вселенной становится уголь, основной источник энергии для промышленности и транспорта. Если в 1858 году мировая добыча каменного угля составляла 172 миллиона тонн, то в 1905 году эта цифра выросла до 928 миллионов тонн: меньше чем за полвека на 500 % процентов![267] Черный цвет напрочь утратил связь с поэзией и меланхолией: уголь порождает только дым, сажу, копоть, загрязнение воздуха. Городской пейзаж резко меняется, повсюду как грибы вырастают фабрики и мастерские. Меняется и облик улиц. Контраст между богатыми и бедными кварталами усиливается: в одних – белые стены и зелень деревьев, в других – грязь и нищета. А еще массы людей теперь трудятся под землей, и не только в шахтах, которые становятся символом новой индустриальной реальности и социальных конфликтов, царством тьмы, в котором горняки становятся жертвами рудничного газа и силикоза[268]; помимо шахт существуют еще и туннели, мастерские в подвалах, а также метрополитен, первые линии которого открываются в Лондоне в 1863 году, а в Париже – в 1900-м. Люди передвигаются под землей, трудятся на заводах и фабриках, живут взаперти, при газовом, позже электрическом освещении; свет становится иным, и вместе с ним меняются взгляды и вкусы. Когда солнце и свежий воздух для части городского населения становятся недоступной роскошью, появляется новая система ценностей. В этом плане интересный пример, на котором стоит задержаться, – отношение к смуглой, обветренной коже и вообще к загару. Этот пример показывает, что в конце XIX века опасным и презираемым классом становятся уже не крестьяне, как когда-то, а рабочие – люди, покрытые грязью и с мертвенно-бледными лицами.
Следует заметить, что обычай загорать и эволюция этого обычая представляют собой исключительно полезный источник информации для историка цвета. Эта эволюция подчинена циклическому ритму и движению маятника, которые не слишком отличаются от тех, что воздействуют на моду в одежде: длинные циклы чередуются с короткими, а системы ценностей варьируются в зависимости от класса общества. Историю загара в современной Европе можно разделить на три периода. При Старом режиме и еще в первой половине XIX века у людей, принадлежавших к аристократии или «приличному обществу», кожа должна была быть такой светлой и гладкой, как только возможно, чтобы их не приняли за крестьян. Ведь у сельских жителей, работающих на свежем воздухе и на солнце, кожа обычно смуглая, красноватая, а порой – о ужас! – еще и усеянная веснушками. В литературных произведениях того времени часто изображается бывший крестьянин, который разбогател, но не может скрыть свое происхождение из-за красноватого цвета лица. Быть высокородным – значит иметь «голубую кровь», то есть настолько бледную и прозрачную кожу, что под ней просвечивают вены. Но во второй половине XIX века все меняется: теперь важно отличаться не от крестьянина, а от рабочего, который трудится в помещении либо под землей, и его кожа почти не видит солнца. Цвет лица у него серовато-бледный, тусклый, отталкивающий. Поэтому теперь «приличное общество» дружно устремляется на солнце и на свежий воздух, начинает выезжать на берег моря (а позднее еще и в горы): в моду входят обветренные лица и гладкая загорелая кожа. Со временем новые обычаи и тенденции укрепляются, их перенимает и верхушка среднего класса: страшно представить, что тебя примут за рабочего! Это продлится несколько десятилетий. Но после Второй мировой войны, когда отпуск на море и зимний спорт станут доступны большему числу людей, а в 1960–1970-е годы – и части небогатого населения, «приличное общество» понемногу начнет охладевать к загару: ведь теперь это удовольствие доступно всем или почти всем. И отныне подлинный шик в том, чтобы не быть загорелым, особенно когда возвращаешься с морского или горного курорта. Одни только нувориши и старлетки – две породы людей, над которыми смеются, – а также простые смертные, как прежде, продолжают загорать. Возможно, скоро и они перестанут это делать, потому что сейчас много говорят об участившихся случаях рака кожи и других заболеваниях, вызванных долгим пребыванием на солнце, и это понижает престиж загара. Он считается опасным, если получен естественным путем, и выглядит глупо, если создан искусственно[269].
Но вернемся во вторую половину XIX века, когда во всей Европе возникает новый, индустриальный пейзаж и целые регионы меняют свой облик под натиском шахт, угля, железа и металлургии. Чернота проникает повсюду, даже в сердце больших городов, таких как Лондон, где, по словам Чарльза Диккенса, в 1860 году были «самые грязные и темные улицы, какие когда-либо видел мир… сажа и дым непрерывно облекают их в грязное траурное одеяние»[270]. Но не одна английская столица страдает от грязи и копоти. Во всех промышленных городах дым покрывает здания, предметы и людей более или менее плотным и жирным слоем сажи, которую практически невозможно отчистить. Вот почему мужчины всегда носят одежду темных цветов, желательно черную (рабочим черное не по карману[271], они трудятся в синем и сером, а вот в государственных учреждениях и в деловом мире черный становится почти что униформой).
Этот черный костюм намеренно строг и суров. Отчасти он обязан своим происхождением трудовой этике, которая долгие десятилетия, до Первой мировой войны, а кое-где и дольше, господствует в банковском и финансовом мире, в кабинетах министров и чиновников, в конторах коммерсантов. Она не признает слишком ярких или броских цветов, и в ее глазах один лишь черный может быть гарантией авторитета и серьезного отношения к делу. По этой самой причине в черное одеваются все те, кто обладает властью или знанием: судьи, адвокаты, преподаватели, врачи, нотариусы, секретари суда. Кроме того, во всей Европе представители профессий, предполагающих ношение форменной одежды, – полицейские, жандармы, пожарные, таможенники, почтовые служащие, моряки и т. п. – одеты в черное и не изменят этому цвету до первых десятилетий XX века, когда черную униформу постепенно начнет вытеснять темно-синяя – ее сочтут менее строгой или менее маркой.
А пока не наступит это время, для пяти или шести поколений европейцев будет обязательным являться на службу или на работу в черном. Этот цвет словно разрушает или делает менее заметными социальные барьеры, потому что его носят и буржуа, и высший свет, его можно увидеть и на парадных мундирах, и на одежде слуг. Черного так много, что в конце концов этот вездесущий цвет становится невыносимым для тех, кто жаждет перемен или свободы. Черный даже пугает их, они видят в нем врага поэзии – так утверждает в 1836 году Альфред де Мюссе: «Черный костюм, который носят люди в наше время, – страшный символ. Чтобы мы дошли до него, рыцарские доспехи должны были упасть с нас часть за частью, а вышитые гирлянды – цветок за цветком. Черный костюм – это человеческий разум, который ниспроверг все иллюзии и теперь носит траур…»[272]. В конце столетия похожую мысль выскажет Оскар Уайльд, любитель ярких цветов, в особенности всех оттенков красного и фиолетового. В 1891 году в «Дейли телеграф» он обрушивается с резкой критикой на «вечно один и тот же оттенок черного, который носят сегодня <…>, тусклый, унылый, гнетущий цвет <…>, начисто лишенный красоты»[273]. А еще позже, в 1933 году, Жан Жироду дает ироническое описание черного пейзажа, который ждет детей в школьном классе: «У вас будут черные чернила, черные грифельные доски, черные передники. В нашей прекрасной стране черный – цвет молодости»[274].
Так думают поэты. А в мире дельцов черный – это обязательная норма, даже своего рода этика, отчасти восходящая к хромофобии идеологов Реформации. Как мы видели, с XVI века Реформация объявила войну ярким цветам, особенно красному, желтому и зеленому, посчитав их непристойными, и посоветовала каждому доброму христианину и даже каждому порядочному гражданину носить одежду в черных, серых и белых тонах, более подходящих для выражения достоинства и добродетели[275]. Эта тенденция не утратила своего значения и ко второй половине XIX века, когда европейская и американская промышленность начала в огромных масштабах производить предметы массового потребления. Большинство этих предметов вписывается в хроматическую гамму, из которой удалены яркие цвета: остались только белый, черный, серый и коричневый. Это не случайность и не производственная необходимость, связанная с химическими особенностями красителей. Нет, это результат длительного воздействия протестантской этики; философ и социолог Макс Вебер (1864–1920) достаточно рано и очень убедительно доказал, что эта этика оказала решающее влияние на рождение капитализма и на экономическую деятельность в целом[276].
В самом деле, стоит обратить внимание на один факт: во второй половине XIX века и далее, почти до середины XX века, по обеим сторонам Атлантики крупный промышленный и финансовый капитал в основном находится в руках протестантских семей, которые навязывают всему миру свои ценности и свои принципы. Много лет подряд стандартизованная продукция, предназначенная для повседневного потребления в Англии, Германии, Америке и других странах, производится с учетом требований морального и социального порядка, которые в большой степени продиктованы этой этикой. Например, именно этим объясняется скудная цветовая гамма первых предметов массового потребления. Достижения промышленной химии уже давно позволяют изготовить практически любую краску и воспроизвести практически любой цвет, но, как ни удивительно, первые бытовые приборы, первые пишущие машинки и телефоны, первые фотоаппараты, первые пишущие ручки, первые автомобили (не говоря уже о тканях и об одежде), произведенные между 1860-ми и 1920-ми годами в промышленных масштабах, вписываются в гамму тонов от черного до белого, включая различные оттенки серого и коричневого. Трудно избавиться от мысли, что яркая цветовая гамма, которую вполне могла создать тогдашняя химия красок, была отвергнута протестантской моралью[277]. Самый впечатляющий пример такой индустриальной хромофобии – поведение Генри Форда (1863–1947), основателя одноименной автомобильной компании и человека, заботившегося о соблюдении пуританской этики во всех областях жизни: несмотря на пожелания публики, несмотря на наличие двухцветных или даже трехцветных автомобилей, предлагаемых его конкурентами, несмотря на все возрастающее многоцветье окружающей жизни, он по моральным соображениям до конца своей жизни отказывался продавать какие-либо машины, кроме черных либо почти черных![278] Одна лишь модель «форд Т», самая знаменитая продукция фирмы, выпускавшаяся с 1908 по 1927 год, сама по себе является символом этого отторжения цвета.
Что происходит в мире изображений
Первыми, кто восстал против вездесущия и всевластия черного, были художники. С самой эпохи романтизма многие из них ведут борьбу против засилья темных тонов, за более точное воспроизведение красок, встречающихся в природе. И вот на живописных полотнах вновь появляются различные оттенки зеленого, желтого, оранжевого, и палитра понемногу светлеет. Свой вклад в это вносят и импрессионисты: они пишут пейзажи на натуре, и на этих работах, выполненных чистыми, сияющими красками, почти нет места черному или темному. В те годы художники с нарастающим интересом следят за происходящим в науке, за экспериментами и открытиями, которые подтверждают их собственные догадки и почти что придают их интуитивному выбору статус научного знания. Большую роль в судьбе живописи сыграют теории химика Эжена Шевреля (1786–1889). Шеврель прожил долгую жизнь, и его работы оказали существенное влияние на колорит четырех поколений художников. В 1839 году он публикует объемистый труд под названием «О законе одновременного контраста цветов и о подборе предметов по цвету, осуществляемом согласно этому закону в живописи»[279], в котором показывает, как один цвет меняется в соседстве с другим цветом. У этого явления есть две основные закономерности: с одной стороны, каждый цвет излучает свой дополнительный цвет на соседние, тем самым изменяя их цветность; с другой стороны, если расположить рядом два предмета, имеющие общий дополнительный цвет, то от их соседства этот дополнительный цвет в значительной мере ослабевает. Таким образом, художники могут не заботиться о соблюдении некоторых традиционных правил своего искусства, в частности о главенстве рисунка, нарочитой геометричности перспективы и даже особом освещении в мастерской: формы рождаются либо угадываются благодаря колебаниям или контрасту цветов.
Не все художники поколения импрессионистов, а затем постимпрессионистов будут в точности следовать теориям Шевреля, однако эти теории окажут прямое или косвенное влияние на большинство живописцев второй половины XIX века: у многих палитра становится светлее, кто-то распределяет цвета согласно закону контрастов, другие работают только на пленэре и предпочитают изображать то, что постоянно движется или колеблется, в частности воду и свет. В 1864 году Шеврель выпускает новый труд, дополняющий первый и предлагающий различные модели хроматической гармонии: «О цветах и их применении в промышленном искусстве с помощью хроматических кругов»[280]. После успеха этой книги становятся обиходными такие понятия, как разделение цветов на основные и дополнительные, дисперсия света по законам цветового спектра и ахроматичность черного. Без устали, снова и снова все цитируют знаменитую фразу Леонардо, произнесенную три с половиной века назад: «Черный – это не цвет»[281]. Но живопись – это прежде всего цвет; если черный не является цветом, значит, на картине ему нет места. Поль Гоген так и говорит: «Откажитесь от черного и от той смеси черного с белым, которую мы называем серым. Ничто не является черным, ничто не является белым»[282]. Действительно, многие художники, в том числе и сам Гоген в провансальский период и в годы, проведенные в Полинезии, больше не пользуются ни традиционными красками черных тонов (уголь, сажа, жженая кость), ни даже недавно появившимся в продаже синтетическим пигментом (анилиновым черным), а предпочитают смешивать краски, изготовленные из синих (искусственный ультрамарин, берлинская лазурь), красных (марена, кармин) и зеленых (изумрудная зелень, малахит) пигментов, чтобы получить «почти черные тона» с неисчерпаемым богатством нюансов.
Тем временем изобретение фотографии и ее быстрое распространение в мире искусства помогли художникам отказаться от некоторых традиционных представлений и отчасти изменили их взгляд на формы и цвета. С помощью фотографии они могут создавать плоскостное изображение без глубины или перспективы, открыть новые оптические эффекты и еще решительнее, чем прежде, противопоставлять черно-белый мир цветному. Конечно, существует гравюра, изобретенная еще триста пятьдесят лет назад. Но в XIX веке с появлением фотографии, а также кодификации цветов, разработанной физиками и химиками, антагонизм этих двух миров значительно обостряется. И пусть на фотографиях, сделанных до 1900-х годов, черный цвет нельзя назвать черным в полном смысле слова, а белый – белым, пусть даже для серых и коричневых тонов в новом искусстве тоже находится место, но факт остается фактом: по всей Европе и по всему миру циркулируют десятки, если не сотни миллионов черно-белых изображений. Настоящая цветная фотография длительное время будет считаться технически неосуществимой: первые автохромные фотографии братьев Люмьер увидят свет лишь в 1902 году, да и после этого ее массового распространения придется ждать очень долго.
Таким образом, в продолжение более чем века мир фотографии был черно-белым, и представление, которое он давал о текущей действительности и о повседневной жизни, было ограничено этими двумя цветами. Под влиянием фотографии сформировались взгляды и вкусы нескольких поколений: в итоге люди привыкли в каком-то смысле ограничивать свое видение мира черным и белым, и отучаться от этой привычки им было нелегко. Так, несмотря на начавшийся в 1950-е годы бурный прогресс цветной фотографии, у специалистов по сбору информации и изучению документальных материалов очень долго, чуть ли не до наших дней, бытовало мнение, что только черно-белая фотография способна дать верное и точное представление о людях и событиях, а на цветную фотографию лучше не полагаться. В некоторых странах до недавнего времени на официальные бумаги и документы, удостоверяющие личность, надо было наклеивать только черно-белые фотографии. Во Франции в начале 1960-х годов, когда я был подростком, категорически запрещалось использовать для паспортов и удостоверений цветные фотографии, которые так легко было сделать в автоматической кабинке – они стояли на каждом углу. Цветные фото были «некондиционными». Власти не доверяли и, похоже, до сих пор не доверяют цвету, который они считают обманчивым, нестабильным и, в сущности, ненужным украшением.
Долгие годы тирания черно-белой фотографии действовала и в исторической науке. Дело в том, что на заре своего существования фотография как источник документальной информации приняла эстафету гравюры, которая с конца XV или с начала XVI века либо в качестве книжной иллюстрации, либо сама по себе распространяла в широком масштабе изображения, выполненные почти исключительно в черном и белом цветах. Таким образом, фотография лишь продолжила и развила традицию, которой было уже триста лет. Для историков цвет как бы не существовал; во всяком случае, ему не нашлось места в работе четырех или пяти поколений ученых. Этим можно объяснить тот факт, что в областях, где следовало бы ожидать появления специальных исследований по проблемам цвета, – история искусства, история костюма, история повседневной жизни – такие исследования по большому счету начали проводиться только в конце XX века. Даже в трудах по истории живописи цвет долгое время блистал своим отсутствием. С 1850-х и почти до 1970–1980-х годов было немало искусствоведов (в том числе и знаменитых), которые выпустили множество толстых, умных книг о творчестве отдельных художников или целых направлений в живописи, где ни слова не говорилось о колорите!
Актуальный цвет
Начиная с 1900-х годов деспотическая власть черно-белого в мире изображений достигает еще большего размаха и могущества: теперь в ее подчинении будет не одна только фотография, но и новое искусство – кино. Первая публичная (и платная) демонстрация кинематографа братьев Люмьер состоялась 28 декабря 1895 года в Париже, в «Гранд-Кафе» на бульваре Капуцинок. Уже в следующем году начались продолжавшиеся около тридцати лет интенсивные технические эксперименты, целью которых было расцвечивание первых кинофильмов. Некоторые опыты оказались успешными, однако не повлияли на судьбу коммерческого кино; движущиеся картины, предлагаемые широкой публике, еще долгое время оставались черно-белыми. Надо сказать. производство цветных фильмов и правда было очень трудной задачей. Вначале их раскрашивали от руки с помощью трафаретов (по одному на каждый цвет), вырезанных из позитивной кинопленки. Краску наносили кисточкой, это была очень кропотливая и долгая работа. Для полнометражных фильмов она была неосуществима, тем более что все постановочные аксессуары – декорации, костюмы и грим актеров – должны были вписываться в гамму серых тонов. Затем пленку стали окрашивать, погружая в ванночки с краской: это помогало создать ту или иную атмосферу и даже условные коды, поскольку для сцен одного и того же типа подбирали всегда один и тот же цвет: синий – для ночи, зеленый – если действие происходило на природе, красный – чтобы указать на опасность, желтый – чтобы выразить радость. В дальнейшем стали использовать цветные фильтры, вначале во время проекции фильма, затем – уже во время съемок. Наконец, был изобретен прием, аналогичный тому, что с давних пор применялся в гравюре и фотографии: пленки трех цветов накладывали друг на друга, чтобы получить остальные цвета. Первый цветной мультипликационный фильм (знаменитый сериал Уолта Диснея «Silly Symphonies») вышел на экраны в 1932 году. Но зрителям пришлось ждать еще три года, прежде чем появился настоящий цветной фильм: «Бекки Шарп» Рубена Мамуляна (1935)[283].
На самом деле система «Техниколор», которая в те годы чаще всего использовалась для цветопередачи в кино, была разработана еще в 1915 году. До середины 1930-х годов она непрерывно совершенствовалась, и в результате перед самой Второй мировой войной стало возможным создание таких шедевров, как «Приключения Робин Гуда» (1938) и «Унесенные ветром» (1939). Однако система была доведена до готовности задолго до этого: в принципе она могла бы применяться для съемки и проката фильмов еще в 1915 году. Почему же она так долго шла к зрителю? На это, разумеется, были причины технического и финансового порядка, но, возможно, еще и морального свойства. С 1915-го до конца 1920-х годов капиталисты с пуританскими взглядами, о которых мы говорили выше и которые в то время частично контролировали производство визуальной продукции, так же как они контролировали производство предметов массового потребления, воспринимали движущиеся картины как нечто легкомысленное, даже не вполне пристойное; пойти еще дальше и предложить публике движущиеся картины в цвете – это было бы уже полным безобразием. Вот почему система «Техниколор» ждала своего часа долгих двадцать лет.
После войны цветные фильмы получают более широкое распространение, но лишь в конце 1960-х годов их общее количество превысит количество черно-белых. И тогда мастерам кино придется прилагать большие усилия для того, чтобы кинематограф не превратился в набор цветных открыток. Однако их борьба не даст ощутимых результатов. Многие ценители настоящего кино и профессиональные кинематографисты протестуют против непомерно большого места, которое отводится цвету в кино, и против самого этого цвета, неестественно яркого и аляповатого. Действительно, в кино, на телеэкране и на страницах глянцевых журналов цвет уже занимает слишком много места, гораздо больше, чем в реальной действительности и в повседневной жизни. Но массовый зритель не разделяет мнения эстетов и не желает вернуться назад, к черно-белому изображению (хотя истинные любители кино утверждают, что некоторые категории фильмов надо снимать только на черно-белой пленке). Недавно появившаяся тенденция «раскрашивать» старые фильмы, снятые (и задуманные их авторами!) как черно-белые, показывает, насколько широкая публика, особенно в Америке, привыкла видеть на экране цветную картинку: американские (а в скором времени, вероятно, и европейские) телезрители отказываются смотреть старые фильмы в изначальном черно-белом варианте! Поэтому для показа по телевидению приходится их «раскрашивать» (само это слово звучит чудовищно). Эта практика, начавшаяся еще в 1980–1990-х годах, вызвала вполне обоснованную полемику, в ходе которой выдвигались аргументы как юридического, так и этического, а также эстетического порядка. Сегодня снять фильм на черно-белой пленке с обязательным содержанием серебра стоит дороже, чем на цветной (то же самое следует сказать и о фотографии). Вот почему сейчас мы видим резкую смену курса, которая так часто наблюдается в моде и в различных системах ценностей: черно-белое кино теперь считается более захватывающим, более утонченным, более «кинематографичным», чем цветное. Некоторые киноманы впали в такой снобизм, что даже отказываются ходить в кинотеатры на цветные фильмы. Можно не разделять их убеждения, но нельзя не признать, что кинематограф исторически и мифологически связан с миром черного и белого. И даже если мы раскрасим старые фильмы все до единого, это ничего не изменит.
Вернемся на несколько десятилетий назад. Несмотря на огромный технический прогресс в фотографии и кинематографе, несмотря на их беспрецедентно широкое распространение по всему миру, не фотографы и не кинематографисты вернули черному цвету его законный хроматический статус: снова, в очередной раз, это чудо совершили художники. К концу XIX столетия становится все больше живописцев, которых заворожил черный цвет, как в свое время он заворожил Мане, Ренуара и других живописцев предшествующего поколения. На палитре многих из них черный становится главным цветом. После окончания Первой мировой войны этот возврат к черному приобретает все большую популярность и находит для себя исключительно плодотворный способ выражения в абстрактной живописи. В частности, русский супрематизм придает черному весьма большое значение, хоть и не все отдают себе в этом отчет – из-за чрезмерной популярности «Белого квадрата на белом фоне» Малевича (1918). Эта картина, бесспорно, представляет собой ультрарадикальное воплощение идеи абстракционизма, но она отнюдь не возвращает белому цвету хроматический статус, совсем наоборот, и к тому же заставляет забыть обо всех поисках художников-конструктивистов, а затем теоретиков художественного направления «Де Стейл»[284], посвященных черному. В 1920–1930-е годы черный снова становится абсолютно «актуальным», наряду с основными (как считается) цветами – красным, желтым и синим. А вот белый и особенно зеленый воспринимаются иначе: порой им отказывают в полноценном хроматическом статусе. Так, для некоторых абстракционистов (например, Мондриана или Миро) зеленый цвет не входит в число основных, не является цветом в полном смысле слова. Это совершенно новая идея, несовместимая с той ролью, какую зеленый цвет в течение долгих веков, если не тысячелетий традиционно выполнял в повседневной жизни общества и в культуре.
А вот черному пришлось ждать еще несколько десятилетий, прежде чем появился художник, который почти целиком посвятил ему свое творчество: Пьер Сулаж (род. 1919). Начиная с 1950-х годов его главные выразительные средства – черная краска, нанесенная на полотно штукатурной лопаткой, и рисунок, который он прочерчивает на этой краске ножом. Принцип работы Сулажа имеет большое значение, ведь именно он определяет то, каким образом материя, нанесенная на холст, превращается в форму. На картине обычно доминирует черный, но его всегда сопровождают один или несколько других, менее резких цветов. Начиная с 1975 года Сулаж переходит от черного к «сверхчерному» – этот термин он придумал сам, чтобы дать представление о чем-то «запредельно черном». С этого времени большинство его полотен полностью покрыты исключительно черной краской, жженой слоновой костью; эту поверхность он обрабатывает щеткой и шпателем, чтобы придать ей текстуру, которая в зависимости от освещения создает разнообразнейшие световые эффекты и цветовые нюансы. Это не монохромия, а виртуозная моно-пигментарная техника, с помощью игры отражений создающая бесконечное множество световых образов, возникающих между зрителем и картиной. Это уникальное явление в истории живописи, великолепное и неповторимое[285], которое не имеет ничего общего с гнетущими Black Squares американского минималиста Эда Рейнхардта (1913–1967), всегда одинаковыми черными квадратами без рельефной структуры, не выполняющих никакой художественной задачи.
Однако если живописцы первыми сумели придать черному цвету современное звучание, то другие талантливые люди сделали для черного еще больше: это были дизайнеры, стилисты и кутюрье, благодаря которым черный снова вошел в моду и стал играть важную роль в обществе и в повседневной жизни. Новая экспансия черного началась перед Первой мировой войной и продолжалась в течение всего XX века. Черный цвет дизайнеров – это не роскошный княжеский цвет позднего Средневековья и не грязный, нищенский цвет больших промышленных городов; он строгий, но изысканный, элегантный и функциональный, яркий и радостный: одним словом, современный. Если история отношений между дизайном и хроматическими цветами часто превращалась в цепь неудач (вспомним безвкусные пастельные оттенки 1950-х годов или вульгарные тона 1970-х)[286], то союз дизайна и черного всегда давал блестящие результаты. Для многих дизайнеров и для значительной части публики черный за долгие годы даже превратился в эмблематический цвет дизайна и современности.
Этот же современный характер черного еще в большей степени проявляется в мире моды. В первые годы XX столетия многие кутюрье, увлекавшиеся искусством и новыми веяниями (Жак Дусэ и Поль Пуаре, например), начинают работать в черном, который в ткани и в одежде снова считается цветом в полном смысле слова и становится для них любимым выразительным средством. Вот одно из проявлений этой новой моды: уже в 1913 году Марсель Пруст одевает в черное одну из своих героинь, Одетту де Креси, очень современную и элегантную особу, хоть и куртизанку. «Она, как всегда, была в черном платье, поскольку считала, что черное идет всем и что это самый изысканный цвет»[287]. После войны, в двадцатые годы, черный становится еще более современным. Под его чары подпадают большинство стилистов, и теперь это касается не одной только высокой моды. Знаменитое «маленькое черное платье» Габриель «Коко» Шанель, созданное в 1926 году и остававшееся актуальным в течение многих десятилетий[288], – конечно, самый яркий пример, почти что эмблема этой новой тенденции, но отнюдь не единичный случай. У «маленького платья» появляется конкурент – черный костюм, символ строгой элегантности и одновременно удобства, который с 1930-х годов начнут выпускать все модные дома[289] и который продержится в моде до 1960-х годов, если не дольше. В дальнейшем черный останется фетишем кутюрье и всего мира моды. Еще и сегодня на любом мероприятии с участием стилистов и других деятелей моды (презентация, дефиле, симпозиум) наблюдателя (я сам часто бывал в этой роли) поражает вездесущие черного: все женщины, все до единой, в черных платьях, и только некоторые мужчины дерзают иногда появляться в чем-то ярком. Такое же засилье черного наблюдается и в других творческих кругах (у архитекторов, например), а еще в среде людей, связанных с деньгами (банкиры) либо с властью (управленцы). Черный – цвет не только передовой мысли и творческого вдохновения, но также влиятельности и могущества.
Опасный цвет?
Но черный также может быть и другим, бунтарским и агрессивным. У «черных курток», «рокеров», «Черных пантер» и представителей всех движений или групп, которые во второй половине XX века одевались во все черное, чтобы выразить свои протестные настроения, были предшественники, в том числе и в отдаленном прошлом. Например, пираты: с XIV века на Средиземном море некоторые берберские пираты использовали в качестве флага кусок белой ткани с изображенной на нем головой чернокожего мавра в белой повязке[290]. В раннее Новое время на портуланах и географических картах этот значок всегда указывает на пиратов, но затем вместо головы мавра на нем все чаще появляется череп, а расположение цветов меняется: фон черный, а голова белая. К концу XVIII века голова мавра встречается все реже и реже и ее место окончательно занимает черный флаг, причем не только у средиземноморских пиратов, но и у разбойников всех морей планеты. Затем черный флаг появляется на суше: его выбирают своей эмблемой различные анархистские и нигилистские движения. В XIX веке его можно увидеть сравнительно редко: так, он незаметен во время революций 1848–1849 годов, когда над улицами повсюду развевается революционное красное знамя; зато в следующем столетии черный флаг возьмет реванш: у левацких движений он зачастую даже вытесняет красный, как было, например, во Франции во время грандиозных студенческих манифестаций 1968 года[291].
Однако черный флаг в политике далеко не всегда выражает бунтарские или анархистские настроения. У него есть и другие значения. С одной стороны, он может быть ультраконсервативным: так, под черным знаменем выступали клерикальные политические партии, которые в XIX веке были очень активными и влиятельными, но потом ушли в тень. С другой стороны, во всем черном маршировали активисты итальянской фашистской партии – «чернорубашечники» (camicie nere); их организация была создана в 1919 году, чтобы обеспечить приход к власти Бенито Муссолини. В черном ходили и защитники другого, еще более жестокого тоталитарного режима, нацизма – эсэсовцы (члены так называемых Schutzstaffel, сокращенно SS, а также Waffen SS), которые в 1934 году сумели вытеснить с политического поля, а затем ликвидировать своих менее радикальных конкурентов – штурмовиков (Sturmabteilung), носивших коричневую форму. Иногда кажется, что все эти разнородные ипостаси черного – реакционная, анархистская, нигилистская, фашистская, гитлеровская – однажды сойдутся, объединятся и образуют один общий черный цвет, выражающий наиболее экстремистские убеждения. В самом деле, одна из наиболее устойчивых характеристик западноевропейской символики – сближение или слияние противоположных тенденций. Может быть, то же самое произойдет в идеологии и в политике?
Сегодня черный цвет уже почти не воспринимается как символ протеста, в каком-то смысле он даже превратился в пародию на самого себя. Если в наше время кто-то, желая выразить свои бунтарские настроения, неприятие общественных условностей или ненависть к власти, оденется в черное, этого будет уже недостаточно, чтобы обратить на себя внимание. Сейчас так поступают только неуверенные в себе подростки: для создания образа бунтаря они носят одежду из черной кожи, делают себе пирсинг и ведут себя эксцентрично или агрессивно. Но это уже не вызывает интереса ни у кого, даже у социологов. Если юный бунтарь наденет воскресный костюм или костюм, в котором идут к первому причастию, у него будет больше шансов привлечь к себе любопытные взгляды. Черная одежда перестала ассоциироваться с агрессивностью или нарушением запретов. Зато мы используем ее так, что наши прадеды и прапрадеды пришли бы в совершеннейший ужас: надеваем черное на голое тело, вытираемся черными полотенцами, спим на белье темных тонов и даже одеваем в черное или темное маленьких детей. Сто лет назад такое было бы немыслимым, а сегодня никого не удивляет. В этом смысле особенно показательна история женского белья: она помогает понять, как менялись, а иногда и переворачивались с ног на голову общепринятые системы ценностей.
Долгие века бытовало мнение, что предметы одежды и ткани, непосредственно прикасающиеся к телу, должны быть белыми или неокрашенными. Но то были причины как гигиенического, так и практического свойства: при стирке белье кипятили, и оно линяло; но важнее всего были требования морали: как мы уже не раз говорили, яркие краски считались чем-то нечистым или позорным. Позднее, с конца XIX до середины XX века, среди белоснежных предметов нижнего и постельного белья, полотенец, купальных костюмов и т. д. стали попадаться и цветные – в первое время только пастельных тонов либо полосатые[292]. То, что казалось невозможным в 1850-е годы – носить голубую нижнюю юбку, зеленую рубашку, вытираться красным полотенцем, спать на полосатой простыне, – через три поколения стало частым, почти что обычным явлением. Возникла новая гамма цветов, предназначенных для нижнего белья, которая постепенно обзавелась социальными и моральными коннотациями. Одни цвета считались более женственными, другие более целомудренными, третьи более эротичными. С 1960-х годов в рекламе используется своего рода тест: «Скажи мне, какого цвета белье под твоим платьем, и я скажу, кто ты». Поскольку белый цвет принято считать целомудренным и гигиеничным, то его антагонист, черный, долгое время воспринимался как непристойный или аморальный, пригодный для одних только распутниц или продажных женщин. Сегодня это пройденный этап. Черный не просто перестал ассоциироваться с проституцией или сексуальной свободой: вот уже два десятка лет для жительниц Европы он занял место белого, как наиболее распространенный цвет нижнего белья. Многие женщины, одеваясь в черное, надевают под юбку, брюки или блузку черное белье, чтобы оно не просвечивало. Другие полагают, что это целомудренный цвет или что он лучше подходит к оттенку их кожи. Третьи – и таких большинство – знают, что на современных синтетических тканях черная краска держится лучше всего, поэтому черное белье может прослужить достаточно долго, несмотря на частую стирку. В наши дни, когда черный цвет стал обыденным, за эротичность женского белья – или за то, что от нее осталось, – отвечают другие цвета. Причем не красный, прежде считавшийся завлекательным или откровенно развратным, а красно-лиловый, телесный и даже белый. Этот последний уже не кажется таким невинным, как в прежние времена. Во всяком случае, когда современных мужчин спрашивают, какой цвет на фоне нежной женской кожи будит в них желание, они в первую очередь называют белый.
Единственные области человеческой жизни, где черный еще сохранил свою репутацию опасного или зловещего цвета, – это лексика и мир суеверий. Именно в сфере лексики и в суевериях в человеке оживают давно забытые системы ценностей. Ничто не может их искоренить – ни технический прогресс, ни перемены в обществе, ни даже изменение жизненных позиций и взглядов. Во всех европейских языках существуют словосочетания и поговорки, которые указывают на тайную, запретную, грозную или зловещую сущность черного. «Черный рынок», «черная зарплата», «черные мысли», «черный день», «черный список», «чернокнижник», «черная дыра», «черная месса», «черный шар», «очернить» и так далее. Такие выражения, высвечивающие негативный или пугающий аспект черного, есть во всех европейских языках. Иногда, впрочем, роль черного играют другие цвета: так, если французы говорят «пить по-черному», то у немцев это называется blau sein – «быть синим»; во Франции детективный роман или фильм называют «нуар» (черный), а в Италии giallo – «желтый» (их обычно выпускают в желтых обложках). Таких примеров немного, но они представляют собой любопытный феномен в истории культуры.
Есть также большое число пословиц и поговорок, которые донесли до наших дней отголоски давних суеверий, связанных с черным цветом. Они показывают, насколько живучи приметы и предрассудки, уходящие своими корнями в глубокую древность. Например, встретить по дороге животное черного цвета (кошку, собаку, курицу, овцу или, хуже того, ворону или ворона) предвещает беду. Встреча с человеком, одетым в черное, тоже не сулит ничего хорошего. На случай, если это все же произошло, есть различные рецепты спасения от злого рока: перекреститься, скрестить пальцы, показать рожки, носить с собой камешек или амулет черного цвета. Ибо народное поверье гласит: черное отпугивает черное, и даже Дьявол при всей своей черноте боится черного цвета[293].
В европейской деревне от этих суеверий, активно напоминавших о себе еще в 50-е годы прошлого века, сегодня не осталось и следа. Повсюду символика черного утратила свою пугающую силу. Даже траур и смерть теперь все реже ассоциируются с этим цветом; его заменяют серым или фиолетовым либо стараются не показываться в нем на людях[294]. Однако если черный в наши дни уже не воспринимается как негативный, то же самое можно сказать и о позитивном, престижном аспекте этого цвета. Когда-то редингот, смокинг, черное платье или черный костюм считались высшим шиком; теперь черный стал едва ли не самым распространенным цветом повседневной одежды, как мужской, так и женской. Даже представителей власти теперь почти не увидишь в черном ни во дворцах правосудия, ни на стадионах. Полицейские и жандармы носят синюю форму, судьи все чаще появляются в своей гражданской одежде. А футбольные арбитры вместо черного приходят на матч в чем-нибудь ярком. Тем самым они утратили часть своей власти: все привыкли уважать решения арбитра, одетого в черное, но если эти решения принимает человек в розовом, желтом или оранжевом…
Сегодня черный цвет как символ роскоши, зародившийся в конце XIV века и сохранявший актуальность еще два или три поколения назад, не встречается практически нигде; исключением можно считать разве что черную икру, а еще контейнеры для очень дорогих товаров (драгоценностей или духов). Преимущество черного над всеми остальными цветами сохранилось только в спорте – на поясах дзюдоистов и на горнолыжных трассах. Во всех остальных сферах жизни черный стал рядовым цветом: это показывают и опросы общественного мнения на тему «Ваш любимый цвет». После окончания Второй мировой войны эти опросы, как в Европе, так и в США, независимо от пола, возраста или социального положения респондентов, показывают примерно одни и те же результаты. Среди шести основных цветов – синий, зеленый, красный, черный, белый, желтый (в порядке предпочтения); черный и не самый любимый (это, как мы видим, синий), и не самый нелюбимый (это желтый): впервые за всю свою историю он оказался посредине хроматической гаммы[295]. Стал ли он средним цветом? Нейтральным цветом? Просто одним из цветов?
Библиография
В комментариях к этой моей работе содержатся ссылки на большое количество книг и статей; не все они указаны в библиографии. Я выбрал лишь несколько работ по общей истории цвета и по истории отдельных цветов и оставил в стороне, как не заслуживающие внимания, публикации, отличающиеся антиисторизмом, поверхностностью, склоняющиеся к психологизированию или эзотеризму. Среди работ по истории костюма или обычаев, связанных с одеждой, я указал лишь те, в которых уделяется должное внимание проблемам цвета – теме настоящей книги. Как ни странно, таких работ не слишком много.
То же самое можно сказать и об истории пигментов, красок и приемов окрашивания; здесь мне пришлось выбирать из множества книг сообразно моему кругу чтения и личному опыту; я указал лишь те работы, которые, я уверен, могут быть полезны историку, изучающему повседневную жизнь общества, оставив в стороне труды по физике и химии красок, а также описания произведений искусства и лабораторных исследований образцов ткани.
Еще более жестким был отбор работ, посвященных истории искусства: тут можно было указать сотни книг и статей; я оставил только несколько публикаций, главной темой которых были связи между цветом, историей искусства и жизнью общества. Ведь моя книга посвящена прежде всего социальной истории черного, а не его истории в живописи. Читатель, интересующийся художественной и научной историей цвета, найдет замечательную библиографию по этим вопросам в книге: John Gage. Colour and Culture. London, 1993, недавно изданной во французском переводе: Couleur et culture. Usages et significations de la couleur de l’Antiquité à l’abstraction, 2008.
История цвета
Работы общего характера
Berlin (Brent), Kay (Paul). Basic Color Terms. Their Universality and Evolution. Berkeley, 1969.
Birren (Faber). Color. A Survey in Words and Pictures. New York, 1961.
Bleu. Histoire d’une couleur. Paris, 2000.
Brusatin (Manlio). Storia dei colori. 2e éd. Turin, 1983 (trad. franç.: Histoire des couleurs. Paris, 1986).
Conklin (Harold C.). Color Categorization // The American Anthropologist. Vol. LXXV/4. 1973. P. 931–942.
Dictionnaire des couleurs de notre temps. Symbolique et société. 4e éd. Paris, 2007.
Eco (Renate), dir. Colore: divietti, decreti, discute. Milan, 1985 (numéro spécial de la revue Rassegna. Vol. 23. Sept. 1985).
Gage (John). Color and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. London, 1993 (trad. franç.: Couleur et culture. Usages et significations de la couleur de l’Antiquité à l’abstraction. Paris, 2008).
Heller (Eva). Wie Farben wirken. Farbpsychologie, Farbsymbolik, Kreative Farbgestaltung. Hambourg, 1989.
Indergand (Michel), Fagot (Philippe). Bibliographie de la couleur. Paris, 1984–1988, 2 vol.
Meyerson (Ignace), dir. Problèmes de la couleur. Paris, 1957.
Pastoureau (Michel). Couleurs, images, symboles. Études d’histoire et d’anthropologie. Paris, 1989.
Portmann (Adolf), Ritsema (Rudolf), dir. The Realms of Colour. Die Welt der Farben. Leiden, 1974 (Eranos Yearbook, 1972).
Pouchelle (Marie-Christine), dir. Paradoxes de la couleur, Paris. 1990 (numéro spécial de la revue Ethnologie française. T. 20/4. Oct. – déc. 1990).
Rzepiska (M.). Historia coloru u dziejach malatstwa europejskiego. 3e éd. Varsovie, 1989.
Tornay (Serge), dir. Voir et nommer les couleurs. Nanterre, 1978.
Vogt (Hans Heinrich). Farben und ihre Geschichte. Stuttgart, 1973.
Zahan (Dominique). L’homme et la couleur // Jean Poirier, dir. Histoire des moeurs. T. I: Les Coordonnées de l’homme et la culture matérielle. Paris, 1990. P. 115–180.
Античность и Средние века
Beta (S.), Sassi (M.M.), éds. I colori nel mondo antiquo. Esperienze linguistiche e quadri simbolici. Sienne, 2003.
Brinkmann (V.), Wünsche (R.), éds. Bunte Götter. Die Farbigkeit antiker Skulptur. Munich, 2003.
Brüggen (E.). Kleidung und Mode in der höfischen Epik. Heidelberg, 1989.
Cechetti (B.). La vita dei Veneziani nel 1300. Le veste. Venise, 1886.
Centre universitaire d’études et de recherches médiévales d’Aix-en-Provence, Les Couleurs au Moyen Âge. Aix-en-Provence, 1988 (Senefiance. T. 24).
Ceppari Ridolfi (Maria A.), Turrini (Patrizia). Il mulino delle vanità. Lusso e cerimonie nella Siena medievale. Sienne, 1996.
Descamps-Lequime (Sophie), éd. Couleur et peinture dans le monde grec antique, Paris. 2004.
Dumézil (Georges). Albati, russati, virides // Rituels indo-européens à Rome. Paris, 1954. P. 45–61.
Frodl-Kraft (Eva). Die Farbsprache der gotischen Malerei. Ein Entwurf // Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. T. XXX–XXXI. 1977–1978. S. 89–178.
Haupt (Gottfried). Die Farbensymbolik in der sakralen Kunst des abendländischen Mittelalters. Leipzig; Dresden, 1941.
Istituto storico lucchese. Il colore nel Medioevo. Arte, simbolo, tecnica. Atti delle Giornate di studi. Lucques, 1996–1998. 2 vol.
L’Église et la couleur des origines à la Réforme // Bibliothèque de l’École des chartes. T. 147. 1989. P. 203–230.
Luzzatto (Lia), Pompas (Renata). Il significato dei colori nelle civiltà antiche. Milan, 1988.
Pastoureau (Michel). Figures et couleurs. Études sur la symbolique et la sensibilité médiévales. Paris, 1986.
Rouveret (Agnès). Histoire et imaginaire de la peinture ancienne. Paris; Rome, 1989.
Rouveret (Agnès), Dubel (Sandrine), Naas (Valérie), éds. Couleurs et matières dans l’Antiquité. Textes, techniques et pratiques. Paris, 2006.
Sicile, héraut d’armes du XVe siècle. Le Blason des couleurs en armes, livrées et devises / H. Cocheris, éd. Paris, 1857.
Tiverios (M.A.), Tsiafakis (D.), éds. The Role of Color in Ancient Greek Art and Architecture (700–31 B.C.). Thessalonique, 2002.
Villard (Laurence), éd. Couleur et vision dans l’Antiquité classique. Rouen, 2002.
Voir les couleurs au XIIIe siècle // Micrologus. Nature, Science and Medieval Societies. Vol. VI (View and Vision in the Middle Ages). 1998. T. II. P. 147–165.
Новое время и современность
Birren (Faber). Selling Color to People. New York, 1956.
Brino (Giovanni), Rosso (Franco). Colore e città. Il piano del colore di Torino, 1800–1850. Milan, 1980.
La couleur en noir et blanc (XVe– XVIIIe siècle) // Le Livre et l’Historien. Études offertes en l’honneur du Professeur Henri-Jean Martin. Genève, 1997. P. 197–213.
Laufer (Otto). Farbensymbolik im deutschen Volsbrauch. Hambourg, 1948.
Lenclos (Jean-Philippe et Dominique). Les Couleurs de la France. Maisons et paysages. Paris, 1982.
Les Couleurs de l’Europe. Géographie de la couleur. Paris, 1995.
Noël (Benoît). L’Histoire du cinéma couleur. Croissy-sur-Seine, 1995.
Pastoureau (Michel). La Réforme et la couleur // Bulletin de la Société d’histoire du Protestantisme français. T. 138. Juill. – sept. 1992. P. 323–342.
Проблемы филологии и терминологии
André (Jacques). Étude sur les termes de couleurs dans la langue latine. Paris, 1949.
Brault (Gerard J.). Early Blazon. Heraldic Terminology in the XIIth and XIIIth Centuries, with Special Reference to Arthurian Literature. Oxford, 1972.
Crosland (M.P.). Historical Studies in the Language of Chemistery. London, 1962.
Giacolone Ramat (Anna). Colori germanici nel mondo romanzo // Atti e memorie dell’Academia Toscana di scienze e lettere La Colombaria (Firenze). Vol. 32. 1967. P. 105–211.
Gloth (H.). Das Spiel von den sieben Farben. Königsberg, 1902.
Grossmann (Maria). Colori e lessico: studi sulla struttura semantica degli aggetivi di colore in catalano, castigliano, italiano, romano, latino ed ungherese. Tübingen, 1988.
Jacobson-Widding (Anita). Red-White-Black, as a Mode of Thought. Stockholm, 1979.
Kantor (Sofia). Blanc et noir dans l’épique française et espagnole: dénotation et connotation // Studi medievali. T. XXV. 1984. P. 145–199.
Kristol (Andres M.). Color. Les Langues romanes devant le phénomène de la couleur. Berne, 1978.
Magnus (Hugo). Histoire de l’évolution du sens des couleurs. Paris, 1878.
Meunier (Annie). Quelques remarques sur les adjectifs de couleur // Annales de l’Université de Toulouse. Vol. 11/5. 1975. P. 37–62.
Mollard-Desfour (Annie). Le Dictionnaire des mots et expressions de couleur. Le noir. Paris, 2005.
Ott (André). Études sur les couleurs en vieux français. Paris, 1899.
Schäfer (Barbara). Die Semantik der Farbadjektive im Altfranzösischen. Tübingen, 1987.
Wackernagel (Wilhelm). Die Farben– und Blumensprache des Mittelalters // Abhandlungen zur deutschen Altertumskunde und Kunstgeschichte. Leipzig, 1872. S. 143–240.
Wierzbicka (Anna). The Meaning of Color Terms: Cromatology and Culture // Cognitive Linguistics. Vol. I/1. 1990. P, 99–150.
История окрашивания и красильного дела
Brunello (Franco). L’arte della tintura nella storia dell’umanita. Vicenza, 1968.
–. Arti e mestieri a Venezia nel medioevo e nel Rinascimento. Vicenza, 1980.
Cardon (Dominique), Du Châtenet (Gaëtan). Guide des teintures naturelles. Neuchâtel; Paris, 1990.
Chevreul (Michel Eugène). Leçons de chimie appliquées à la teinture. Paris, 1829.
Edelstein (S.M.), Borghetty (H.C.). The «Plictho» of Giovan Ventura Rosetti. London; Cambridge (Mass.), 1969.
Gerschel (Lucien). Couleurs et teintures chez divers peuples indo-européens // Annales ESC. 1966. P. 608–663.
Hellot (Jean). L’Art de la teinture des laines et des étoffes de laine en grand et petit teint. Paris, 1750.
Jaoul (Martine), dir. Des teintes et des couleurs, exposition. Paris, 1988.
Lauterbach (F.). Geschichte der in Deutschland bei der Färberei angewandten Farbstoffe, mit besonderer Berücksichtigung des mittelalterlichen Waidblaues. Leipzig, 1905.
Legget (W.F.). Ancient and Medieval Dyes. New York, 1944.
Lespinasse (René de). Histoire générale de Paris. Les métiers et corporations de la ville de Paris. T. III (Tissus, étoffes…). Paris, 1897.
Pastoureau (Michel). Jésus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans l’Occident médiéval. Paris, 1998.
Ploss (Emil Ernst). Ein Buch von alten Farben. Technologie der Textilfarben im Mittelalter. 6e éd. Munich, 1989.
Rebora (Giovanni). Un manuale di tintoria del Quattrocento. Milan, 1970.
Varichon (Anne). Couleurs, pigments et teintures dans les mains des peuples. Paris, 2000.
История пигментов
Bomford (David) et al. Art in the Making: Italian Painting before 1400. London, 1989.
–. Art in the Making: Impressionism. London, 1990.
Brunello (Franco). «De arte illuminandi» e altri trattati sulla tecnica della miniatura medievale. 2e éd. Vicenza, 1992.
Feller (Robert L.), Roy (Ashok). Artists’ Pigments. A Handbook of their History and Characteristics. Washington, 1985–1986, 2 vol.
Guineau (Bernard), dir. Pigments et colorants de l’Antiquité et du Moyen Âge. Paris, 1990.
Harley (R.D.). Artists’ Pigments (c. 1600–1835). 2e éd. London, 1982.
Kittel (H.), dir. Pigmente. Stuttgart, 1960.
Laurie (A.P.). The Pigments and Mediums of Old Masters. London, 1914.
Loumyer (Georges). Les Traditions techniques de la peinture médiévale. Bruxelles, 1920.
Merrifield (Mary P.). Original Treatises dating from the XIIth to the XVIIIth Centuries on the Art of Painting. London, 1849, 2 vol.
Montagna (Giovanni). I pigmenti. Prontuario per l’arte e il restauro. Florence, 1993.
Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken. I: Farbmittel, Buchmalerei, Tafel– und Leinwandmalerei. Stuttgart, 1988.
Roosen-Runge (Heinz). Farbgebung und Technik frühmittelalterlicher Buchmalerei. Munich, 1967, 2 vol.
Smith (C.S.), Hawthorne (J.G.). Mappae clavicula. A Little Key to the World of Medieval Techniques. Philadelphia, 1974 (Transactions of The American Philosophical Society. n. s. Vol. 64/IV).
Technè. La science au service de l’art et des civilisations. Vol. 4. 1996 («La couleur et ses pigments»).
Thompson (Daniel V.). The Material of Medieval Painting. London, 1936.
Zerdoun (Monique). Les Encres noires au Moyen Âge. Paris, 1983.
История одежды
Baldwin (Frances E.). Sumptuary Legislation and Personal Relation in England. Baltimore, 1926.
Baur (Veronika). Kleiderordnungen in Bayern von 14. bis 19. Jahrhundert. Munich, 1975.
Boehn (Max von). Die Mode. Menschen und Moden vom Untergang der alten Welt bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Munich, 1907–1925. 8 vol.
Boucher (François). Histoire du costume en Occident de l’Antiquité à nos jours. Paris, 1965.
Bridbury (A.R.). Medieval English Clothmaking. An Economic Survey. London, 1982.
Eisenbart (Liselotte C.). Kleiderordnungen der deutschen Städte zwischen 1350–1700, Göttingen, 1962.
Friedman (Daniel). Une histoire du blue jean. Paris, 1987.
Harte (N.B.), Ponting (K.G.), éds. Cloth and Clothing in Medieval Europe. Essays in Memory of E.M. Carus-Wilson. London, 1982.
Harvey (John). Men in Black. London, 1995 (trad. franç.: Des hommes en noir. Du costume masculin à travers les âges. Abbeville, 1998).
Hunt (Alan). Governance of the Consuming Passions. A History of Sumptuary Law. London; New York, 1996.
Lurie (Alison). The Language of Clothes. London, 1982.
Madou (Mireille). Le Costume civil. Turnhout, 1986 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental. Vol. 47).
Mayo (Janet). A History of Ecclesiastical Dress. London, 1984.
Nathan (H.). Levi Strauss and Company, Taylors to the World. Berkeley, 1976.
Nixdorff (Heide), Müller (Heidi), dir. Weisse Vesten, roten Roben. Von den Farbordnungen des Mittelalters zum individuellen Farbgeschmak, exposition. Berlin, 1983.
Page (Agnès). Vêtir le prince. Tissus et couleurs à la cour de Savoie (1427–1447). Lausanne, 1993.
Pellegrin (Nicole). Les Vêtements de la liberté. Abécédaires des pratiques vestimentaires françaises de 1780 à 1800. Paris, 1989.
Piponnier (Françoise). Costume et vie sociale. La cour d’Anjou, XIVe– XVe siècles. Paris; La Haye, 1970.
Piponnier (Françoise), Mane (Perrine). Se vêtir au Moyen Âge. Paris, 1995.
Quicherat (Jules). Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Paris, 1875.
Roche (Daniel). La Culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe– XVIIIe s.). Paris, 1989.
Roche-Bernard (Geneviève), Ferdière (Alain). Costumes et textiles en Gaule romaine. Paris, 1993.
Vincent (John M.). Costume and Conduct in the Laws of Basel, Bern and Zurich. Baltimore, 1935.
Философия и история науки
Blay (Michel). La Conceptualisation newtonienne des phénomènes de la couleur. Paris, 1983.
Boyer (Carl B.). The Rainbow from Myth to Mathematics. New York, 1959.
Goethe (Johann Wolfgang von). Zur Farbenlehre. Tübingen, 1810. 2 vol.
Halbertsma (K.J.A.). A History of the Theory of Colour. Amsterdam, 1949.
Les Figures de l’arc-en-ciel’. Paris, 1995.
Lindberg (David C.). Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler. Chicago, 1976.
Materialen zur Geschichte der Farbenlehre. Munich, 1971. 2 vol.
Newton (Isaac). Opticks or a Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light. London, 1704.
Pastore (Nicholas). Selective History of Theories of Visual Perception, 1650–1950. Oxford, 1971.
Sepper (Dennis L.). Goethe contra Newton. Polemics and the Project of a New Science of Color. Cambridge, 1988.
Sherman (Paul D.). Colour Vision in the Nineteenth Century: the Young-Helmholtz-Maxwell Theory. Cambridge, 1981.
Westphal (John). Colour: a Philosophical Introduction. 2e éd. London, 1991.
Wittgenstein (Ludwig). Bemerkungen über die Farben. Frankfurt am Main, 1979.
История и теория искусства
Aumont (Jacques). Introduction à la couleur: des discours aux images. Paris, 1994.
Barasch (Moshe). Light and Color in the Italian Renaissance Theory of Art. New York, 1978.
Dittmann (L.). Farbgestaltung und Fartheorie in der abendländischen Malerei. Stuttgart, 1987.
Gavel (Jonas). Colour. A Study of its Position in the Art Theory of the Quattro– and Cinquecento. Stockholm, 1979.
Hall (Marcia B.). Color and Meaning. Practice and Theory in Renaissance Painting. Cambridge (Mass.), 1992.
Imdahl (Max). Farbe. Kunsttheoretische Reflexionen in Frankreich. Munich, 1987.
Kandinsky (Vassily). Ueber das Geistige in der Kunst. Munich, 1912.
Le Rider (Jacques). Les Couleurs et les Mots. Paris, 1997.
Lichtenstein (Jacqueline). La Couleur éloquente. Rhétorique et peinture à l’âge classique. Paris, 1989.
Roque (Georges). Art et science de la couleur. Chevreul et les peintres de Delacroix à l’abstraction. Nîmes, 1997.
Shapiro (Alan E.). Artists’ Colors and Newton’s Colors // Isis. Vol. 85. 1994. P. 600–630.
Teyssèdre (Bernard). Roger de Piles et les débats sur le coloris au siècle de Louis XIV. Paris, 1957.
Подготовительные работы для настоящей книги
Du bleu au noir. Éthiques et pratiques de la couleur à la fin du Moyen Âge // Médiévales. Vol. XIV. 1988. P. 9–22.
L’Église et la couleur des origines à la Réforme // Bibliothèque de l’École des chartes. T. 147. 1989. P. 203–230.
Une histoire des couleurs est-elle possible? // Ethnologie française. Vol. 20/4. Oct. – déc. 1990. P. 368–377.
La Réforme et la couleur // Bulletin de la Société d’histoire du Protestantisme français. T. 138. Juill. – sept. 1992. P. 323–342.
Les couleurs de la mort // Alexandre-Bidon (Danièle), Treffort (Cécile), dir. À réveiller les morts. La mort au quotidien dans l’Occident médiéval. Lyon, 1994. P. 97–108.
Morales de la couleur. Le chromoclasme de la Réforme // Cahiers du Léopard d’or. T. IV. 1995. P. 27–46.
Mensonges et vérités de la couleur à l’aube des Lumières // Rodari (Florian), dir. Anatomie de la couleur. L’invention de l’estampe en couleurs, exposition. Paris: Bibliothèque nationale de France, 1996. P. 91–93.
La couleur en noir et blanc (XVe– XVIIIe siècle) // Le Livre et l’Historien. Études offertes en l’honneur du professeur Henri-Jean Martin. Genève, 1997. P. 197–213.
Voir les couleurs au XIIIe siècle // Micrologus. Natura, scienze e società medievali. Vol. VI/2. 1998. P. 147–165.
Les cisterciens et la couleur au XIIe siècle // L’Ordre cistercien et le Berry (colloque, Bourges, 1998). Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry. Vol. 136. 1998. P. 21–30.
Voir les couleurs du passé: anachronismes, naïvetés, surlectures // Gervereau (Laurent), éd. Peut-on apprendre à voir. Paris: École nationale supérieure des beaux-arts, 1999. P. 232–244.
Le temps mis en couleurs. Des couleurs liturgiques aux modes vestimentaires (XIIe– XIIIe s.) // Bibliothèque de l’École des chartes. Vol. 157. Janv. – juin 1999. P. 111–135.
La couleur et l’historien // Pour la Science. Avril 2000. P. 112–116.
Примечания
1
Бытие 1, 1.
(обратно)2
Разумеется, выражение «темная материя» употребляется здесь в упрощенном, почти что переносном смысле, а не как обозначение конкретного явления, изучаемого астрофизикой.
(обратно)3
Так, по крайней мере, гласит орфическая теогония. Гесиод рассказывает об этом несколько иначе: по его теогонии, между Никто и Ураном было еще одно поколение богов. См.: Grimal P. Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. 11e éd. Paris, 1991. P. 320, 334.
(обратно)4
Salvat M. Le traité des couleurs de Barthélemy l’Anglais (XIIIe siècle) // Senefiance (Aix-en-Provence). T. 24. 1988. P. 359–385.
(обратно)5
Со времени позднего Средневековья именно синий, а не белый все чаще начинает восприниматься как цвет воздуха.
(обратно)6
Dumézil G. Rituels indo-européens à Rome. Paris, 1954. P. 45–61. Сама триада заимствована у историка VI века Иоанна Лида, применившего ее для обозначения трех частей, на которые разделялся римский народ на заре своей истории.
(обратно)7
Так, Платон в «Государстве» подчеркивает, что для порядка в государстве необходимо, чтобы его население было разделено на три касты, имеющие свои эмблемы: начальники, воины, ремесленники.
(обратно)8
Duby G. Les Trois Ordres ou l’Imaginaire du féodalisme. Paris, 1978.
(обратно)9
Grisward J. Archéologie de l’épopée médiévale. Paris, 1981. P. 53–55, 253–264.
(обратно)10
Dumézil G., См. цитату в примечании 6.
(обратно)11
Eliade M. Le Symbolisme des ténèbres dans les religions archaïques. Polarité du symbole. 2e éd. Bruxelles, 1958.
(обратно)12
Платон. Государство. VII, 514 а – б.
(обратно)13
См. прекрасную книгу: Bachelard G. La Flamme d’une chandelle. 4e éd. Paris, 1961.
(обратно)14
О пещере в Нио см.: Clottes J. Les Cavernes de Niaux. Paris, 1995.
(обратно)15
Древнеримской живописи и роли, которую в ней играли различные оттенки черного, посвящена обширная литература. См., в частности: Barbet A. La Peinture romaine. Les styles décoratifs pompéiens. Paris, 1985; Rouveret A. Histoire et imaginaire de la peinture ancienne. Paris; Rome, 1989; Ling R. Roman Painting. Cambridge, 1991; Villard L., éd. Couleur et vision dans l’Antiquité classique. Rouen, 2002; Rouveret A., Dubel S., Naas V., éds. Couleurs et matières dans l’Antiquité. Textes, techniques et pratiques. Paris, 2006.
(обратно)16
André J. Étude sur les termes de couleur dans la langue latine. Paris, 1949.
(обратно)17
Irwin E. Colour Terms in Greek Poetry. Toronto, 1974; Maxwell-Stuart P.G. Studies in Greek Colour Terminology. T. I. Leyden, 1981.
(обратно)18
Латинское слово rubeus – просто вариант слова ruber, оно не указывает на какой-то особенный оттенок цвета.
(обратно)19
В латинском языке есть и другие слова, означающие различные оттенки черного цвета, однако они встречаются реже: так, fuscus означает «совсем темное, но не вполне черное»; furvus ближе к темно-бурому, чем к черному; piceus и coracinus означают «черный, как смоль» и «черный, как ворон»; pullus, ravus, canus и cinereus вписываются скорее в гамму оттенков серого, нежели черного. О латинских словах, означающих оттенки черного, см.: André J. Op. cit. P. 43–46.
(обратно)20
Ibid. P. 25–38.
(обратно)21
По проблеме обозначения цвета в романских языках см.: Kristol A.M. Color. Les langues romanes devant le phénomène de la couleur. Berne, 1978.
(обратно)22
Ott A. Étude sur les couleurs en vieux français. Paris, 1900; Schäfer B. Die Semantik der Farbadjektive im Altfranzösischen. Tübingen, 1987.
(обратно)23
Kees H. Farbensymbolik in ägyptischen religiösen Texten. Göttingen, 1943; Reuterswärd P. Studien zur Polychromie der Plastik: Aegypten. Uppsala, 1958; Posener G., Sauneron S., Yoyotte J. Dictionnaire de la civilisation égyptienne. Paris, 1959. P. 70–72, 215–215; Franco I. Nouveau dictionnaire de mythologie égyptienne. Paris, 1999. P. 60–61.
(обратно)24
Песн. 1, 5.
(обратно)25
Ио. 8, 12; 12, 46; Матф. 17, 2; 2 Ко. 4, 6; и т. д.
(обратно)26
Матф. 13, 43; Ап. 21, 23; 22, 4; и т. д.
(обратно)27
Матф. 8, 12; 22, 13; Лук. 13, 28.
(обратно)28
Luzzatto L., Pompas R. Il significato dei colori nelle civiltà antiche. Milano, 1988. P. 63–66.
(обратно)29
André J. Op. cit. (прим. 16). P. 71–72.
(обратно)30
В классической латыни прилагательное cinereus, «пепельно-серый», использовалось только для обозначения растений и минералов.
(обратно)31
Многочисленные примеры можно найти у Вергилия, Горация и Тибулла.
(обратно)32
Aulu-Gelle. Noctes Atticae. C. Hosius. Leipzig, 1903. XIX, 7, 6.
(обратно)33
О грехе, Дьяволе и аде в представлениях христиан см. ниже, с. 38–47.
(обратно)34
О Хель, дочери бога Локи и богине преисподней в скандинавской мифологии, см.: Dumezil G. Loki. Paris, 1948. P. 51–54. См. также в более широком аспекте: Boyer R. La Mort chez les anciens Scandinaves. Paris, 1994; Guerra P. Dieux et mythes nordiques. Lille, 1998.
(обратно)35
Часто употребляемый эпитет Одина – Rabengott, «бог с вороном».
(обратно)36
Gesta regis Canutonis. // Monumenta Germaniae Historica. Series Scriptores rerum Germanicarum. T. XVIII. Leipzig, 1865. S. 123 et passim.
(обратно)37
Scheibelreiter G. Tiernamen und Wappenwesen. Wien, 1976. S. 41–44, 66–67, 101–102. У германцев много мужских имен, образованных от названия этой птицы (общегерманское *hrabna; hraban на староверхненемецком): Бертхрам, Крамзинд, Фрамберт, Гунтхрам, Храбан, Инграбан, Вольфрам и т. д. Миссионеры, занимавшиеся христианизацией Германии при Карле Великом, а затем Скандинавии два века спустя, вели борьбу с этими именами, которые казались им чересчур «свирепыми», и при крещении давали местным жителям имена апостолов и святых. Однако многие германские имена, связанные с вороном, в латинизированной форме сохранились в христианской Европе до начала второго тысячелетия. Затем некоторые из них в слегка измененном виде вошли в народные языки и благополучно дожили до наших дней. Например, французское имя Бертран восходит к германскому Berthram, то есть «сильный и ловкий (или блестящий), как ворон».
(обратно)38
Ibid. S. 29–40. См. также: Müller G. Germanische Tiersymbolik und Namengebung // Steger H., dir. Probleme der Namenforschung. Berlin, 1977. S. 425–448.
(обратно)39
Laurioux B. Manger l’impur. Animaux et interdits alimentaires durant le haut Moyen Âge // Homme, animal et société. Toulouse, 1989. T. III. P. 73–87; Pastoureau M. L’Ours. Histoire d’un roi déchu. Paris, 2007. P. 65–66.
(обратно)40
Приводится в кн.: Wagner M.A. Le Cheval dans les croyances germaniques. Paganisme, christianisme et traditions. Paris, 2005. P. 467–469.
(обратно)41
Так, во всяком случае, считали Отцы Церкви и средневековые богословы.
(обратно)42
Бытие 8, 6–14.
(обратно)43
Единственный библейский эпизод, где вороны играют положительную роль, – история пророка Илии, которому во время его пребывания в пустынной местности эти птицы по приказу Всевышнего приносят еду (1 Царств 17, 1–7). Они станут прототипами многочисленных воронов-кормильцев, описанных в средневековой агиографии.
(обратно)44
Оппозиция свет/тьма заложена в природе, тогда как оппозиция белое/черное имеет чисто культурное происхождение. Впрочем, эти два понятия не являются абсолютно аналогичными.
(обратно)45
Самая распространенная версия истории прекрасной Корониды изложена в «Метаморфозах» Овидия (кн. II, ст. 542–632). См.: Pollard J. Birds in Greek Life and Myth. New York, 1977. P. 123 et passim; Grimal P. Op. cit. (прим. 3). P. 100–101.
(обратно)46
О роли ворона в греческой и римской гадательной практике см.: Bouché-Leclercq A. Histoire de la divination dans l’Antiquité. Paris, 1879–1882. 4 vol.; Bloch R. La Divination dans l’Antiquité. 4e éd. Paris, 1984; Prieur J. Les Animaux sacrés dans l’Antiquité. Rennes, 1988.
(обратно)47
Pline. Histoire naturelle. Livre X. Chap. 15, 6 33 / J. André, éd. Paris, 1961. P. 39.
(обратно)48
В последнее время в английских и американских научных журналах появилось много статей, в которых говорится об уме и сообразительности воронов и ворон. Краткий обзор этих материалов можно найти в кн.: Bugnyar T., Heinrich B. Ravens (Corvus corax) // Proceedings of the Royal Society (London). Vol. 272. 2005. P. 1641–1646.
(обратно)49
Regula sancti Benedicti. Chap. LV (De vestiario vel calciario fratrum). Art. 7: «De quarum rerum omnium colore aut grossitudine non causentur monachi…».
(обратно)50
De sacrosancti altaris mysterio // Migne J. – P., éd. Patrologia latina. T. 217. Col. 774–916 (couleurs = col. 799–802).
(обратно)51
К этой базовой триаде в непраздничные дни иногда добавляется четвертый цвет – зеленый, который, по мнению авторов, занимает промежуточное положение между тремя остальными цветами.
(обратно)52
Пастуро М. Синий. История цвета. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
(обратно)53
См. прекрасную книгу о французских героических поэмах: Grisward J. Archéologie de l’épopée médiévale, на которую мы ссылались выше.
(обратно)54
Berlioz J. La petite robe rouge // Berlioz J., Brémond C., Velay-Vallantin C., éds. Formes médiévales du conte merveilleux. Paris, 1989. P. 133–139.
(обратно)55
Например, в сказке о Белоснежке, средневековая версия которой либо не сохранилась, либо не существовала вообще, черная колдунья дарит красное отравленное яблоко белой, как снег, девушке.
(обратно)56
Об истории появления шахмат в Европе и об изменении цвета фигур и доски см.: Pastoureau M. Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental. Paris, 2004. P. 269–291.
(обратно)57
Marino Ferro X.R. Symboles animaux. Un dictionnaire des représentations et des croyances en Occident. Paris, 2004. P. 118–121, 324.
(обратно)58
Le Goff J. La Naissance du Purgatoire. Paris, 1991.
(обратно)59
Иов 1, 6–12; 2, 1–7.
(обратно)60
О средневековой иконографии ада см.: Baschet J. Les Justices de l’au-delà. Les représentations de l’enfer en France et en Italie, XIIe– XVe siècle. Rome, 1993.
(обратно)61
В позднем Средневековье скупость иногда будет ассоциироваться с желтым.
(обратно)62
Glaber R. Histoires / M. Prou, éd. Paris, 1886. P. 123; Pognon E. L’An mille. Paris, 1947. P. 45–144.
(обратно)63
Gradwohl R. Die Farben im Alten Testament. Eine terminologische Studie // Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. T. 83. 1963. S. 1–123; Janssen H.F. Les couleurs dans la Bible hébraïque // Annuaire de l’Institut de philologie et d’histoire orientale. T. 14. 1954–1957. P. 145–171.
(обратно)64
Пастуро М. Синий. История цвета. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 33.
(обратно)65
Pastoureau M. Ceci est mon sang. Le christianisme médiéval et la couleur rouge // Alexandre-Bidon D., éd. Le Pressoir mystique. Actes du colloque de Recloses. Paris, 1990. P. 43–56.
(обратно)66
Pastoureau M. Les cisterciens et la couleur au XIIe siècle // L’Ordre cistercien et le Berry (colloque, Bourges, 1998). Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry. Vol. 136. 1998. P. 21–30.
(обратно)67
И все же в средневековой Западной Европе еще остаются следы былого почитания, которым древние кельты и германцы окружали ворона: прежде всего в антропонимике, где имена, связанные с этой птицей, занимают важное место; затем в агиографии, где рассказывается о воронах, приносящих еду отшельникам (ср. библейский эпизод с пророком Илией) и оказывающих помощь более или менее прославленным святым; и, наконец, в эмблематике, где очень долго за вороном сохраняется первостепенная роль, которую он играл когда-то в варварской инсигнологии. Когда в XII веке геральдика разрабатывает свои первые фигуры животных, она создает гибрид (туловище анфас, голова в профиль) древнегерманского ворона и римского орла.
(обратно)68
1 Царств 17, 34; 2 Царств 2, 24; Прем 28, 15; Дан. 7, 5; Ос. 13, 8; Ам. 5, 19; и т. д.
(обратно)69
Ursus est diabolus. Sermones. XVII. 34 // Patrologia latina. T. 39. Col. 1819: о схватке Давида с медведем и львом.
(обратно)70
Pastoureau M. L’Ours. Histoire d’un roi déchu. Paris, 2007. P. 123–210.
(обратно)71
Bobis L. Le Chat. Histoire et légendes. Paris, 2000. P. 189–240.
(обратно)72
Augustin. Ennaratio in Psalmum 79 // Patrologia latina. T. 36. Col. 1025.
(обратно)73
Aper a feritate vocatus, ablata f littera et subrogata p dicitur. «Кабан (aper) назван так за свою свирепость (a feritate), только буква F заменена на P». Isidore de Séville. Etymologiae / J. André, éd. Paris, 1986. P. 37 (= chap. I, § 27). Эта этимология названия кабана встречается также у Папия и затем повторяется у всех авторов до XIII века.
(обратно)74
Thomas de Cantimpré. Liber de natura rerum / H. Böse, éd. Berlin, 1973. P. 109.
(обратно)75
Это остроумное замечание принадлежит Франсуа Поплену.
(обратно)76
Pastoureau M. Chasser le sanglier: du gibier royal à la bête impure. Histoire d’une dévalorisation // Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental. Paris, 2004. P. 65–77.
(обратно)77
Pastoureau M. L’Étoffe du Diable. Une histoire des rayures et des tissus rayés. Paris, 1991. P. 37–47.
(обратно)78
Эта идея, высказанная еще Аристотелем, а затем Теофрастом, встречается у многих авторов в течение всего Средневековья: в ее пользу говорят открытия мусульманских ученых. Однако продолжает существовать и противоположная точка зрения, согласно которой цвет материален и представляет собой нечто вроде оболочки, в которую заключены предметы. Так, в XIII веке большинство преподавателей-францисканцев в Оксфорде, очень много размышлявших и писавших о цвете, считают его и материальной субстанцией, и в то же время некоей частицей света. По истории теорий о природе цвета см.: Gage J. Color and Culture. London, 1989 (с очень ценной библиографией). Об эволюции теорий Аристотеля см.: Hudeczek M. De lumine et coloribus (selon Albert le Grand) // Angelicum. T. 21. 1944. P. 112–138; Kucharski P. Sur la théorie des couleurs et des saveurs dans le «De sensu» aristotélicien //Revue des etudes grecques. T. 67. 1954. P. 355–390; Eastwood B.S. Robert Grossetete’s theory on the rainbow // Archives internationals d’histoire des sciences. T. 19. 1966. P. 313–332.
(обратно)79
Об эстетике Сугерия и о его позиции по отношению к свету и цвету см.: Verdier P. Réflexions sur l’esthétique de Suger // Mélanges. R. Labande. Paris, 1975. P. 699–709; Panofsky E. Abbot Suger on the Abbey Church of St. Denis and its Art Treasure. 2e éd. Princeton, 1979; Grodecki L. Les Vitraux de Saint-Denis: histoire et restitution. Paris, 1976; Crosby S.M. et al. The Royal Abbey of Saint-Denis in the time of abbot Suger (1122–1151). New York, 1981.
(обратно)80
Под редакцией и в переводе Ж. Леклерка (J. Leclercq, Paris, 1945), а позднее Ф. Гаспарри: Gasparri F. Suger. Œuvres I. Paris, 1996. P. 1–53.
(обратно)81
См. глоссарии и указатели к изданиям: Mabillon (1690), Migne (Patrologia latina. Vol. 182, 183), которое в основном повторяет издание Мабийона, а также: Leclerc-Talbot-Rochais (с 1957). К сожалению, не у всех томов имеется справочный аппарат. См. также: Mohrmann C. Observations sur la langue et le style de saint Bernard // Sancti Bernardi opera / Leclerc-Talbot-Rochais, éd. Vol. 11. Rome, 1958. P. 9–33.
(обратно)82
О святом Бернаре Клервоском и цвете см.: Pastoureau M. Les cisterciens et la couleur au XIIe siècle; см. прим. 67.
(обратно)83
Историки костюма редко либо с большими неточностями рассказывают о костюме монахов и членов военно-рыцарских орденов. Единственное специальное исследование по этой теме было опубликовано в XVIII веке; оно еще может быть полезным: Helyot P. Histoire complète et costume des ordres monastiques, religieux et militaires. Paris, 1714–1721. 8 vol.
(обратно)84
De quarum rerum omnium colore aut grossitudine non causentur monachi. Regula sancti Benedicti. Chap. LV (De vestiario vel calciario fratrum…). Art. 7.
(обратно)85
Pastoureau M. Jésus chez le teinturier. Couleur et teinture dans l’Occident médiéval. Paris, 1998. P. 121–126.
(обратно)86
Однако в реформаторских предписаниях Бенедикта Анианского и в Capitulare monasticum 817 года ничего не говорится о цвете монашеских одежд. Так что «черные монахи» – порождение традиции, а не орденских уставов или статутов.
(обратно)87
Это выражение несколько раз встречается, например, в хронике Ордерика Виталия. Кроме того, первоначальные правила ордена, которые отражены в Хартии милосердия 1114 года, запрещают к ношению крашеные и необычные ткани (panni tincti et curiosi ab ordine nostro penitus excluduntur).
(обратно)88
Впрочем, некоторые полезные сведения можно найти в: Ducourneau J. – O. Les origines cisterciennes (VI) // Revue Mabillon. T. 23. 1933. P. 103–110.
(обратно)89
Текст этого важного во многих отношениях документа можно найти в прекрасной книге: Constable G. The Letters of Peter the Venerable. Cambridge (Mass.), 1967. T. 1. P. 55–58 (письмо 28). См. также письмо 111 (1144 год), призывающее к примирению: P. 285–290.
(обратно)90
Эта тема часто встречается в письмах 1124–1125 годов, а затем в Apologia ad Gulielmum. Спор о сравнительных достоинствах и значениях черного и белого содержится также в анонимном ответе на «Апологию святого Гийома из Сен-Тьерри», сочинении одного английского монаха-бенедиктинца, написанном ок. 1127–1128 года (см.: Revue bénédictine. 1934. P. 296–344).
(обратно)91
На тему о конфликте цистерцианцев и клюнийцев существует обширная библиография. Конкретно о проблемах, которые интересуют нас сейчас, см.: Knowles M.D. Cistercians and Cluniacs, the Controversy between St. Bernard and Peter the Venerable. Oxford, 1955; Bredero A.H. Cluny et Cîteaux au douzième siècle: l’histoire d’une controverse monastique. Amsterdam, 1986.
(обратно)92
Отбеливание хлором и хлоридами появится только в конце XVIII века, после того как в 1774 году будет открыт хлор. Ранее было известно отбеливание на основе серы, но этот процесс был небезопасным: шерсть и шелк могли пострадать. Ткани приходилось погружать на целый день в раствор, содержащий серную кислоту; если концентрация была слишком слабой, ткань не отбеливалась, если слишком крепкой, кислота разъедала ткань.
(обратно)93
Не следует путать ткани, действительно окрашенные в белый цвет (даже если это сложная процедура, которая заканчивается не всегда успешно), с так называемыми «белыми» тканями, часто упоминаемыми в счетных книгах и описях торговцев. Эти «белые» ткани – текстильные изделия высокого качества, не подвергавшиеся окраске и экспортируемые далеко за пределы региона, где они производятся. А окрашивают их позже, в городе заказчика. См.: Laurent H. Un grand commerce d’exportation au Moyen Âge. La draperie des Pays-Bas en France et dans les pays méditerranéens (XIIe– XVe s.). Paris, 1935. P. 210–211. Употребление прилагательного «белый» в значении «неокрашенный» – очень любопытный феномен. Он предвосхищает приравнивание белого к бесцветному, которое будет характерно для представлений и вкусов наших современников.
(обратно)94
О происхождении, появлении и распространении первых гербов см.: Pastoureau M. Traité d’héraldique. 2e éd. Paris, 1993. P. 20–58, 298–309.
(обратно)95
Первые пять цветов присутствуют повсеместно; в гербах всех эпох и всех регионов они фигурируют гораздо чаще остальных. Шестой цвет, зеленый, встречается реже, и причины этого остаются не до конца проясненными. Кроме того, есть и седьмой, еще более редкий цвет: пурпур (фиолетовый); он используется только в исключительных случаях и не считается геральдическим цветом в полном смысле этого слова.
(обратно)96
В современную эпоху этот абсолютный, почти абстрактный характер геральдических цветов является особенностью флагов. Так, ни в одном документе не уточняется, какого оттенка должны быть синий и красный цвета на государственном флаге Франции. Это эмблематические цвета, а следовательно, абсолютные. Они могут быть представлены в различных оттенках (погода тоже вносит свои коррективы), но значение флага от этого нисколько не меняется.
(обратно)97
О геральдических цветах и о вопросах, которые возникают в связи с ними, см.: Pastoureau M. Traité d’héraldique (см. прим. 95). P. 100–121.
(обратно)98
Обо всех этих цифрах см.: Ibid. P. 115–121.
(обратно)99
Korn H.E. Adler und Doppeladler. Ein Zeichen im Wandel der Geschichte. Marburg, 1976.
(обратно)100
Delort R. Le Commerce des fourrures en Occident à la fin du Moyen Âge, vers 1300 – vers 1450. Rome, 1978.
(обратно)101
Ott A. Étude sur les couleurs en vieux français. Paris; Zurich, 1900. P. 31–32.
(обратно)102
Brault G.J. Early Blazon. Heraldic Terminology in the XIIth and XIIIth Centuries, with Special Reference to Arthurian Literature. Oxford, 1972. P. 271; Pastoureau M. Traité d’héraldique. P. 101–105.
(обратно)103
Не только щит рыцаря, но и его куртка, надеваемая поверх лат, его знамя и чепрак его лошади были одноцветными, и их было видно издалека. Вот почему в книгах говорится об Алом рыцаре, Белом рыцаре, Черном рыцаре и т. п.
(обратно)104
Выбор слова, обозначающего оттенок красного, иногда привносит дополнительную черту в характеристику персонажа: так, если его называют не Красным, а Алым рыцарем, значит, он знатного происхождения (но от этого не становится менее опасным); Огненный рыцарь (affoué: это старое французское слово происходит от латинского affocatus, «пылающий») гневлив и вспыльчив; Багровый рыцарь свиреп и жесток, он сеет смерть; Рыжий рыцарь лукав и вероломен.
(обратно)105
А вот в рыцарских романах XIV века в персонаже Белого рыцаря, напротив, появится нечто зловещее, у него возникнут таинственные связи со смертью и миром призраков. Но все это случится не раньше 1320–1340-х годов (за исключением, быть может, литератур Северной Европы).
(обратно)106
См. полный список «одноцветных» рыцарей артуровского цикла в кн.: Brault G.J. Early Blazon. Heraldic Terminology in the XIIth and XIIIth Centuries, with Special Reference to Arthurian Literature. Oxford, 1972. P. 31–35. См. также примеры в: Combarieu M. de. Les couleurs dans le cycle du Lancelot-Graal // Senefiance. T. 24. 1988. P. 451–588.
(обратно)107
Синий цвет здесь не значит ничего. Или, по крайней мере, он еще недостаточно интересен с точки зрения геральдики и символики, чтобы его можно было использовать для такого эффектного приема. Внезапное появление в повествовании Синего рыцаря не могло бы стать распознаваемым сигналом читателю или слушателю. Для этого еще слишком рано: экспансия синего цвета в социальных кодах и в символике еще не достигла максимума, а хроматический код рыцарских романов в основном успел сложиться до этой экспансии. См.: Пастуро М. Синий. История цвета. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 36–37.
(обратно)108
Scott W. Ivanhoé. Chap. XII. См.: Pastoureau M. Le Moyen Âge d’Ivanhoé. Un best-seller à l’époque romantique // Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental. Paris, 2004. P. 327–338.
(обратно)109
Например, в Падуе, на знаменитых фресках Джотто в капелле дельи Скровеньи (1303–1305).
(обратно)110
Список и критический анализ этих атрибутов, встречающихся в традиционной иконографии, см., в частности, в след. изд.: Réau L. Iconographie de l’art chrétien. T. II/2. Paris, 1957. P. 406–410; Schiller G. Iconography of Christian Art. T. II. London, 1972. P. 29–30, 164–180, 494–501 et passim; Kirschbaum E., éd. Lexikon der christlichen Ikonographie. T. II. Freiburg, 1970. Col. 444–448. См. также: Pastoureau M. Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental. Paris, 2004. P. 197–209.
(обратно)111
Kantor S. Blanc et noir dans l’épique française et espagnole: dénotation et connotation // Studi medievali. T. XXV. 1984. P. 145–199.
(обратно)112
Bancourt P. Les Musulmans dans les chansons de geste du cycle du roi. Aix-en-Provence, 1882. T. I. P. 67–68.
(обратно)113
La Prise d’Orange / C. Regnier, éd. Paris, 1966. Vers 376–380, 776–779.
(обратно)114
Chrétien de Troyes. Le Chevalier au lion / F. Hult, éd. et trad. Paris, 1994. Vers 1673–1675.
(обратно)115
Chrétien de Troyes. Le Conte du Graal / C. Mela, éd. et trad. Paris, 1990. P. 34–35. Vers 123–131.
(обратно)116
Chrétien de Troyes. Le Conte du Graal / F. Lecoy, éd. Paris, 1975. T. I. Vers 4596–4608.
(обратно)117
Речь идет о знаменитом эмалированном алтаре в монастыре Клостернойбург (Австрия), выполненном в 1180–1181 годах великим ювелиром Николаем Верденским.
(обратно)118
Réau L. Iconographie de l’art chrétien. T. II. Paris, 1956. P. 296–297.
(обратно)119
Pirenne J. La Légende du Prêtre Jean. Strasbourg, 1992.
(обратно)120
Armorial du héraut Gelre / P. Adam-Even, éd. Neuchâtel, 1971. P. 17. № 56, 57, 58.
(обратно)121
См. замечательную книгу: Suckale-Redlefsen G. Mauritius der heilige Mohr. The Black Saint Maurice. Houston; Zurich, 1987.
(обратно)122
В Париже в XVII веке святой был изображен верхом на лошади: «червленый святой Маврикий на серебряном коне». Однако чаще всего его изображают пешим (в Нюрнберге, Брюсселе, Милане); у него червленый щит с золотым карбункулом.
(обратно)123
Paris, Arch. nat. Y 6/5, fol. 98.
(обратно)124
О святом Маврикии и его легенде см.: Devisse J., Mollat M. L’Image du noir dans l’art occidental. Des premiers siècles chrétiens aux grandes découvertes. Fribourg, 1979. T. I. P. 149–204, а также: Suckale-Redlefsen G. Mauritius. Der heilige Mohr (см. прим. 121).
(обратно)125
Матф.17, 1–13; Мк. 9, 1–12; Лук. 9, 28–36.
(обратно)126
Mâle E. L’Art religieux du XIIe siècle en France. Paris, 1922. P. 93–96; Réau L. Iconographie de l’art chrétien. Paris, 1956. T. II/2. P. 574–578.
(обратно)127
Л. Рео (L. Réau. Op. cit. Paris, 1957. T. II/2. P. 288) неправ, когда утверждает, что эпизод с юным Христом в мастерской красильщика зафиксирован в иконографии только один раз. Иконография этого эпизода достаточно обширна, но в последнее время она никем не изучалась. См.: Kirschbaum E., dir. Lexikon der christlichen Ikonographie. T. III. Freiburg im Brisgau, 1971. Col. 39–85 (Leben Jesu).
(обратно)128
По поводу этой легенды позволю себе сослаться на собственную работу: Pastoureau M. Jésus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans l’Occident médiéval. Paris, 1998.
(обратно)129
Во многих источниках XIII и XIV веков чудо в мастерской тивериадского красильщика представлено как первое чудо, совершенное Христом после возвращения из Египта. Это свидетельствует о важном значении, которое придавалось данному эпизоду.
(обратно)130
Красильщиков постоянно осыпают упреками, отчасти обоснованными, отчасти вздорными: они копошатся в темных, зловещих норах, похожих на адскую пасть; загрязняют воды реки; наполняют городской воздух зловонием; они затевают бесконечные распри друг с другом и со всеми окружающими; это дети Дьявола.
(обратно)131
О красках, упоминаемых в разных по времени версиях, и о материалах, посвященных этому эпизоду из евангелий Детства, см.: Pastoureau M. Jésus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans l’Occident médiéval. Paris, 1998.
(обратно)132
Самые ранние из дошедших до нас корпоративных статутов, относящихся к красильному делу, появились в Венеции. Они были выпущены в 1243 году, однако не исключено, что венецианские красильщики объединились в профессиональное сообщество еще в конце XIII века. См.: Brunello F. L’arte della tintura nella storia dell’umanita. Vicenza, 1968. P. 140–141. О красильном деле в Венеции в XII–XVIII веках см. также: Monticolo G. I capitolari delle arti veneziane… Roma, 1896–1914. 4 volumi. По-видимому, в Средние века венецианские красильщики пользовались гораздо большей свободой, чем их собратья в других городах Италии, в частности во Флоренции и в Лукке. Кстати, мы располагаем цеховыми статутами луккских красильщиков, почти такими же ранними, как венецианские: они датированы 1255 годом. См.: Guerra P. Statuto dell’arte dei tintori di Lucca del 1255. Lucca, 1864.
(обратно)133
Isidore de Séville. Etymologiae. Livre XVII. Chap. 7. § 21 / J. André, éd. Paris, 1986. P. 101.
(обратно)134
О дурной репутации орехового дерева см.: Brosse J. Les Arbres de France. Histoire et légende. Paris, 1987. P. 137–138; Pastoureau M. Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental. Paris, 2004. P. 96–97.
(обратно)135
Следует, однако, заметить, что на изображениях судьи, врачи и университетские преподаватели, запечатленные в момент исполнения профессиональных обязанностей, еще долго будут одеты в красное.
(обратно)136
Несмотря на наличие нескольких монографий, посвященных ситуации в том или ином городе, законы о роскоши еще ждут своего историка. Из работ, опубликованных сравнительно давно, рекомендую: Baldwin F.E. Sumptuary Legislation and Personal Relation in England. Baltimore, 1926; Eisenbart L.C. Kleiderordnungen der deutschen Staedte zwischen 1350–1700. Goettingen, 1962 (вероятно, лучшая из книг, посвященных законам об одежде); Baur V. Kleiderordnungen in Bayern von 14. bis 19. Jahrhundert. Muenchen, 1975; Hugues D.O. Sumptuary Laws and Social Relations in Renaissance Italy // Bossy J., ed. Disputes and Settlements: Law and Human Relations in the West. Cambridge (UK), 1983. P. 69–99; La moda prohibita // Memoria. Rivista di storia delle donne, 1986. P. 82–105.
(обратно)137
Такое случалось и раньше. Уже в Древней Греции и Риме люди тратили целые состояния на дорогую одежду и краску для тканей. Для борьбы с этим явлением издавались специальные законы против роскоши, но все было бесполезно (о римских законах см., например: Miles D. Forbidden Pleasures: Sumptuary Laws and the Ideology of Moral Decline in the Ancient Rome. London, 1987). Овидий в «Искусстве любви» (III, 171–172), потешался над римлянками, платившими непомерную цену за краску для своих одежд («Право, безумно таскать на себе все свое состоянье, / Ежели столько вокруг красок дешевле ценой!»).
(обратно)138
См. примеры предписаний о распорядке свадебных и похоронных церемоний в Сиене в XIV веке в: Crepari Ridolfi M.A., Turrini P. Op. cit. P. 31–75. О мании перечислений, типичной для позднего Средневековья, см.: Chiffoleau J. la Comptabilité de l’au-delà: les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Âge (vers 1320 – vers 1480). Rome, 1981.
(обратно)139
Pastoureau M. l’Étoffe du Diable. Une Histoire des rayures et des tissus rayés. P. 17–37.
(обратно)140
У нас пока еще мало работ, посвященных позорным отметинам на одежде в Средние века. За отсутствием фундаментального, обобщающего исследования приходится снова отсылать читателя к посредственной книге прошлого столетия: Robert U. Les signes d’infamie au Moyen Âge: juifs, sarrasins, hérétiques, lépreux, cagots et filles publiques // Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France. T. 49. 1888. P. 57–172. В дополнение к этой во многом устаревшей книге (и в качестве поправок к ней) можно использовать отдельные сведения, содержащиеся в недавно опубликованных работах о проститутках, прокаженных, шелудивых, еретиках и обо всех изгоях и отверженных средневекового общества. Некоторые из этих работ указаны в нижеследующих комментариях.
(обратно)141
Grayzel S. The Church and the Jews in the XIIIth Century. 2nd ed. New York, 1966. P. 60–70, 308–309. Заметим, что тот же IV Латеранский собор обязал проституток носить отличительные знаки или особую одежду.
(обратно)142
Быть может потому, что на исходе Средневековья он был слишком почитаемым и почетным цветом? Или он успел настолько распространиться, что человек в синем просто не мог привлечь к себе внимание? Или же, как я склонен думать, первые постановления о цветовых различиях в одежде (их история пока не вполне изучена) появились до IV Латеранского собора (1215), когда символика синего была еще слишком бедной, чтобы сразу вызывать какие-то определенные ассоциации? См.: Пастуро М. Синий. История цвета. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
(обратно)143
Согласно предписанию об одежде, выпущенному в Шотландии в 1457 году, крестьяне по будням должны носить серое, а синее, красное и зеленое надевать только по праздникам. Acts of Parliament of Scotland. London, 1966. T. II. P. 49. Paragraph 13. См. также: Hunt A. Op. cit. P. 129.
(обратно)144
Я намеренно употребляю здесь термин «патрициат», от которого сегодня воздерживаются или вовсе отказываются отдельные историки, хотя им очень удобно (слишком удобно?) пользоваться. Этот термин охватывает широкий спектр явлений, он в равной степени применим к городам Италии, Германии и Нидерландов. О полемике вокруг этого термина см.: Monnet P. Doit-on encore parler de patriciat dans les villes allemandes à la fin du Moyen Âge? // Mission historique française en Allemagne. Bulletin. № 32. Juin 1996. P. 54–66.
(обратно)145
О ценах на сукна в зависимости от краски, которой они были окрашены, см. таблицы в кн.: Doren A. Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte. I: Die Florentiner Wollentuchindustrie. Stuttgart, 1901. S. 506–517. Данные по Венеции см. также в старой, но не устаревшей книге: Cechetti B. La vita dei veneziani nel 1300. Le veste. Venezia, 1886.
(обратно)146
Выражаю благодарность Клер Будро за предоставленную мне возможность ознакомиться с текстом «Сицилийского гербовника», который она сейчас готовит к публикации.
(обратно)147
О моде на цвета при савойском дворе в XIV и XV веках писали много и охотно, что неудивительно: по этой теме сохранились богатейшие и разнообразнейшие архивные материалы; о таком обилии данных по другим европейским дворам можно только мечтать. См., в частности: Costa de Beauregard L. Souvenirs du règne d’Amédée VIII…: trousseau de Marie de Savoie // Mémoires de l’Académie impériale de Savoie. 2e série. T. IV. 1861. P. 169–203; Bruchet M. le Château de Ripaille. Paris, 1907. P. 361–362; Pollini N. la Mort du prince. Les Rituels funèbres de la Maison de Savoie (1343–1451). Lausanne, 1993. P. 40–43; и особенно: Page A. Vêtir le prince. Tissus et couleurs à la cour de Savoie (1427–1457). Lausanne, 1993. P. 59–104 et passim.
(обратно)148
О Филиппе Добром и его пристрастии к черному цвету см.: Lory E.L. Les obsèques de Philippe le Bon… // Mémoires de la Commission des Antiquités du département de la Côte d’Or. T. VII. 1865–1869. P. 215–246; Cartellieri O. la Cour des ducs de Bourgogne. Paris, 1946. P. 71–99; Beaulieu M., Baylé J. Le Costume en Bourgogne de Philippe le Hardi à Charles le Téméraire. Paris, 1956. P. 23–26, 119–121; Grunzweig A. Le grand duc du Ponant // Moyen Âge. T. 62. 1956. P. 119–165; Vaughan R. Philip the Good: the Apogee of Burgundy. London, 1970.
(обратно)149
См., например, пояснения Жоржа Шастеллена, который в своей хронике долго и подробно рассказывает об убийстве в Монтеро (это, по сути, отправная точка его повествования) и о том, как Филипп Добрый стал одеваться только в черное: Chastellain G. Œuvres / Kervyn de Lettenhove, éd. T. VII. Bruxelles, 1865. P. 213–236.
(обратно)150
См.: Vaughan R. John the Fearless: the Growth of Burgundian Power. London, 1966.
(обратно)151
Через несколько десятилетий европейцы обнаружат в Южной Америке различные породы тропических деревьев, у которых древесина обладает теми же красящими свойствами, что и «бразилеум», но в более высокой концентрации. Чудесную страну, где в изобилии произрастают такие ценные деревья, они назовут Бразилией.
(обратно)152
Hablot L. La Devise, mise en signe du prince, mise en scène du pouvoir, thèse Poitiers, 2001. Devisier. T. II. P. 460, 480 et passim.
(обратно)153
Sicile. Le Blason des couleurs en armes, livrées et devises / H. Cocheris, éd. Paris, 1860. P. 64.
(обратно)154
Серому цвету как символу надежды в конце средневековья посвящена хорошая статья Planche A. Le gris de l’espoir // Romaniat. T. 94. 1973. P. 289–302.
(обратно)155
Charles d’Orléans. Poésies / P. Champion, éd. Paris. Chanson № 81. Vers 5–8.
(обратно)156
Ibid. Ballade 82. Vers 28–31.
(обратно)157
Planche A. Le gris de l’espoir. P. 289–302.
(обратно)158
Mérindol C. de. Les Fêtes de chevalerie à la cour du roi René. Emblématique, art et histoire. Paris, 1993.
(обратно)159
Ott A. Étude sur les couleurs en vieux français. Paris, 1900. P. 19–33. См. также: Mollard-Desfour A. Le Dictionnaire des mots et expressions de couleur. Le noir. Paris, 2005, passim.
(обратно)160
О первых опытах книгопечатания см. замечательную и по-прежнему актуальную книгу: Febvre L., Martin H. – J. L’Apparition du livre. 2e éd. Paris, 1971.
(обратно)161
Zerdoun M. Les Encres noires au Moyen Âge. Paris, 1983.
(обратно)162
О бумаге и ее роли в изобретении книгопечатания см.: Blanchet A. Essai sur l’histoire du papier. Paris, 1900; Blum A. Les Origines du papier, de l’imprimerie et de la gravure. 2e éd. Paris, 1935; Febvre L., Martin H. – J. L’Apparition du livre. (C м. прим. 2).
(обратно)163
Об открытиях Ньютона и об их последствиях см.: Blay M. Les Figures de l’arc-en-ciel. Paris, 1995. P. 60–77. Разумеется, можно также прочитать и тексты самого Ньютона, в частности Optics or a Treatise of the Reflexions, Refractions, Inflections, and Colours of Light. London, 1704 (французский перевод Пьера Коста опубликован в Амстердаме в 1720-м и в Париже в 1722 году; переиздан в Париже в 1955 году).
(обратно)164
Первой печатной книгой с гравюрами на дереве стал сборник басен, вышедший в печатне Альбрехта Пфистера в Бамберге в 1460 году.
(обратно)165
Выражаю благодарность за оказанную помощь Даниель Санси и группе моих студенток, проводивших инвентаризацию гравюр на дереве в хранилище первопечатных книг Национальной библиотеки в Париже.
(обратно)166
Некоторые полезные сведения все же можно найти; см.: Ivins W.M. How Prints Look. New ed. Boston, 1987, а также: Lambert S. The Image Multiplied: Five Centuries of Printed Reproductions of Paintings and Drawnings. London, 1987. P. 87–106.
(обратно)167
Hymans H. Histoire de la gravure dans l’école de Rubens. Bruxelles, 1879. P. 451–453; Idem. Lucas Vorsterman. Bruxelles, 1893. P. 123 et passim.
(обратно)168
Хочу выразить благодарность моему другу Максиму Прео за то, что он привлек мое внимание к переписке Рубенса с Форстерманом. Споры между этими двумя художниками о проблеме передачи цвета в гравюре заслуживают подробного исследования. О Рубенсе и проблемах цвета в первой половине XVII века см.: Jaffé M. Rubens and Optics: Some Fresh Evidence // Journal of the Warburg and Courtauld Institute. XXXIV. 1971, а также: Jaeger W. Die Illustrationen des Peter Paul Rubens zum Lehrbuch der Optik des Franciscus Aguilonius. Berlin, 1976.
(обратно)169
См. на эту тему: Gousset M. – T., Stirnemann P. Indications de couleur dans les manuscrits médiévaux // Guineau B., éd. Pigments et colorants de l’Antiquité et du Moyen Âge. Paris, 1990. P. 189–199.
(обратно)170
Таблицу, на которой указаны связи между звездами или планетами и цветами гербов, см. в моей книге: Traité d’héraldique. Paris, 1993. P. 112. См. также: Fox-Davies A.C. The Art of Heraldry. London, 1904. P. 48–49.
(обратно)171
Поскольку на некоторых картах отсутствуют даты, исследователи не могли прийти к единому мнению о том, когда была впервые применена система штрихового кодирования для передачи гербовых цветов на географической карте. См.: Annales de bibliophilie belge et hollandaise. 1865. P. 23 et passim; Revue de la Société française des collectionneurs d’ex-libris. 1903. P. 6–8; Galbreath D.L. Manuel du blason. Lausanne, 1942. P. 84–85, 323; Schroeder J.K. von. Ueber Alter und Herkunft der heraldischen Schaffierungen // Der Herold. 1969. S. 67–68. По мнению этого последнего, геральдическое штриховое кодирование появляется на некоторых географических картах начиная с 1578–1580 годов, однако его аргументы кажутся малоубедительными.
(обратно)172
По-видимому, ни один историк географических карт еще не занимался этими вопросами. Даже отец Ф. де Денвиль не упоминает о них в своей книге «Язык географов» (Langage des géographes. Paris, 1964). Зато он подробно рассуждает о промывке карт и об условном кодировании цветов, которое при этом применялось (P. 329 et passim), и отсылает к книге, которая в XVIII веке цитировалась чаще других: Buchotte G. Les Règles du dessin et du lavis. Paris, 1721; 2e éd. 1754.
(обратно)173
В кн.: Seyler G. Geschichte der Heraldik. Nuremberg, 1890. S. 591–593 есть список книг, опубликованных в первой половине XVII века, в которых граверы сделали попытку зашифровать гербовые цвета с помощью точечно-штрихового кода. Большинство этих книг были напечатаны во Фландрии или в Германии, а применяемые ими системы можно разделить на три категории в зависимости от пропорционального соотношения в них точек и штрихов.
(обратно)174
Tesserae gentilitiae a Silvestro Pietra Sancta, romano, Societatis Jesu, ex legibus fecialium descriptae. Rome: F. Corbelletti, 1638. P. 59–60. См. длинную заметку об этой книге, опубликованную Иоаннисом Гидаром в его Armorial du bibliophile. Paris, 1895.
(обратно)175
Чтобы закодировать чернь (черный цвет), гравер, работающий в глубокой печати, применяет горизонтальные и вертикальные насечки, перекрещивающиеся под прямым углом; в ксилографии, использующей плоскую печать, для этого иногда применяется пластина, покрытая краской (что, разумеется, неприменимо для глубокой печати).
(обратно)176
В частности, на карте Брабанта, составленной и нарисованной Ринквельтом и гравированной в 1600 году Зангриусом. Г. Зейлер (Op. cit., прим. 174), p. 592, считает, что система Пьетры Санты была впервые применена в 1623 году в Брюсселе, в книге архитектора Жака Франкерта: Francquaert J. Pompa funebris optimi potentissimique principis Alberti Pii archiducis Austriae… К сожалению, я не смог ознакомиться с этой книгой.
(обратно)177
В 1640 году геральдист и рисовальщик гербов Марк Вюльсон де Ла Коломбьер советует граверам не пользоваться буквами или условными значками для обозначения цветов на гербах, а применять новый способ, более простой и легкий для распознавания, – способ точек и штрихов, который использует он сам в сборнике с 45 гравированными изображениями гербов, напечатанном у Мельхиора Тавернье. Имя преподобного Пьетры Санты не упоминается, но ясно, что речь идет о том же самом способе. Вюльсон прибегнет к нему снова в своих дальнейших работах, в частности в: Science héroïque (1644) и Vray theatre d’honneur et de chevalerie (1648). Тем самым он способствует распространению точечно-штрихового кода во Франции. Эта система будет использована в большинстве трактатов о гербах и книг по геральдике, напечатанных в Лионе и Париже во второй половине XVII века, особенно в обширной продукции преподобного отца Клода-Франсуа Менетрие.
(обратно)178
На фронтонах многих парижских особняков XVIII и XIX веков можно увидеть скульптурные гербы с геральдическими насечками; выглядит это на редкость уродливо. А если еще это здания Средних веков или эпохи Возрождения, на которых гербы были реставрированы и снабжены насечками (этим часто занимались Виоле-ле-Дюк и его подражатели), это не только уродливо и смешно – это еще и анахронизм. Сегодня геральдисты продолжают использовать условную систему точек и штрихов, но делают это с некоторой осторожностью, и не только потому, что этот графический код плохо совмещается с современным геральдическим стилем, абстрактным и лаконичным, но еще и потому, что он не всегда читается, особенно если герб небольшого размера (например, на экслибрисе, почтовой бумаге и марках) или гравюра либо ее отпечаток получились недостаточно четкими.
(обратно)179
«Цветоборчество» идеологов Реформации еще ждет своего историка. Зато об иконоборчестве есть много новых и содержательных работ. См., например: Philips J. The Reformation of Images. Destruction of Art in England (1553–1660). Berkeley, 1973; Warnke M. Bildersturm. Die Zerstörung des Kunstwerks. Munich, 1973; Stirm M. Die Bilderfrage in der Reformation. Gütersloh, 1977 (Forschungen zur Reformationsgeschichte. 45); Christensen C. Art and the Reformation in Germany. Athens (USA), 1979; Deyon S., Lottin P. Les Casseurs de l’été 1566. L’iconoclasme dans le Nord. Paris, 1981; Scavizzi G. Arte e architettura sacra. Cronache e documenti sulla controversia tra riformati e cattolici (1500–1550). Rome, 1981; Altendorf H.D., Jezler P., éds. Bilderstreit. Kulturwandel in Zwinglis Reformation. Zurich, 1984; Freedberg D. Iconoclasts and their Motives. Maarsen (P. – B.), 1985; Eire C.M. War against the Idols. The Reformation of Workship from Erasmus to Calvin. Cambridge (USA), 1986; Crouzet D. Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des guerres de Religion. Paris, 1990. 2 vol.; Christin O. Une revolution symbolique. L’Iconoclasme huguenot et la reconstruction catholique. Paris, 1991. К этим индивидуальным или коллективным работам следует добавить еще содержательный и подробный каталог выставки: Iconoclasme. Berne; Strasbourg, 2001.
(обратно)180
Из всех вождей Реформации Лютер, по-видимому, занимал наиболее умеренную позицию по отношению к цвету в храме, богослужении, искусстве и повседневной жизни. Это и понятно: его главные заботы лежат в иной сфере, а в свете учения о благодати ветхозаветные запреты изображений лишены смысла. Вот почему у Лютера свое, особое мнение как по иконографии, так и по поводу роли искусства и допустимости цвета. По вопросу отношения Лютера к изображениям (о его отношении к цвету пока нет никакого специального исследования) см.: Wirth J. Le dogme en image: Luther et l’iconographie // Revue de l’art. T. 52. 1981. P. 9–21, а также соч., указ. в пред. примечании: Christensen C. Op. cit. P. 50–56; Scavizzi G. Op. cit. P. 69–73 и Eire C. Op. cit. P. 69–72.
(обратно)181
Иеремии 22, 13–14; Иезекииля 8, 10.
(обратно)182
Andreas Bodenstein von Karlstadt. Von Abtung der Bylder… Wittenberg, 1522. P. 23, 39. См. также цитаты из Карлштадта в кн.: Barge H. Andreas Bodenstein von Karlstadt. Leipzig, 1905. S. 386–391 и Garside C. Zwingli and the Arts. New Haven, 1966. P. 110–111.
(обратно)183
Pastoureau M. L’incolore n’existe pas // Mélanges Philippe Junod. Paris; Lausanne, 2003. P. 11–20.
(обратно)184
Garside Ch. Op. cit. (прим. 183). P. 155–156. См. также замечательную работу: Schmidt-Claussing F. Zwingli als Liturgist. Berlin, 1952.
(обратно)185
Barge H. Op. cit. P. 386; Stirm M. Op. cit. (прим. 180). S. 24.
(обратно)186
Типична в этом отношении позиция Лютера. См.: Wirth J. Le dogme en image… P. 9–12.
(обратно)187
Garside Ch. Op. cit. (прим. 180). Гл. 4 и 5.
(обратно)188
Institutions… (texte de 1560). III. X. 2.
(обратно)189
Благодаря этому неявному, словно бы вибрирующему колориту в соединении с невероятной мощью света большинство картин Рембрандта, даже сугубо светского содержания, обретают измерение сакральности. Среди обширной литературы на эту тему см. материалы берлинского коллоквиума (1970), опубликованные под редакцией О. фон Симсона и И. Кельха: Simson O. von, Kelch J. Neue Beitraege zur Rembrandt-Forschung. Berlin, 1973.
(обратно)190
Marin L. Signe et représentation. Philippe de Champaigne et Port-Royal // Annales ESC. Vol. 25. 1970. P. 1–13.
(обратно)191
В Раю Адам и Ева были нагими, и лишь в момент изгнания они получают одежду, чтобы скрыть наготу. Эта одежда – символ их вины.
(обратно)192
По мнению Кальвина, нет большей мерзости, чем когда мужчины переодеваются женщинами или животными, поэтому само существование театра оказалось под вопросом.
(обратно)193
См. его пылкую проповедь Oratio contra affectationem novitatis in vestitu (1527), в которой он советует всякому честному христианину носить одежду строгих темных цветов, а не «distinctus a variis coloribus velut pavo» – «пеструю и разноцветную, как у павлина» (Corpus reformatorum. Vol. 11. P. 139–149; см. также: Vol. 2. P. 331–338).
(обратно)194
О революции в одежде, которую провозгласили мюнстерские анабаптисты, см.: Strupperich R. Das müensterische Täuefertum. Müenster, 1958. S. 30–59.
(обратно)195
Gaiffe F. L’Envers du Grand Siècle. Paris, 1924.
(обратно)196
См.: Roche D. La Culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe– XVIIIe siècles). Paris, 1989. P. 127.
(обратно)197
Приводится в: Gazier A. Racine et Port-Royal // Revue d’histoire littéraire de la France. Janvier 1900. P. 1–27, здесь p. 14. См. также: Vincent R. L’Enfant de Port-Royal: le roman de Jean Racine. Paris, 1991.
(обратно)198
Boulton J. Neighbourhood and Society. A London Suburb in the Seventeenth Century. Cambridge, 1987. P. 123.
(обратно)199
Taylor L. Mourning Dress. A Costume and Social History. London, 1983; Balsamo J., éd. Les Funérailles à la Renaissance. Genève, 2002.
(обратно)200
Pellegrin N., Winn C., éds. Veufs, veuves et veuvages dans la France d’Ancien Régime. Paris, 2003, в особенности p. 219–246.
(обратно)201
О демонологии Жана Бодена см.: Houdard S. Les Sciences du Diable. Quatre discours sur la sorcellerie (XVe– XVIIe siècle). Paris, 1992; Clark S. Thinking with Demons. The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe. Oxford, 1997.
(обратно)202
По этой теме существует обширная библиография; по раннему Новому времени особенно рекомендую: Russel J.B. The Devil in the Modern World. Cornell, 1986; Carmona M. Les Diables de Loudun. Paris, 1988; Levack B.P. La Chasse aux sorcières en Europe au début des temps modernes. Seyssel, 1991; Muchembled R. Magie et sorcellerie du Moyen Âge à nos jours. Paris, 1994; Stanford P. The Devil. A Biography. London, 1996; Clark S. Thinking with Demons. Op. cit., прим. 202.
(обратно)203
Описания шабаша см. в: Delcambre E. Le Concept de sorcellerie dans le duché de Lorraine au XVIe et au XVIIe siècle. Nancy, 1949–1952. 3 vol.; Villette P. La Sorcellerie dans le nord de la France du XVe au XVIIe siècle. Lille, 1956; Caro Baroja L. Les Sorcières et leur monde. Paris, 1978; Ginzburg C. Le Sabbat des sorcières. Paris, 1992; Jacques-Chaquin N., Préaud M., éds. Le Sabbat des sorciers en Europe (XVe– XVIIIe s.). Grenoble, 1993.
(обратно)204
О многочисленных суевериях, связанных с животными черного цвета, при Старом режиме см.: Thiers J. – B. Traité des superstitions… Paris, 1697–1704. 4 vol. См. также: Rolland E. Faune populaire de France. Paris, 1877–1915. 13 vol.; Sébillot P. de. Folklore de France. Nouv. éd. Paris, 1982–1986. 8 vol.
(обратно)205
Помимо труда аббата Ж. – Б. Тьерри, указ. в пред. примечании, см. также различные работы Робера Мюшамбле, в частности: Muchembled R. Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe– XVIIe siècle). Paris, 1978.
(обратно)206
О взаимосвязи между экспериментами художников и опытами ученых см.: Shapiro A.E. Artists’ Colors and Newton’s Colors // Isis. Vol. 85. 1994. P. 600–630.
(обратно)207
О различных теориях зрения в Средние века и их эволюции см.: Lindberg D.C. Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler. Chicago, 1976; Tachau K. Vision and Certitude in the Age of Ockham. Optics, Epistemology and the Foundations of Semantics (1250–1345). Leiden, 1988.
(обратно)208
Lindberg D.C. Theories of Vision from Al-Khindi to Kepler.
(обратно)209
Kepler J. Astronomiae pars optica… De modo visionis… Frankfurt am Main, 1604.
(обратно)210
Savot L. Nova seu verius nova-antiqua de causis colorum sententia. Paris, 1609.
(обратно)211
De Boodt A. Gemmarum et lapidum historia. Hanau, 1609.
(обратно)212
d’Aguilon F. Opticorum libri sex. Anvers, 1613.
(обратно)213
Kepler J. Astronomiae pars optica… De modo visionis… Frankfurt am Main, 1604.
(обратно)214
Fludd R. Medicina catholica… London, 1629–1631. 2 vol.; о цветах речь идет в основном в томе 2.
(обратно)215
Терминология и часть «генеалогических» классификаций, предложенных А. Кирхером, по-видимому, заимствована из книги Франсуа д’Агилона – d’Aquilon F. Opticorum libri sex. Anvers, 1613.
(обратно)216
Kircher A. Ars magna lucis et umbrae. Rome, 1646. P. 67 (De multiplici varietate colorum).
(обратно)217
Grosseteste R. De iride seu de iride et speculo, см. публикацию Л. Баура в: Beitraege zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Band IX. Müenster, 1912. S. 72–78. См. также: Boyer C.B. Robert Grosseteste on the Rainbow // Osiris. Vol. 11. 1954. P. 247–258; Eastwood B.S. Robert Grosseteste’s Theory of the Rainbow. A Chapter in the History of Non-Experimental Science // Archives internationales d’histoire des sciences. T. XIX. 1966. P. 313–332.
(обратно)218
Pecham J. De iride // Lindberg D.C. John Pecham and the Science of Optics. Perspectiva communis. Madison (USA), 1970. P. 114–123.
(обратно)219
Bacon R. Opus majus / J.H. Bridges, ed. Oxford, 1900. Part VI. Chap. 2–11. См.: Lindberg D.H. Roger Bacon’s Theory of the Rainbow. Progress or Regress? // Isis. Vol. 17. 1968. P. 235–248.
(обратно)220
Freiberg D. von. Tractatus de iride et radialibus impressionibus / Hrsg. M.R. Pagnoni-Sturlese, L. Sturlese // Opera omnia. Band IV. Hamburg, 1985. S. 95–268 (книга воспроизводит старое, часто цитируемое издание И. Вюршмидта, которое включено в том XII Beitraege zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Müenster, 1914).
(обратно)221
Witelo. Perspectiva / S. Ungaru, ed. Warszawa, 1991.
(обратно)222
Об истории теорий, объясняющих феномен радуги, см.: Boyer C.B. The Rainbow. From Myth to Mathematics. New York, 1959; Blay M. Les Figures de l’arc-en-ciel. Paris, 1995.
(обратно)223
della Porta G.B. De refractione. Napoli, 1588. По мнению этого автора, цвета рождаются в результате ослабления света при его прохождении сквозь призму: желтый и красный ослабевают при этом ненамного, зеленый и фиолетовый – больше, потому что они проходят сквозь призму у ее основания и преодолевают при этом стекло большей толщины.
(обратно)224
См., например: Marco Antonio de Dominis. De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride tractatus. Venise, 1611; а позже, непосредственно перед открытиями Ньютона, выходит еще одна книга: Boyle R. Experiments and Considerations Touching Colours. London, 1664.
(обратно)225
Некоторые авторы считают, что цветов всего три (красный, желтый и «темный»). И только один – Роджер Бэкон – увеличивает их число до шести: синий, зеленый, красный, серый, розовый, белый (Perspectiva communis. P. 114).
(обратно)226
Descartes R. Discours de la méthode… Plus la dioptrique… Leyde, 1637.
(обратно)227
См.: Sabra A.I. Theories of Light from Descartes to Newton. 2nd ed. Cambridge, 1981.
(обратно)228
Об открытиях Ньютона и о значении спектра см.: Blay M. La Conception newtonienne des phénomènes de la couleur. Paris, 1983.
(обратно)229
Newton I. Optics, or a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflexions and Colours of Light… London, 1704.
(обратно)230
Huyghens C. Traité de la lumière… Paris, 1690.
(обратно)231
Optice sive de reflectionibus, refractionibus et inflectionibus et coloribus lucis… London, 1707. Перевод Сэмюела Кларка издан в Женеве в 1740 году.
(обратно)232
Так, преподобный отец Луи-Бертран Кастель ставил Ньютону в вину то, что он сначала разработал теории и лишь затем приступил к экспериментам, а не наоборот. См.: L’Optique des couleurs… Paris, 1740; Le Vrai Système de physique générale de M. Isaac Newton… Paris, 1743.
(обратно)233
См.: Gage J. Colour and Culture. London, 1986. P. 153–176, 227–236.
(обратно)234
О гризайли см.: Dittelbach T. Das monochrome Wandgemälde. Untersuchungen zum Kolorit des frühen 15. Jahrhunderts in Italien. Hildesheim, 1993; Krieger M. Grisaille als Metapher. Zum Entstehen der Peinture en Camaieu im frühen 14. Jahrhundert. Wien, 1995.
(обратно)235
См.: Brusatin M. Storia dei colori. Turin, 1983. P. 47–69; Gage J. Op. cit. (прим. 234). P. 117–138; Puttfarken T. The Dispute about Disegno and Colorito in Venice: Paolo Pino, Lodovico Dolce and Titian // Wolfenbütteler Forschungen. T. 48. 1991. S. 75–99 (Kunst und Kunstheorie, 1400–1900). См. также интереснейшие тексты в сборнике: Barocchi P. Trattati d’arte del cinquecento. Fra Manierismo e Controriforma. Bari, 1960.
(обратно)236
По истории этих споров во Франции см. каталог замечательной выставки: Rubens contre Poussin. La querelle du coloris dans la peinture française à la fin du XVIIe siècle. Arras; Épinal, 2004. См. также работы, указ. в след. примечании.
(обратно)237
По всем этим проблемам см. прекрасную книгу: Lichtenstein J. La Couleur éloquente. Rhétorique et peinture à l’âge classique. Paris, 1989. См. также: Heuck E. Die Farbe in der französischen Kunsttheorie des XVII. Jahrhunderts. Strasbourg, 1929; Tesseydre B. Roger de Piles et les débats sur le coloris au siècle de Louis XIV. Paris, 1965.
(обратно)238
См., в частности: Vorlesungen ueber die Aesthetik. Berlin, 1832; Leipzig, 1931. S. 128–129 et passim. См.: William D. Art and the Absolute. A Study of Hegel’s Aesthetics. Albany, 1986; Bras G. Hegel et l’art. Paris, 1989.
(обратно)239
См. список тех, кто преуспел в этом лучше всего («весы живописцев»), составленный Роже де Пилем: Piles R. de. Cours de peinture par principes. Nouv. éd. Paris, 1989. P. 236–241. См. также: Brusatin M. Storia dei colori. Torino, 1983. P. 47–69.
(обратно)240
Об изобретении полихромной гравюры см. каталог замечательной выставки «Анатомия цвета», организованной Флорианом Родари и Максимом Прио: Anatomie de la couleur. Paris: Bibliothèque nationale de France, 1995. См. также: Le Blon J.C. Coloritto, or the Harmony of Colouring in Painting reduced to Mechanical Pratice. London, 1725; автор признает, что многое заимствовал у Ньютона, и утверждает, что есть три основных цвета: красный, синий и желтый (p. 6 et passim). История цветной гравюры от самых ее истоков изложена в кн.: Friedman J.M. Color Printing in England, 1486–1870. Yale, 1978.
(обратно)241
Это произойдет еще не скоро, лишь на рубеже XVIII–XIX веков. Заметим, однако, что уже с начала XVII столетия некоторые теоретики стали называть красный, синий и желтый «главными» цветами, а зеленый, пурпурный и золотой (!) – производными от смешения главных. Первым эту идею высказал Франсуа д’Агилон (d’Aguilon F. Opticorum Libri VI. Anvers, 1613), составивший «таблицы гармонии», в которых зеленый был представлен как продукт смешения желтого и зеленого. По этой теме см.: Shapiro A.E. Op. cit.
(обратно)242
Во время войны кокард, которая происходит во Франции в начале Революции, сторонники союза с Австрией носят черную кокарду, а сторонники короля – белую; у тех и у других общий противник – республиканцы, которые носят трехцветную кокарду.
(обратно)243
Harvey J. Des hommes en noir. Du costume masculin à travers les siècles. Abbeville, 1998. P. 142–145.
(обратно)244
Пастуро М. Синий. История цвета. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
(обратно)245
Долгое время Диппель хранил в тайне свое открытие, однако в 1724 году английский химик Вудворд раскрыл секрет и опубликовал рецепт нового красителя.
(обратно)246
Goethe J.W. Zur Farbenlehre. Tübingen, 1810. IV. § 696–699.
(обратно)247
Roche D. La Culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe– XVIIIe siècles). Paris, 1989 (tableaux 11, 15; p. 127–137).
(обратно)248
Pinaut M. Savants et teinturiers // Sublime indigo (exposition, Marseille, 1987). Fribourg (Suisse), 1987. P. 135–141.
(обратно)249
Заметим, что еще и сегодня цвет, который называют «горчичным», или «цветом гусиного помета», у европейцев считается одним из самых неприятных для глаза. См.: Pastoureau M. Dictionnaire des couleurs de notre temps. Paris, 1992. P. 127–129.
(обратно)250
Harvey J. Op. cit. (прим. 244). P. 127–129.
(обратно)251
Во Франции в 1716 году вышел ордонанс регента, согласно которому срок траура при дворе и у принцев крови уменьшался вдвое. См.: Mollard-Desfour A. Le Dictionnaire des mots et expressions de couleur. Le noir. Paris, 2005. P. 84.
(обратно)252
См. цифры, опубликованные в моей книге: Traite heraldique. 2 ed. Paris, 1993. P. 116–121 et passim. Однако на территории Французского королевства данные разнятся: чернь присутствует менее чем на 15 гербах во всех провинциях, кроме двух – Бретани и Фландрии.
(обратно)253
По-видимому, впервые это выражение употребила мадам де Сталь в одном из своих писем (после 1794 года). См.: Trésor de la langue française, словарная статья Couleur, B, 1, a et Etym.
(обратно)254
См. таблицы, опубликованные в кн.: Daget S. La Traite des Noirs. Rennes, 1990; Pétré-Grenouilleau O. Les Traites négrières. Essai d’histoire globale. Paris, 2004.
(обратно)255
Noël E. Être noir en France au XVIIIe siècle. Paris, 2006, passim.
(обратно)256
Гораздо больше информации о жизни обитателей Африки и островов Индийского океана можно было найти в книге, которую он написал о своем путешествии: Voyage à l’île de France, à l’île Bourbon, au Cap de Bonne-Espérance par un officier du roi, вышедшей в Амстердаме в 1773 году.
(обратно)257
«Прогулки одинокого мечтателя», написанные между 1776 и 1778 годами, остались незаконченными; они были опубликованы уже после смерти Руссо (июль 1778 года) в Лондоне в 1782 году.
(обратно)258
Незаконченный роман Новалиса был опубликован его другом Л. Тиком в 1802 году. Книга начинается с пересказа сна, который приснился менестрелю Генриху: он идет по местности дивной красоты и у источника вдруг замечает странный голубой цветок, между лепестками которого можно увидеть женское лицо. Проснувшись, Генрих решает отправиться на поиски цветка и женщины, чье лицо мелькнуло между лепестками. Такие поиски, а иначе говоря, попытка соединить мечту и реальность – главная задача немецкого романтизма.
(обратно)259
Пастуро М. Синий. История цвета. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 78–79.
(обратно)260
Перевод Н. Рыковой. – Прим. перев.
(обратно)261
Pastoureau M. Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental. Paris, 2004. P. 317–326 («Nerval lecteur des images médiévales»).
(обратно)262
Перевод К. Бальмонта. – Прим. перев.
(обратно)263
По-видимому, Шарль Нодье в сказке «Симарра, или Демоны ночи» (1821) первым употребил это слово в качестве существительного, придав ему таинственный и мрачноватый оттенок, который оно сейчас имеет во французском языке. Прилагательное «фантастический» такого оттенка не имело.
(обратно)264
Huysmans J. – K. À rebours. Paris, 1884. Chap. I. P. 16–17. Это описание «траурной трапезы» во время званого ужина «по случаю временной кончины мужественности», устроенного героем романа Дез Эссентом.
(обратно)265
О Гамлете как о романтическом герое см.: Harvey J. Des hommes en noir. Op. cit. (прим. 244). P. 105–116.
(обратно)266
Об этой долговременной тенденции в одежде: Ibid. P. 133–230.
(обратно)267
Во Франции этот рост еще выше: 4 миллиона тонн в 1850 году, 28 миллионов в 1885-м и 40 миллионов в 1913-м.
(обратно)268
О шахтерах и роли черного цвета в их жизни см. каталог выставки: Couleur, travail et société. Lille: Archives départementales du Nord, 2004. P. 152–163.
(обратно)269
Возможно, в последнее время, когда Европа стала мультиэтнической и в ней обозначились проблемы расизма, у людей появились и другие причины отказываться от загара, но они об этом умалчивают.
(обратно)270
Dickens Ch. Great Expectations (1861). Цит. по: Harvey J. Des hommes en noir. Op. cit. (прим. 244). P. 190–191.
(обратно)271
Некоторые рабочие по воскресеньям надевают черный костюм, который служит им всю жизнь, но это бывает очень редко. Ведь черную одежду, если она изношена или испачкана, нельзя перекрасить в другой цвет. Вот почему такую одежду могут позволить себе лишь представители обеспеченных классов общества – наряду с одеждой других цветов.
(обратно)272
Musset A. de. La Confession d’un enfant du siècle. Paris, 1836. P. 21.
(обратно)273
Приводится в: Harvey J. Op. cit. (прим. 244). P. 271.
(обратно)274
Giraudoux J. Intermezzo. Paris, 1933. P. 57.
(обратно)275
См. выше, с. 79.
(обратно)276
Weber M. Die protestantische Ethik und des Geist des Kapitalismus. 8e éd. Tübingen, 1986. Работа впервые была опубликована в виде двух статей в 1905 и 1906 годах.
(обратно)277
Thorner I. Ascetic Protestantism and the Development of Science and Technology // The American Journal of Sociology. Vol. 58. 1952–1953. P. 25–38; Bodamer J. Der Weg zur Askese als Ueberwindung der technischen Welt. Hamburg, 1957.
(обратно)278
Sorensen C. My Forty Years with Ford. Chicago, 1956; Lacey R. Ford, The Man and the Machine. New York, 1968; Barry J. Henry Ford and Mass Production. New York, 1973.
(обратно)279
Chevreul E. De la loi du contraste simultané des couleurs et de l’assortiment des objets colorés considéré d’après cette loi dans ses rapports avec la peinture. Paris, 1839.
(обратно)280
Chevreul E. Des couleurs et de leur application aux arts industriels à l’aide des cercles chromatiques. Paris, 1864. О влиянии открытий Шевреля на творчество художников: Gage J., Color and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. London, 1993. P. 173–176; Roque G. Art et science de la couleur. Chevreul et les peintres, de Delacroix à l’abstraction. Paris, 1997. P. 169–332.
(обратно)281
Léonard de Vinci. Traité de la peinture (Trattato della pittura) / A. Chastel, trad. Paris, 1987. P. 82.
(обратно)282
Gauguin P. Oviri. Écrits d’un sauvage. Textes choisis (1892–1903) / D. Guérin, éd. Paris, 1974. P. 123.
(обратно)283
О первых опытах по созданию цветных фильмов см.: Koshofer G. Color: die Farben des Films. Berlin, 1988; Noël B. L’Histoire du cinéma couleur. Croissy-sur-Seine, 1995.
(обратно)284
См. прежде всего каталог выставки Paris-Moscou. Paris: Centre Georges-Pompidou, 1979, а также: Malevitch K.S. La Lumière et la Couleur: textes inédits de 1915 à 1926. Lausanne, 1981. См. также: Rickey G. Constructivisme. Origine et évolution. New York, 1967; Passuth K. Les Avant-gardes de l’Europe centrale, 1907–1927. Paris, 1988; Lemoine S. Mondrian et De Stijl. Paris, 1987.
(обратно)285
О Пьере Сулаже и его творчестве см.: Ragon M. Les Ateliers de Soulages. Paris, 1990; Encrevé P. Soulages. Noir lumière. Paris, 1996; Idem. Soulages: les peintures (1946–2006). Paris, 2007.
(обратно)286
Я имею в виду собственно дизайн, задача которого – разработать оптимальное сочетание формы, цвета и функциональности и который участвует в производстве предметов массового потребления. См.: Pastoureau M. Couleur, design et consommation de masse. Histoire d’une rencontre difficile (1880–1960) в каталоге выставки: Design, miroir du siècle. Exposition (Paris, Grand Palais, 1993). Paris, 1993. P. 337–342.
(обратно)287
Proust M. Du côté de chez Swann. Paris, 1913. P. 203–204.
(обратно)288
Знаменитое и вечно модное «маленькое черное платье» некоторые историки моды назвали «фордом Т» модного дома «Шанель». См.: Charles-Roux E. Le Temps Chanel. Paris, 1979; Mackrell A. Coco Chanel. New York, 1992; Gidel H. Coco Chanel. Paris, 1999.
(обратно)289
Robinson J. Fashion in the Thirties. London, 1978; Constantino M. Fashions of a Decade: 1930s. New York, 1992.
(обратно)290
В наши дни голову мавра в белой повязке можно увидеть на гербе Корсики. Самый давний вариант этой гербовой фигуры имеется в: Armorial universel du héraut Gelre (vers 1370–1395). Bruxelles: Bibliothèque royale, ms. 15652–15656, fol. 62 verso.
(обратно)291
История черного флага еще не написана. Зато с историей красного можно ознакомиться в замечательной книге: Dommanget M. Histoire du drapeau rouge des origines à la guerre de 1939. Paris, 1966.
(обратно)292
Pastoureau M. L’Étoffe du Diable. Une histoire des rayures et des tissus rayés. Paris, 1991. P. 102–111.
(обратно)293
Opie I.A. A Dictionary of Superstitions. Oxford, 1989. P. 64; Laclotte D. Le Livre des symboles et des superstitions. Bordeaux, 2007. P. 123.
(обратно)294
В Европе период наибольшего распространения черной одежды, носимой в знак траура, приходится на Первую мировую войну и послевоенные годы (1918–1925).
(обратно)295
Birren F. Color. A Survey in Words and Pictures. NewYork, 1961. P. 64–68; Heller E. Wie Farben wirken. Farbpsychologie, Farbsymbolik, kreative Farbgestaltung. Hambourg, 1989. S. 20 et passim; Pastoureau M. Dictionnaire des couleurs de notre temps. 2e éd. Paris, 1999. P. 178–184.
(обратно)
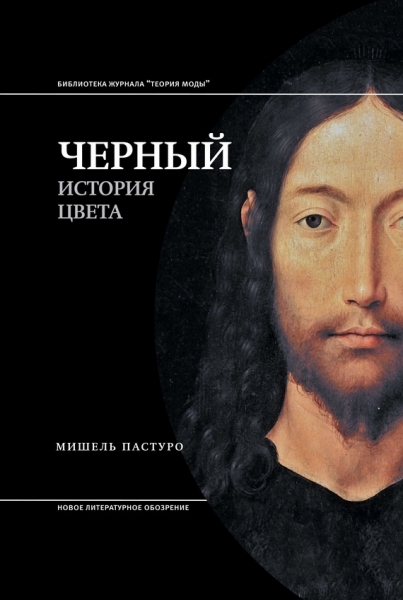

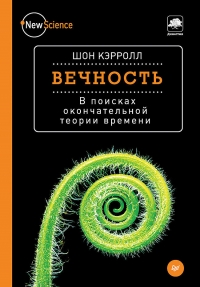
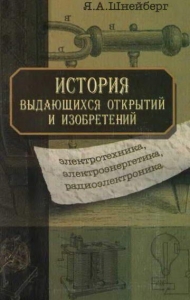

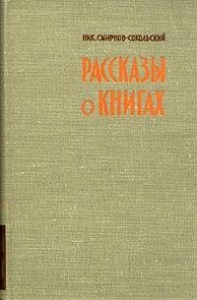


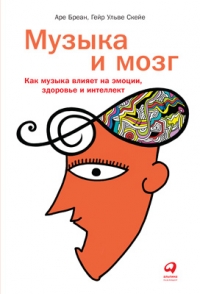

Комментарии к книге «Черный. История цвета», Мишель Пастуро
Всего 0 комментариев