Собственная логика городов. Новые подходы в урбанистике (сборник)
Введение Хельмут Беркинг, Мартина Лёв
23 – 24 июня 2007 г. в Дармштадте при поддержке Немецкого научно-исследовательского общества[1] прошел круглый стол на тему “Своеобразная реальность городов. Новые подходы и ориентиры в урбанистике”. Многочисленные специалисты по социологии города, политологии, европейской этнологии, географии, истории, философии, экономике и исследованиям спорта обсуждали возможности и ограничения, новые перспективы и старые проблемы в области изучения “города”. В центре обсуждения были представление и критический разбор нового исследовательского подхода, призванного концептуализировать и эмпирически изучать “город” и города как особые предметы исследования во всем их своеобразии. В настоящем сборнике объединены переработанные и расширенные доклады участников круглого стола, которые, пользуясь различными аналитическими методами, делают исходным пунктом своих размышлений эту идею локально специфической своеобразной реальности городов. В таком подходе они видят путь теоретического и методологического обновления социологии города и урбанистики.
Основную идею сборника можно сформулировать как критическое возражение против господствующей в урбанистике традиции: нужно не только проводить исследования в городах, нужно изучать сами города – анализировать “этот” город и его отличие от “того”. На фоне стандартных теоретических постулатов такая смена перспективы оказывается отнюдь не тривиальной. Ведь, с одной стороны, существует идущая еще от Чикагской школы теоретическая программа, рассматривающая “город” лишь как подмножество или субкатегорию “общества”. В горизонт внимания социальных наук город попадает в качестве лаборатории самых разных общественных процессов. Свою наиболее проработанную форму и наиболее влиятельное выражение эта теоретическая фигура субсумционной логики [т. е. логики родовидовой иерархии – прим. пер.] (Berking/Löw 2005), конструирующая “[большой] город в принципе как «зеркало» или «сцену» общества либо как «лабораторию (пост-)модерна»” (Frank 2007: 548), получила в “новой городской социологии”[2]. С другой стороны, можно констатировать возросшее внимание к процессам образования обществ в малых пространствах – в пределах района, квартала, социального круга и т. д. Здесь главное значение придается формам и стилям жизни, кварталам мигрантов и кварталам бедноты, короче говоря – специфическим местам специфических социальных групп в городе. Однако в обоих случаях утрачивается не только специфика такой формы образования общества (Vergesellschaftungsform), как город, но и особенность данного города как предмета исследования (ср. Berking/Löw 2005; Löw 2008).
“Город” как объект исследования повсеместно заменяют “обществом”, руководствуясь предположением, что структурные проблемы капитализма, отношения неравенства и паттерны эксплуатации отразятся в городе как в капле воды. В пользу того, что условия локальных контекстов, содержание локального знания и системы локального действия представляют для построения теорий в городской социологии второстепенную важность или вообще действуют лишь как фильтры (ср., например, Häußermann/Siebel 1978; Häußermann/Kemper 2005; Saunders 1987; Krämer-Badoni 1991), приводятся главным образом три аргумента, которые выработаны преимущественно в контексте относительной экономической стабильности послевоенного германского общества всеобщего благосостояния и применительно к “капиталистическому городу”. Так, утверждается, что урбанизация общества стирает различия между городом и деревней и потому делает невозможным рассмотрение города как отдельного социального явления. Во-вторых, утверждается, что город как заданное административными границами пространство не является социологической категорией; и в-третьих – что города слишком многообразны для того, чтобы можно было сделать предметом изучения город как таковой.
Эти аргументы сопровождаются предложениями не наделять анализ города привилегированным статусом по сравнению с анализом других пространственных форм организации и расселения (Hamm/Atteslander 1974; Friedrichs 1977; Mackensen 2000). Подобные принципиальные решения привели к тому, что от изучения конкретного города почти полностью отказались, переключив внимание на анализ общества в городе.
На фоне новых выводов, к которым пришли исследователи политики локализации, концепций модернизации и теории пространства, все тексты настоящего сборника объединяет гносеологическое стремление пересмотреть этот принципиальный выбор и сделать центральной темой то значение, которое имеет для исследовательских стратегий развитие городов, подчиненное в каждом случае своей имманентной логике. Мы ставим вопрос так: в какой мере необходимый пересмотр урбанистических подходов требует также и расширения теоретических, концептуальных, методологических и эмпирических перспектив? Или, может быть, на повестке дня даже стоит “изобретение заново” (Läpple 2005) города и науки о нем?
Наше аналитическое внимание направлено на своеобразие формирования структур в современных городах, на их отличную от современного территориального государства пространственно-структурную форму и связанные с нею ожидания социокультурной инклюзии (Held 2005). Каковы следствия из допущения, что важные для современного крупного города агрегатные состояния – большая социальная и материальная масса, гетерогенность и плотность (Wirth 1974) – структурно отличаются от требований гомогенности, выдвигаемых формирующим город национальным государством? Разве невероятное социально-интегративное и культурное достижение современной городской жизни не заключается именно в “институционализированном безразличии к различиям” (Hondrich 2006: 493) жизненных стилей и социальных практик? Разве не заключается оно в сосуществовании и совместной эволюции символических универсумов, которое играет и должно играть важнейшую роль там, где стирание различий на нормативной базе инклюзионных механизмов территориального государства наталкивается с неизбежностью на свои границы? Может быть, подлинное исследовательское поле урбанистики образует не гомогенность, а материальная, социальная и культурная гетерогенность? Социология города в Германии может многое рассказать о городе как лаборатории общества, но и по сей день лишь немногое – о городе как самостоятельном объекте общественно-научного знания.
Принципиальное решение вынести города со всеми их различиями и локальными особенностями за скобки в качестве объекта исследования общественных наук тесно связано с концепциями модерности. Например, как критически отмечали Стюарт Холл (Stuart Hall et al. 1995) и Энтони Гидденс (Anthony Giddens 1996), образование современных общественных формаций более или менее монокаузально понимается как следствие влияния процессов дифференциации или производственных отношений. Множественные эффекты культуры капитализма не берутся в расчет, и объяснить модерность с помощью неизбежно мультикаузальной и плюралистической концепции общественного развития также не удается. Однако такое понимание модерности, которое постулирует детерминизм динамики общественного развития, может признать за городом разве что некие функции в глобальной капиталистической системе, но зафиксировать значение городов и локальных феноменов для общественного прогресса оно неспособно. Интересно, что именно дискурс глобализации с необычайной отчетливостью выявил эту слепую зону локального. Поэтому не случайно в настоящее время идут дискуссии об усилении локальных феноменов и городов под воздействием динамики глобализационных процессов (Le Galès 2002) и об одновременном ослаблении национального государства. Глобализация в этом контексте осмысляется как процесс, который производится локально (Massey 2006), – при этом под локальным имеется в виду прежде всего город (Marcuse 2005). Но если изменяющиеся способы производства локальности в их отношении к глобальному (Massey 2006) становятся главным предметом изучения, то какие последствия это имеет для урбанистики? Можем ли мы, используя гибридное понятие “глокализация” (Swyngedouw 2004), встать на такую точку зрения, при которой собственная логика городов и локальные особенности как конститутивные элементы городской реальности будут занимать центральное место в производстве общественно-научного знания? И разве не достаточно вспомнить Нью-Йорк или Лондон, чтобы стало понятно, что города не только осуществляют локальную фильтрацию и дифференциацию детерминированных структурных процессов, но и наоборот – сами формируют структуры? Что заставляет нас предполагать, будто всё, что происходит в городах, имеет свои причины где-то вне их? Разве не следовало бы вместо этого понимать “город” – концептуально и эмпирически – как формообразующий элемент в процессе глобализации? Какого рода прироста знания можно вообще ожидать от типичного возражения, что “город” якобы утратил свою релевантность в качестве места действия современной эпохи?
Словом “город” могут обозначаться самые различные феномены, и количество его терминологических модификаций в науке стало уже почти необозримым: Patchwork City, Edge City, Dual City, Global City – вот только некоторые значения, приписываемые ему в различных типологизациях. Расплывчатость и открытость понятия не обязательно говорят против него (подобная судьба у понятий “структура”, “культура” или “глобализация”), но делают необходимым понятийное прояснение проблематики: не устарели ли традиционные значения, закрепленные за “городом”? У других дисциплин понимание собственного предмета за последние двадцать лет сильно изменилось. Например, если в литературоведении теория повествования сначала строилась на рассказе и рассказчике, то со временем в качестве третьего компонента в фокус теоретического внимания попал акт чтения. Текст уже не представляется понятным без знания о различных практиках и эмоциях читателей, о приписываемых ими значениях и смыслах, коротко говоря – без отношений между текстом и читателями (Suleiman/Crosman 1980). В 90-е годы вслед за “читателем в тексте” появился “зритель в картине” (Kemp 1992): произведение искусства нельзя понимать как объект сам по себе или как результат отношений между художником и произведением – необходимо, отправляясь от рецепции, выводить “сущность” изображения в том числе и из его восприятия зрителем. В таком случае возникает вопрос: не будет ли полезным и для социологического изучения города определение его предмета через расширенное понятие практики? Представляет ли собой “город” категорию, относящуюся к области опыта? Следует ли рассматривать города как результат и как предпосылку культурных практик и процессов, или же это сущности, а точнее исторически сложившиеся формы (Featherstone 1999)? Имеется ли у городов собственная логика, или же они суть результаты каких-то социальных процессов более высокого порядка? Если рассматривать города в качестве таковых, то не пропадает ли город в качестве специфического предмета исследования? Жизнеспособно ли еще сравнение города с деревней в качестве оппозиции? Как сравнивать города друг с другом?
Независимо от того, какое обоснование будет дано “изобретению заново” или переформатированию социологии города, она не сможет обойтись без рефлексивной проблематизации своего понятийного аппарата и истории его легитимации в Германии. При этом во внимание нужно будет принять не только исходные исторические условия немецкой социологии города и общественные обстоятельства ее бытования на уровне социальной, политической и экономической структуры, а также на уровне формирования индивидуальных стилей жизни, но и эффекты культурной модернизации. “Культурный поворот” в общественных и гуманитарных науках поставил перед урбанистикой вопросы, которые по большей части остались без ответа: это вопросы о кумулятивных структурах локальных культур и об их оседании в материальной среде городов или в городе как коллективной памяти (Boyer 1996), о локальных “структурах чувствования” (Williams 1965), о “габитусе” (Lee 1997; Lindner 2003), об “индивидуальном облике” и о “биографии” города или об агрегации городского опыта в “температуре” городов (Braudel 1979).
Цель этой книги – собрать вместе концепции, направленные прежде всего на фундаментально-теоретическое освоение этой проблематики, чтобы заложить те основы, опираясь на которые в будущем при проведении эмпирических исследований можно будет систематически учитывать различия между городами, а “город” как предмет исследования – выводить в том числе и из локальной собственной логики. Таким способом в долгосрочной перспективе мы рассчитываем нащупать исследовательские возможности для преодоления системных слепых зон. На сегодняшний день не существует практически никакого социологического знания о расположении различных городов в поле отношений между ними, которое оказывает столь же определяющее воздействие на их восприятие и (не)привлекательность, как и действия акторов. Это поле канализует поток товаров и человеческих групп в неменьшей степени, чем планирование, имидж и репрезентация того или иного города. Урбанистике не хватает эмпирического знания о развитии городов под действием их собственной имманентной логики, об условиях этого развития, не хватает систематизированной социологической типологии городов.
Сборник представляет собой первый том новой серии издательства Campus под названием “Междисциплинарная урбанистика”. Урбанистика – одно из главных направлений в Дармштадтском техническом университете, где она объединяет 25 профессоров и сотрудников семи отделений. Цель этого объединения исследователей – путем междисциплинарного сотрудничества производить знание и инструменты, которые позволят распознавать и усиливать локальные потенциалы городов. В двух словах, общая программа междисциплинарной дармштадтской урбанистики – анализ собственной логики городов. Мы благодарим Немецкое научно-исследовательское общество, чья поддержка позволила провести круглый стол, материалы которого легли в основу этого сборника, а также всех участников мероприятия за их замечания – столь же критические, сколь и новаторские. Особую благодарность мы выражаем Хайке Кольрос, Вибке Кронц, Йохену Швенку и Кристине Штайн, которые взяли на себя труды по редактированию и корректуре тома.
Дармштадт, июль 2008 г. Редакторы
Литература
Berking, Helmuth/Löw, Martina (2005) (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte. Soziale Welt, Sonderband 16, Baden-Baden.
Boyer, Christine M. (1996), The City of Collective Memory: Its Historical Imagery and Architectural Entertainments, Cambridge, MA.
Braudel, Fernand (1979), Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV–XVIII siècle. Le structure du quotidien: Le possible et l´impossible, Paris.
Featherstone, Mike (1999), Globale Stadt. Informationstechnologie und Öffentlichkeit // Rademacher, Claudia/Schroer, Markus/Wiechens, Peter (Hg.), Spiel ohne Grenzen? Ambivalenzen der Globalisierung, Opladen, S. 169–201.
Frank, Susanne (2007), Stadtsoziologie. Literaturbesprechung zu Bernhard Schäfers (2006) Stadtsoziologie. Stadtentwickung und Theorien – Grundlagen und Praxisfelder, Wiesbaden // KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 59 – 3, S. 548–549.
Friedrichs, Jürgen (1977), Stadtanalyse, Reinbek bei Hamburg.
Giddens, Anthony (1996), Konsequenzen der Moderne, Frankfurt am Main [рус. изд.: Гидденс, Энтони (2012), Последствия современности, Москва. – Прим. ред.].
Hall, Stuart et al. (1995), (Eds.), Modernity, Cambridge.
Hamm, Bernd/Atteslander, Peter (1974) (Hg.), Materialien zur Siedlungssoziologie, Köln.
Häußermann, Hartmut/Kemper, Jan (2005), Die soziologische Theoretisierung der Stadt und die “New Urban Sociology” // Berking, Helmuth/Löw, Martina (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte. Soziale Welt, Sonderband 16, Baden-Baden, S. 25–53.
Häußermann, Hartmut/Siebel, Walter (1978), Thesen zur Soziologie der Stadt // Leviathan, 6–4, S. 484–500.
Held, Gerd (2005), Territorium und Großstadt. Die räumliche Differenzierung der Moderne, Wiesbaden.
Hondrich, Karl Otto (2006), Integration als Kampf der Kulturen // Merkur, 60 – 686, S. 481–498.
Kemp, Wolfgang (1992), Der Betrachter ist im Bild: Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik, Berlin/Hamburg.
Krämer-Badoni, Thomas (1991), Die Stadt als sozialwissenschaftlicher Gegenstand // Häußermann, Hartmut/Ipsen, Detlev/Krämer-Badoni, Thomas u.a. (Hg.), Stadt und Raum: Soziologische Analysen, Pfaffenweiler, S. 1 – 29.
Läpple, Dieter (2005), Phönix aus der Asche. Die Neuerfindung der Stadt // Berking, Helmuth/Löw, Martina (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte. Soziale Welt, Sonderband 16, Baden-Baden, S. 397–413.
Le Galès, Patrick (2002), European Cities: Social Conflicts and Governance, Oxford.
Lee, Martyn (1997), Relocating Location: Cultural Geography, the Specificity of Place and the City Habitus // McGuigan, Jim (Ed.), Cultural Methodologies, London/Thousand Oaks/New Delhi, p. 126–141.
Lindner, Rolf (2003), Der Habitus der Stadt – ein kulturgeographischer Versuch // PGM. Zeitschrift für Geo – und Umweltwissenschaften, 147 – 2, S. 46–53.
Löw, Martina (2008), Soziologie der Städte, Frankfurt am Main.
Mackensen, Rainer (2000), Handeln und Umwelt, Opladen.
Marcuse, Peter (2005), The Partitioning of Cities // Berking, Helmuth/Löw, Martina (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte. Soziale Welt, Sonderband 16, Baden-Baden, S. 257–276.
Massey, Doreen (2006), Keine Entlastung für das Lokale // Berking, Helmuth (Hg.), Die Macht des Lokalen in einer Welt ohne Grenzen, Frankfurt am Main/New York, S. 25–31.
Saunders, Peter (1987; orig. 1981), Soziologie der Stadt, Frankfurt am Main/New York.
Suleiman, Susan R./Crosman, Inge (1980), The Reader in the Text. Essays on Audience and Interpretation, Princeton.
Swyngedouw, Erik (2004), Globalisation or “Glocalisation”? Networks, Territories and Rescaling // Cambridge Review of International Affairs, 17 – 1, p. 25–48.
Williams, Raymond (1965), The long Revolution, Harmondsworth.
Wirth, Louis (1974; orig. 1938), Urbanität als Lebensform // Herlyn, Ulfert (Hg.), Stadt – und Sozialstruktur. Arbeiten zur sozialen Segregation, Ghettobildung und Stadtplanung, München, S. 42–67.
“Города, как людей, узнаешь по походке”: наброски об изучении города и городов Хельмут Беркинг
“Что это?”. Задавать такие вопросы разрешается детям. Для ученых, а тем более приверженцев радикального конструктивизма, вопрос “что?” табуирован, ну или как минимум вызывает у них крайне подозрительное отношение. Тот, кто всё же задает этот вопрос, одно важнейшее решение уже принял, а именно – что нечто всё-таки существует. Но если ответом, по сути, всегда может быть только “это есть… нечто”, то возникает подозрение, сопровождаемое иногда возмущением, что вопрошающий намеревается реанимировать старый/новый эссенциализм, которому давно место на свалке научных заблуждений. Правда, соблазн от этого не исчезает, потому что всякий разговор о “городе” предполагает некое знание о том, что такое город. Для того чтобы хоть частично снять остроту этой дилеммы, необходимо точнее сформулировать эпистемологическую интенцию: не “что есть город?”, а “что есть город как объект знания?”, как предмет и объект социологического знания? И пусть тема эта на первый взгляд покажется чем-то неохватным, мотив вполне ясен: речь идет об определении позиций в отношении переориентации урбанистики. Желание такой переориентации возникает всякий раз, когда старое уже не убеждает настолько, чтобы не оставалось вопросов, а новое еще слишком расплывчато для того, чтобы казаться само собой разумеющимся.
1. “Город” и социология
Существующий сегодня в социологии города набор проблем можно свести в краткую и грубую типологию на основе двух взаимодополняющих теоретических программ так, что станет ясно видна лакуна.
С одной стороны, мы видим идущую еще от Чикагской школы теоретическую традицию, в которой “город” рассматривается как лаборатория общественных процессов любого рода. Город – это место, в котором локализуются кризисные явления капитализма, современности, постмодерна, глобализации, отставания в развитии и т. д. Свою наиболее проработанную форму и наиболее влиятельное выражение эта теоретическая фигура логики родовидовой иерархии, согласно которой “город это всего лишь место, где проявляется общество, его структура и его конфликты” (Siebel 1987: 11), получила в “новой городской социологии” (New Urban Sociology) (Lefèbvre 1972; Castells 1977; 1977a; Harvey 1989; 1996). В конечном итоге она стала центральной парадигмой и западногерманской социологии города (Häußermann/Siebel 1978; 2004; Häußermann 1991; 2001; Krämer-Badoni 1991).
С другой стороны, с середины 80-х годов XX столетия можно наблюдать возросшее внимание к процессам образования обществ в малых пространствах – в пределах района, квартала, социального круга и т. д. Здесь исследовательский интерес направлен именно на пространственное измерение социальных особенностей (Berking /Neckel 1990; Blasius/Dangschat 1994; Dangschat 1999; Matthiesen 1998). Внимание уделяется формам и стилям жизни, кварталам мигрантов и кварталам бедноты, короче говоря – специфическим местам специфических социальных групп в городе. Но при этом “город” как исследовательская проблема незаметно теряется в скоплении районов и кварталов. В то же время теоретические стратегии конструирования “города” как предмета исследования, основанные на логике родовидовой иерархии, открыто заявляют о своем принципиальном отказе заниматься урбанистикой просто как социальной теорией. Похоже, что одни ожидают слишком малого, тогда как другие хотят слишком многого. В обоих случаях пропадает “город” и с его исчезновением оказываются заблокированы важные горизонты знания. Изучать социологию города без города – значит не только не видеть разницы между городами, не видеть собственных логик и локальных контекстов “этого” города в отличие от “того”, – это значит не видеть и самого “города” как объекта знания (ср. Berking/Löw 2005). Такая типология – бесспорно грубая – приводит к соображению, принимающему форму подозрения: а не может ли быть так, что в последние десятилетия мы имели дело с урбанистикой без города? Какая дисциплина – за исключением истории – была действительно озабочена анализом индивидуального облика “этого” города в отличие от “того”?
Эта столь же неожиданная, сколь и неприятная констатация, что “город” не является предметом изучения социологии, что в самом понятийном ядре урбанистики зияет пустота и что теоретики не проявляют к этому практически никакого интереса, послужила мотивом для попытки набросать концепцию понятия “город”. Если учесть, что социология сама является детищем большого города, то можно быть уверенным, что в унаследованном от нее багаже знания найдутся важные подсказки и точки опоры для “социологии города”. Нет никакого сомнения в том, что в эпоху, когда закладывались основы социологической науки, большой город воспринимался как нечто революционно новое, и в таком качестве он становился темой для рефлексии. Вспомним сконструированную Максом Вебером на основе понятия “рынок” типологию “город производителей”/“город потребителей”, которую он создал для описания западного города; вспомним работы Георга Зиммеля, прославляемые сегодня как манифест социологии города; вспомним также наблюдение Роберта Парка, что “поскольку у большого города есть совершенно своя жизнь, существуют границы осуществимости произвольных изменений 1) в его физической структуре и 2) в его моральном порядке” (Park 1967: 4, ориг. 1925). Город – феномен, который сам делает себя очевидным, “состояние ума, набор обычаев и традиций, а также организованных установок и чувств, которые заложены в эти обычаи и передаются посредством этих традиций” (Park 1967: 1), – в глазах своих наблюдателей и критиков являет собой, вне всякого сомнения, совершенно самостоятельную форму образования общества. При этом исторически сложившееся положение дел представляется абсолютно парадоксальным: как объект знания большой город отжил свое в тот момент, когда он сделался главным пространством опыта. Именно большой город репрезентирует “современное общество”, а наука о современном обществе так и не включила город в набор своих основных понятий. Именно большой город поставляет эмпирический материал для построения теорий общества, а сам он при этом так и не получил теоретического осмысления[3]. И именно о большом городе сегодня с раздражающей, отвергающей реальность уверенностью заявляют, будто он “уже не может рассматриваться как определяющий фактор модерности” (Stichweh 2000: 203). На этом фоне вопрос о городе как объекте социологического знания представляется нетривиальным. Какие общие утверждения можно сделать относительно “города” и, если удастся, свести в некое содержательное концептуальное понятие? Мы ищем такую теорию города, которая могла бы утвердить за собой самостоятельную позицию перед лицом логики родовидовой иерархии и сращения, а также сулила бы некоторую аналитическую “прибыль”. На самом деле появляется все больше и эмпирических свидетельств, и теоретических возражений (сформулированных прежде всего в контексте социологического дискурса о глобализации) против концептуального понятия “общество” (cp. Giddens 1990; Beck 1997; Albrow 2002; Urry 2000), которое сегодня уже едва ли годится для анализа города. Вообразим шутки ради смену перспективы: что было бы, если бы не регистр “общество” представлял собой вышестоящую референтную инстанцию для города, а наоборот – если бы всякое общество было бы “городом”, “городским обществом”, т. е. если бы городу оказывали то теоретическое внимание, которого он и в прошлом, и в настоящем заслуживает?
Набросок для конституирования “города” как объекта социологического знания будет основан на теории пространства: речь идет об анализе того, что Эдвард Соджа назвал “пространственной спецификой урбанизма” (Soja 2000: 8). Здесь у нас тоже есть исторический запас знания, на который можно опереться. Первую и имевшую для социологии города огромное значение попытку концептуально описать “урбанизм” как специфическую пространственную форму образования общества предпринял Луис Вирт в 1938 г., используя такие критерии, как “размер”, “плотность” и “гетерогенность”. Правда, познавательный интерес Вирта был направлен на “урбанизм как характерную форму жизни”, типичными признаками которой он назвал: 1) специфическую “физически-реальную структуру”, 2) специфическую “систему социальной организации”, 3) “определенный набор установок и идей” (Wirth 1974: 58).
Если преимущественным местом существования этой “формы жизни” является большой город, то сама собой напрашивается и кажется многообещающей попытка свести сильную концепцию “урбанизма как формы жизни” к концепции “большого города как пространственной формы”. Ведь размер и плотность суть прежде всего пространственные маркеры, точнее говоря – пространственные принципы организации, которые в своем взаимодействии с гетерогенностью порождают некую систему пропорций. И только определенная (и определимая?) пропорция всех трех этих параметров “создает” большой город, причем всегда и везде. При таком прочтении “город” представляет собой не только контекст, фон, поле, среду, но и прежде всего “форму”, пространственную форму, или, точнее, весьма специфический пространственный структурный принцип.
2. Плотность: город как пространственно-структурная форма уплотнения
Притязание на то, чтобы концептуализировать “город” как специфическую пространственную форму, предполагает логическое маркирование некой дистанции и некоего отличия от прочих пространственных форм. Герд Хельд предпринял амбициозную попытку аналитического освоения такой проблемы, как обретение современной эпохой специфического пространственного измерения (о нижеследующем см. Held 2005). Отталкиваясь от сделанного Фернаном Броделем наблюдения, что город и территориальное государство представляют собой конкурирующие в определенной исторической конъюнктуре формы организации пространственных единиц – два соревнующихся бегуна, которые держатся вровень на протяжении долгого времени, – Хельд выдвинул тезис о комплементарности города и государства как характерных пространственных форм современной эпохи. Не “город и деревня”, а “территория и большой город” образуют систему координат для пространственно-структурной дифференциации совершенно особого рода: выделения пространственных логик включения и исключения. Базовой исторической предпосылкой для пространственной дифференциации современности является ликвидация такого фиктивного единства, как “пространство”, слом старого порядка, базировавшегося на простой географии населенных пунктов и путей. Территория и большой город рассматриваются как пространственно-структурные формы, реальные абстракции, которые делают возможным образование структур в пространстве и усиливают друг друга. Территория как пространственный структурный принцип делает ставку на исключение, большой город – на включение. Первая нуждается в границе, с ее помощью она повышает гомогенность внутри себя, второй – отрицает границу и повышает плотность и гетерогенность. Эмпирически между ними существует определенная пропорциональность, которая реализуется в виде перепада плотности.
Если следовать этим идеям о территории и большом городе как двух главных пространственно-структурных принципах современной эпохи, то мы придем к интересным соображениям относительно вопроса о концептуализации города как пространственной формы.
1. Если большой город тематизируется как пространственно-структурный принцип включения и плотности, то оказывается невозможной “история города с древнейших времен до наших дней” как некая непрерывность. Ведь аргументация с позиций теории пространства предполагает, что, например, средневековый город существовал до пространственно-структурного разделения включения и исключения и – по крайней мере на этом уровне абстракции – не может рассматриваться как событие в области пространственно-структурной дифференциации. Модус образования общества в нем принципиально иной. Здесь, как и в других случаях, оппозиция “город – деревня” может претендовать на полноправное действие.
2. Если понимать город как пространственно-структурный принцип, как форму, организующую и регламентирующую феномены уплотнения, то отсюда вытекают далеко идущие последствия в том, что касается типовых стратегий конституирования предмета исследования. “Город” в таком случае – это не “коммуникация”, не “интеракция”, не “стиль жизни”, не “социальная среда”; а также не “face to face”, не “район”, не идентичность, не экономический центр, не габитус и т. д. Все содержательные интерпретации неизбежно оказываются преждевременными. И сравнение городов тут тоже неуместно. Специфические локальные различия между, например, музыкальным городом и пивным городом – скажем, между Веной и Дортмундом – при подходе, опирающемся на теорию пространств, должны были бы сами описываться как всего лишь эффекты внутренних – и уже только в этом смысле локально специфических – процессов дифференциации и уплотнения.
3. Размер, плотность и гетерогенность представляют какой-то интерес не как количественные, а только как качественные эффекты. Уже Георг Зиммель описывал взаимодействие внешней плотности, интенсивности контактов и внутренней сдержанности. Пространственная логика включения – это логика систематического повышения интенсивности контактов при низком уровне обязательств. Город организует плотность путем экстремального увеличения поверхностей контакта. Самые разнородные элементы не просто собираются вместе, а приводятся в такое “агрегатное состояние”, которое делает их способными к реагированию и меняет их воздействие друг на друга (Held 2005: 230). Размер, плотность и гетерогенность имеют важнейшее значение и применительно к материальным отношениям между человеком и окружающей средой: потоки материалов и материй, энергии, транспортных средств, потоки воды, знаний и людей вызывают за счет концентрации новые взаимодействия – цивилизационные катастрофы и эпидемии, но также и технические новшества, и новые уровни моральных притязаний общества.
4. Большой город как пространственно-структурная форма представляет собой “уплотнение в движении” (Ibid.: 240) не только на материальном, но и на институциональном, и на социальном уровнях. Уплотнение – это не вытеснение, а повышение интенсивности при включении. Плотность (и дисперсия) могут варьироваться, в том числе и во времени. Пространственная структура большого города всегда обнаруживает различные степени плотности и дисперсии: стабильное сосуществование предприятий и жилых зданий, которое в специфической ситуации центральной площади, универмага или стадиона превращается в сбивающее с толку смешение и вызывает перманентные “трансформации”. Хельд использует понятие “трансформация” – например, некоторое количество работников превращается в трудовой коллектив предприятия, некоторое количество посетителей превращается в публику, и т. д. – вместо понятия интеракции, чтобы артикулировать интенсивность и широту этого модуса “включающего опосредования” (Ibid.: 103). Плотность представляет собой одновременно и самое тяжкое испытание, навязываемое людям (отсюда главные мотивы критики больших городов), и пространство, открывающее возможности, и температуру, степень нагрева, которая обеспечивает готовность самых гетерогенных элементов прореагировать друг с другом и вызывает к жизни самые немыслимые соединения.
5. В размышлениях о плотности и уплотнении, основывающихся на теории пространства и в этом смысле специфичных для данной формы, важную роль играют изменение масштаба и пропорции. Речь идет не о применении старого почтенного разделения на микро-, мезо – и макроуровни в изучении городов. Систему координат образует все та же пространственно-структурная логика включения, – то, как плотность “артикулируется” на различных уровнях изменения масштаба. То, что на уровне общения лицом к лицу и будничных контактов – например, в обхождении с незнакомыми людьми – представляется произвольным и тривиальным, но вовсе не остается без последствий для социального характера жителей большого города (Simmel 1957, ориг. 1903), в силу множественности таких случаев приобретает в уплотненном городском пространстве специфическую когерентность, становясь частью общей структуры большого города. Городские рынки – рынки труда, брачные рынки и прочие – это весьма своеобразные генераторы случайностей, чья специфическая функция заключается в том, что они систематически повышают степень вероятности событий. Это не исключает вероятности индивидуальных неудач, но вместе с тем создает пространство возможностей для структурных перекличек, которые на уровне простых интеракций не попадают в поле зрения аналитика. Внутренние дифференциации движимы самой логикой пространственно-структурной формы. Типология города, таким образом, может быть намечена как результат самых различных уплотнений.
6. Масштаб и пропорции играют решающую роль и в отношениях между исключением и включением. Дифференциация пространственно-структурных форм “территория” и “большой город” приобретает характер всеобщего порядка: в глобализации системы государств, с одной стороны, и глобализации системы городов, с другой. И здесь тоже оказываются возможны интересные различения, если мы сосредоточим свое внимание на характере пространственных интервенций. Как межгосударственная система репрезентирует “иную” действительность, нежели одно отдельно взятое государство, так и пространственно-структурная форма уплотнения в системе городов обретает иное измерение, нежели в одном отдельном городе. Иерархии городов отражают основанные на разделении труда и взаимонаправленные процессы уплотнения, которые, в свою очередь, определяют взаимозависимости и области действия. Поле городов, если угодно, само по себе пространственно-структурно дифференцировано. Ведь с точки зрения организации плотности существуют значительные различия между городом, выполняющим функцию центра некой территории, региона и т. д., и городом, который как бы действует “в пределах видимости” соседнего уплотненного пространства. Но в общем случае надо исходить из того, что на этом уровне абстракции форму и потенциал “большого города” удастся выяснить, только если мы будем рассматривать не отдельный город, а систему больших городов.
Концептуализация “города” как пространственной формы опосредующего включения, как пространственно-структурной формы уплотнения, хороша тем, что позволяет для начала уйти от всех столь же спорных, сколь и произвольных попыток “содержательного” определения понятия. Что уплотняется? Как? Где? С какими последствиями? Таковы возникающие в этом случае проклятые эмпирические вопросы. Таким образом, для эмпирического исследования открывается многообещающая возможность: заменить в целом слабую концепцию города как всего лишь арены общественных проблем сильной базовой ориентацией на изучение города как целого, поставить в центр аналитического внимания индивидуальный облик[4] “этого” города в отличие от “того” и таким способом идентифицировать специфические локальные модусы обособления, не приписывая поспешно городу те или иные функции, характерные для общества в целом. Никто, разумеется, не спорит, что в городах есть “бедность”. Но надо учитывать, что “бедность”, равно как и “власть”, и “эксплуатация”, – не исключительно городской феномен, и поэтому в первую очередь надо определить тот “вклад”, который вносит в формирование данного феномена именно этот город. Не бедность в Мюнхене, а мюнхенская бедность представляет собой специфический городской феномен, который в плане повседневных практик, институционально и организационно отличается от подобных феноменов в Ливерпуле или Лейпциге: такова будет постановка проблемы для сравнительного урбанистического исследования, которое теоретически строится вокруг концептуального понятия города как пространственно-структурной формы уплотнения, а эмпирически организуется вокруг изучения “собственной логики городов”. При таком подходе, основанном на теории пространства, “собственная логика” на первом этапе операционализируется сравнительно просто – как типичный для этого города в (отличие от того) модус уплотнения: уплотнения застроенной среды, потоков материалов и материй, потоков транспорта, потоков людей и т. д.
Город как пространственная форма уплотнения маркирует эпистемологический интерес, располагающийся за пределами тех подходов в урбанистике, которые основаны на логике родовидовой иерархии и сращения. Теоретическое внимание этих подходов направлено, как ни парадоксально, на общее в той или иной конкретной пространственной форме образования общества. Тогда как следует эмпирически открывать и теоретически моделировать собственную логику городов, динамики обособления и ту данную нам, людям повседневности, несомненную уверенность, что Нью-Йорк – это не Ванне-Айкель, а Аймсбюттель – это не Чикаго. И то общее, что выявляется при сравнении индивидуальных гештальтов городов, можно описывать теоретически более точно. Ведь пространственно-структурная организация плотности и гетерогенности имеет последствия в форме особой конфигурации условий, в форме “избирательного сродства” между пространственной организацией, материальной средой и культурными диспозициями: “город” связан со схемами восприятия, чувствования, действия и интерпретации, которые в своей совокупности составляют то, что можно назвать “доксой большого города”.
3. Докса
В социально-феноменологической теоретической традиции словом “докса” обозначается то основанное на привычности и несомненности “естественное” отношение к миру, которое на практике обеспечивает нас принципами действия, суждения и оценки. Открытие “жизненного мира” как “последнего основания всякого объективного познания” (Гуссерль) завоевало такую популярность, что теперь встречается под названием “tacit knowledge” даже в литературе по менеджменту. В центре аналитического внимания находятся отныне модальности естественного миропереживания[5]. Разведочные вылазки в эти дорефлексивные и “бестемные”, т. е. содержательно недифференцирванные, “придонные” отложения “базового знания о жизненном мире” (Matthiesen 1997) привели к концептуальным размышлениям, которые оказались полезны для “спатиализации доксических связей с миром”, намеченных в понятии “докса большого города”[6]. Так, предположение, что опыт повседневного мира является не только социально и культурно специфичным, но и, кроме того, географически ограниченным в своем действии, подкрепляется предложенной Джоном Серлем “минимальной географией фона” (Searle 1983: 183; цит. по Matthiesen 1997: 175). Серль отличает “глубокий” фон, как бы систематизирующий компетенции крупного порядка, от “локального фона”, который включает в себя локальные, основанные на доксе культурные техники. И именно этот локальный фон, внутренне структурированный различением того, “каков мир”, и того, “как что делается”, представляет особенный интерес для пространственных измерений жизненного мира. Ведь если “безмолвное переживание мира как само собой разумеющегося” (Bourdieu 1987: 126) не является беспредпосылочным – никто же не живет в мире вообще, – тогда восприятия пространства и связи с местом, “senses of place” (Feld/Basso 1996) относятся, без сомнения, к конститутивным рамкам фонового знания о жизненном мире. Конструирование привычных диспозиций, посредством которых мир делает себя самоочевидным, поглощает время и структурирует пространства. Доксическими, или самоочевидными, являются поэтому и опыт пространств и мест, и формирование “родного мира”, основанного на различении знакомого и чуждого, и конструирование “стабильных привычных центров” (Waldenfels 1994: 200f.).
Доксические связи с миром подразумевают доксические связи с местом. “Не существует никакого «естественного» места, но существуют значимые места в том смысле, в каком Мид говорит о «значимом другом»” (Waldenfels 1994: 210). Для Джорджа Герберта Мида значимые другие маркируют первичную инстанцию освоения мира, без которой не может быть достигнут уровень обобщенного принятия ролей. По аналогии с этим значимыми местами можно было бы считать те точки, где на человека накладывают свой отпечаток дорефлексивные переживания пространств, мест, само-собой-разумеющейся принадлежности и аффективной включенности, которые способны стать основой для любой обобщенной и рефлексивной связи с пространством и с местом. Однако несомненно имеющийся “горизонт знакомого и известного” (Schütz 1971: 8) может омрачиться, переживание мира и обращение с ним как с чем-то само-собой-разумеющимся может разрушиться, короче говоря, доксические определенности могут – именно в силу того, что базируются на согласованности пространственных форм и привычных диспозиций, – быть поколеблены, когда рутинные механизмы не срабатывают и непосредственное практическое соответствие между самыми обычными привычками и той пространственной средой, с которой они согласованы, не устанавливается.
На этом фоне “большой город” в первый момент предстает явным разрушителем доксических определенностей. Рассчитанная на перманентность динамика уплотнений, ускорившиеся процессы гетерогенизации, а с ними и плюрализация вмененных представлений о нормальности ведут к тому, что специфические для данного пространства и места измерения типа “знакомое” и “свое” оказываются непрочными, а образование устойчивых, привычных центров становится маловероятным[7]. Но этим все не заканчивается. Ведь и большой город принуждает к практической согласованности, он тоже вызывает “естественное” отношение к миру, которое находит свое выражение и утверждение в виде доксы большого города. Происходит урбанизация базового знания о жизненном мире. Тезис об урбанизации жизненного мира основан на предположении, что, как и в случае больших технических систем – таких как вода, электричество и т. д., – городские способы переживания и восприятия помещаются в содержательно недифференцированный горизонт базового знания о жизненном мире. Локальный фон и свойственные ему и только ему доксические культурные техники предзаданы не только городом, но и локальной спецификой. Если что-то классифицируется как “характерное для большого города”, это говорит о релевантных сдвигах и значимых дистанциях. Ведь доксу большого города можно рассматривать в качестве как бы результата поколебленной доксы, потому что речь идет о закреплении и хабитуализации того зыбкого опыта, который возникает при сломе доксических определенностей. Этот новый “практический смысл” большого города, это новое “состояние тела” (Bourdieu 1987: 126) приказывает, повелевает, вымогает и делает возможным превращение минутного, ненадежного и чуждого в привычное, его слияние с чувством “знакомого” и “своего”. Своеобразность этих привычных диспозиций не в том, что я живу как чужой среди чужих, а в том, что я это положение дел переживаю как само собой разумеющееся. Георг Зиммель очертил центральные мотивы доксы большого города решительными штрихами: блазированность[8], сдержанность, отстраненность и безразличие. Обычное возражение Зиммелю – что он таким образом описал разве что паттерны реагирования и приспосабливания, характерные для буржуазного индивида, а не институционализацию норм солидарности и взаимности, бытовавших среди большинства городских жителей. На это с позиций представленной здесь эпистемологической интенции можно было бы ответить вопросом: не следует ли интерпретировать уплотнение ядер солидарности, в свою очередь, как эффект хабитуализации неуверенности, неопределенности и небезопасности, а стало быть – как диспозицию, вполне типичную для современной эпохи и для большого города?
Если докса большого города представляет “бестемный” универсум, внутри которого город делает себя самоочевидным, то нет никаких веских причин, по которым этот “знакомый мир” должен восприниматься и рассматриваться не только как что-то само-собой-разумеющееся, но одновременно и как нечто варьирующееся в зависимости от позиции. Говорить так – значит настаивать, что речь идет о вариациях на тему, т. е. о чём-то, разделяемом всеми. Таков контекст, в который Пьер Бурдье помещает свои концептуальные понятия “социального пространства” и “габитуса”.
Если социальный мир, как правило, воспринимается как нечто очевидное и как то, что (если пользоваться гуссерлевскими понятиями) постигается сообразно доксической модальности, то это происходит потому, что диспозиции акторов, их габитус, т. е. ментальные структуры, посредством которых те постигают социальный мир, по сути, являют собой продукт интернализации структур социального мира (Bourdieu 1992: 143).
Взаимодействие позиции и диспозиции порождает те доксические определенности, социологическое ядро которых Бурдье вслед за Ирвингом Гоффманом сконденсировал в запоминающуюся формулу “sense of one’s place”. Именно это “бестемное”, иными словами содержательно недифференцированное, “чувство своего места”, равно как и “чувство чужого места” (Bourdieu 1992: 144), это встроенное в нас чувство собственной позиции и расположения других в социальном пространстве, и гарантирует нам несомненность повседневного мира. Чувство своего места – это результат компромисса, приспособления “диспозиций восприятия” к объективным структурам. А к числу “объективных” структур вполне можно отнести и физическое – или, точнее, “присвоенное” физическое – пространство.
Этот переход значим потому, что докса, будучи осмыслена в ее пространственно-теоретических измерениях, открывает интересные перспективы для анализа доксических связей с местом.
1. На уровне построения теорий представляется столь же убедительным, сколь и многообещающим установление связи между дифференциацией пространственных форм образования общества и дифференциацией доксы. “Чувство своего места” в модусе образования общества, характерном для большого города, с неизбежностью будет иным, нежели аналогичное чувство в деревне. Докса большого города является в такой же степени предпосылкой, в какой и результатом вновь и вновь без всяких сомнений осуществляемого упреждающего ориентирования и приспосабливания субъективных диспозиций к условиям неопределенности, порождаемым плотностью и гетерогенизацией.
2. Докса большого города являет собой как бы фоновую мелодию, которая звучит во всех постановках городской жизни. То, что верно для “города” как объекта социологического знания и что нужно сделать концептуально плодотворным для теории собственной имманентной логики городов, должно быть – в эмпирическом ракурсе – верно для каждого города-“индивида”. Каждый крупный город, гласит наш тезис, порождает свойственное именно ему “естественное отношение” к миру. Каждый крупный город имеет свой локальный фон, предписывает определенное знание о том, “каков мир” и “что как делается”.
3. Индивидуальной или “локально-специфической” эта доксическая связь с местом является в отношении к негороду или к другим городам. Привычные диспозиции, “sense of one’s place”, являются специфичными для места. То, что это “чувство места” подвергается раздражению, что ему бросают вызов, что “навязывается” что-то другое, заставляющее “приспосабливаться”, – совершенно будничный опыт, связанный с любой переменой места.
4. Докса большого города – конструкт, который связан с сетью отношений. Индивидуальный случай внутренне дифференцирован, причем специфичным для каждой позиции образом, но всё же вписывается в некое целое, поддающееся описанию. Как сказал Пьер Бурдье, “у каждого тот Париж (или тот город, где человек живет), который отвечает его экономическому, культурному и социальному капиталу” (Bourdieu 1991: 32). У каждого свой Париж, но у каждого есть Париж, или иначе: Париж всё же остается Парижем.
5. Доксические определенности тематизируются только тогда, когда для них возникает угроза. В момент, когда ему бросают вызов, безмолвный опыт мира остается само собой разумеющимся, но уже не безмолвным: докса трансформируется в ортодоксию. Возникают стили, нарративные структуры, когнитивные схемы, которые теперь утверждаются в качестве легитимных в противоположность какимто другим, нелегитимным, и для которых, следовательно, характерен специфический локальный способ выражения. Теперь наш тезис может быть расширен: каждый крупный город порождает не только особое, свойственное ему естественное отношение к миру, но и особые, свойственные ему и только ему ортодоксии.
6. “Плотность” и “докса” – это те концептуальные рамки, при помощи которых можно описывать индивидуальные гештальты городов и сделать специфические локальные различия между городами полезными для теории “собственной логики городов”. Под “собственной логикой” понимается специфический локальный модус уплотнения застроенной среды, материальных потоков, символических универсумов и институциональных порядков. Можно различить два уровня, на которых она существует. Рассматриваемая концепция на эмпирическом уровне нацелена на анализ исторической, “кумулятивной текстуры” того или иного города и многообразных гомологий, возникающих в этой локальной ткани. А на уровне интенции эпистемологической критики она нацелена на теоретическое приближение к тому, что получило название “урбанизации жизненного мира”.
4. Собственная логика городов
Наметим вкратце те преимущества, которыми может обладать концептуальное понятие о “городе” как о пространственной форме образования общества, чей отличительный характер заключается в специфической пространственно-структурной организации плотности и городской доксы.
Первое: интуитивные прозрения отцов-основателей социологии города – “у города имеется собственная жизнь, он – состояние ума, набор обычаев и традиций” и т. д. (Park 1967: 1) – могут получить теперь обоснование в виде теории пространства и эмпирически изучаться как констелляция эффектов уплотнения, доксических связей с местом и локальных ортодоксий.
Второе: в этой перспективе оказывается возможной такая “социология [конкретного] города”, которая направляет свое аналитическое внимание на специфическую форму образования общества и специфическую “провинцию смысла”, чья базовая логика основывается на уплотнении и гетерогенизации. Уплотнение и гетерогенизация, повышение интенсивности контактов и реакций (и, следовательно, производство “нового”) не только чувствительны к перемене масштаба: они включают в себя как материальную сторону, так и социально-символическое измерение. Впрочем, вопрос о том, можно ли будет выразить эти “взаимовлияния” посредством доксических понятий, которые социология выработала применительно к социальным феноменам (действие, смысл, коммуникация), остается открытым.
Третье: социология [конкретного] города делает возможной и необходимой эмпирическую исследовательскую программу, для которой “собственная логика городов” выступает в равной мере и объектом познания, и рамкой гипотез. Ведь концептуализация города как пространственно-структурной формы уплотнения обеспечивает теоретическую ориентацию для сравнения городов между собой, которое, в свою очередь, сулит новое знание о скрытых пока сторонах городских “собственных логик”. Для Роберта Парка и для Чикагской школы в целом фигура отдельной, самостоятельной, собственной жизни “города” – с отсылкой к “деревне” – была самоочевидна. Но вызывает глубокое неудовлетворение то, что эта школа, стоявшая у истоков традиции, а за ней и вся социология города по сей день не интересовалась темой пространственно-структурных форм “уплотнения” городов. Социология же конкретного города переносит внимание с “города” вообще на множество конкретных городов: вместо “у города имеется собственная жизнь” – “у каждого города имеется собственная жизнь”. Систематической референтной точкой этой исследовательской программы является потому вопрос о собственных логиках городов, которые рассматриваются компаративно, через интенсивность и модус пространственной организации уплотнения и гетерогенизации. “Города, – говорится в «Человеке без свойств»[9] – можно узнать по походке, как людей”. Надо лишь достаточно заинтересованно и терпеливо за ними наблюдать.
Литература:
Albrow, Martin (2002), The Global Shift and its Consequences for Sociology // Genov, Nicolai (Ed.), Advances in Sociological Knowledge, Paris, p. 25–45.
Beck, Ulrich (1997), Was ist Globalisierung, Frankfurt am Main [рус. изд.: Бек, Ульрих (2001), Что такое глобализация?, Москва. – Прим. ред.].
Berking, Helmuth/Neckel, Sighard (1990), Die Politik der Lebensstile in einem Berliner Bezirk. Zu einigen Formen nachtraditionaler Vergemeinschaftung // Berger, Peter A./Hradil, Stephan (Hg.), Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile. Soziale Welt, Sonderband 7, Göttingen, S. 481–500.
Berking, Helmuth/Löw, Martina (2005), Wenn New York nicht Wanne Eikel ist… Über Städte als Wissensobjekt der Soziologie // Berking, Helmuth/Löw, Martina (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte. Soziale Welt, Sonderband 16, Baden-Baden, S. 9 – 22.
Blasius, Jörg/Dangschat, Jens (1994) (Hg.), Lebensstile in Städten: Konzepte und Methoden, Opladen.
Bourdieu, Pierre (1985), Sozialer Raum und “Klassen”, Frankfurt am Main.
– (1987), Sozialer Sinn, Frankfurt am Main.
– (1992), Rede und Antwort, Frankfurt am Main.
Castells, Manuel (1977), The Urban Question. A Marxist Approach (orig. 1972), London.
– (1977a), Die kapitalistische Stadt. Ökonomie und Politik in der Stadtentwicklung, Hamburg.
Dangschat, Jens (1999) (Hg.), Modernisierte Stadt – gespaltene Gesellschaft, Opladen.
Feld, Stephen/Basso, Keith (1996) (Eds.), Senses of Place, Santa Fe.
Giddens, Anthony (1990), The Consequences of Modernity, Stanford [рус. изд.: Гидденс, Энтони (2012), Последствия современности, Москва. – Прим. ред.].
Grathoff, Richard (1989), Milieu und Lebenswelt. Einführung in die phänomenologische Soziologie und die sozialphänomenologische Forschung, Frankfurt am Main.
Harvey David, (1989), The Condition of Postmodernity, Cambridge.
– (1996), Social Justice, Postmodernism and the City // Feinstein, Susan (Ed.), Readings in Urban Theory, Cambridge, p. 415–435.
Häußermann Hartmut/Siebel, Walter (1978), Thesen zur Soziologie der Stadt // Leviathan, 6. Jg., S. 484–500.
– (2004), Stadtsoziologie, Frankfurt am Main.
Häußermann, Hartmut/Kemper, Jan (2005), Die soziologische Theoretisierung der Stadt und die “New Urban Sociology” // Berking, Helmuth/Löw, Martina (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte. Soziale Welt, Sonderband 16, Baden-Baden, S. 25–53.
Held, Gerhard (2005), Territorium und Großstadt. Die räumliche Differenzierung der Moderne, Wiesbaden.
Keim, Karl-Dieter (1998), Sozialräumliche Milieus in der zweiten Moderne // Matthiesen, Ulf (Hg.), Die Räume des Milieus, Berlin, S. 83–97.
– (2003), Das Fenster zum Raum, Opladen.
Krämer-Badoni, Thomas (1991), Die Stadt als sozialwissenschaftlicher Gegenstand // Häußermann, Hartmut u.a. (Hg.), Stadt und Raum: Soziologische Analysen, Pfaffenweiler, S. 1 – 29.
Lefèbvre, Henri (1972), Die Revolution der Städte, München.
Lindner, Rolf (2004), Walks on the wild Side, Frankfurt am Main.
– (2006), The Gestalt of the Urban Imaginary // European Studies, 23, Amsterdam/New York, p. 35–42.
Matthiesen, Ulf (1997), Lebensweltliches Hintergrundwissen // Wicke, Michael (Hg.), Konfigurationen lebensweltlicher Strukturphänomene, Opladen, S. 157–178.
– (1998) (Hg.), Die Räume der Milieus, Berlin.
– (2002) (Hg.), An den Rändern der deutschen Hauptstadt, Opladen.
Park, Robert (1967), The City (1925), Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment, reprinted in: Park, Robert/Burgess, Ernest, The City, Chicago, p. 1 – 46.
Schütz, Alfred (1971), Wissenschaftliche Interpretationen und Alltagsverständnis menschlichen Handelns // Schütz, Alfred, Gesammelte Aufsätze Bd.1, Den Haag, S. 3 – 54 [рус. изд.: Шюц, Алфред (2004), Обыденная и научная интерпретация человеческого действия // Избранное: Мир, светящийся смыслом, Москва, с. 7 – 51. – Прим. ред.].
Siebel, Walter (1987), Vorwort zur deutschen Ausgabe // Saunders, Peter (Hg.), Soziologie der Stadt, Frankfurt am Main, S. 9 – 13.
Simmel, Georg (1957), Die Großstädte und das Geistesleben (orig. 1903) // Landmann, Michael/Susman, Margarete (Hg.), Brücke und Tür. Essays des Philosophen zur Geschichte, Religion, Kunst und Gesellschaft, Stuttgart, S. 227–242 [рус. изд.: Зиммель, Георг (2002), Большие города и духовная жизнь // Логос, 2002, № 3(34), с. 1 – 12. – Прим. пер.].
Soja, Edward (1996), Thirdspace, Oxford.
Somm, Irene (2005), Lokale Zugehörigkeit und Status. Zur Analyse von Statusunsicherheiten in urbanen Mittelklassemilieus, Dissertation, Gießen.
Stichweh, Rudolf (2000), Die Weltgesellschaft, Frankfurt am Main.
Urry, John (2000), Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century, London.
Waldenfels, Bernhard (1989), Lebenswelt zwischen Alltäglichkeit und Unalltäglichkeit // Pöggler/Jamme (Hg.), Phänomenologie im Widerstreit. Zum 50. Todestag Edmund Husserls, Frankfurt am Main.
– (1994), In den Netzen der Lebenswelt, 2. Aufl., Frankfurt am Main.
– (2007), Topographie der Lebenswelt // Günzel, Stephan (Hg.), Topologie.
Zur Raumbeschreibung in den Kultur – und Medienwissenschaften, Bielefeld, S. 69–84.
Wirth, Louis, (1974), Urbanität als Lebensform // Herlyn, Ulfert (Hg.), Stadt und Sozialstruktur, München. S. 42–67 [рус. изд.: Вирт, Луис (2005), Урбанизм как образ жизни // Избранные работы по социологии, Москва, с. 93 – 119. – Прим. ред.].
Структуры собственной логики: различия между городами как концептуальная проблема Мартина Лёв
Он уже ощущал себя его братом по молчанию и печали; этот исполненный боли Брюгге был ему братом, frater dolorosus. О, как хорошо он сделал, что переехал сюда в дни своей великой скорби! О молчаливое родство! Взаимное проникновение души и вещей! Мы проникаем в них, а они в нас.
Особенно у городов есть личность, есть свой дух, есть выраженный и неизменный характер, который соответствует радости, юной любви, воздержанию, вдовству. Каждый город – это состояние души, и едва приезжаешь в него, как это состояние передается тебе и переходит в тебя; оно словно флюид, который вводится под кожу, который мы вдыхаем с воздухом.
Жорж Роденбах, “Мертвый Брюгге”, 1892Проявления различий между городами у всех на устах. Со времени выхода книги “Creative Cities” Ричарда Флориды (Florida 2005) любой мэр знает, что в конкуренции городов главное – это три “Т” (ср. речи глав городов на их страницах в интернете): Технология, Талант, Толерантность. После того как журнал “Шпигель” (Spiegel № 34, August 2007: 98ff.) в материале под заголовком “Что делает города привлекательными” описал и прокомментировал конкуренцию городов за креативный класс, в феврале 2008 г. газета “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” опубликовала результаты проведенного по ее заказу агентством “Roland Berger Strategy Consultants” исследования “индекса креативности-2008”, которым измерялась конкурентоспособность нескольких больших городов ФРГ (в качестве релевантных для анализа были отобраны Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Кёльн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне, Нюрнберг, Мангейм, Штутгарт и Мюнхен).
По итогам этих публикаций журналисты и общественность обсуждали важные вопросы, касающиеся различий между городами, – например, почему жители Франкфурта не создали, подобно жителям Кёльна, репертуара песен о своем городе и почему они не хвастаются, как кёльнцы, сортами местного пива. Может ли быть такое, что Кёльн как город рисует себя в качестве региональной единицы (ср. карнавальные песни вроде “Hey Kölle, du bes a Jeföhl” – “Эй, Кёльн, ты – чувство”), в то время как Франкфурт-на-Майне рассматривает себя как узел в глобальном потоке? Дебаты подобного рода указывают на то, что здесь есть поле для работы социологической урбанистики. До сих пор она не занималась вопросом, как исторические “отложения” в таком образовании, как “город”, пересекаются и переплетаются с политикой различий и создания сетевых структур, а также с установлением релевантности на различных масштабных шкалах.
На специально созданном газетой “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” сайте, посвященном этому исследованию (, 26.08.2008), можно было голосовать за города. В составлении этого общественного рейтинга за три недели приняли участие 5000 человек. Главы городов Мюнхена и Берлина, Кристиан Уде и Клаус Воверайт, тоже не сочли пустой тратой времени специальную встречу-поединок, где они спорили о достоинствах и недостатках каждого из двух городов (München-Magazin 2007: 15ff.). Приурочена эта встреча была к 850-летию Мюнхена, по случаю которого город, как утверждалось на титульном листе журнала “München-Magazin”, “изобретал себя заново”.
Существует обширное обыденное знание о “характере” городов, и оно публично обсуждается главным образом в газетах и журналах. Чуть ли не ежедневно можно прочесть в прессе нечто подобное:
В Германии есть три типа городов: такие города, как Мюнхен, в которых много зарабатывают, но много и тратят; достаточно одного взгляда на кафе, магазины и спортивные автомобили на Максимилианштрассе, чтобы никаких сомнений в этом не осталось. Далее, существуют города, в которых денег почти вовсе не зарабатывают, но тем решительнее пускают эти несуществующие деньги на ветер: например, Берлин. И есть Франкфурт – город, в котором зарабатывают несметные деньги и почти ничего не тратят (Merian Frankfurt Heft 9, 2003: 136).
Или: “Мюнхен слишком чмоки-чмоки, Гамбург слишком холодный, Кёльн слишком голубой, значит остается Лейпциг” (Süddeutsche Zeitung 17./18. März 2007: III). И наконец: “Города – как люди. Кёльн – это веселый собутыльник, Берлин – небритый поэт, знаменитый в узких кругах, Амстердам – рыжая обкуренная подруга” (Spiegel Online 13. Juli 2007). В “Frankfurter Allgemeine Zeitung” сообщают маленькой заметкой, а в “Zeitmagazin Leben” (№ 32, 02.08.2007: 7) даже печатают карту – в каком городе какие запросы чаще всего вбивают в поисковую строку “Google”:
Такие понятия, как “меланхолия”, “лень” и “культура”, в Германии нигде не вводят в “Google” чаще, чем в Берлине. Мюнхенцев, если судить по этому признаку, особенно интересуют “карьера”, “прибыль”, “спорт” и “радость”. Гамбуржцы впереди всех по запросам “желание”, “удовольствие”, “высокомерие” и “ненависть”. […] По словам “измена” и “страсть” чаще всего ведут поиск из Аугсбурга. “Поцелуй” чаще всего хотят найти жители Ульма, а “секс” – люди, живущие в Оснабрюке (Frankfurter Allgemeine Zeitung 3. August 2007: 7).
Градостроительное планирование тоже держится на том, что вычленяет особенности города и вырабатывает предложения по организации городского пространства, ориентирующиеся на них. При этом планировщики нередко исходят из того, что процесс выявления особенностей – c точки зрения стратегий, направленных на достижение максимальной узнаваемости и раскрытие собственных потенциалов, – следует проанализировать в первую очередь, чтобы на его основе разрабатывать подходящие индивидуальные решения для городов. Глава городского строительного ведомства г. Бонна Зигурд Троммер весьма отчетливо формулирует это в исследовательской программе “Город 2020”, которая в 2000 г. была выпущена Федеральным министерством образования и науки ФРГ: “В городском организме заключено несметное количество талантов и опыта” (Trommer 2006: 37), пишет он и приходит чуть ниже к выводу: “Шансы города – в его таланте быть узнаваемым” (Trommer 2006: 42). Семь из 21 проекта, одобренного в рамках этой программы, были посвящены “городской идентичности” (такова выбранная в них формулировка), и это поначалу оказалось неожиданностью для отборочной комиссии. “В этих проектах доминировали вопросы и проблемы городской культуры, городских традиций, самопонимания города и его населения” (Göschel 2006: 15).
Подчеркивание – или (как писали о Мюнхене по случаю его юбилея) изобретение заново – чего-то “своего”, особенного стало считаться первоочередной задачей городов. Растущее число книг в жанре биографии города (Mak/de Keghel 2006; Richter 2005; Large 2002; Elze 2000; Hürlimann 1994; Hibbert 1987; von Bechtoldsheim 1980) – красноречивое свидетельство поисков этого “своего”.
Нижеследующая статья подходит к феномену выявления особенностей городов с социологической точки зрения. Хотя в общественных науках сформировалась мощная традиция, в которой интерес к феномену города сосредоточивается на условиях жизни в городах и на значении городов для развития общества (подробно см. Berking/Löw 2005), здесь внимание будет обращено на те элементы дискуссии, которые подготовили появление социологической урбанистики, описывающей характеры городов. Основной вопрос – как социология может предложить такую перспективу для будущего эмпирического изучения городов, с точки зрения которой различия между ними будут рассматриваться не только как относительные конкурентные преимущества одного города перед другими в бизнесе и не только как результат имиджевых кампаний, но еще и как структуры воспроизводства собственных логик городов (далее эта перспектива будет называться “социологией городов”). Для достижения этой цели вначале на примере результатов одного британского исследования будет показана необходимость и возможность такого взгляда на подобного рода структуры собственной логики, а затем будет предложено структурно ориентированное концептуальное понятие “собственная логика”.
Локальные структуры чувствования: Манчестер и Шеффилд
Группа британских исследователей в составе Йена Тейлора, Карен Эванс и Пенни Фрейзер опубликовала в 1996 г. сравнительную работу о Манчестере и Шеффилде. В центре их внимания находилась разница между путями развития этих двух городов в том, что касалось повседневных практик. За этим выбором фокуса стояло, как пишут авторы, убеждение, к которому они пришли под влиянием Дорин Мэсси: “Даже в наше время глобализации все еще имеет смысл видеть локальные культурные различия между городами […] и считать, что они обладают социологической значимостью, возобновляемыми культурными источниками происхождения и влиянием” (Taylor et al. 1996: XII).
Через сравнение локальных практик двух североанглийских промышленных городов в этом исследовании показано, как по-разному они справлялись с упадком, постигшим их в постиндустриальную эпоху. Если Манчестер справился с проблемой благодаря “культуре трансформации” и открыл для себя новые перспективы через изменение структуры занятости и мегапроекты вроде “Игр Содружества”, то Шеффилд застыл в ностальгии по утраченному индустриальному величию. Авторы объясняют это различие сложившимся в каждом из двух городов каноном рутинных, вошедших в привычку практик (об этом исследовании см. также Lindner 2005: 64). Используя такой инструмент, как фокус-группы, исследователи опросили представителей самых разных социальных сред.
Идея заключается в том, что во взаимодействии групп формируется некая структура, которая открывает для городов одни пути в будущее и закрывает другие. Ученые пытаются реконструировать текстуру повседневной жизни, беседуя с группами молодых профессионалов, безработных, детей и молодежи, стариков, представителей этнических меньшинств, а также геев и лесбиянок. Два фокуса исследования – организация общественного транспорта в городе и шопинг. В обоих случаях Тейлора и его коллег интересует сравнение как на уровне градостроительного планирования (досягаемость, количественные показатели, расположение), так и на уровне опыта различных социальных групп в этих областях жизни. Тезис исследователей таков: если существует структура, которая пронизывает весь город, подобно хребту, то она должна прощупываться во всех социальных группах и быть доступной для анализа в организации общественной жизни.
Результаты исследования в самом деле впечатляющие. У этих двух городов много общего. Оба называют себя “северными” (“Northerness” – Taylor et al. 1996: 73), рассматривая это как свой отличительный признак; оба пережили постепенный процесс упадка промышленного производства с быстрым сокращением числа рабочих мест. В обоих городах еще жива память о разрушениях, причиненных немецкими ВВС во время Второй мировой войны, и о страхе, испытанном во время бомбежек: это одна из граней такой практики памяти, которая не позволяет жителям помыслить историю собственного города как непрерывное движение к благосостоянию и успеху. В Великобритании условия жизни североанглийского рабочего класса, его страдания в связи с закатом индустрии и его попытки устроить жизнь заново стали сюжетом множества телесериалов, поэтому и в Манчестере, и в Шеффилде рассказы об этом являются одинаково хорошо отточенной нарративной практикой. Однако Манчестеру, который временами доходил до того, что его называли Gunchester, удалось добиться такого успеха в создании новых, развивающихся отраслей – информатики, спорта и культуры, – что в 2003 г. Евросоюз присудил ему премию за лучшую структурную трансформацию европейского большого города. Йена Тейлора, Карен Эванс и Пенни Фрейзер интересовало не столько то, как объяснить эти различия в культуре успеха, сколько – в чем проявляется эта разница.
Неожиданным выводом, к которому они пришли, было то, что потенциал города оказывается заметным в деталях. Так, у обоих городов после дерегуляции общественного транспорта, а также в проектах новых торговых центров обнаруживаются недостатки в обеспечении доступности зданий и сооружений для инвалидов-колясочников и людей с детскими колясками. Однако в Манчестере есть как минимум один большой торговый центр, который в фокус-группах хвалят за безбарьерную среду и за наличие такого сервиса, как коляски для инвалидов, предоставляемые в парковочных зонах.
Это капитальная разница – может ли человек участвовать в жизни на огромной части городского пространства или же он лишен возможности совершать покупки, возникает ли впечатление, что при перестройке учитываются чьи-то потребности кроме большинства, – или нет. “То, как осуществляется шопинг в этих разных городских пространствах, играет ключевую роль в личном ощущении граждан от своего города” (Taylor et al. 1996: 160). Различается и отношение к нищим. В Манчестере попрошайничество, а значит и бедность, не скрыты от глаз, пишут Тейлор, Эванс и Фрейзер: там встречи богатых с бедными в городском центре – повседневное явление. В Шеффилде же про бедноту знают, но с нею практически не пересекаются. Манчестер сегодня считается Меккой геев и лесбиянок. В городе имеется “Gay Village”, т. е. отдельное пространство с целым рядом баров и ресторанов, ориентированных на гомосексуальное сообщество. В этом Манчестер сумел составить конкуренцию центру, т. е. Лондону. Субкультура ЛГБТ здесь считается привлекательной и разнообразной, но вместе с тем более дружелюбной и менее анонимной, чем в Лондоне, поэтому она привлекает молодых мужчин и женщин (причем не только геев и лесбиянок: живая субкультура ЛГБТ считается признаком толерантной среды и тем самым притягивает очень разные группы). В Шеффилде процент небелого населения ниже среднего по стране, в Манчестере на момент проведения исследования он был более чем вдвое выше (12,6 %). Правда, с одной стороны, можно и нужно сказать, что расизм и страх являются важнейшими темами дискурса и частью повседневного опыта преимущественно в Манчестере; но, с другой стороны, именно присутствие в этом городе различных групп населения дает возможность воспринимать его как город космополитичный и интернациональный, как одновременно мировой перекресток и “столицу Севера” (Taylor et al. 1996: 205).
Может быть, самым лучшим инструментом для анализа логики города могут служить беседы с пожилыми людьми. В обоих городах ностальгия – одна из тем разговоров в этих группах, однако в Шеффилде она гораздо ярче выражена. Здесь горюют не о людях, не о местах, а о временах. В групповых дискуссиях то и дело звучат воспоминания о городе, где делали сталь и столовые приборы, и это притом, что большинство участников сами никак с этими отраслями связаны не были (Taylor et al. 1996: 247). Шеффилд воспринимается как город, в котором раньше жить было лучше. В Манчестере оценка гораздо противоречивее. Для старшего поколения там имеется значительно больше сетей социальных связей и предлагается более активная социальная жизнь, которая затмевает прошлое и заставляет видеть настоящее в более позитивном свете. В фокус-группах с молодежью разница очевидна. Манчестер воспринимается молодыми как город, который переживает перелом и который можно охарактеризовать как уникальный, тогда как Шеффилд они видят прежде всего через призму прошлого и траура по утраченному потенциалу. Манчестер предстает юным городом на Севере, Шеффилд – среднестатистическим. В Шеффилде доминирует знание об утрате, в Манчестере – ощущение, что решения проблем (индивидуальные) можно найти.
Чтобы описать разнообразные структурные логики городов, Тейлор, Эванс и Фрейзер используют выработанное Р. Уильямсом (Williams 1965; 1977, особ. p. 132ff.) понятие “структур чувствования” (“structures of feeling”). Под ним Уильямс понимал закрепившийся культурный характер некой социальной формации, который проявляется через рутинные и считающиеся само собой разумеющимися социальные практики. Уильямс объединяет целый набор находящихся в различных отношениях друг к другу, переплетенных и интенсивных видов опыта понятием чувства, или чувствования, чтобы постичь смыслы и ценности как проживаемые и чувствуемые. Структуры чувствования – это “характерные элементы побуждения, сдерживания и тона”, это “специфически аффективные элементы сознания и отношений” (Williams 1977: 132). Структура чувствования – не антоним структуры мышления, идеологии или мировидения; это понятие призвано подчеркнуть, что мы чувствуем мысли и мыслим чувства. Уильямс ищет характерные качественные особенности социального опыта и отношений, которые исторически сложились в специфической форме, осмыслены и сформулированы для будущих поколений в дефиниции “практическое сознание сегодняшнего типа, во всей его живой и взаимосвязанной преемственности” (Williams 1977: 132). Эту структуру чувствования Тейлор, Эванс и Фрейзер интерпретируют как “local structures of feeling”, чтобы категоризировать специфическую для каждого города, отличимую от других городов, латентную социальную структуру, которая воспроизводится практически-осознанно, т. е. с применением знания, в том числе телесно-эмоционального, которое действующие субъекты используют в повседневной жизни, не подвергая сознательной рефлексии (о практическом сознании см. также Giddens 1988).
В отличие от других исследований, в которых делается попытка сравнивать города через изолированные тематические поля – такие, например, как сети политологов и их влияние на процессы принятия решений (см., в частности, статью Циммермана в этом сборнике) или история возникновения и т. д., – исследование Тейлора, Эванс и Фрейзер подкрепляет подозрение, что в функционировании городов собственные логики играют гораздо более фундаментальную роль. Это означает, что у города существуют базовые структуры, пронизывающие все сферы его жизни. Они не обязательно уникальны – наоборот, вполне вероятно, что есть несколько городов, которые развиваются по таким же структурным моделям, что и Шеффилд или Манчестер. Однако работа Тейлора, Эванс и Фрейзер указывает урбанистике новый путь – путь поиска тех структурных моделей, которые в качестве “эффекта места” пронизывают действия всех социальных групп и впоследствии могут вылиться в типологию или по крайней мере в поиск черт семейного сходства между городами.
“Собственная логика городов” как рабочее понятие
Итак, в отличие от посвященных городам рыночных исследований, которые все еще сильно сосредоточены на акторах и решениях, социологические (см. также Berking е.a. 2007) и культурно-антропологические (Abu-Lughod 1999; Lindner/Moser 2006) указывают на то, что в городе существуют структуры, которые влияют на деятельность независимо от конкретных акторов. Обнаруживаются типичные паттерны действия, повторяющиеся в истории каждого города, при том что группы акторов меняются (Lindner/Moser 2006; см. также Роденштайн в этом сборнике). Обнаруживается, что, несмотря на сравнимые исходные условия, пути развития городов бывают различны (Taylor et al. 1996), и очень сильно различаются преобразования и формы практик, связанные с проблемами общенационального масштаба (Abu-Lughod 1999; см. об этом также Berking/Löw 2005).
Теперь необходимо понять эти структуры применительно к тому или иному конкретному городу. В другом месте (Löw 2001: 158ff.) я уже писала о том, что, критически интерпретируя Энтони Гидденса (Giddens, 1988), я понимаю структуру как правило и как ресурсы, которые рекурсивно вовлечены в институты. Правила эти относятся к конституированию смысла или к санкционированию действия. Они включают в себя – вплоть до кодификации – процедуры процессов торга и переговоров в социальных отношениях. Ресурсы – это “средства, с помощью которых осуществляется власть как рутинная составляющая поведения в процессе социального воспроизводства” (Giddens 1988: 67). Следует различать ресурсы распределяемые, т. е. материальные, и авторитативные, т. е. символические и относящиеся к людям. Структуры (во множественном числе) представляют собой поддающиеся вычленению совокупности этих правил и ресурсов. Структуры, в отличие от общественной структуры (в единственном числе), обнаруживают зависимость от места и времени. Концептуально надо исходить из того, что ресурсы и правила (и в этом смысле – структуры) действительны только для конкретных мест.
Деятельность и структуры связаны друг с другом – Энтони Гидденс выразил это понятием “дуальности структуры и деятельности”, или, короче, “дуальности структуры”. Говоря об этой дуальности, он подчеркивает, что “правила и ресурсы, вовлеченные в производство и воспроизводство социального действия, в то же самое время являются средствами системного воспроизводства” (Giddens 1988: 70; ср. Wacquant 1996: 24, который тоже резюмирует “двойную жизнь” структур в теоретизировании Бурдье).
Когда Хельмут Беркинг подчеркивает “конгруэнтность пространственных форм и привычных диспозиций” (см. Беркинг в этом сборнике), он отправляется именно от этой базовой идеи – что структуры (в данном случае пространственные структуры) находят свое выражение и свою реализацию в практике телесной деятельности. Однако Беркинг указывает на то, что не только какие-то правила превращаются в привычные, но что вообще при построении концепций надо исходить из специфических для каждого города структур, которые выражаются в деятельности. Точно такую же позицию отстаивает и Франц Бократ (см. Бократ в этом сборнике). Апеллируя к Пьеру Бурдье, он выступает за такую социологическую стратегию, которая изучала бы действия в их практическом, телесном смысле. Если по поводу действий задавать вопросы не о логике волевого решения, а об их практической логике, то в поле нашего зрения попадают пространственные и временные условия деятельности. Если жесты, привычки, действия или суждения понимать как выражения практического смысла, то эти жесты, привычки, действия и суждения развиваются и разворачиваются в том числе и в зависимости от такого контекста образования общества, как город. Ларс Майер (Meier 2007) эмпирически выявил это “вписывание в контекст” на примере деятельности сотрудников немецких финансовых институтов в Лондоне и Сингапуре.
На уровне индивидов категорию габитуса, “практический смысл” (Bourdieu 1993, например S. 127) в смысле специфичной для того или иного поля схемы восприятия, оценки и действия (ср. Bourdieu/Wacquant 1996: 160; Krais/Gebauer 2002: 37), Франц Бократ считает схемой, специфичной и для каждого города. На уровне города, если следовать аргументации Хельмута Беркинга (тоже ссылающегося на Бурдье), зависимость схемы восприятия, оценки и действия от контекста может пониматься как “докса”.
С помощью пары понятий – 1) “городская докса” как структурно закрепленная посредством правил и ресурсов провинция смысла, логика которой базируется на уплотнении и гетерогенизации, и 2) “габитус” как практический смысл и чувство этого места и как специфичная для этого места схема оценки, восприятия и действия – может быть концептуально задана рамка, в которой поддаются анализу процессы городского образования общества в соответствии с собственной логикой.
Итак, с помощью понятия “габитус” операционализируется именно тот регион доксы, который относится к восприятию качеств места или вписывает качества того или иного города в плоть человека (более быстрая или более медленная ходьба в том или в этом городе, различные практики “показывания себя” во время прогулки воскресным днем или corso ранним вечером и т. д.). Докса же обозначает структуры городского смыслового контекста, который артикулируется в правилах и ресурсах, имеющих место в данном городе, и таким образом реализуется как в речи, так и в архитектуре, технологиях, градостроительном планировании, общественных организациях и т. д. Пара понятий “докса”/“габитус” предполагает структурированную социальность и сосредоточивает внимание на структурах конкретного населенного пункта.
Выражение “собственная логика” в этом контексте имеет характер рабочего понятия (о собственной логике см. также Геринг, Янович и Циммерман в этом сборнике). При этом не имеется в виду, что за динамическими городскими процессами стоит некая логика в смысле рациональной закономерности: понятие “собственная логика” праксеологически охватывает скрытые структуры городов как идущие по накатанной дорожке, обычно безмолвные, локальные дорефлексивные процессы конституирования смыслов (докса) и их телесно-когнитивного усвоения (габитус). Под конституированием смысла в данном случае понимается не тот смысл, который субъективно имеет в виду каждый индивид, а некая реальность, которая не объяснима отсылкой к индивиду и его поступкам, и потому ее нужно описывать как действующую по собственной логике. Понятие “собственная логика” намекает на определенное преломление: нечто общее (логика) в смысле урбанизации, уплотнения, гетерогенизации образует на местах специфические своеобразные связи и композиции. Так, например, законы о профессионализации проституции толкуются в Дуйсбурге иначе, нежели в Мюнхене. Не только карнавал проходит в Кёльне иначе, чем в Берлине, но и импортированные из США парады геев и лесбиянок “Christopher-Street-Day” (CSD) превращаются в Берлине на Курфюрстендамм в демонстрацию потребительских благ, в берлинском районе Кройцберг – в политические манифестации, во Франкфурте заметным акцентом в них становится траур по умершим от СПИДа, а в Кёльне это еще один карнавал.
Понятие собственной логики городов имеет синхронный и диахронный аспекты. Своеобразие развивается как на основе рассказов и опыта, связанных с историей, так и на основе сравнения с подобными образованиями, т. е. с другими городами. Понятие “собственная логика города” подчеркивает и своеобразие развития конкретного города, и вытекающую из этого развития творческую силу, с которой он структурирует практику. Это понятие подчеркивает устойчивые диспозиции, которые связаны с социальностью и материальностью городов. Поэтому собственную логику невозможно описать как когнитивный акт. Она складывается и закрепляется на основе практического знания. Это значит, что в рутинных актах классификации, в привычной практике чувствования (здесь я чувствую себя хорошо, там я чувствую себя чужим), в телесном расслаблении и напряжении, в раздражении или радости по поводу материальной субстанции эта логика реализуется во взаимодействии с процессом уплотнения и воспроизводится в виде исторически сложившихся структур и в институционализированном сравнении.
Отсюда можно заключить, что города как места являются специфичными и делаются специфичными. Города в своем качестве конкретных мест по необходимости “связаны с закрепленной в традициях и преданиях, в памяти, в опыте, в планах или в фантазиях локализацией конкретной деятельности (а потому и воспоминания)” (Rehberg 2006: 46). Через специфические для каждого места практики возникают локальные пути, нарративы и стратегии, посредством которых своеобразие переживается, создается и воспроизводится. Пьер Бурдье (Bourdieu 1997: 159ff.) говорил об “эффектах места”: существуют интерпретативные паттерны, практики и констелляции власти, которые в “этом” месте обнаруживают более высокую убедительность, чем в “том”. Сказать так – не значит детерминистски утверждать, будто пространство вынуждает людей к определенному поведению: места, как феномены социально сконструированные, обретают собственную логику, и она оказывает воздействие на паттерны опыта людей, живущих там. Эта мысль уже высказывалась в самых разных теоретических концепциях, но не получала систематического дальнейшего развития. Так, например, японский философ Китаро Нисида (Nishida 1999, оригинал 1926) выдвинул предположение, что индивидуальное сознание и отношения опосредованы местом. Вопрос о действии, которое оказывают на людей места, ставился и в материалистических трудах Пьера Бурдье (Bourdieu 1997), усматривавшего в логике места воспроизведение социального неравенства, и в концепции “социальной логики пространства” (Hillier/Hanson 1984; Hillier 2005), с помощью которой в интересах социального планирования проводятся исследования в зданиях и городах, призванные выяснить, как процессы, предусматривающие передвижение, управляются (или могут управляться) посредством пространственных конфигураций.
Подобного рода концепции ставят вопрос о том, какое влияние формы застройки, архитектура, геологические и климатические различия или материализованные социальные констелляции оказывают на паттерны действия и восприятия. Накладывает ли северогерманский кирпичный квартал на восприятие городской жизни (естественно, возникающее под действием культурных интерпретативных паттернов) иной отпечаток, нежели берлинские доходные дома, франконские фахверковые домики или саксонские панельные микрорайоны? Меняется ли восприятие города, если при взгляде на дисплей банкомата лейпцигской сберегательной кассы человек узнаёт, что минимальная сумма, которую он может тут снять, составляет 10 евро, тогда как во Франкфурте или в Мюнхене – 50? Своеобразное развитие города можно – таково мое предложение, основывающееся на этих размышлениях, – социологически изучать как специфичное для данного места и переживаемое в опыте специфичным для данного места образом. Оно не представляет собой индивидуального и потому не поддающегося обобщению качества, существующего лишь в восприятии, но не есть и лишь продукт капиталистических структур. Скорее, можно сказать, что существует ставшая рутинной и привычной практика (в праксеологическом смысле – как структурированные и структурирующие действия), которая осуществляется специфичным для каждого места образом, связанным с историческими событиями, материальной субстанцией, технологическими продуктами, культурными практиками, экономическими или политическими констелляциями и их взаимодействием. Интерпретации той материальности, которая маркирует различия, а также политические и экономические констелляции и т. д. раскрываются из сравнения и соотнесения с историей.
Можно, конечно, возразить – особенно если референтной точкой аргументации служат работы Пьера Бурдье, – что опыт города дифференцирован и специфичен для каждой социальной среды и что не бывает какого-то одного, определенного, “ощущения”, “восприятия” или “истолкования”. Я не могу и не хочу ставить это под вопрос, а только выдвину гипотезу, что развитие городов, различное вопреки структурно сопоставимым условиям, можно интерпретировать только если исходить из того, что специфичные для социальных сред (или гендерно-специфичные) формы практики одновременно подвержены определяющему воздействию некой городской структуры, пронизывающей их. Вот один пример: таксисты отличаются как социальная среда от преподавателей высшей школы, но тем не менее представляется очевидным, что таксисты в Берлине вырабатывают иные паттерны поведения, нежели таксисты в Штутгарте. В том, что касается преподавателей вузов, влияние города, возможно, ослаблено постоянными разъездами, но анализ городских культур мог бы дать интересные результаты и в этом случае. Мое предположение, которое еще ждет своей эмпирической проверки, но подкрепляется, например, данными аналитического исследования Тейлора, Эванс и Фрейзер (Taylor/Evans/Fraser 1996), заключается в том, что представители самых разных социальных сред одного города – таксисты, преподаватели вузов, танцовщицы, священники и т. д. – формируют некие общие практики.
Если постулировать, что существует поддающаяся реконструированию интерпретативная единица “город”, то это не значит, что исключаются субкультурные или резистентные логики и практики. Скорее, исходить надо из того, что собственная логика того или иного города, с одной стороны, настолько доминантна, что оказывает действие даже на субкультуры (так, например, берлинское студенческое движение значимым образом отличалось от франкфуртского или фрайбургского), но, с другой стороны, практическое приложение принципов “собственной логики” дифференцируется в зависимости от специфики социальной среды, пола, возраста и национальности. Фундаментальная идея такова: когда люди регулярно реагируют на социальные вызовы одинаковым, т. е. рутинным, образом, возникают институционализированные и входящие в привычку практики, релевантность которых может быть специфичной для данного места.
Таким образом, собственную логику городов нельзя объяснить, как имиджевую кампанию, отдельными поступками индивидов. Ни бургомистерше, ни пиарщику, ни директорам банков не удастся в одиночку задать характер города как пространства опыта. В рутинизированной и институционализированной практике уплотнение и разграничение, конструкции своеобразия и единообразия могут рассматриваться как специфическое для данного места и тем отличающееся производство смыслов, в котором участвуют самые различные общественные группы. При этом каждая группа в своих действиях должна пониматься и как сопроизводитель собственной логики города, и как продукт специфичного для данного города смысла.
Взаимосвязанность городов
Структуры собственной логики вырастают, как уже было сказано, не только из практически заученного, т. е. в историческом плане, – но и в пространственном плане, иными словами, из одновременных процессов развития других городов. Этот вывод следует принципу, сформулированному Бурдье: “Я должен убедиться, не встроен ли объект, который я решил изучать, в сеть отношений, и не обязан ли он своими свойствами в значительной мере этой сети отношений” (Bourdieu 1996: 262). Поэтому к будущему эмпирическому изучению характерных структур городов должно предъявляться требование рассматривать их собственную логику как практику, которая, как любая стратегия обособления, встроена в деятельность по поддержанию отношений.
До сих пор все исследования, посвященные специфическим структурам в городах, обнаруживают тенденцию к тому, чтобы искать объяснение динамик развития прежде всего в истории. Это относится, например, к Taylor 1996 и к Berking u.a. 2007. Что пока отсутствует – и что гораздо сложнее и дороже изучать, – это реляционная система связей, которая и формирует своеобразие городов. Города встроены в сеть объективных связей, которые, во-первых, обеспечивают системы сравнения и тем самым участвуют в структурировании развития города, а во-вторых, делают развитие – особенно в условиях глобализации, т. е. нарастающей плотности связей и зависимостей, – объяснимым не только через фактор места. Структура места в этом смысле представляет собой еще и результат процессов, протекающих в других местах. Поэтому собственная логика в рамках социологии городов не может быть концептуально намечена без практик отграничения от других городов и установления связи с другими городами в локальном, национальном и глобальном масштабе (включая практику побратимства между городами, рейтинги городов и т. д.). Для описания этого вводится понятие взаимосвязанности. Выражение “взаимосвязанность городов” подчеркивает то обстоятельство, что собственная логика каждого города всегда объясняется не только историей, но и сравнением с одновременными и изоморфными образованиями, через установление связи с ними. Это звучит почти банально, но об этом мало задумываются: связь устанавливается между одним городом и другими городами, а не деревнями, фирмами, университетами, однако знание об отграничении от других городов и отсылках к ним остается столь же спорадическим и фрагментарным, как и знание процессов развития, следующих собственной логике городов. Систематику еще только предстоит изучить.
Если следовать Георгу Зиммелю, то изучение синхронных связей и отношений покажется более чем естественным. Зиммель обратил внимание на то, что понятие места описывает не что-то вещественное, а “форму отношений” (Simmel 1995: 710). То, как развивается город, зависит от того, каких успехов добиваются другие релевантные города. Франкфурт-на-Майне потому может так эффективно изображать американизированный город, что Кёльн, Берлин, Гамбург и Штутгарт этого не делают. Однако чтобы иметь возможность и дальше играть в этой лиге больших городов, Франкфурту приходится инсценировать открытое отношение к гомосексуальности, раз это делают все остальные. Эта взаимосвязанность городов еще почти не изучена. Методологическая проблема, заключающаяся в том, чтобы социальные феномены – т. е. в данном случае города – мыслить на разных уровнях масштаба, отсылает нас к необходимости искать различные региональные, национальные и глобальные системы отношений между городами, причем вполне возможно, что не во всех городах все уровни обретут релевантность. Кроме того, взаимозависимость, по-видимому, различается по значимости порядков. Конкурентами одного города являются другие – независимо от того, оказывается ли в фокусе внимания культура или экономика (это две самых сильных упорядочивающих системы).
Корпус знаний, накопленных сравнительной урбанистикой, на сегодняшний день включает в себя и детально проработанные сравнительные исторические исследования, и сложные количественные сравнительные исследования, особенно посвященные крупным городам, встроенным в глобальные сети связей. Отправляясь от идей Саскии Сассен (Sassen 1996), ученые – например, Beaverstock/Smith/Taylor 1999 – провели эмпирический анализ связей 122 городов, учитывая места расположения штаб-квартир фирм мирового значения, предлагающих услуги для бизнеса: бухгалтерский учет, рекламу, банковские услуги, делопроизводство предприятий. Из этих городов 55 получили титул “Global City”, причем было сделано различие между “мировыми городами” типов “альфа”, “бета” и “гамма”: 10 городов по степени включенности составили группу “мировые города альфа” (все – в глобализованных регионах роста: Северная Америка, Европа, Юго-Восточная Азия). Если сравнить этот список с расположением предприятий медиа-индустрии при тех же стратегиях анализа данных – следуя постулату, что выбор места для штаб-квартиры в этой отрасли определяется расположением локальных центров культурного производства (ср. Krätke 2002), – то обнаружатся пересечения со списком “мировых городов альфа” (Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон и Мюнхен), но в сеть по критерию культуры интегрированы Амстердам и Париж, которые выпадают по критерию взаимосвязанности услуг для бизнеса. Сравнения социальных структур (см. также Patrick Le Galès 2002) существуют во множестве, но наряду с рейтингами городов по количественным показателям, где города соотносятся друг с другом прежде всего по критерию экономической мощи (см. рейтинг FAZ в области науки, а также Parkinson et al. 2004; Hutchins/Parkinson 2005; Beaverstock et al. 1999), недостает исследований, следующих сетевой логике из практики. Еще ждут своего исследователя вопросы о том, какие другие города заслуживают рассмотрения как конкуренты и от чего зависят форматы сравнения, т. е. как сравнения вплетаются в структуру собственной логики городов. Практически не существует исследований, ставящих себе цель при характеристике городов выявить сходства в их развитии или, тем более, выстроить их типологию.
Таким образом, в методологическом отношении сравнение городов приобретет большее значение и в социологии, причем это будет такое сравнение, которое не столько указывает на сходство между городами по отношению к чему-то третьему, сколько сравнивает их сами по себе. Ради этого придется для начала удовлетвориться указанием на принципиальную сравнимость того, что имеет общую форму “города” и обладает такими качествами, как наличие границ, гетерогенность и плотность, пока структура собственной логики не будет точно определяться эмпирическим путем. Ведь цель сравнения на первом этапе именно в этом и заключается: достичь понимания характера плотности и способа замыкания, следующего принципам собственной логики (о базовых принципах сравнения см. Haupt/Kocka 1996; Kaelble 1999; о плотности – Беркинг в этом сборнике).
Когда мы исходим из сравнимости на основе общей пространственной формы – т. е. изучение собственных логик городов основывается не на допущении, что с какой-то точки зрения (например, с точки зрения экономики, политической истории и т. д.) они “одинаковы”, а на работе с одним и тем же исходным вопросом и со сравнимым инструментарием, – то социология городов, выстроенная таким образом, будет реагировать и на критику, высказываемую в адрес субстанциалистского мышления компаративистов (см. особенно Nadler 1994). Путем такого конституирования объекта исследования, которое встраивает его в сеть отношений, принимая в расчет глобальные потоки и процессы обмена, мы все больше и больше подвергаем сомнению предположение о наличии общих фундаментальных черт как предпосылку для сравнения. Вместо этого под лозунгом “comparative consciousness” мы подчеркиваем, что предпосылкой для компаративного исследования являются общие вопросы, открывающие доступ к объекту, и общий инструментарий. Адекватным поэтому будет подход, ориентированный на конкретные случаи, кейсы (в отличие от подхода количественного, проверяющего гипотезы: ср. Schriewer 2003: 30). Строить типологию городов – значит постигать города через их внутренние смысловые взаимосвязи и искать принцип, по которому, как пишет Моника Вольраб-Зар, “разные признаки сцепляются друг с другом в силу смысловой логики и образуют структуру, которая постоянно воспроизводит себя заново. При таком понимании типов структура и структурирование, конфигурация и процесс мыслятся вместе” (Wohlrab-Sahr 1994: 270). Когда город превращается в кейс, понять его можно только благодаря тому, что появляется возможность обнаружить его структурную логику в различных точках, а воспроизводящую структуру – в различных темах и процессах. “Вопрос о «валидности» такой структуры, – пишет далее Моника Вольраб-Зар в своей статье “От кейса к типу”, ссылаясь на Ульриха Эфермана, – получает при таком подходе ответ не за счет обращения к частотности, а за счет того, что доказывается ее соответствие закономерностям воспроизводства” (Wohlrab-Sahr 1994: 273). В социологии городов центральную роль играет движение мысли, основанное на выявлении отношений и релятивизации и направленное в сторону такого видения проблем, при котором главное – это охарактеризовать предмет (об этом см. также Bourdieu 1974: 33ff.).
В конечном итоге сравнительное изучение городов оказывается релевантным не только в дескриптивном плане. Скорее можно сказать, что, задаваясь методологическим вопросом о собственной логике городов, мы получаем отличающуюся большей глубиной резкости основу для принятия решений применительно к “этому” городу. Именно в силу того, что сравнение не нацелено на нечто всеобщее, а работает более открыто на уровне горизонтальных сопоставлений, оно повышает локальную точность прогнозов.
Заключение
Резюмировать сказанное мне хотелось бы так: социология городов может анализировать собственную логику городов как специфическое развитие того или иного города и как возникающие в результате креативные силы такого структурирования практики, которое специфично для данного города. Понятие “собственная логика города” обозначает устойчивые диспозиции, которые привязаны к социальности и материальности городов, и конституируется эта логика в соотносительной системе глобальных, локальных и национальных связей. Во взаимосвязанности городов логика одного города может формироваться под воздействием других.
То, что пока может быть изучено только путем переноса на город концепции, относящейся к человеческому телу (габитус города), путем приписывания городу статуса человеческой личности (например, в биографиях городов) и путем эмоционального захвата (структура чувствования), теперь описывается как специфичные для данного места структуры и их реализация в качестве доксы и габитуса.
Материальность города – от мостовых до садовых участков на окраине, от опор ЛЭП до фонтанов – это элементы социальной практики, которые точно так же входят в интерпретации городов, как воспоминания, политические конфигурации, экономические отношения. Противоречия и специфичные для данной социальной среды различия возможны, однако они по-прежнему соотнесены со структурой городов – особенно через доминирующие паттерны интерпретации.
Социология города задается вопросом о логике практики. Это означает не отрицать специфичные для той или иной социальной среды проявления, а спрашивать о том, какие паттерны образования общества действуют поверх границ социальных сред. Точно так же это не означает отрицания ни общественной структуры (в единственном числе) в ее мощи, ни установившихся в ней социального неравенства и распределения пространства. Вопрос о собственной логике и практике призван расширить исследовательский горизонт, что позволит обнаружить нечто новое в городе и его качествах.
Подобный проект социологии городов может быть успешно осуществлен только путем обширного эмпирического исследования. Он должен выйти за узкие рамки европейских и североамериканских городов, если только теоретическое любопытство направлено именно на “город” как объект, а не на региональные проявления. В отдельных случаях – например, в городах Африки – многое указывает на то, что собственная логика городов там обнаруживается даже легче, чем в Европе, потому что территориальная логика национального государства там никогда по-настоящему не утвердилась. Так, например, Труц фон Трота пишет: “Оно [т. е. колониальное и постколониальное господство. – М.Л.] начинается с территориальной администрации. Оно определялось притязанием государства на некую его область, но распространялось в лучшем случае на городские центры и пути сообщения” (von Trotha 2000: 257). Ввиду слабости “территории” как соперника по пространственной логике при идущей в то же время стремительными темпами урбанизации (подробно см. Janowicz 2007 и Янович в этом сборнике) африканские города могли бы стать идеальными объектами для сравнения с европейскими городами и их развитием.
Литература
Abu-Lughod, Janet (1999), New York, Chicago, Los Angeles, Minneapolis.
Beaverstock, Jon/Smith, Richard/Taylor, Peter (1999), A Roster of World Cities // GAWC – Publications, 28.07.1999, [последнее обращение: 01.05.2008].
Berking, Helmuth u.a. (2007), HafenStädte. Eine komparative Untersuchung zur Eigenlogik von Bremerhaven und Rostock, Abschlussbericht des empirischen Lehrforschungsprojektes “Soziologie des Ortes” unter Leitung von Helmuth Berking und Jochen Schwenk, Darmstadt. (Publikation im Campus-Verlag, in Vorbereitung).
Berking, Helmuth/Löw, Martina (2005) (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte. Sonderband 16 der Zeitschrift Soziale Welt, Baden-Baden.
Bourdieu, Pierre (1974), Zur Soziologie der symbolischen Formen, Frankfurt am Main.
– (1993), Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt am Main [фр. оригинал: Bourdieu, Pierre (1980), Le Sens pratique. Paris [рус. изд.: Бурдье, Пьер (2001), Практический смысл. СПб. – Прим. пер.].
– (1996), Die Praxis der reflexiven Anthropologie. Einleitung zum Seminar an der École des hautes etudes en sciences sociales. Paris. Oktober 1987 // Bourdieu, Pierre/Wacquant, Loic J. (Hg.), Reflexive Anthropologie, Frankfurt am Main, S. 251–294.
– (1997), Ortseffekte // Bourdieu, Pierre u.a. (Hg.), Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft, Konstanz, S. 159–167 [фр. оригинал: Bourdieu, Pierre (1993), dir., La misère du monde. Paris. – Прим. пер.].
Bourdieu, Pierre/Wacquant, Loic J. D. (1996), Reflexive Anthropologie, Frankfurt am Main.
Elze, Günter (2000), Breslau. Biographie einer deutschen Stadt, Leer.
Florida, Richard (2005), Cities and the Creative Class, New York/London.
Giddens, Anthony (1988), Die Konstitution der Gesellschaft. Grundzüge einer Theorie der Strukturierung, Frankfurt am Main/New York [англ. оригинал: Giddens А. (1984), The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Cambridge; рус. пер.: Гидденс Э. (2003) Устроение общества: Очерк теории структурации. Москва. – Прим. пер.].
Göschel, Albrecht (2006), “Stadt 2030”: Das Themenfeld “Identität” // Deutsches Institut für Urbanistik (Hg.), Zukunft von Stadt und Region, Wiesbaden, S. 265–302.
Haupt, Heinz-Gerhard/Kocka, Jürgen (1996), Historischer Vergleich: Methoden, Aufgaben, Probleme. Eine Einleitung // Haupt, Heinz – Gerhard/Kocka, Jürgen (Hg.), Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung, Frankfurt am Main/New York, S. 9 – 45.
Hibbert, Cristopher (1987), Rom. Biographie einer Stadt, München.
Hillier, Bill (2005), Between social physics and phenomenology: explorations towards an urban synthesis?,%20papers%20I/hillier.pdf [последнее обращение: 16.04.2008].
Hillier, Bill/Hanson, Julienne (1984), The Social Logic of Space, Cambridge/New York.
Hürlimann, Martin (1994), Wien. Biographie einer Stadt, Zürich/Freiburg.
Hutchins, Mary/Parkinson, Michael (2005), Competitive Scottish Cities? Placing Scotland’s Cities in the UK and European Context, . gov.uk/Resource/Doc/37428/0028677.pdf [последнее обращение: 16.04.2008].
Janowicz, Cedric (2007), Die Versorgung der Stadt: Zur Sozialen Ökologie urbaner Räume (Dissertation), Darmstadt.
Kaelble, Hartmut (1999), Der historische Vergleich. Ein Einführung zum 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main/New York.
Krais, Beate/Gebauer, Gunter (2002), Habitus, Bielefeld.
Krätke, Stefan (2002), Medienstadt: Urbane Cluster und globale Zentren der Kulturproduktion, München.
Large, David C. (2002), Berlin. Biographie einer Stadt, München.
Le Galès, Patrick (2002), European Cities: Social Conflicts and Governance, Oxford.
Lindner, Rolf (2005), Urban Anthropology // Berking, Helmuth/Löw, Martina (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte. Soziale Welt, Sonderband 16, Baden-Baden, S. 55–66.
Lindner, Rolf/Moser, Johannes (2006) (Hg.), Dresden. Ethnografische Erkundungen einer Residenzstadt, Leipzig.
Löw, Martina (2001), Raumsoziologie, Frankfurt am Main.
Mak, Geert/de Keghel, Isabelle (2006), Amsterdam. Biographie einer Stadt, München.
Meier, Lars (2007), Die Strategie des Einpassens – Deutsche Finanzmanager in London und Singapur (Dissertation), Darmstadt.
Nadler, Laura (1994), Comparative consciousness // Borofsky, Robert (Ed.), Assessing Cultural Anthropology, New York, p. 84–96.
Nishida, Kitaro (1999; orig. 1926), Ort // Elberfeld, Rolf (Hg.), Kitaro Nishida: Logik des Ortes. Der Anfang der modernen Philosophie in Japan, Darmstadt, S. 72 – 140.
Parkinson, Michael/Hutchins, Mary/Clark, Greg/Simmie, James/Verdonk, Hans (2004), Competitive European Cities: Where do the Core Cities stand?, London.
Rehberg, Karl-Siegbert (2006), Macht-Räume als Objektivationen sozialer Beziehungen – Institutionenanalytische Perspektiven // Hochmuth, Christian Hochmuth/Rau, Susanne (Hg.), Machträume der frühneuzeitlichen Stadt, Konstanz, S. 41–55.
Richter, Dieter (2005), Neapel. Biographie einer Stadt, Berlin.
Sassen, Saskia (1996), Metropolen des Weltmarktes. Die neue Rolle der Global Cities, Frankfurt am Main/New York.
Schriewer, Jürgen (2003), Problemdimensionen sozialwissenschaftlicher Komparatistik // Kaelble, Hartmut/Schriewer, Jürgen (Hg.), Vergleich und Transfer.
Komparatistik in den Sozial-, Geschichts – und Kulturwissenschaften, Frankfurt am Main/New York, S. 9 – 52.
Simmel, Georg (1995; orig. 1908), Der Raum und die räumliche Ordnung der Gesellschaft // Rammstedt, Otthim (Hg.), Georg Simmel – Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Gesamtausgabe Band 11, Frankfurt am Main, S. 687–790.
Taylor, Jan/Evans, Karen/Fraser, Penny (1996), Tale of Two Cities: Global Change, Local Feeling, and Everyday Life in the North of England: A Study in Manchester and Sheffield, London.
Trommer, Sigurd (2006), Identität und Image der Stadt der Zukunft // Deutsches Institut für Urbanistik (Hg.), Zukunft von Stadt und Region, Wiesbaden, S. 23–44.
von Bechtoldsheim, Hubert (1980), Leningrad. Biographie einer Stadt, München.
von Trotha, Trutz (2000), Die Zukunft liegt in Afrika. Vom Zerfall des Staates, von der Vorherrschaft der konzentrischen Ordnung und vom Aufstieg der Parastaatlichkeit // Leviathan, 28 – 2, S. 253–279.
Wacquant, Loic J. D. (1996), Auf dem Weg zu einer Sozialpraxeologie // Bourdieu, Pierre/Wacquant, Loic J. (Hg.), Reflexive Anthropologie, Frankfurt am Main, S. 17–93.
Williams, Raymond (1965), The long Revolution, Harmondsworth (England).
– (1977), Marxism and Literature, Oxford.
Wohlrab-Sahr, Monika (1994), Vom Fall zum Typus: Die Sehnsucht nach dem “Ganzen” und dem “Eigentlichen” – “Idealisierung” als biographische Konstruktion // Diezinger, Angelika/Kitzer, Hedwig/Anker, Ingrid u.a. (Hg.), Erfahrung mit Methode, Freiburg, S. 269–299.
Эта статья представляет собой сжатую аргументацию в поддержку осмысления и легитимации новых путей изучения городов. Расширенный вариант этого текста, акцентирующий тему конкуренции городов, вышел под заглавием “Социология городов” в издательстве Suhrkamp в 2008 г.
Городской габитус и габитус города Франц Бократ
Города влияют на габитус своих обитателей по-разному. Об этом говорят, например, компаративные исследования социальных сред, причем как те, в которых сравниваются среды в одном городе, так и те, в которых сравниваются разные города. Но описания и сравнения городских социальных сред остаются идиографическими, если продемонстрированные в них взаимосвязи не поддаются обобщению, т. е. не указывают на что-то большее, нежели исследованные отдельные случаи. И наоборот, наблюдения над социальными средами на высоком уровне генерализации, как рассуждения Георга Зиммеля “Большие города и духовная жизнь” (Simmel 1984 [рус. изд.: Зиммель 2002 – прим. пер.]), не специфичны, если феномены, объясняемые с помощью общих моделей, приравниваются к феноменам как таковым. Ведь даже если нам кажется убедительной характеристика больших городов как “совершенно безличной формации” (ibid. 196 [там же: 5]) с соответствующими формами жизни, все же это генерализирующее определение городской практики, которое нельзя приравнивать к гетерогенным практикам городской жизни как таковым.
1. Логика практики
Бурдье (Bourdieu 1993 [здесь и далее цит. по рус. изд.: Бурдье 2001 – прим. пер.]), развивающий эту мысль в рассуждениях о теории практики, в рамках своей критики объективирующих форм познания и логик исследования[10], указывает на эпистемологические трудности и разрывы понятийных обобщений, которые “непрерывно соскальзывают с существительного (substantif) на существо (substance)” (ibid. 71 [Бурдье 2001: 73]) и тем самым дают власть применяемым понятиям, которые в конце концов начинают, как кажется, действовать совершенно сами по себе. Так, обозначения общественных явлений, например “взаимная замкнутость” и “блазированность” жителей большого города у Зиммеля (Simmel 1984: 196 [здесь и далее цит. по рус. изд.: Зиммель 2001: 8 – прим. пер.]) – понятия, применяемые для описания определенной социальной реальности, – как правило, начинают рассматриваться уже как реалии и оказывают, как представляется, воздействие на всю жизнь большого города со всеми ее разнообразными практиками. При этом легко ускользает от внимания то, что сам Зиммель, тонкий наблюдатель и эссеист, был представителем тех “освобожденных от исторических цепей индивидов” (ibid.: 204 [Зиммель 2001: 12]), которые воспринимают поле большого города как шанс сформировать описанные ими “качественные особенности и своеобразность” (ibidem [там же]). Наконец, в персонифицирующих обобщениях (вроде: “освобожденные от исторических цепей индивиды захотели теперь отличаться друг от друга” (ibidem [там же])) понятийные конструкции даже вводятся в качестве самостоятельных субъектов, которые, как кажется, уже действуют так же, как и “обозначающие их слова действуют во фразах в исторической речи” (Bourdieu 1993: 71 [Бурдье 2001: 73]).
Примеры, подобные этому, указывают на двоякую трудность: во-первых, невозможно понять городские социальные среды и формы практик на основе логик волевых решений отдельных акторов, ведь даже если удастся обнаружить регулярные соответствия между определенными предпочтениями в действиях и жизненными стилями, их нельзя будет, согласно Бурдье, рассматривать как результат сознательных размышлений или рациональных выборов и решений[11]. С другой стороны, нельзя интерпретировать объективирующие конструкции, такие как понятийные классификации, логические схемы, обзоры, таблицы и т. д., как реальные основания описываемых практик и стилистических форм, потому что в случае их применения происходит “подмена практического отношения практикой отношения к предмету, свойственного наблюдателю” (ibid.: 65 [Бурдье 2001: 66–67])[12].
При этом необходимо иметь в виду, что указание на трудности интерпретативных подходов, ставящих в центр картины актора, с одной стороны, и объективистских объяснительных попыток, с другой, не преследует цели огульно дискредитировать соответствующие формы научного теоретизирования. “Критическая рефлексия над границами ученого понимания” (ibid.: 53 [там же: 53]) служит, скорее, другой цели: проявить эпистемологические и социальные предпосылки их порождения, как правило невысказанные, и потому остающиеся имплицитными. Достигаемая тем самым релятивизация заявляемых притязаний на значимость направлена, однако, не только на применяемые для объяснения общественных явлений разнообразные логические модели, которые едины в том, что объясняют определенное число наблюдаемых случаев максимально наглядным и понятным образом. В ходе своей критики соответствующих попыток объективации Бурдье вырабатывает и измененное понимание самих изучаемых объектов – социальных практик и полей.
Под заголовком “Теория практики”[13] или “Логика практики”[14] Бурдье уже разоблачил простые модели и методы, используемые общественными науками для определения социальных практик, показав, что они представляют собой артефакты, “хоть и безупречные, но нереальные” (ibid.: 155 [там же: 165]). Это относится к уже упоминавшейся карте города, на которой “прерывистое и содержащее пробелы пространство практических маршрутов заменяется однородным и сплошным пространством геометрии”, а также к календарю, в котором “образуется линейное, однородное и сплошное время вместо времени практического, состоящего из отдельных фрагментов длительности, несоизмеримых между собой и обладающих каждый своим ритмом – ритмом времени, которое спешит или же топчется на месте в зависимости от того, что с ним делают” (ibid.: 154 [там же: 163], курсив Бурдье). В отличие от постулируемых при построении теорий гомогенности и точности социальных смысловых связей и паттернов восприятия, смысловые миры, создаваемые на практике, следуют “логике приблизительности и зыбкости” (ibid.: 159 [там же: 169]), которая, впрочем, – поскольку обстоятельства действий и требования порой быстро меняются – оказывается настолько непротиворечивой и обозримой, что ею можно практически овладевать. Своеобразие этой практической логики (или логики практики) заключается в том, что она полностью может быть постигнута лишь в самой деятельности, однако за это приходится платить – ее конститутивные условия и ограничения, функции и механизмы, иллюзии и опасности остаются нераспознанными: “Реально овладеть этой логикой может лишь тот, кем она полностью овладела; тот, кто ею обладает, но в такой степени, в какой она сама владеет им, т. е. лишенный владения” (ibid.: 31 [там же: 32])[15].
Впрочем, теория практики далека от того, чтобы просто поступиться своими теоретическими притязаниями ради практического опыта или поддерживать идеализированное представление о практике. Многочисленные указания на то, что мы разрушаем логику практики, когда пытаемся ухватить ее с помощью теоретических моделей и построений, преследуют цель подступиться к ее практическому смыслу за счет того, чтобы вновь вернуть ее “на исходную почву практики” (ibid.: 171 [там же: 182]). Под этим имеется в виду, что теоретические построения и объяснения хотя и годятся для прояснения понятийных взаимосвязей, но бьют мимо цели, когда доходит до выяснения практических вопросов: “Можно говорить, что гимнастика – это геометрия, но только не считать самого гимнаста геометром” (ibid.: 170 [там же: 181]). На фоне того, что – разовьем эту метафору – геометры встречаются в повседневной жизни общества скорее в виде исключения, а гимнасты в виде правила, становится отчетливо понятно, какое значение имеет логика практики. В той мере, в какой социальные действия имеют в первую очередь практическую релевантность (или, иными словами: они порождаются и понимаются практически, прежде чем в них теоретически вникают, анализируют их и интерпретируют), дело заключается в том, чтобы познать их в их актуальных (“в пылу боя”) и ситуативных (“не сходя с места”) сложностях, срочностях, необходимостях, удобствах и – не в последнюю очередь – противоречивостях. А как раз это и блокируют генерализирующие (синоптические, аналогические, синхронизирующие и проч.) формы тотализации[16]. Только если удается увидеть социальные действия в их практическом, привязанном к телу смысле, а не как конкретные реализации общих объяснений и теоретических схем, – например, когда временные процессы определяются по своей “длительности”[17], а пространственные отношения как “геометрическая практика”[18], – раскрывается их практическая логика, которая оказывается совсем не похожей на “логику логики” (ibid.: 157 [там же: 167 – “нелогичная логика”]).
Таким образом, вместо внешней, якобы независимой исходной позиции, взгляд из которой только и превращает те или иные социальные феномены, которые были описаны, в объекты, и вместо уничтожения дистанции за счет практического участия Бурдье предлагает рассматривать социальные практики – такие как жесты, привычки, действия или суждения – в качестве выражений практического смысла, не поддающиеся ни объективистскому, ни субъективистскому растворению. Поэтому праксеологический подход означает интерес прежде всего к взаимосвязям между видами телесного поведения, формами практического понимания, специфичными для каждого данного поля условиями и культурными смысловыми паттернами. Тем самым отвергаются все социально – и культурно-теоретические подходы, в которых структуры и практики интерпретируются независимо друг от друга, и поэтому не случайно связь между обоими полюсами стоит в центре концепции габитуса, разработанной Бурдье.
Понятие габитуса помогает лучше объяснить суть праксеологического подхода постольку, поскольку в нем видны взаимосвязи между позициями, занимаемыми акторами в социальном пространстве, и специфичными для этих акторов типами поведения и стилями жизни. В отличие от структуралистских подходов, в которых взаимосвязи между паттернами социального порядка и паттернами индивидуальных действий односторонне интерпретируются в пользу предзаданных общественных структур, а также в отличие от теорий из области социальной феноменологии, в которых “осмысленное устройство социального мира”[19] объясняется интенциональными актами понимания, Бурдье располагает габитус как бы между структурами и действиями, порядками и перспективами или между позициями и диспозициями:
В качестве опосредующего звена между позицией или положением в социальном пространстве и специфическими практиками, пристрастиями и т. д. выступает то, что я называю габитусом, т. е. общая базовая установка, диспозиция по отношению к миру, которая ведет к систематическому занятию определенных позиций, но при этом в силу того, что она представляет собой отражение всей прежней жизни, может быть относительно независима от позиции, занимаемой в рассматриваемый момент времени. Иными словами, существует – и это достаточно неожиданно – взаимосвязь между самыми несхожими вещами: как человек говорит, танцует, смеется, читает, что он читает, что ему нравится, какие у него знакомые и друзья и т. д. Все это тесно связано одно с другим (Bourdieu 1989: 25).
Многое объясняет в данной связи тот факт, что названные здесь взаимосвязи могут быть показаны на примере исследуемого габитуса, их не приходится реконструировать через общий структурный или интенциональный анализ действий. Уже в повседневных практиках и привычках обнаруживаются те основанные на опыте знания и умения, которые сформировались в ходе обретения габитуса и которые – в известных пределах – связаны “двоякими, структурированными и структурирующими отношениями с окружающей средой” (Bourdieu 2001: 184). В праксеологическом смысле важно то, что это знание и умение, ставшее частью габитуса, не означает никакого интеллектуального богатства: оно проявляется как “ноу-хау тела”, или как “телесный интеллект”[20]. В отличие от таких взглядов на знание (episteme) и умение (techne), которые в центр картины ставят сознание и в которых приобретенные путем практики опыт и навыки (technai) по возможности подводятся под унифицирующие понятия, теории или идеи[21], понятие габитуса подчеркнуто обращается к заученным путем практики привычкам и умениям (empeiria), которые также независимо от теоретических познаний или рациональных целеполаганий конституируют действия. На основании рутинного смыслового опыта габитус делает возможным “практическое понимание”, которое с достаточной степенью надежности можно применять к повторяющимся ситуациям и предметам и которое – по крайней мере в главном для каждого данного случая социальном поле – открывает доступные для выбора стратегии совладания. В отличие от ментальных операций, при которых приписывание смыслов осуществляется интенционально, Бурдье (Bourdieu 1993: 127 [Бурдье 2001: 134]) понимает “практическое чувство” по эту сторону границы между физическим и психическим как “социальную необходимость, ставшую природой и преобразованную в моторные схемы и телесные автоматизмы”.
Относительно признаков, связанных с телом, габитус можно охарактеризовать двояко: во-первых, он выступает в качестве “подпорки памяти” (Bourdieu 1976: 199; 1993: 126; 2001: 181 [Бурдье 2001]), или “кладовой отсроченных мыслей” (Bourdieu 1993: 127 [Бурдье 2001: 134]). Этим Бурдье намекает на то, что габитус представляет собой “ставшую натурой историю, которая как таковая отрицается, ибо реализуется как вторая натура” (Bourdieu 1976: 171). В праксеологическом смысле эта форма реализации включает в себя прежде всего телесно-аффективный обмен с социальным окружением и практически полностью исключает акты осознавания. Превращение общественных структур, социальных правил и культурных ценностей в телесные феномены происходит прежде всего через телесные процессы обучения, в ходе которых габитус последовательно формируется в соответствии со специфичными для каждого поля схемами восприятия, оценки и действия. При этом, как выражается Бурдье, (Bourdieu 2001: 181) “социальный порядок проникает в тела”. Однако это “проникновение” – не просто пассивный процесс. Бурдье интерпретирует порождаемый габитусом практический смысл как “социальную необходимость, ставшую природой и преобразованную в моторные схемы и телесные автоматизмы”[22], и подчеркивает тем самым активную и порождающую сторону телесной деятельности. Как при говорении на основе заученных понятий и оборотов словно бы без труда порождаются бесчисленные предложения и при этом не распознаются социальные “структуры языкового рынка, которые утверждают себя как система специфических санкций и процессов цензуры” (Bourdieu 1990: 12), – точно так же незаметно проявляет себя в кажущихся непосредственными телесных практиках структурная сторона габитуса. Ведь только в состоянии действия реализуется “устанавливаемое в практике отношение непосредственного согласия между габитусом и конкретным полем” (Bourdieu 1993: 126 [Бурдье 2001: 133]). Социологически значимым является прежде всего вопрос, как самые общие смысловые структуры габитуса перерабатываются в горизонте каждого действующего актора, – или, другими словами, как общественные структуры и практические схемы воздействуют друг на друга.
2. Городской габитус
Определение “городской габитус” наводит на мысль о взаимосвязи между общими городскими структурами и относящимися к ним практиками городских акторов. Подобно тому как отдельные города каждый по-своему влияют на деятельность оказывающихся в них людей, структурирующие городские условия тоже подвержены изменениям под действием габитуса. Это понимание взаимной зависимости социальных диспозиций – например, материальных, институциональных и символических ресурсов города – и социальных практик и форм апроприации становится заметно, если рассматривать объективированную в вещах историю как среду обитания (Habitat), а историю, воплощенную в акторах, как габитус (Habitus). Они существуют одновременно[23], однако подчиняются различным динамикам, которые становятся видны, когда мы обратим взор на процессы адаптации и обучения, проживаемые действующими акторами. Ведь если социальные диспозиции и структуры рассчитаны на то, чтобы по возможности независимым от времени и места образом фиксировать постоянные и обязательные отношения, то это еще не значит, что эти общие требования столь же единообразно воспроизводятся действующими акторами. Об этом свидетельствуют согласованные друг с другом, хотя в то же время и тщательно друг от друга отделяемые социальные практики, а кроме них – действия, открыто нацеленные на изменение рутин и сигнализирующие о кризисных моментах структурных условий. Постольку, поскольку габитус (habitus) и среда обитания (habitat) не тождественны друг другу – ибо свойственные габитусу процессы адаптации и апроприации регулярно порождают отличающиеся друг от друга схемы восприятия, мышления и действий, так что никакого социального детерминизма между социальными позициями и диспозициями предполагать не приходится, – только изучение этих различий сможет привести нас к точному пониманию социальных взаимосвязей.
Только механицистское представление о соотношении между этими связями и акторами, определяемыми этими связями, могло бы заставить нас забыть, что габитус, будучи продуктом кондиционированных условий, выступает условием создания мыслей, восприятий и действий, которые сами не представляют собой непосредственный продукт именно этих условий, хотя, обретя однажды реальность, они познаваемы только на основе знания этих кондиционированных условий, а точнее говоря – принципа создания (Bourdieu 1994: 40).
Иными словами, выяснение социальных практик служит и выяснению социальных структур, хотя как за разными габитусами, так и за различными социальными полями признается “более или менее ярко выраженная автономия” (Bourdieu 1998а: 18)[24].
Из взаимодействия между предзаданными общественными структурами и социальными практиками вытекает следствие для форм городского габитуса: использование и апроприация городских пространств тесно привязаны к занимаемым социальным позициям. Городское пространство превращается в символическую форму социальной позиции постольку, поскольку, например, обладание экономическим и культурным капиталом определяет, в каком округе города – в фешенебельных кварталах или в пригородах, на левом или на правом берегу Сены – человек будет жить[25]. И наоборот, отсюда следует, что уже одно только указание на определенные позиции в городе позволяет делать заключения о социальных позициях и предпочтениях, из-за чего различия между парижскими округами и кварталами имеют не только политико-административное значение, но и маркируют “тонкие различия” в городе[26]. Бурдье (Bourdieu 1991: 26) развивает эту мысль, распространяя ее на социально-пространственные структуры и отношения вообще:
Социальное пространство имеет тенденцию более или менее строго отражаться в физическом пространстве в форме определенного распределения акторов и свойств. Из этого следует, что все различия, касающиеся физического пространства, мы обнаруживаем в овеществленном социальном пространстве (или, что сводится к тому же самому, – в присвоенном физическом пространстве).
Согласно такому взгляду, город с его особенностями и внутренними дифференциациями предстает не просто внешней рамкой действия: он сам становится составной частью разнообразных стратегий формирования идентичности отдельных групп и акторов. По этой причине, в частности, городская этнография с самого своего появления старается посредством плотных описаний ситуаций и интеракций ухватить специфические городские “сеттинги” (settings) в их конститутивном для действий значении. С почти литературной точностью описываются при этом разные формы жизни в городе – китайцы 10-го округа, арабы с бульвара Барбес и т. д. – и в результате становится ясно, как воздействия, связанные с городом, влияют на повседневные практики акторов. Однако если заниматься изучением городских форм образования общества в малых пространствах, то из поля зрения постепенно пропадает подлинный предмет исследования – город[27]. Ведь даже если образ города рисуется как “лоскутное одеяло” с разнородными признаками и несхожими культурами, которое, как кажется, исключает гомогенизирующие попытки описания, вопрос о теоретическом месте, позволяющем осуществлять систематический учет выявляемых различий, остается, как правило, не поставленным. Это примечательно, потому что в духе концепций габитуса и поля, выдвинутых Бурдье, этнографические описания и детальные исследования неизбежно окажутся неудовлетворительными, если в них будут оставлены без внимания реляционные связи изучаемого и сравниваемого.
По этой причине перспективы, связанные с сетью отношений, касаются – по крайней мере потенциально – всего в городском пространстве, а не только отдельных наблюдений и описаний. Это означает, что при анализе городских ансамблей особые “местные условия” нужно соотносить с тем, что имеет значение не только здесь, но и в других местах. При этом поле городского пространства определяется и через реальные, и через возможные отношения, чья общая логика раскрывается, только когда они рассматриваются вместе. “Оба пространства – пространство объективных позиций и пространство мнений – должны […] рассматриваться как два перевода одного и того же предложения” (Bourdieu/Wacquant 1996: 136). Так, например, “пространство мнений” в рабочем квартале охватывало бы прежде всего доступные непосредственному наблюдению и индивидуальной реконструкции потребности повседневной жизни, т. е. безработицу, готовность к насилию, ксенофобию, употребление наркотиков, теневую экономику и т. д. Кроме того – иными словами, за пределами ближайшего кругозора тех, кого это всё напрямую затрагивает, – надо принимать во внимание и то, чего в этом районе не хватает или что можно найти только в так называемых буржуазных районах города, а именно: относительную безопасность, неповрежденную инфраструктуру, торговый ассортимент, культурные учреждения и т. д. Всё это можно обрисовать здесь лишь в самых общих и клишированных чертах. Но такой способ позволяет в конечном итоге увидеть, что образы жизни, наблюдаемые и в обделенных, и в привилегированных городских пространствах, несмотря на все различия и границы, тесно привязаны друг к другу, поскольку там лишь с трудом можно завоевывать то, чем здесь можно пользоваться уже как чем-то само собой разумеющимся.
Акторы, каждый в своей среде, действуют по-разному, но вполне сопоставимо с точки зрения требований и соотношений, специфичных для того или иного поля. “Пространство объективных позиций” включает в себя “пространство их мнений”, поскольку агенты[28] производят своими действиями специфические эффекты, которые в значительной степени соответствуют занимаемым позициям и соотношениям в социальном поле. Это никоим образом не исключает противоречий и конфликта интересов, которые какой-то области – например, в экономической или интеллектуальной – даже способствуют достижению результата. Их эффективность или неэффективность, однако, зависит от условий поля, которые в случае городского пространства включают в себя неравномерное распределение экономических, социальных, культурных и символических ресурсов. Если меняются капиталовложения, то изменяются и “системы соотношений” (Bourdieu/Wacquant 1996: 138), как можно видеть на примере реконструкции районов старой застройки в центрах городов, которой сопутствует вытеснение прежних жителей представителями групп с более высоким социальным статусом. “То, что существует в социальном мире, – это отношения: не взаимодействия или интерсубъектные связи между акторами, а объективные отношения, которые существуют независимо от сознания и воли индивидов, как сказал Маркс” (ibid.: 127). Однако чтобы выяснить, какие отношения и формы капитала в каждом конкретном случае определяют “логику поля”[29], требуется учет именно тех мнений и диспозиций, которые раскрывают практический смысл своей логики, а он не может быть, как показано ранее, постигнут структурно-аналитическим или объективистским путем.
3. Габитус города
В урбанистике была предпринята попытка сделать взаимосвязь между объективными позициями и относящимися к акторам диспозициями в поле городского пространства эмпирически постижимой с помощью объяснительных моделей разной степени охвата. Предложенные в данном контексте подходы пытаются различными способами конкретизировать определение городского пространства. Общим для них является то, что – при всем различии толкований и акцентов – размышления о социальном и символическом пространстве связываются в них с понятием габитуса, чтобы описать таким образом габитус места, города или городского региона[30].
Габитус места
Так, например, Йенс С. Дангшат (Dangschat 2007: 24) пытается определить габитус места на среднем уровне анализа. Он исходит при этом из того, что места или территории представляют собой
материальное проявление процессов, создающих пространство, и не указывают ни на стоящие за ними “движущие силы” или причины возникновения тех или иных проявлений мест/территории, ни на когнитивные акты отдельных лиц или социальных групп. Таким образом, эти социально-пространственные “продукты” представляют в макро-мезо-микро-теории пространства, которую предстоит разработать, не более чем средний (мезо) уровень. Тогда как макроуровень включает в себя все те силы, которые “производит” сеть городов/территорий, а на микроуровень следует поместить акты восприятия и оценки пространства (когнитивные и оценочные действия) и касающиеся пространства паттерны поведения (присвоение, использование, мобильность и т. д.).
Значит, так называемый “мезо-габитус” (ibid.: 38), по-видимому, маркирует то промежуточное пространство, где встречаются друг с другом структурные процессы образования общества и социальных изменений, с одной стороны, и индивидуальные стили жизни и поведения, с другой. При этом разные уровни анализа не сводятся один к другому. Согласно концепции “макро-мезо-микро”[31], различные уровни агрегации влияют друг на друга, поскольку, например, материальные и социальные структуры места (инфраструктура, структура жилой застройки, структуры капитала, демографические структуры и т. д.) формируют пространство возможностей действия, которое находит свое специфическое выражение в различающихся ментальностях, интерпретативных паттернах и стилях жизни. Тем не менее со среднего уровня специфического габитуса того или иного места невозможно напрямую разглядеть структурные условия более высокого уровня и поведенческие диспозиции акторов.
Эта различительная модель, на первый взгляд, имеет то преимущество, что – как автор особо подчеркивает – с ее помощью могут быть описаны и проанализированы “социально-пространственные структуры и процессы на различных уровнях агрегации” (ibid.: 40.). Кроме того, благодаря вниманию к процессам, создающим пространство, эта модель отвечает требованиям “пространственного поворота” (Weigel 2002) в науках о культуре. Однако за счет введения промежуточного уровня, маркирующего габитус места и призванного выступать в качестве “связующего звена между внешними условиями […] и обнаруживаемыми на месте паттернами действия” (Dangschat 2007: 39), реляционный или аналоговый подход уже переводится в такую понятийную схему, которая маркирует и формально классифицирует связи с полем заранее, т. е. независимо от их специфичной для каждого случая динамики изменения и собственной логики[32]. Если же следовать концепции габитуса и поля Бурдье[33], то границы поля невозможно наметить априори или вписать в модель “макро-мезо-микро”, потому что для начала требуется определить логику поля в соответствии с господствующими там формами капитала, прежде чем можно будет конкретно выяснять, где начинают и заканчивают свое действие эффекты поля, какие практики и диспозиции сулят успех или остаются незначительными, какие акторы вписываются в поле, а какие исключаются, и т. д. “В процессе самого исследования это означает постоянное, трудное и утомительное движение туда и обратно” (Bourdieu/Wacquant 1996: 139). Иными словами, только после того, как на основе эмпирического доказательства взаимных соответствий и отношений будет выработана конфигурация отдельных позиций, появится возможность более точно определить существующие и потенциальные ситуации внутри поля. Заданные в качестве модели “уровни агрегации” с их предполагаемыми “взаимодействиями” никоим образом не заменяют эту работу, тем более что различные социальные поля, по Бурдье, следуют “специфичной для каждого случая логике и необходимости”, которые “не сводятся к действующим для других полей”[34].
Насколько сомнительно уже само концептуальное разграничение уровней структуры, габитуса и практики с соответствующими подразделениями на макро-, мезо – и микроуровне ради определения “габитуса места”, настолько неверно и используемое для этой цели понимание термина. У Бурдье практики и структуры внешне не соотносятся друг с другом и не связаны друг с другом через габитус: у него нет этого тройственного деления; на различных примерах и объектах он наглядно показывает, как при посредстве разных форм габитуса специфичным для каждого случая образом выстраивается взаимодействие акторов и социальных структур.
Эти два понятия – габитус и поле – являются реляционными и в том смысле, что они функционируют должным образом только в комбинации друг с другом. Поле не просто мертвая структура, “пустая структура”, как в альтюссеровском марксизме, а пространство игры, которое в таковом качестве существует лишь постольку, поскольку существуют действующие лица, которые вступают в него, верят в вознаграждения, которые оно предлагает, и активно пытаются их заполучить. Отсюда следует, что адекватная теория поля с необходимостью требует и теории социальных акторов (Bourdieu/Wacquant 1996: 40; курсив в оригинале).
Таким образом, вместо того, чтобы уровни различного размера и охвата (микро, мезо, макро) выстраивать рядом или один над другим, было бы более уместно подчеркнуть важность габитуса и среды обитания, позиций и диспозиций, структур и структурирования с точки зрения их взаимных связей и отношений[35]. Соответственно, “габитус места” надо было бы тогда понимать не как результат макроструктурных условий и микропрактических воздействий, которые на мезоуровне еще раз реконструируются в соответствующих структурах, габитусах и практиках[36]: в противоположность этому механистическому толкованию понятий, логику места следовало бы понимать как ансамбль структурных и актуализированных отношений, которые воздействуют друг на друга всегда – в каждом случае специфическим образом, – а не только на полпути или на среднем уровне. Вместо того чтобы изобретать модель “габитуса места”, важно реконструировать его логику, которая специфична для каждого поля. Ведь даже стройное членение модели “трех М” не может скрыть от нас тот факт, что границы поля можно найти только “в самом поле” (Bourdieu/Wacquant 1996: 130), т. е. они определяются in concreto.
Габитус большого города
Взгляд на город как на отдельное социальное пространство с особенностями габитуса и специфическими эффектами поля уже имеет определенную традицию[37], которая получила недавно новый импульс благодаря работе британского географа Мартина Ли (Lee: 1997). Если в рамках модели “трех М” для определения габитуса места внимание направлено прежде всего на формы образования общества, имеющие место в малых пространствах в городе (см. Dangschat 2004), то в концепции “габитуса большого города” сам город рассматривается как выражение идентифицируемых привычек, вкусов и свойств. Это изменение угла зрения Ли обосновывает, указывая на то, что города – это не просто пространства, в которых что-то происходит, или места, в которых протекают социальные процессы (об этой идее города как “вместилища” см. Löw 2001: 24). Ли подчеркивает производственный характер пространственных условий и, соответственно, говорит о “культуре места” как “кумулятивном продукте коллективной и осевшей в виде осадка истории этого места” (Lee 1997: 127).
Ссылка на особую и уникальную историю места сближает этот взгляд с идеей “форм габитуса как систем постоянных […] диспозиций”, которые у Бурдье (Bourdieu 1993: 98) – как, кстати, уже у Марселя Мосса и Норберта Элиаса – действуют “в качестве оснований для создания и упорядочивания практик и идей”. При таком подходе габитус понимается не только как изобретательный порождающий оператор (modus operandi), но и как уже произведенный продукт (opus operatum) условий его возникновения, которые сложились раньше и как воплощенная история влияют на настоящее, заставляя его казаться само собой разумеющимся. Указание на условия возникновения еще раз показывает, что габитус неотделим от социологических структурных категорий, таких как пол, класс и поле, т. е. что интерпретировать его следует не односторонне, в привязке к актору, а всегда еще и в социальной привязке. Это, впрочем, еще не дает нам ответа на вопрос, может ли (и если да, то в какой степени) концепция габитуса, нацеленная на описание социальных практик, эффективно применяться и к социально-пространственным образованиям, таким как “малые и большие города, регионы, страны” (Lee 1997: 126–127). Ведь риск ошибиться категорией – приписать городам психические свойства и телесные диспозиции[38] – нельзя устранить с помощью одних лишь подходящих формулировок, вроде “то, как город ведет себя” (Lee 1997: 133). В конце концов, “поведение города” не обязательно должно пониматься в буквальном значении, это выражение может стать объектом критики как упрощающая антропоморфизация.
Ли (Lee 1997: 127) это возражение отдельно не разбирает, он исходит из того, что “города имеют габитус, т. е. определенные относительно устойчивые (пре)диспозиции – склонность реагировать своим, очень особым образом на текущие социальные, экономические, политические и даже физические обстоятельства, на которые другие города, с иными габитусами, могут реагировать совсем по-другому”. В поддержку этой точки зрения автор упоминает (к сожалению, лишь вскользь – ibid.: 140) сравнительное исследование непохожих структур опыта и направлений развития двух английских городов – Манчестера и Шеффилда (Taylor et al. 1996). Сравнивая локальные практики, авторы этой работы показывают различные стратегии спасения от надвигающейся опасности постиндустриального упадка. Этот пример также демонстрирует, что “изначально существующая логика габитуса” (Lee 1997: 135) не только схематически воспроизводит материальные и социальные условия места[39], но и активно преобразовывает их: “Такой подход, на мой взгляд, позволяет нам сохранить понятие «воздействия места» – увидеть город, например, как создателя относительно автономных практик, согласующихся с его коллективной историей, но не обязательно являющихся неизбежными результатами этой истории” (Lee 1997: 134). Габитус большого города, как предполагается, выступает, с одной стороны, в качестве хранилища истории, поскольку он непрерывно воспроизводит особые условия и структуры места (“objective conditions”) посредством сформированных соответствующим образом свойств и диспозиций (“durable and adaptive dispositions”). С другой стороны, однако, эти свойства и диспозиции образуют предпосылку именно для тех практик и стратегий дифференциации (“relatively autonomous practices”), с помощью которых предзаданные условия и структуры места изменяются (“modified objective conditions”), что в долгосрочной перспективе может приводить к трансформации габитуса города (“modified habitus”)[40].
Как признает сам Ли, приведенные им по этому поводу замечания относительно габитуса города Ковентри (Lee 1997: 136–140) слишком поверхностны и неполны для того, чтобы с их помощью можно было эмпирически продемонстрировать, “как габитус большого города возникает, развивается и воспроизводится” (ibid.: 140). Кроме того, как уже стало ясно из сказанного о “габитусе места”, социальную составляющую габитуса можно выявить только применительно к конкретному полю, в котором это габитус “обитает”, в котором он “действует и которое он непосредственно воспринимает как осмысленное и представляющее интерес” (Bourdieu/Wacquant 1996: 162). Эта социологическая интерпретация применима и в городской антропологии: например, можно предполагать, что различные города со сравнимыми формами капиталов порождают сходную “orthe doxa” (ibid.). В соответствии с этой аналогией габитус такого города, как Ковентри, с одной стороны, может быть охарактеризован определенными признаками и свойствами, но, с другой стороны, в качестве особенностей габитуса они приобретают значение только по отношению к иным, принадлежащим к тому же полю, габитусам:
Как “здравое суждение” находит то, что “здраво”, т. е. словно бы не зная, как и почему, точно так же и совпадение диспозиций и позиции, чувства игры и самой игры заставляет актора делать то, что он должен сделать, при том что это не обязательно открыто заявляется в качестве цели, т. е. помимо всякого расчета и самосознания, помимо дискурса и представления (ibidem).
Если следовать этой точке зрения, габитус большого города не существует как таковой изначально: его нужно очерчивать, принимая во внимание определенные – или еще подлежащие эмпирическому определению – констелляции поля.
В соответствии с этой посылкой Рольф Линднер (Lindner 2003: 49) в своем эссе о “габитусе города” полагает, что “внешний облик того или иного города [вырисовывается] не из отдельных свойств, а из особой, проявляющейся в сравнении с другими городами, комбинации свойств”. При этом действует простое правило: “Различия наиболее заметны там, где и общего больше всего”. Как уже указывалось в параграфе о “городском габитусе”, здесь надо рассматривать “город в целом” (Lindner 2003: 49; Lindner/Moser 2006: 7) – включая его фактические и возможные отношения с другими городами, – так как невозможно заранее решить, какие признаки и диспозиции релевантны для определения его позиции по отношению к другим городам. Габитус города, таким образом, определяется “как система диспозиций и предпочтений” (Lindner, 2003: 50), которая раскрывается лишь постепенно, в отношении к габитусу сопоставимых городов, т. е. в системе объективных позиций и структур.
В качестве примера Линднер под заголовком “Города как вкусовые ландшафты” описывает отношения между двумя городами со сравнимыми структурами капитала и противоположными типами капитала – Парижем и Лос-Анджелесом. Оба города обладают большим культурным капиталом, который, однако, размещается на разных полюсах: в одном случае это “культура высшего общества (философия, haute couture, музеи, духи, литература, авторский кинематограф), в другом случае – это массовая культура (теория дизайна, мода для бутиков, тематические парки, глянец, сериалы, развлекательное кино)” (Lindner 2003: 52). В то время как в “культуре высшего общества” главенствуют изысканные стилистические формы, которые в жизненных пространствах с соответствующей эстетикой порождают сравнимые вкусы, для “массовой культуры” характерно то, что в ней эстетические компетенции не ограничиваются какими-то определенными областями: “Художники-декораторы работают в области промышленного дизайна, художники по костюмам работают модельерами или даже шьют одежду, художники-графики и писатели работают в рекламе, в упаковочном и полиграфическом производстве”[41]. Социальные акторы, действующие в описанных здесь полях, обязаны своими типичными характеристиками той позиции, которую они занимают в том или ином случае и которую они “в этой системе позиций и оппозиций отстаивают” (Bourdieu 1994: 110). Например, в области haute couture[42] так называемые предметы роскоши (articles de luxe) приносят специфическую выгоду – отличие от прочих, – если с их помощью подтверждаются или заново маркируются позиции, тогда как в поле культурной индустрии и “красивой иллюзии” (Lindner, 2003: 52) соответствующие выгоды и изменения позиций могут быть достигнуты и за пределами традиционных культурных сфер.
Для вопроса о городском габитусе имеет значение то, что здесь сравнение между Парижем и Лос-Анджелесом осуществляется на основе доминирующего типа капитала, в данном случае – культурного. Таким образом расширяется фокус, и не только отдельные, конкурирующие друг с другом продукты культуры (например, литература, живопись, театр vs. косметика, мебель, кино) располагаются в культурном силовом поле, но и само это поле превращается в средство различения: выявляются и используются для сравнения в равной мере и типичные, и типизирующие признаки (“светский” vs. “гламурный”). Однако насколько убедительным кажется на первый взгляд это сравнение, настолько оправданным будет и вопрос, ухватывает ли характеристика Парижа и Лос-Анджелеса как “вкусовых ландшафтов” в самом деле “главный вид капитала” (ibid.) для габитуса обоих городов. Ведь нельзя исключить – как подчеркивает сам Линднер (Lindner 2003: 47), говоря о разных типологиях городов, – “что большинство городов образуют смешанные типы, так что классифицировать их можно только в соответствии с преобладающей в том или ином случае экономической составляющей”. И даже если логика поля[43] и габитус обоих городов правильно описаны через выделенный здесь тип капитала, все еще остается более широкий вопрос о том, в каком отношении “логика городских вкусовых ландшафтов” находится с другими логиками – скажем, в политическом поле с его решениями, обязательными для множества людей, или в поле экономики с ее ориентацией на ограниченные ресурсы и положительное сальдо.
Преимущество концепции “габитуса города” заключается, несомненно, в том, что если удастся идентифицировать логику поля, то мы сможем расшифровать “город как целое” со всеми его материальными констелляциями, телесными практиками, социальными действиями и символическими связями. Правда, в этом случае сам габитус раскроется перед нами не с первого взгляда, а лишь постепенно, по мере того, как мы будем рассматривать его в соотношении с сопоставимыми диспозициями, привычками и практиками других городов. При этом нужно учитывать и отношения между позициями городов, связанных друг с другом в едином поле: пример этого мы видели выше, когда речь шла о Париже и Лос-Анджелесе, облик которых структурируют противоположные проявления одного и того же типа капитала[44]. Однако остается невыясненным (поскольку он здесь и не ставится) вопрос о соотношении между изучаемым нами полем и конкурирующими или доминирующими полями власти, которые тоже оказывают определенное влияние на габитус и отношения городов. Хотя и можно утверждать вслед за Бурдье, что каждое поле обладает “своей собственной логикой, своими специфическими правилами и закономерностями”, все же “каждый следующий шаг в членении поля означает подлинный качественный скачок”, который приводит в движение весь “ансамбль полей власти” (Bourdieu/Wacquant 1996: 135, 143).
Габитус городского региона
В концепции т. н. “ландшафтов знания” (KnowledgeScapes) понятие “габитус города” применяется к городским регионам (city regions) для того, чтобы таким способом включить в рассмотрение и те “разнообразные варианты «города как целого»” (Matthiesen 2005: 11), которые не вписываются в некие городские границы. Автор этого подхода Ульф Маттизен описывает его следующим образом: “Мы заимствуем понятие «габитус [большого] города» у Рольфа Линднера (Lindner 2004) [sic!], применяя его к знанию и операционализируя его дополнительно, вводя наши три аналитических уровня”[45]. Те “аналитические уровни”, о которых здесь идет речь, относятся к различным “основанным на знании” (Matthiesen 2005: 8) формам кооперации, которые располагаются на разных уровнях взаимодействия с точки зрения их социально-пространственной динамики[46].
На первом уровне располагаются “социальные среды знания” (Knowledge Milieus, KM), которым, как правило, не уделяется достаточного внимания в общественном восприятии. Они ориентируются на формы коммуникации и организации, типичные для данного жизненного мира, и представляют собой важный креативный потенциал. На том же самом уровне интеракций кроме них имеются еще так называемые “сети знания” (Knowledge Networks, KN), которые с ясными намерениями преследуют стратегические цели и ради этого уже образуют определенного уровня формальные организации. Смесь этих двух типов интеракции мы находим в “ландшафтах знания” (KnowledgeScapes, KS), ориентации и организационные формы которых могут сильно варьироваться и представать перед нами и как “мягкие”, и как “жесткие интеракционные сети”.
Локализуемые на среднем уровне “культуры знания” (Knowledge Cultures, KC) репрезентируют “гетерогенные множества культур знания”, которые образуются в результате взаимодействия в городском регионе между “специфичными для каждого случая интеракционными сетями, разными констелляциями форм знания и гибридными ландшафтами знания (KnowledgeScapes)” (ibid.: 10). В этот процесс оказываются вовлечены различные формы знания, которые уже систематически переводятся в соответствующие направления действия – в “культуры инноваций и креативности в обучении и конкуренции” (ibid.: 11).
Города и городские регионы, по мнению Маттизена (ibidem), различаются тем, как они интегрируют и/или используют формы знания, релевантные для того или иного интеракционного уровня, – “на системном уровне экономики и политики, равно как и в контекстах городской культуры и социальной жизни”. Чтобы категориально и концептуально описать очевидные различия в том, что касается обращения с основанными на знании стратегиями городского и регионального развития, на третьем интеракционном уровне (“the holistic integration level”) вводится наконец “габитус определенного городского региона” (ibid.: 9): “С помощью этого понятия мы хотим сфокусировать анализ и городскую политику на специфическом, основанном на знании, хотя и гетерогенном, «гештальте», который в первую очередь влияет на то, как мы в обыденной жизни различаем разные варианты «города как целого» («Париж – о ля-ля!»)” (ibid.: 11; курсив в оригинале).
Особенность этого подхода следует видеть в том, что наряду с намеченными здесь уровнями взаимодействия учитываются и связываются друг с другом также разнообразные формы знания[47], которые каждая своим специфическим образом формируют “гештальт” или “габитус городского региона”, “по которому мы можем опознать тот или иной город и сказать, чем он отличается” (ibid.: 11). Поэтому автор говорит о “познавательном повороте в исследованиях пространства” (ibidem, курсив в оригинале), преимущество которого он усматривает в том, что в нем учитывается “эвристическая комбинация вырабатываемых форм знания со специфическими уровнями интеракционной динамики” и используются ее возможности для изучения и/или различения городов и городских регионов.
На первый взгляд кажется, что использование понятия “гештальт” для характеристики “габитуса городского региона” подтверждает те сомнения, которые автор сам высказывает по поводу “категорий большого субъекта” (ibid.: 11). Однако это понятие не призвано воскрешать какие бы то ни было органические или холистические представления: оно лишь указывает нам на то, что знание о различиях между городами и городскими регионами не выводится из единичных феноменов и специфических особенностей городов, а наоборот, предполагает такое понимание их взаимосвязей, которое для каждого конкретного случая вырабатывается заново. И важен здесь не “хороший гештальт”[48], как в холистических концепциях: перечисление разнообразных “конфликтов знаний” (ibid.: 13–14) показывает, насколько антагонистичным и динамичным может оказаться взаимодействие разных форм знания в городских регионах. Таким образом, терминологическое употребление слова “гештальт” не унифицирует и не гармонизирует заранее того, что еще только предстоит свести вместе, – оно указывает на взаимосвязь “между разными вариантами «города как целого»” (ibid.: 11), которая в исследованиях, посвященных отдельным кейсам, или в сравнительных работах эмпирически нащупывается, однако на концептуальном уровне не учитывается.
Намеченный здесь “контекст совместной эволюции пространства и знания” (ibid.: 15), может, к тому же, рассматриваться как указание на то, что различные “сети”, “культуры знания” и “габитусы конкретного городского региона” находят свое специфическое для каждого случая выражение в том, как распределяется социальный капитал. Ведь характер отношений обмена на вышеназванных уровнях взаимодействия зависит не только от “релевантных типов совместной эволюции пространства и знания” (ibid.: 10): согласно Бурдье, наоборот, конкретное распределение структуры капитала определяет “возможность или невозможность (или, точнее говоря, большую или меньшую вероятность) того, что состоится тот обмен, в котором существование сетей себя проявляет и увековечивает” (Bourdieu/Wacquant 1996: 145). Значит, в данном случае “габитус городского региона” следовало бы объяснять логикой образования социального капитала, поскольку под ним имеется в виду “сумма актуальных и виртуальных ресурсов, которые достаются индивиду или группе в силу того обстоятельства, что они располагают устойчивой сетью связей, более или менее институционализированным взаимным знанием и признанием” (ibid.: 151–152). Согласно предлагаемой здесь интерпретации, так называемые “ландшафты знания” именно это и выражают применительно к городам и городским регионам специфичным для каждого случая образом.
4. Резюме
Все вышеизложенное строится на следующих соображениях:
1) Исходная проблемная ситуация заключается в том, что ни анализ единичных случаев, ни обобщающие утверждения – например, по поводу “Больших городов и духовной жизни” – не дают адекватного понимания “города” как предмета изучения. При этом отсылки к “логике практики” показали, что как логика отдельных волевых решений (“субъективизм”), так и логика подчинения особых случаев общим гипотетическим моделям (“объективизм”) приводят к односторонне искаженному пониманию предмета. В отличие от них, предложенная Пьером Бурдье концепция габитуса/поля дает возможность корректировки, поскольку в ней на примере отдельного случая демонстрируется, как созданные в практике схемы и общественные структуры взаимодействуют специфичным для каждого случая образом. При взгляде с позиций теории практики созданные габитусом “систематически занимаемые позиции” не поддаются ни интенциональному, ни структурно-аналитическому объяснению, но их специфическая логика (“собственная логика”) становится видна лишь во взаимодействии между структурированными и структурирующими диспозициями в социальном пространстве.
2) При помощи определения “социальный габитус” было разобрано взаимодействие габитуса и среды обитания. В этой связи стало очевидно, что городские пространства не только обеспечивают внешнюю рамку для действий, но и должны пониматься как место опосредования между объективными структурами и различными практиками. С точки зрения этого конститутивного значения действия, для концептуализации предмета изучения, обозначаемого как “город”, необходимо понимать все условия и отношения городского пространства в их взаимосвязи. Это относится к материальным, институциональным и символическим ресурсам города в той же мере, что и к социальным практикам и формам присвоения. Только после этого, как можно предполагать, станет понятно в каждом случае значение городского поля для отношений между позициями конкурирующих друг с другом акторов и институций.
3) Если формула “городской габитус” еще ничего не говорила о том, следует ли интерпретировать габитусы специфично для каждого города и имеют ли города собственный габитус, то в концепции “габитуса города” оба варианта уже связаны друг с другом. При таком подходе габитусные особенности того или иного “города как целого” еще не распознаются по индивидуальным привычкам, вкусам и свойствам: они раскрываются только в соотнесении с сопоставимыми признаками других городов. Однако необходимым условием для этого является знание специфической логики подлежащего изучению поля, а она, в свою очередь, тоже может быть идентифицирована лишь за счет анализа господствующих в том или ином случае габитусных признаков и диспозиций. Эта задача с герменевтическим кругом не поддается решению ни с помощью одних лишь концептуальных моделей, ни с помощью чисто эмпирического изучения отдельных случаев. Габитус города раскрывается только в совместном взаимодействии всех релевантных индивидуальных и структурных признаков, определить которые можно лишь in concreto.
Эту задачу не обязательно сразу рассматривать как неразрешимую: перспектива решения – в том, что и при изучении собственных логик городов исследователь постепенно обретает “систему вновь и вновь повторяющихся вопросов, которые можно задавать реальности” (Bourdieu/Wacquant 1996: 142).
Литература
Bourdieu, Pierre (1976), Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft, Frankfurt am Main.
– (1983), Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital // Kreckel, Reinhard (Hg.), Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt. Sonderband 2, Göttingen, S. 183–198.
– (1989), Mit den Waffen der Kritik… // Bourdieu, Pierre, Satz und Gegensatz. Über die Verantwortung des Intellektuellen, Berlin, S. 24–36.
– (1990), Was heißt sprechen? Die Ökonomie des sprachlichen Tauschs, Wien.
– (1991), Physischer Raum, sozialer und angeeigneter physischer Raum // Wentz, Martin (Hg.), Stadt – Räume, Frankfurt am Main/New York, S. 25–34.
– (1993), Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt am Main [рус. изд.: – в кн. Бурдье, Пьер (2001), Практический смысл, СПб, с. 49 – 280. – Прим. пер.].
– (1994), Zur Soziologie der symbolischen Formen, Frankfurt am Main.
– (1997), Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft, Konstanz.
– (1998a), Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns, Frankfurt am Main [рус. изд.:. Бурдье, Пьер (2001), Практический смысл, СПб. – Прим. пер.].
– (1998b), Vom Gebrauch der Wissenschaft. Für eine klinische Soziologie des wissenschaftlichen.
Feldes, Konstanz.
– (2001), Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft, Frankfurt am Main.
– (2006), Sozialer Raum, symbolischer Raum // Dünne, Jörg/Günzel, Stephan (Hg.), Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt am Main.
Bourdieu, Pierre/Wacquant, Loïc J. D. (1996), Reflexive Anthropologie, Frankfurt am Main.
Dangschat, Jens S. (2004), Konzentration oder Integration? – Oder: Integration durch Konzentration? // Kecskes, Robert/Wagner, Michael/Wolf, Christof (Hg.), Angewandte Soziologie, Wiesbaden, S. 45–76.
– (2007), Raumkonzept zwischen struktureller Produktion und individueller Konstruktion // Ethnoscripts, 9, 1, S. 24–44.
Dirksmeier, Peter (2007), Mit Bourdieu gegen Bourdieu empirisch denken: Habitusanalyse mittels reflexiver Fotografie // ACME: An International E – Journal for Critical Geographies, 6, 1, S. 73–97.
Foucault, Michel (1974), Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, Frankfurt am Main [рус. изд.: Фуко, Мишель (1994), Слова и вещи. Археология гуманитарных наук, СПб. – Прим. пер.].
Geipel, Robert (1987), Münchens Images und Probleme // Geipel, Robert/Heinritz, Günter (Hg.), München. Ein sozialgeographischer Exkursionsführer, Kallmünz/Regensburg, S. 17–42.
Heinrich, Klaus (1986), Anthropomorphe. Zum Problem des Anthropomorphismus in der Religionsphilosophie, Dahlemer Vorlesungen, Bd. 2, Basel/Frankfurt am Main.
Köhler, Wolfgang (1968), Werte und Tatsachen, Berlin.
Korzybski, Alfred (1973), Science and sanity. An Introduction to Non-Aristotelian systems and general semantics, New York [orig. 1933].
Lee, Martyn (1996), Relocating Location: Cultural Geography, the Specificity of Place and the City Habitus // McGuigan, Jim (Ed.), Cultural Methodologies, London/Thousand Oaks/New Delhi, p. 126–141.
Lindner, Rolf (2003), Der Habitus der Stadt – ein kulturgeographischer Versuch // Petermanns Geographische Mitteilungen, 147, 2, S. 46–53.
– (2005), Urban Anthropology // Berking, Helmuth/Löw, Martina (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte, Soziale Welt, Sonderband 16, S. 55–66.
Lindner, Rolf/Moser, Johannes (2006) (Hg.), Dresden. Ethnografische Erkundungen einer Residenzstadt, Leipzig.
Löw, Martina (2001), Raumsoziologie, Frankfurt am Main.
Matthiesen, Ulf (2005), KnowledgeScapes. Pleading for a knowledge turn in socio-spatial research, Berlin IRS Working paper, Erkner (www.irs-net.de/download/KnowledgeScapes.pdf. Letzter Zugriff 06.02.2008, 19 Seiten).
Molotch, Harvey (1998), Kunst als das Herzstück einer regionalen Ökonomie. Der Fall Los Angeles // Göschel, Albrecht/Kirchberg, Volker (Hg.), Kultur in der Stadt. Stadtsoziologische Analysen zur Kultur, Opladen, S. 121–143.
Park, Robert E./Burgess, Ernest W. (1984), The City. Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment, Chicago/London [orig. 1925].
Pinçon, Michel/Pinçon-Charlot, Monique (2004), Sociologie de Paris, Paris.
Simmel, Georg (1984), Die Großstädte und das Geistesleben // Simmel, Georg, Das Individuum und die Freiheit. Essais, Berlin, S. 192–204 [orig. 1903] [рус. изд.: Зиммель, Георг (2002), Большие города и духовная жизнь // Логос, 2002, № 3(34), с. 1 – 12. – Прим. пер.].
Schütz, Alfred (1974), Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie, Frankfurt am Main [orig. 1932].
Sennett, Richard (1997), Fleisch und Stein. Der Körper und die Stadt in der westlichen Zivilisation, Frankfurt am Main.
Taylor, Jan/Evans, Karen/Fraser, Penny (1996), Tale of Two Cities: Global Change, Local Feeling and Everyday Life in the North of England. A Study in Manchester and Sheffield, London.
Weigel, Sigrid (2002), “Zum topographical turn” – Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften // KulturPoetik, 2, 2, S. 151–165.
Текстура, воображаемое, габитус: ключевые понятия культурного анализа в урбанистике Рольф Линднер
Вместо довольно затруднительного вопроса “какова сущность места?” зачастую следовало бы задавать другой вопрос – “какие мечты могут быть связаны с ним?”.
Пьер СансоЧеловек, который редко бывает в Париже, никогда не будет до конца элегантным.
БальзакВ том, что города – это образования индивидуальные, каждый со своей биографией (т. е. историей), со своим образом мыслей (state of mind) и присущими им паттернами жизненных стратегий, никакого сомнения быть не может. Из нашего личного опыта мы знаем об этой индивидуальности, причем иногда с первой минуты нашего знакомства с городом. Кому не случалось, приехав впервые куда-нибудь и выйдя на привокзальную площадь, почувствовать желание тут же сесть в обратный поезд и уехать оттуда? Если научный подход к городам обычно называют бесстрастным, то личное наше соприкосновение с ними носит всегда сугубо чувственный характер: одни нам “нравятся”, другие мы “терпеть не можем”, одни нас “заинтересовали”, другие – “не тронули”, в одни нас “тянет”, а другие нас “выталкивают”, а какие-то просто “пьянят”. Поэтому сам факт индивидуальности вопросов не вызывает – вопрос скорее в том, почему нам так долго было столь трудно признать его и научным фактом. Для литературы, например, это никогда проблемы не составляло. Возможно, дело в ослепляющей профессиональной деформации – в том, что социология города в Германии есть порождение послевоенных десятилетий и с самого своего возникновения была вовлечена в градостроительное планирование, обусловленное необходимостью срочно восстанавливать разрушенное войной. В таких условиях вопросы индивидуальности были непозволительной роскошью.
По словам урбаниста-теоретика и градостроителя-планировщика Дитера Хофмана-Акстхельма, индивидуальности городов – это “культуры, которые определяют паттерн движения города; их нельзя создать искусственно – они произрастают” (Hoffmann-Axthelm 1993: 217). Понятно, что в эпоху, когда у городов есть художественные руководители, как у театров, и существует профессия “воображателя” (imagineur), слышать такое никому не нравится. Но в этом – не только беда городов, но и их потенциал, или, если угодно, культурный капитал каждого из них.
В своем наброске элементов теории городских индивидуальностей я воспользовался тремя аналитически различными, но перцептивно переплетенными друг с другом категориями: “текстура”, “воображаемое” (imaginaire) и “габитус” (Lindner 1996; 1999; 2003; 2006; 2007). Идею текстуры я позаимствовал из пребывавшего долгое время в забвении символически-репрезентативного подхода в урбанистическом анализе. Этот подход неразрывно связан с именем Ансельма Стросса, который в конце 50-х – начале 60-х годов опубликовал сначала статью, написанную совместно с историком Ричардом Волем, а затем монографию “Образы американского города” (Wohl/Strauss 1958; Strauss 1961) и тем самым открыл для социологии города целое новое поле. Воль и Стросс тоже говорили об индивидуальности городов, об их личности, их характере, который – особенно в США – выражается в использовании эпитетов, например “бурный, хриплый, задиристый” (“stormy, husky and brawling”), как в стихотворении “Чикаго” (1916) Карла Сэндберга. Для постижения города как живой сущности (living entity) необходимо учитывать его способность пробуждать воспоминания и его экспрессивные качества. Соответственно, Стросса интересовали то субъективное значение, которое город приобретает для жителей, и те представления, которые у них с ним связаны. Он показал, что эти представления не возникают мгновенно, а становятся результатом длительных процессов, в ходе которых каждое новое поколение горожан добавляет к символике города новые элементы или варьирует старые, – Стросс говорит в этой связи о “кумулятивных коннотациях”. Таким образом возникают и накапливаются тексты, и эти тексты со временем образуют текстуру, ткань, в которую город буквально вплетен и закутан, – это показал чикагский социолог-урбанист Джералд Д. Саттлс, подхвативший и развивший символически-репрезентативный подход Стросса в своей статье под программным заглавием “Кумулятивная текстура локальной городской культуры” (The Cumulative Texture of Local Urban Culture, 1984). Саттлс рассматривал локальную культуру в качестве одного из конститутивных факторов экономики. Чтобы понять биографию города, иными словами, понять, как он стал тем, что он есть в определенный момент времени, в том числе и с экономической точки зрения, необходимо учитывать кумулятивную текстуру локальной культуры, находящую свое выражение в образах, типизациях и коллективных репрезентациях как материального, так и нематериального рода, – от знаменитых туристических достопримечательностей, памятников и уличных табличек до исторических анекдотов, песен и городского фольклора. Текст Саттлса и по сей день сохраняет свое фундаментальное значение благодаря открытию той специфической логики, которой подчиняется “узор” городской текстуры. Важнейшая идея Сатллса – это “характерологическое единство культурных репрезентаций”, которое образуется из многоголосных вариаций на некую основную тему, задаваемую градообразующим сектором экономики, и ведет к формированию стереотипного образа, отличающегося большой долговечностью. Эти вариации возникают благодаря мнемонической связи, создаваемой, по мнению Саттлса, прежде всего журналистами, использующими клише (formulaic journalists), и прочими культурными экспертами. Эти акторы вновь и вновь пользуются старыми добрыми штампами, но чуть-чуть изменяют их за счет сравнений, вариаций и частичного добавления нового: “Эта мнемоническая связанность и предполагаемое характерологическое единство – одна из причин постоянства городской культуры” (Suttles 1984: 296). Я неоднократно говорил о примере Чикаго – он обладает тем преимуществом, что у этого города имеется очевидный “пратекст”, который по сей день, несмотря на все экономические перемены, определяет восприятие его своими и чужими: это уже упоминавшееся стихотворение “Чикаго”, в котором Карл Сэндберг воспевает его как “Город Широкоплечих” (City of the Big Shoulders) – абсолютное воплощение рабочего города: “Смеющийся бурным, хриплым, задиристым смехом Молодости, полуголый, потный, гордящийся быть Мясником, Инструментальщиком, Укладчиком снопов, Железнодорожником и Грузчиком Нации” (Sandburg 1948: 24). Это стихотворение намертво вписано в коллективную память города. Еще в 2005 году Леон Финк, профессор истории труда в Иллинойском университете, приветствовал делегатов Второго всемирного конгресса профсоюзного объединения “Union Network International”, проходившего в Чикаго, в “Городе Широкоплечих”, словами:
Хотя делегаты UNI увидят город, совсем не похожий на тот, который воспел в 1916 году Сэндберг, они, тем не менее, почувствуют пульс самого “рабочего города” нашей страны. Ведь даже после того, как глобальная коммерция вытеснила производство, свидетельством чему является смерть трех китов индустрии – железных дорог, мясокомбинатов и металлургических предприятий, – на которых раньше держалась экономическая жизнь города, все равно в гражданской культуре Чикаго по-прежнему доминирует характерная эгалитарная этика “синих воротничков” (Fink 2005).
Гимн “Городу Широкоплечих”, характеристика его как “самого рабочего города страны” (без работы!) и сам тот факт, что именно в нем, а не в каком-либо другом американском городе проходит всемирный профсоюзный конгресс, – всё это парадигматический пример характерологического единства культурных репрезентаций.
Город как культурно кодированное пространство, пронизанное историей и историями, образует универсум представлений, который перекрывает физический город постольку, поскольку являет собой пространство, познаваемое и переживаемое сквозь сопровождающие тексты и изображения. Города – не чистые листы, а нарративные пространства, в которые вписаны определенные истории (о значительных людях и важных событиях), мифы (о героях и негодяях) и притчи (о добродетелях и пороках). Эта нагруженность смыслами может быть настолько велика, что достаточно бывает произнести название города (Берлин!), чтобы вызвать целый набор представлений. В своей совокупности такие представления, насыщенные историей, образуют “воображаемое” города – “набор смыслов, связанных с городом, которые возникают в конкретный момент времени и в конкретном культурном пространстве” (Zukin et al. 1998: 629). Воображаемое города (imaginaire urbain, urban imaginary) в последние годы стало важным дискурсивным полем (примеры: Bélanger 2005; Bloomfield 2006; Lindner 2006). Канадский географ Пьер Делорм пишет: “Подобно многим другим исследователям – и таких становится все больше и больше – я полагаю, что город можно понять через функцию центрального понятия воображаемого. Понимание города начинается с понимания того представления о нем, которое складывается у его жителей. Это подводит нас к самой сердцевине анализа города” (Delorme 2005: 22). Такой интерес к воображаемому объясняется не в последнюю очередь быстро возросшей в ходе глобализации конкуренцией между городами, в контексте которой воображаемое города превращается в ту символическую сферу, “где идет соревнование за пространство и места” (Bloomfield 2006: 45). Конечно, если связывать дискурс воображаемого с глобальной конкуренцией городов, то легко можно приравнять воображаемое (imaginaire) к имиджу (image). Но между ними есть разница: имидж планируется и создается; с экономической точки зрения он рассматривается как релевантный для развития города инструмент управления. В качестве такого инструмента имидж сродни политической идеологии, о которой Теодор Гайгер сказал, что она представляет собой “убеждающее содержание”, которое может распространяться. Поэтому мы можем сказать, что имидж – это идеология товара. Приравнивать воображаемое к имиджу – значит неверно толковать его как сознательно сотворенное, пронизанное коммуникативными стратегиями представление вместо того, чтобы видеть в нем скрытый слой реальности. В отличие от идеологии, воображаемое не знает слова “зачем”, настаивал французский антрополог и социолог Пьер Сансо, оно никогда не служит никакому делу, в чем бы оно ни заключалось. Но именно поэтому оно делает из произвольного места особое. Имидж – это только поверхность, а воображаемое, в отличие от него, сродни коллективным представлениям, как описывал их Эмиль Дюркгейм, т. е. как сумму латентных диспозитивов. При таком понимании мы можем по аналогии с порождающей трансформационной грамматикой Ноама Хомского говорить о глубинной грамматике городов. Она существует до имиджа, или, точнее, до имиджевой кампании; она – фильтр, который определяет, убедителен ли “образ”. Кампания по созданию имиджа, равно как и политическая идеология, может быть успешной только в том случае, если она встраивается в некое смысловое целое (в том значении, какое придавал этому выражению Эрнст Кассирер). Мой тезис заключается в том, что все стратегии инсценирования, репрезентации и перекодирования должны ориентироваться на критерии убедительности, т. е. на то, насколько представимы и правдоподобны “утверждения”, которые связаны с воображаемым. Последнее не является ни противоположностью реальности, ни ее простым воспроизведением (в смысле отображения): воображаемое – это другой, поэтически-образный способ вступать в контакт с реальностью. Воображаемое возвышает, сублимирует и уплотняет свой объект (город, место), так что мы оказываемся в состоянии видеть его с большей ясностью, резкостью и “глубиной” (Sansot 1993: 413). Это “supplement d’ame” (Cherubini), которое нас охватывает – дополнение, благодаря которому мы не просто остаемся жить в городе, но и грезим о нем.
На примере очерченных здесь текстуры и воображаемого становится очевидно, что “культурный поворот” в урбанистике означал усиление внимания к сравнительно устойчивым “диспозициям” городов. Это относится также – и даже в особой мере – к нашей третьей категории – “габитусу”. Как бы мы ни определяли “габитус”, это понятие всегда подразумевает нечто сложившееся, направляющее действия и управляющее причинностью вероятного за счет того, что оно “подсказывает” нечто определенное на основе вкуса, склонностей и предпочтений, короче говоря – диспозиций. Говорить о габитусе города в таком смысле – значит утверждать, что и городам, в силу закрепившихся “биографических” паттернов, одни линии развития ближе, другие – более чужды. “Габитус” описывали с помощью различных аналогий и метафор: как интеллектуальный канал между былым опытом и будущими действиями, как матрицу паттернов восприятия, оценки и действия, или как призму, в которой преломляется всякий новый опыт. Какие бы аналогии и образы ни применять (а к уже упомянутым можно было бы добавить еще образы фильтра и шлюза), главное всегда в том, чтобы подчеркнуть, что существует некая инстанция, которая предшествует всему и поэтому управляет реакцией на внешние воздействия и влияния, проверяя их на адекватность и совместимость. Несомненно, здесь бросается в глаза сходство с концепцией “зависимости от пройденного пути”, и нынешняя популярность этой концепции в социологии хозяйственной жизни и в экономической науке следует рассматривать как свидетельство возросшего учета роли культурных факторов. Для габитуса характерны два эффекта: во-первых, это эффект гистерезиса (инерции), который может проявляться, помимо всего прочего, в том, что габитусные диспозиции и культурные схемы “ковыляют следом” за экономическим и технологическим развитием – или, скажем более изящно, “вторят ему с интервалом”; этот эффект подобен “культурному запаздыванию”, о котором говорит социолог Уильям Ф. Огбёрн. Во-вторых, это эффект направления (формула создания, как выразился Бурдье), подсказывающий определенный выбор вариантов и направлений. В одном из своих последних текстов, опубликованном посмертно, Бурдье сравнивает габитус с тем, что традиционно называют “характером”, – “набор приобретенных [курсив в оригинале] характеристик, которые являются продуктом социальных условий и которые по этой причине могут быть полностью или частично одинаковы у людей, являющихся продуктами одинаковых социальных условий” (Bourdieu 2005: 45). Эта аналогия верна сразу в двух смыслах: она указывает на относительную устойчивость габитуса как системы унаследованных предрасположенностей (в смысле инкорпорированного фамильного культурного наследия) и приобретенных установок, а также указывает на то, что Ульф Маттизен назвал “гештальтом”, – это холистическая (ужасное выражение!) концепция, обращающая наше внимание на практическую систематичность (practical systematicity) габитуса:
[…] во всех элементах его или ее поведения есть нечто общее, какая-то стилистическая родственность, как в произведениях одного художника или, если взять пример из Мориса Мерло-Понти, как почерк человека, в котором мы всегда сразу узнаем его стиль, даже если он пишет такими разными инструментами, как карандаш, ручка или мел, на таких разных поверхностях, как лист бумаги или доска (Bourdieu 2005: 44).
Когда Бурдье говорит о габитусе как характере, он указывает на то, что существует нечто вроде красной нити, проходящей через все действия, или сигнатуры, типичной для всех текстов, чем бы и на чем бы они ни были созданы. Можно ли это просто взять и перенести на города? Я думаю, что Бурдье сам дает нам решающую подсказку: разве сами его рассуждения не являются рассуждениями парижанина? Ведь они кружат вокруг понятия, ключевого для всего истинно парижского: вокруг “стиля”.
Когда я пытался подступиться к габитусу Парижа, я подчеркивал, что для того, чтобы в Париже преуспеть – будь то в качестве кутюрье или философа, шеф-повара или политика – надо обладать стилем, манерами, выдавать работу, которую “не стыдно показать в свете” (Lindner 2003). Чем это объяснить? Отправной точкой любого анализа габитуса городов должно становиться генетическое выявление определяющего сектора местной экономики и той группы, которая его обеспечивает. При этом необязательно габитус должен порождаться тем, что имеет более долгий срок жизни. Как раз при экстремальных переломах – например, таких, какой вызвало появление тяжелой индустрии в Рурской области, – исторически предшествующие формации вытесняются и как бы оказываются в забвении. С другой стороны, мы можем констатировать процессы, отличающиеся поразительно “большой длительностью”, при которых сохраняет свое действие порядок, по сути своей являющийся наследием истории. Облик города в таких случаях определяется экономической и социальной историей, которая в современности, может быть, сказывается не повсеместно, а лишь в отдельных точках, но все равно она продолжает накладывать свой отпечаток на город. Это можно наблюдать, в частности, в бывших городах-резиденциях, которые до сих пор сохраняют свой репрезентативный характер, чему в решающей степени способствует их соответствующий облик. Мы с Иоганнесом Мозером попытались показать это на примере Дрездена, который для нас является символическим городом-резиденцией (Lindner/Moser 2006). Символичность его обретает материальное воплощение не только в постройках и сокровищах искусства, но также – и прежде всего – в традиции “изящных” производств. Указав на определяющий сектор городской экономики, мы направляем внимание на центральный формообразующий фактор города в целом. Определяющий сектор городской экономики проявляется не только в соответствующих промышленных и административных учреждениях и постройках (от фабричных корпусов и заводоуправлений до выставочно-ярмарочных комплексов) и связанной с ними инфраструктуре, но и в потребительских, культурных и досуговых центрах, отвечающих потребностям, интересам и способам самовыражения тех акторов, которые связаны с этими предприятиями. Ведь сразу понятно, что город, чья основная масса потребителей – это фабричные рабочие, будет иметь другую атмосферу, другой вкусовой ландшафт, нежели город, который определяется этосом статусного потребления (термин Норберта Элиаса). Город, в котором располагаются штаб-квартиры региональных концернов и который не в последнюю очередь служит для расходования прибыли, как, например, Дюссельдорф, обзаводится и соответствующей инфраструктурой потребительской культуры: это ярмарки моды, магазины модной одежды, антиквариата и искусства, а также рекламные агентства, школа прикладных искусств, академия художеств и многое другое, что полагается для эстетизации и стилизации жизни. Говорят, что на Кёнигсаллее (“Кё”) по сей день самые высокие в ФРГ цены на аренду коммерческой недвижимости. Если довести эти рассуждения до логического предела, то можно утверждать, что не случайно – т. е. не будучи независимой от места – “Новая Немецкая Волна” около 1980 г. началась в Дюссельдорфе, в пивной “Ратингер Хоф”, – эпицентре местной художественной богемы, группировавшейся вокруг Бойса.
Если говорить об определяющем секторе городской экономики, то применительно к Парижу естественно думать о традициях этого города как центра искусств, моды и роскоши. Особую роль играет здесь уже со второй половины XVI в. специфическая группа товаров – так называемые articles de Paris, они же articles de luxe или articles de gout, – которая по сей день считается воплощением предметов роскоши, так как это вещи в буквальном смысле ненужные, излишние. Основу их составляют предметы декора, украшения, отделки. Именно этим товарам обязаны своим существованием пассажи, давшие название великой книге Вальтера Беньямина о Париже: это центры торговли предметами роскоши, предшественники появившихся во второй половине XIX столетия grand magasins, которые поначалу тоже торговали исключительно так называемыми Nouveautés, т. е. модными тканями, бельем, украшениями и всем, что касалось внешнего лоска. Здесь мы отчетливо видим, что характерный облик Парижа в значительной мере определялся торговлей такими предметами и аксессуарами, как птичьи перья, шелковые цветы, кайма. А уж если зашла речь о роскоши и светскости, то можно было бы указать на “высокую моду” в качестве части вместо целого, если бы при этом мы не упускали из виду структурное подобие “между полем производства одной особой категории предметов роскоши, а именно модных товаров, и полем производства другой категории предметов роскоши, а именно – легитимных культурных товаров, таких как музыка, поэзия, философия и т. д.” (Bourdieu 1993: 187). Светский габитус, если это не причуда, должен был бы распространяться, хотя бы в тенденции, на все сферы культуры. И в самом деле, для исследователя, интересующегося реконструкцией вкусовых ландшафтов, Париж, где вкус и интеллект сливаются воедино, представляет собой чуть ли не идеальный пример ландшафта, пронизанного разными проявлениями утонченности. Поэтому необходимо обращать внимание на достижения “искусств” в самом широком смысле этого слова – от “декоративно-прикладных” до “искусства жить красиво”. Симптоматичным мне кажется и то, что там, где в немецком языке мы говорим о культуре (Tischkultur – “культура поведения за столом”), во французском говорят об искусстве (art de la table – “искусство поведения за столом”). Париж не в последнюю очередь представляется таким светским потому, что этот город – обитель и “высокой моды”, и “высокой философии”; здесь существует не только светская мода, но и светская литература, и светская философия. “Утонченность” и “вкус” образуют здесь две стороны одной “элегантной жизни” (vie élégante) как наивысшей формы самопрезентации. Именно игровая сфера этой “элегантной жизни” собирает вместе “аристократов духа, аристократов власти и аристократов коммерческого усердия”, как писал Бальзак, в котором мы имеем полное право видеть собрата Бурдье, анализировавшего общество. Кстати, – и это кажется мне очень показательным – оба они писали о светской моде. Статья Бальзака “Об элегантной жизни”, которую он написал для великосветского журнала “La Mode”, содержит в себе мысли, например, о гармоничности как принципе элегантности – и подобные же рассуждения мы находим в работе Бурдье о “тонком различии”. Не случайно Бальзак говорит об “аристократии” духа, власти и коммерческого усердия. Парижская культура, пишет Серджо Бенвенуто, – это популяризированная аристократия (Benvenuto 2004), и даже парижское простонародье сознает исключительность своего положения. Не случайно, когда говорят о модных фирмах, их называют “домами” моды, указывая тем самым на происхождение, которым они обязаны аристократии. В общем, здесь по-прежнему сохраняется изысканность манер городской аристократии XVIII столетия, задававшей тон всей Европе (Fumaroli 2003).
По мнению Бурдье, одна из причин, по которым нельзя обойтись без понятия габитуса, заключается в том, “что с его помощью можно объяснить то постоянство диспозиций, вкуса, предпочтений, которое заставляет ломать голову неомаргиналистскую экономику” (Bourdieu/Wacquant 1996: 165). Это же касается и жилых пространств. Ни в чем другом не проявляется так отчетливо постоянство и даже упрямство, как в проблемах, на которые наталкиваются попытки изменить имидж города или то, что мы назовем интернализованными паттернами. На сегодняшний день в немецкоязычном ареале уже имеются первые эмпирические исследования по габитусу городов. Наряду с уже упоминавшимся дрезденским проектом следует упомянуть прежде всего диссертацию Лутца Муснера “Вена как вкусовой ландшафт” (Musner 2007), которая представляет собой первую исчерпывающую монографию о “культуре и габитусе одного города”. Символически определяющими отраслями экономики, оказывающими значительное влияние на репутацию и имидж Вены, стали, как указывает Муснер, идущие еще из императорских времен “индустрии вкуса” – придворная кондитерская “Demel” с ее тортом “Захер” и прочими сладостями, фирма столовой посуды “Lobmeyr”, фарфоровый завод “Augarten”, компания по производству роялей и пианино “Bösendorfer Manufaktur”, – которые в последние два десятилетия, взяв на вооружение новую моду и дизайн, объединяются в “экономику притязательных запросов”. При этом обнаруживается, что “покрой” этих товаров и в буквальном, и в фигуральном смысле не столько аристократически-светский, как в Париже, сколько выглядит выражением культурных претензий той группы, которая задает тон. Исследования, посвященные “габитусу” города, “характеру” конкретных мест, дают ответы на распространенные сегодня комментарии, описывающие нынешний постмодерный мир как лишенную пространственной специфики, а значит и различий плоскость, которая растворяется в универсальной структуре потоков (flows). Поскольку это считается результатом неостановимого процесса движения капиталов, то кажется, что конкретное место безразлично для протекания экономических процессов. Но работы, изучающие габитус, показывают, что в мире, в котором мы живем, пространство не стало менее важным, – как раз наоборот, оно приобрело, причем именно благодаря процессу глобализации, большее значение – в двояком смысле.
Что еще остается сказать
“Раньше в метро был совершенно особенный запах. Меня можно было бы спящим перенести в Париж, и я по этому запаху узнал бы, где нахожусь”, – пишет Гернот Бёме в своем эссе об атмосфере города (Böhme 1998: 149). Пусть запах парижского метро теперь уже выветрился или его уничтожили дезодорантами, но до сих пор существуют запахи, которые связаны у нас с определенными местами, определенными районами. А у социологов город – это обычно место, которое ничего не говорит нашим органам чувств; мы его не слышим, не чувствуем ни его запаха, ни его вкуса, так что, строго говоря, город становится своего рода “ничейным пространством”, “не-местом”[49]. В работах социологов мне предлагается неопознаваемый город, жаловался в одном из интервью Пьер Сансо, – разбитое на схемы образование, в котором не находят себе места те аспекты города, которые действительно меня трогают в прямом смысле этого слова. Где же чувственные впечатления, где настроения, где мечты, связанные с городом? Разве не эти “ненастоящие” вещи делают для нас город “настоящим”? У каждого города есть свой “способ существования” (manière d’etre), объяснял Сансо в том же интервью, и именно на этом “способе” и основана его индивидуальность. Три представленных выше компонента анализа города – текстура, воображаемое и габитус – вместе, как мне кажется, дают нам метод, позволяющий лучше прослеживать индивидуальность городов.
Литература
Balzac, Honoré de (2002), Pathologie des Soziallebens, hg. v. Pankow, Edgar, Leipzig [рус. изд.: Бальзак, Оноре (1995), Физиология брака. Патология общественной жизни. Москва. – Прим. ред.].
Bélanger, Anouk (2005), Montréal vernaculaire/Montréal spectaculaire: dialectique de l’imaginaire urbain // Sociologie et Sociétés, vol. XXXVII, Nr. 1, p. 13–34.
Benvenuto, Sergio (2004), Die Mysterien von Paris // Lettre International, Nr. 67, S. 35–44.
Bloomfield, Jude (2006), Researching the Urban Imaginary: Resisting the Erasure of Places // European Studies, Bd. 23, hg. v. Weiss-Sussex, Godela/Bianchini, Franco, Amsterdam/New York, S. 45–61.
Böhme, Gernot (1998), Die Atmosphäre einer Stadt // Breuer, Gerda (Hg.), Neue Stadträume, Frankfurt am Main/Basel, S. 149–162.
Bourdieu, Pierre (1993), Haute Couture und Haute Culture // idem, Soziologische Fragen, Frankfurt am Main, S. 187–196.
– (2005), Habitus // Hillier, Jean/Rooksby, Emma, Habitus: A Sense of Place, Hillier, Jean/Rooksby, Emma, 2. Aufl., London, S. 43–49.
Bourdieu, Pierre/Delsaut, Yvette (1975), Die neuen Kleider der Bourgeoisie // Kursbuch Nr. 42, S. 172–182.
Bourdieu, Pierre/Wacquant, Loic (1996), Reflexive Anthropologie, Frankfurt am Main.
Cherubini, Bernard (1995), L’ambiance urbaine: un défi pour l’écriture ethnographique // Journal des anthropologues, Nr. 61–62, p. 79–87.
Delorme, Pierre (2005), De l’école de Chicago à l’imaginaire urbain // ders. (dir.), La Ville autrement, Sainte-Foy 2005, p. 9 – 27.
Fink, Leon (2005), Chicago – a city of big shoulders and a long labor history, union-network.org/unisite.
Fumaroli, Marc (2003), Als Europa französisch sprach // Sinn und Form, 55. Jg., S. 149–162.
Hoffmann-Axthelm, Dieter (1993), Die dritte Stadt. Bausteine eines neuen Gründungsvertrags, Frankfurt am Main.
Lindner, Rolf (1996), Der Habitus der Stadt, Vortrag gehalten auf der deutschfranzösischen Tagung Anthropologie der Stadt/Anthropologie de la Ville, Berlin, 12./13. Januar 1996.
– (1999), The Imaginary of the City // BFWV/IFK (Hg.), The Contemporary Study of Culture, Wien 1999, S. 288–294.
– (2003), Der Habitus der Stadt. Ein kulturgeographischer Versuch // Petermanns Geographische Mitteilungen, Bd. 147, S. 46–53.
– (2006), The Gestalt of the Urban Imaginary // European Studies, Bd. 23, hg. v. Weiss-Sussex, Godela/Bianchini, Franco, Amsterdam/New York, S. 35–42.
– (2007), The Cultural Texture of the City, Conference Paper, published electronically.
Lindner Rolf/Moser, Johannes (2006) (Hrsg), Dresden. Ethnographische Erkundungen einer Residenzstadt, Leipzig.
Lindner, Rolf/Musner, Lutz (2005), Kulturelle Ökonomien, urbane “Geschmackslandschaften” und Metropolenkonkurrenz // Informationen zur modernen Stadtgeschichte, Nr. 1, S. 26–37.
Musner, Lutz (2007), Wien als Geschmackslandschaft. Kultur und Habitus einer Stadt, Habilitationsschrift, Berlin.
Sandburg, Carl (1948), Guten Morgen, Amerika!, Berlin.
Sansot, Pierre (1993), L’imaginaire: la capacité d’outrepasser le sensible // Société, vol. 42, p. 411–417.
Strauss, Anselm (1961), Images of the American City, New York.
Suttles, Gerald D. (1984), The Cumulative Texture of Local Urban Culture // American Journal of Sociology, vol. 90, p. 283–304.
Wohl, R. Richard/Strauss, Anselm (1958), Symbolic Representation and the Urban Milieu // American Journal of Sociology, vol. 63, p. 523–532.
Zukin, Sharon et al. (1998), From Coney Island to Las Vegas in the Urban Imaginary // Urban Affairs Review, vol. 33, p. 627–654.
Собственные логики городских ландшафтов знания: о динамике коэволюции в развитии городов и знания в городских knowledgescapes Ульф Маттизен
1. Знание городов и специфика его констелляций: вводные замечания и основной тезис
Как соотносятся друг с другом город (регион) и знание? Урбанистика и городская политика в последние двадцать лет дали два принципиальных ответа на этот вопрос.
Одна позиция, имеющая определяющее значение для формирования критического мейнстрима последних десятилетий, основана на принципиально скептическом отношении к роли “постфордистских” индустриальных городов в производстве знания (и наоборот). Подкрепляется эта позиция давними сомнениями относительно того, могут ли материальные инфраструктуры вообще оказывать каузальное воздействие на интеллектуальные виды деятельности, не зависящие от места своего осуществления, и на формы креативности, выходящие за пределы такого места. Вместе с тем, данная позиция выдвигает на первый план эффекты открепления, возникающие за счет печально известного “пространства потоков” (space of flows, см. Castells 1996, а также § 2 этой статьи), и подчеркивает исходящие от глобальных высокотехнологичных коммуникационных сетей и финансовых потоков импульсы, ведущие к деспатиализации и синхронизации различных процессов.
Другая, противоположная этой позиция, которая в последние годы стала пользоваться большой популярностью, с программным оптимизмом славит “Город” (имея в виду город вообще, но обычно большой) как мотор и инкубатор новых комбинаций знания и пространства, а иногда даже как естественную среду обитания форм хозяйствования, основанных на знании, с их “sticky knowledge places” и креативными инновационными прорывами. Словно универсальные “выкройки”, годные для всех перспективных стратегий развития городских регионов, разные комбинации связки “знание+город” демонстрируются как выставочные образцы городской политики: “город знания”, “город науки”, “наукоград” и т. п.
Обе эти позиции, как бы они ни контрастировали друг с другом, скорее всего ошибочны. Однако они относительно осмысленны в качестве крайних точек некоего континуума новых комбинаций “город+знание+социальная среда”, которые реструктурируют динамику развития городов и в особенности накладывают определяющий отпечаток на индивидуальное лицо каждого города. В обширных пространствах действия и дискурса между этими крайними точками обнаруживаются всё более конкретные, специфичные для отдельных случаев структурные связки между развитием города, развитием различных сетей и развитием знания. Это – новые процессы коэволюции, т. е. они не характеризуются односторонним каузальным детерминирующим воздействием одного на другой. Разнообразие представленных в них форм тесных связок и мимолетных соприкосновений очень велико. Чтобы эти процессы изучать, я ввожу эвристическую концепцию городских ландшафтов знания (KnowledgeScapes – см. Matthiesen 2005; 2007a; 2007b). C ее помощью можно уточнить центральный тезис данной статьи:
Структуры и пути развития городских регионов, а также их индивидуализированные траектории всё больше и больше определяются спецификой динамики коэволюции в области формирования знания, пространства и сетей. Поэтому комбинации знания и пространства вносят важнейший вклад в профилирование индивидуализированных городских процессов и их динамики, причем роль этих комбинаций настолько велика, что мы можем говорить об “основанных на знании” собственных логиках развития городов. Это одновременно означает, что специфика “габитуса города” (Lindner 2003; см. также § 4 этой статьи) всё больше определяется реконструкцией важнейших для того или иного городского региона ландшафтов знания, их арен и акторов.
Если этот тезис удастся подтвердить посредством систематических попыток опровержения, то это не только будет иметь последствия для урбанистики, но и окажет заметное влияние на градостроительное планирование, политику городского развития, проектирование облика и идентичности городов, а также на формы муниципального управления и процессы брендинга: везде в таком случае потребовался бы более систематический учет специфичного для каждого города и формирующего его габитус структурного уровня коэволюции социальных сред, знания и городских пространств. Только тогда у нас была бы надежда, что мы сможем участвовать в структурировании динамики развития городских регионов, подчиняющейся собственной логике. “Знание городов” (см. Matthiesen/Mahnken 2009) вместе с его институциональными формами распределения – между разными вариантами развития, между новыми диспропорциями знания, создающими препятствия альянсами и специфическими формами “урбанизации” знания – приобретает в таком случае ключевую роль как для новой разновидности урбанистики, так и для городской политики, ориентированной на специфические социальные среды (Breckner в Matthiesen/Mahnken 2009).
Центральный тезис о специфических, определяющих облик города ландшафтах знания и о действующих по собственной логике, основанных на знании формах габитуса городов я буду обосновывать посредством следующих семи шагов:
1) ретроспективный обзор господствовавшей в течение долгого времени парадигмы информационного общества с ее подпарадигмами общества услуг;
2) описание основных вариантов динамики развития городов, основанной на знании;
3) их спецификация в контексте дискуссии о габитусе города;
4) уточнение эвристической техники изучения ландшафтов знания;
5) два небольших кейса (Йена, Берлин/Бранденбург), на основе которых очерчиваются типичные признаки конкретных городских ландшафтов знания и вариантов их развития;
6) выводимые из сказанного аргументы в пользу смены парадигмы в социологии города;
7) обобщающие замечания о необходимости новой урбанистики – компаративной, опирающейся на этнографический материал.
По ходу текста будут даны краткие методологические замечания касательно “больших субъектов”, соотношений микро – и макроуровня, а также ориентирующейся на Георга Зиммеля программы объяснения города через реконструкцию его “индивидуального закона” в виде специфичного для него центрального кода.
2. За освобождение урбанистики из тесных рамок парадигм информационного общества и общества услуг
На пути к изучению комбинаций “город+знание” необходимо прежде всего отличать друг от друга данные, сведения, знание и обучение. Данные будут здесь вводиться как наблюдаемые различия; сведения, в таком случае, это различия, имеющие значение (differences that make a difference, как выразился Вацлавик с его любовью к сдвоенным структурам); для этого данные нужно рассматривать в такой системе определения релевантности, которая позволяет увидеть различия. И, наконец, знание – это когнитивная операция с гораздо более притязательной избирательностью.
Одна из важнейших функций знания – упорядочивание и структурирование экспоненциально растущей массы сведений посредством релевантных данных, помещение их в обозримые контексты и исключение иррелевантных сведений с целью обеспечить акторам способность к деятельности. Здесь я опираюсь на работы ключевых представителей американского прагматизма (Пирс, Мид, Дьюи), которые установили, что формы знания – это формы компетенций, открывающие, в свою очередь, пространства и опции для действия (“knowledge as practice”, Knorr Cetina 1999); точно так же установлено – по крайней мере со времен появления теории речевых актов (Остин, Серль), – что речь систематически связана с уровнем деятельности (ср. обещание, информирование, утаивание, обман). Знание во всех своих формах при этом систематически связано с процессом социального установления смысловых связей (sense-making). Таким образом, знание включает в себя в качестве важнейших составляющих сравнения, выводы, ассоциации и диалогические практики; оно связано с опытом, суждением, интуицией и оценкой, одним словом – со “смыслом” в структурно-логическом понимании (т. е. не в том значении, в каком мы говорим о “смысле жизни”). В то же время знание всегда представляет собой результат процессов обучения. Поэтому категории “обучение” и “процессы обучения” можно ввести, определяя их как “созданную и подтвержденную в процессе коммуникации, т. е. проверенную и одобренную, практику, в которую в подходящей точке встраиваются сведения [и данные – У.М.] и в которой социальные практики спрессовываются в связанные с действием и направляющие его паттерны” (Willke 2002: 17). Отсюда становится отчетливо понятно, что любое производство знания и любая его передача связаны с процессами обучения. Несколько огрубляя, можно охарактеризовать знание как продукт, а обучение как процесс. Эти определения понятий, опирающиеся на данные исследований, как мы увидим далее, имеют непосредственные следствия для установления отношений между городом и знанием.
Space of place / space of flows
Прежняя, доминировавшая в 1980-х и в первой половине 1990-х годов, парадигма информационного общества оценивала политику правительств в области инноваций, коммунальную политику и городские исследования прежде всего под углом зрения форсированного строительства коммуникационно-технологических инфраструктурных сетей. Кодифицированные информационные процессы и квантитативные потоки данных и сведений в мировых сетях считались ultima ratio и главным содержанием сегодняшнего (на тот или иной момент) дня. В том, что касалось структуры расселения и муниципальной политики, при господстве информационной парадигмы в градостроительной теории и практике решительно делался выбор в пользу изолированного размещения учреждений, работающих со знанием, – “в чистом поле”, а не в контекстах кампусов и техно-парков. Конкретные места и городские пространства в центре с их возбужденной и возбуждающей активностью (“buzz” – см. Storper/Venables 2004) считались, по сути, реликтами виртуализирующего действия медиатехнологий. Социальное пространство всё больше съеживалось до пренебрежимого, временного места расположения (location) аппаратуры средств коммуникации и информации. При господстве парадигмы информационного общества казалось, что пространственные дистанции и отношения между местами (равно как и транзакционные издержки) уменьшились до маргинальной величины. “The Death of the Distance” (Cairncross 1997) может рассматриваться как одна из обобщающих формул и одновременно перспективных лозунгов этого периода расцвета информационно-технологических концепций развития. Целый ряд влиятельных теорий медиа, начиная с тезиса Маршалла Маклюэна о “world connectivity” и вытекающих из него изменениях общества и знания, внесли свой важный и долговечный вклад в эту информационную парадигму[50].
Фундаментальный трехтомный труд Мануэля Кастельса о появлении “сетевого общества” в “информационную эпоху” во многих отношениях явился и самой блестящей попыткой синтеза, и самым драматичным свидетельством неудачи этой парадигмы – не говоря уже, разумеется, о важном вкладе в анализ более специфических предметов, таких как роль медиа. Были и менее амбициозные попытки осмыслить последствия экспоненциального увеличения потока информации в результате технологической революции, которые сосредоточивали внимание на отдельных секторах, преимущественно в экономической сфере. В отличие от них, Кастельс претендует на то, чтобы ни много ни мало проанализировать общественные трансформационные процессы в информационную эпоху в целом, в мировом масштабе и во взаимосвязи друг с другом. Способность искать, находить, сохранять, обрабатывать и генерировать релевантные сведения независимо от местонахождения он рассматривает как главную компетенцию в новой общественной формации, имеющую весьма важное значение и для экономической производительности, и для вопросов культурной гегемонии, и для отношений власти в политической и военной сферах (Castells 1996). Информация в этом систематическом смысле – как главное сырье для общественных процессов – оказывается, как демонстрирует Кастельс на примерах, почти полностью пространственно непривязанной и нигде не “поставленной на якорь”. Новые информационные и медиа – технологии, по его мнению, сводят к нулю расходы на преодоление расстояний. В глубинной теоретической подоплеке этого анализа (которая не раскрывается) – новый/старый технологический детерминизм, который, подобно прежним моделям “базис-надстройка”, на главном уровне построения теорий все еще не принимает в достаточной степени всерьез культурные коды. Мировая информационная сеть и ее параллельные структуры (space of flows), утверждает Кастельс, перекрыла пространство с его конкретными точками и местами (space of places). Образцовым примером такого “поточного пространства” служит циркулирующий по всему миру финансовый капитал, рядом с ним – глобальные информационные потоки и одновременное совместное присутствие аудиторий медиа во всем мире.
Самое потрясающее в картине “информационной эпохи”, изображенной Кастельсом, – то, что он пытается нейтрализовать необычайно усилившиеся эффекты деспатиализации пространства потоков с помощью политико-социальной контрпрограммы, предусматривающей столь же необычайно нагруженные политики идентичности для конкретных пространств, социальных движений и всемирных сообществ мигрантов (space of places). Одно усиление глобализированных без сопротивления и технологически реализованных информационных поточных пространств порождает другое – усиление глобально-локальных сопротивлений и контратак в области политики идентичностей со стороны общественных и этнических протестных движений, что вызывает, естественно, значительное “нагревание от трения” с обеих сторон, а также много аналитического шума.[51] Для нашей же постановки вопроса главное значение имеет то, какие прорывы к новому знанию и какие слепые зоны порождает эта крайне дихотомически устроенная дуальная схема “пространство потоков vs. пространство мест” и какие решения в области политики градостроительного развития подсказывает этот дуализм гипердоминантному фокусу “пространства потоков” с его информационными и медиа – сетями, непрерывно перерабатывающими эффекты совместного присутствия. М. Сторпер первым заметил, что диагноз Кастельса, задуманный как критика, перекодирует города, некритично обобщая, в “универсальные точки базирования глобальных бизнес-организаций” (Storper 1997: 236f.). На сегодняшний день уже многое говорит против этой гипотезы Кастельса о тенденциях гомогенизации городских структур в условиях господства “пространства потоков” в информационном обществе, отдающем предпочтение соответствующим политическим стратегиям под лозунгом “one size fits all”. Контртезис, который, как будет показано, вытекает из наших исследований социальных сред знания, сводится в конечном счете к тому, что динамика обострившейся глобальной конкуренции порождает одновременно и пространственную гомогенизацию, и дифференциацию/гетерогенизацию. Соответственно, один из центральных тезисов парадигмы “общества знания” заключается в том, что, перемешиваясь друг с другом, процессы гомогенизации и гетерогенизации именно в городах складываются во все более индивидуально профилированные сочетания. Поэтому перед муниципальной политикой, основанной на знании, прежде всего встает задача укреплять индивидуализированные профили компетенций и индивидуальные таланты городов и городских регионов, а не сальдировать тенденции гомогенизации информационных и медиа – технологий (которые, несомненно, тоже работают). Таким образом, на повестке дня муниципальной политики вместо глобальной технологической гомогенизации оказывается индивидуальный профиль компетенций и привлекательности уникальных городов. Теперь необходимо подчеркивать в конкуренции с другими городами различия и признаки неповторимости; локальные обособления и специфические таланты, отличающие одни точки и места от других, – вот что стоит на повестке дня городов. А принципиальное подчеркивание разрыва между space of flows и space of places, – которое, как было показано выше, продиктовано в основном парадигмой информационного общества и тем, что она говорит о медиатехнологиях, – не поможет адекватно понять эту дифференцированную палитру типов конкретных структур взаимосвязей, гибридных смесей и структурных связок в обширном поле между этими двумя теоретически заданными полюсами.
Более точному пониманию нового потенциала привлекательности специфически городских ландшафтов знания весьма способствовала дискуссия вокруг “sticky knowledge places”. Выражение “клейкие места” (“sticky places”) ввела в оборот американская исследовательница экономической географии Энн Маркузен в 1996 г., чтобы обозначать с его помощью двойную силу конкретных мест и промышленных районов: во-первых, специфическую привлекательность городских регионов, т. е. их способность притягивать экономических акторов; во-вторых – их умение удерживать таких акторов на месте. Понятие “клейкости” заимствовано из области домашнего хозяйства, где оно относится к не очень мирному приспособлению: клейкой полоске бумаги для ловли мух, которая вешается под лампу и обладает в качестве своего сущностного свойства двоякой способностью. Как известно, благодаря ароматическим добавкам она может, во-первых, привлекать мух, а во-вторых – потом их надежно удерживать на месте, так что спасения им в большинстве случаев нет. Эдуард Малецки (Malecki 2000) взял эту базовую идею двоякой силы преуспевающих пространств и промышленных районов из экономической регионалистики и перенес ее на специфические логики – логику привлекательности и логику агломерации – в основанных на знании экономических системах и городских регионах, т. е. расширил ее до “sticky knowledge places”. Благодаря этому – в условиях отсутствия адекватной теории локальности в глобализированную, основанную на знании эпоху – можно продвинуться далее в сторону более точного анализа гибридно сросшейся структуры локальных, региональных и глобальных пространств в посттрадиционных обществах знания. Вместе с тем намеченная таким образом эвристическая схема помогает окончательно вывести урбанистический анализ из тесных рамок информационной парадигмы[52].
Небольшой исторический экскурс: Разве так было не всегда?
Историки, этнологи, специалисты по географии образования и по истории науки к сегодняшнему дню накопили гигантский эмпирический материал, который еще отчетливее показывает, что – самое позднее со времен социальной эволюции городов – эффекты пространственной концентрации, централизации и неравномерного распределения знания образовывали фундаментальную структурную характеристику всех обществ. В особенности Дэвид Ливингстон (Livingstone 2003) и Питер Бёрк (Burke 2001: 69ff. и др.) доказывают, что “кластеризация” знания в специфических местах имела надлокальное значение для развития общества в самые разные периоды истории рода человеческого, причем это относится как к микроуровню (“местоположение знания”), так и к мезо – и макроуровню городов как “коммутаторов” нашего мира (Burke 2001: 73). Приведем три небольших примера, которые одновременно показывают степень распространенности явления:
1. Ибн Рушд (Аверроэс) и его “переводческая школа” в районе Кордовы-Севильи – локально зафиксированные посредники и комментаторы классического греческого знания, транслировавшегося в раннесредневековое европейское пространство.
2. Непреходящая роль ранних университетов в ренессансных городах Италии.
3. Инкубационные эффекты региональных и национальных культур знания в их локальных концентрациях, включая опережения и запаздывания в процессе модерна, – от Парижа (XIX в.) до Берлина (1920-е гг.).
В последнее десятилетие наука таким способом исследовала целый ряд имевших глобальное значение локальных “горячих точек”, в которых происходили научные прорывы и т. д. Поэтому с точки зрения истории знания и истории науки многое говорит в пользу многозначно-программного заголовка книги Ливингстона: “Putting Science in its Place” (Livingstone 2003). Пусть это прозвучит тривиально, но продолжающая доминировать геральдика научного знания эпистемологически, методологически и содержательно по-прежнему исходит из того, что знание доступно повсюду (в том числе благодаря новым медиа), может генерироваться повсеместно и давно переросло пространственные релятивирующие условия, заявляя притязания на транслокально-универсальную значимость. Эта слепота в отношении пространства, это “повсеместничество” в интерпретации коэволюции знания, науки и пространства, проходит от неоклассической экономической науки через различные этапы движения “за единство науки” (со времен Оппенгейма и Патнэма), через неомарксизм и критику постфордизма с ее “технократией движения” – вплоть до “методологического” фальсификационизма и конструктивизма: “контекст открытия” (“чувствительность к контексту”) в аргументации затушевывается “контекстом оправдания” (“в отрыве от пространства”).
На другом конце континуума комбинаций “знание+пространство” тоже происходит большое движение. От школы Нонаки (Nonaka/Konno 1998) до структурных фондов и программ ЕС и до управлений градостроительного планирования восточногерманских провинциальных городов – всюду в последние годы поют хвалебную песнь “tacit knowledge”. Оно уже стало главным понятием дискурса “базирования на знании” и кластеризации инноваций и компетенций в городских регионах. Одновременно повсюду махровым цветом расцветает надежда на полную кодификацию этого “неявного” знания, так что философия “персонального знания” Майкла Полани через 47 лет после того, как он ее сформулировал, переживает просто сенсационный ренессанс. Полани (Polanyi 1958) считал, что неявные, персональные формы знания, помимо всего прочего, играют важнейшую роль в инновационных прорывах. Для применяемых в области политики безопасности технократических стратегий противодействия утечке мозгов, которые обычно ставят себе целью исчерпывающую экспликацию, кодификацию и эксклюзивное хранение знания, важного для тех или иных институтов, идеи Полани неизменно служат источником раздражения и жестоких разочарований! Кодифицированное знание, пригодное для распространения с помощью медиатехнологий, согласно Полани, оказывается сразу в нескольких отношениях урезанным без структур “неявного знания”, которые задают ему контекст и место, предвосхищают его и обеспечивают его холистический синтез. В особенности для парадигмальных прорывов в высоком смысле этого слова кодифицированное знание годится плохо.
Именно эта структурная дилемма и заставляет так удивляться по поводу моды на заимствование комплекса идей “tacit knowledge” в новых концепциях планирования городского развития, ориентированных на парадигму знания, а также в сопутствующих им инновационных стратегиях региональной экономики. Ведь на самом деле теория Полани – антипод надежд на полную кодификацию. Кроме того, возникают огромные методологические проблемы – например, в виде вопроса о том, на основе каких данных и какими когнитивными средствами, собственно, сочиняется эта хвалебная песнь имплицитному знанию, принципиально не поддающемуся ни полной кодификации, ни всеобъемлющему изложению. Это не могут быть стандартные наборы данных региональной экономики, экономической географии или организационного и институционального анализа, ведь их релевантные массивы данных по определению ограничиваются кодифицированным знанием. А этнографический метод “follow the case” или детальные структурно-герменевтические реконструкции кейсов, которые действительно способны перейти через порог между эксплицитными и имплицитными смыслами, между явными и скрытыми структурами, чтобы потом в рамках более масштабных исследовательских программ прочесывать сети акторов целых обществ знания и городов знания, пока не получили известности.
Резюмируем наш вводный очерк. Острота и напряженность процесса коэволюции пространства и знания до самых последних лет либо вовсе игнорировались в господствовавших общественно-научных и социологических диагнозах эпохи и теоретических концепциях, либо решительно объявлялись делом прошлого. При этом происходило неблагоприятное наложение двух тенденций:
1. Во-первых, сорокалетнее “забвение пространства” (Konau 1977), характерное для большей части социологических и социально-экономических теорий современного общества – от расхожих теорий действия и коммуникации (которые обычно исходили из приоритета фактора времени, а не пространства, и уж точно не пространства-времени) через неомарксизм, теорию систем и теории дифференциации вплоть до неолиберальной экономической теории. В Германии эта слепота в отношении пространства, естественно, сохранялась особенно долго (для здешнего стиля основой послужила поздняя рецепция, которая сразу была окрещена “пугающим ренессансом” пространства, – например, в критической социологии (Maresch/Werber 2000) и в немецкоязычной социально-экономической географии (Miggelbrink 2002)). Социология, которой полагалось бы этим заниматься (социологическая урбанистика и регионалистика), помешала в этом сама себе, непоколебимо зафиксировавшись на таких священных концепциях, как “постфордизм” или “общество услуг”. И даже новейшая попытка критики с позиций “переднего края науки” (Häußermann/Kemper 2006) и близко не подошла к тому, чтобы увидеть эволюционную взаимосвязь пространства и знания.
2. Вторая парадигматическая ошибка связана, как мы видели, с длинной тенью, которую отбрасывает парадигма информационного общества. При поддержке концепции, изложенной во влиятельном фундаментальном трехтомнике Кастельса, взаимосвязи между пространством и знанием были схематизированы за счет почти полной, если не совсем полной глобальной виртуализации критериальных форм пространства. Вследствие этого при построении теорий процессы обмена и перевода (“knowledge spillovers”) представлялись упрощенно по принципу всемирных – и в этом смысле не имеющих своего места – потоков информации как потоков знания (“space of flows”). Для немецкоязычного ареала, например, Хартмут Шпиннер конструировал “порядки знания”, фиксированные на информации, в которых принципиальное различение информации и знания даже бичевалось как специфически немецкий гуманитарный дуализм, подлежащий окончательному преодолению. Интересно, что недавно о центральном моменте коэволюции пространства и знания напомнил Билл Гейтс (Gates 2006: 100): “Если информация хочет быть свободной [в смысле – внепространственной – У.М.], то знание гораздо более «липко» – его труднее передавать, оно более субъективно, его не так легко определить”. Поэтому Гейтс совершенно справедливо формулирует действительно главную проблему, стоящую перед новым поколением программного обеспечения: выйти за пределы информационной парадигмы в направлении парадигмы знания, в частности – в направлении распознавания структур релевантности, паттернов, оценок и отборов информации. Остается посмотреть, в интересах каких режимов знания затевается этот парадигмальный скачок. Во всяком случае, здесь нет и следа того эссенциализма немецких гуманитариев, о котором заявляет Шпиннер.
В этом смысле забвение пространства и парадигма информационного общества до конца 90-х годов XX в. образовывали “ось зла”. Под их влиянием тема взаимосвязи пространства и знания была забыта, лишена легитимности, и в дискурсе ей отводился статус иррелевантной. Элементами этой могущественной дискурсивной “оси” были, как показано выше, во-первых, предположение об универсальности эпистемического знания (под знаком квазиплатоновского универсализма истины); во-вторых – технократический подход (“слева” или “справа”, от Шельского до Хабермаса); в-третьих – интерпретация стремительно возрастающих скоростей передачи данных под углом зрения парадигмы информационного общества; в-четвертых, теоремы модернизации, продиктованные теориями дифференциации и времени действия; и наконец, тривиализация пространственных факторов средствами массовой коммуникации, говорившими о “глобальной деревне” (McLuhan 1964). Кульминацией сочетания этих дискурсивных модулей стала краткая, как короткое замыкание, формулировка теории информационного общества, провозгласившая окончательную “смерть расстояния” (Cairncross 1997).
Есть, разумеется, похвальные исключения из этой общей картины, нарисованной выше. Назову хотя бы (взяв для примера немецкоязычный ареал) три дисциплинарных контекста таких исключений, в которых сохранялась возможность построения концепций, исходивших из коэволюции пространства и знания:
1. Против всеобщей слепоты социальных наук в отношении пространства уже давно выступали авторы подходов, которые либо напоминали о нарастающем доминировании вещей и техники в социальных связях и отношениях (Linde 1972), либо подчеркивали в целом и в частностях двойственную структуру тела (как одушевленного человеческого тела Leib и как пространственно-физического Körper) в качестве отправной точки при построении людьми социальных пространств (Schütz 2004; Berger/Luckmann 1967 [рус. изд. Бергер/Лукман 1997 – прим. пер.]), либо же более точно фокусировали анализ пространственного аспекта социальных сред (Keim 1979; Matthiesen 1998; Matthiesen/Bürkner 2004).
2. В экономической науке уже давно выступал за структурирующую пространство экономику знания Фридрих фон Хайек (Hayek 1948). Что интересно, его позиция сложилась в критическом диалоге со вновь формировавшейся тогда в эмиграции “социально-феноменологической” социологией знания Альфреда Шюца (ср. комментарии последнего на доклад Хайека “Знание и экономика” 1936 г. в Schütz 2004).
3. Против слепоты социологической урбанистики и регионалистики по отношению к теории знания выступали, в частности, представители подходов, ориентировавшихся в большей степени на региональную экономику (ср. Läpple 2001; 2003; 2005, а также работы Гернота Грабхера о проектной экологии и эволюциях сетей): они стремились и сумели присоединиться к международным дискуссиям об основанных на знании формах экономики городских регионов. Взаимосвязи между новыми экономиками знания и городскими регионами были в последние годы более обстоятельно проанализированы эмпирически (ср. Matthiesen 2004a).
В англо-американском дискурсивном ареале слепоту гуманитарных наук по отношению к пространству удалось, начиная с середины 1990-х гг., шаг за шагом преодолеть за счет двойной смены парадигм:
1. В социальных науках – экономике, социологии, истории и политологии – на новые глобально-локальные пространственные процессы и проблемы отреагировали “пространственным поворотом” (“spatial turn”).
2. Одновременно с этим науки о пространстве в более узком смысле – от социально-экономической географии до наук о планировании – с их традиционным объективизмом и нормативным инструментализмом столкнулись с вызовом “культурного поворота” (“cultural turn”), подразумевавшего более точный учет пространственных кодов.
Сегодня эта двойная смена парадигм (spatial/cultural turn) обостряется и поднимается на новую ступень за счет намеченных выше пространственных эффектов, характерных для тенденций развития, присущих обществу знания. Невозможно не заметить, как на первый план в актуальной общественной политике выходит роль образования, знания и обучения как факторов, формирующих пространственные структуры. В то же самое время культурные коды динамики развития пространств – например, зависящие от пути эволюции процессы повышения или резкого понижения ценности тех или иных подпространств, а также связанный с этим рост пространственного неравенства – играют всё более значимую роль в развитии городов и регионов. Тенденции запаздывания и функции авангарда в деле продуктивного присвоения обоих этих взаимодополняющих поворотов, перенесенных из дискуссий в англосаксонском мире в немецкоязычный ареал, доказывают, что по-прежнему существуют сильные (и порой весьма плодотворные) национальные и региональные культурные различия между “географиями научного знания” (Livingstone 2003).
С 1989 г., если не раньше, тема “пространство и знание” заявила о своем возвращении и во всемирную историю. Это тоже причина, по которой здесь необходимо избрать более широкий, интегрирующий фокус, который объединил бы дозированный “knowledge turn” в изучении пространств общественными науками и “spatial turn” в исследовании знания. Тогда перед нами открывается увлекательное и в то же время взрывоопасное поле коэволюций и примеров избирательного сродства. В диапазоне между опережением и запаздыванием здесь по-прежнему наблюдаются отчетливые национальные и пространственно-культурные различия ландшафтов знания и их дискурсивных контекстов. Отдавая предпочтение дозированному “knowledge turn” в изучении пространств городских регионов, мы одновременно обращаем внимание на такие темы, как процессы институционализации и обучения, которые сопровождают сложную траекторию процессов коэволюции знания и пространства. Поэтому изучение вариантов социоэпистемической динамики знания поставит новые вопросы и перед урбанистикой, и перед исследованием знания.
Не менее важно и то, что тема взаимосвязи знания и пространства по-прежнему справедливо считается недостаточно теоретически обеспеченной (“undertheorized” – Amin/Cohendet 2004: 86). Эти два понятия-контейнера – “знание” и “пространство” – настоятельно нуждаются в скорейшей совместной дифференциации по формам и типам, по институциональным констелляциям и вариантам динамики интеракций (в разных социальных средах, сетях, процессах фильтрации и обмена), в которые они встроены и в порождении которых они сами непрерывно участвуют. Только так вопросы о взаимосвязи между городом и знанием во множестве индивидуализированных констелляций можно будет понимать, уточнять, теоретически обеспечивать и более адекватно вводить в контексты муниципального управления.
3. Потенциально неверное знание, его сетевые и социально-средовые структуры: новая грамматика интеллектуальных инфраструктур в городах посттрадиционных обществ знания
“Знание городов” как направление исследовательского интереса и как поле муниципального управления (governance) всегда связано и с более общей дискуссией по поводу подходящего названия эпохи, которое можно было бы присвоить нашим расширившимся до глобальных масштабов, но все равно локально укорененным общественным формациям.
В контексте изучения “знания городов” понятие “посттрадиционное общество знания” представляется перспективным кандидатом на роль подобного рода обобщающего обозначения эпохи, поскольку указывает на действительно принципиальный аспект общественного развития. И все же данное понятие еще слишком общее и гладкое. А между тем вопрос о ярлыке, этикетке для эпохи напрямую касается вопроса о собственной логике городских ландшафтов знания. Зафиксированные этим понятием процессы “в обществе в целом” настолько всепроникающи, что – в специфичных для каждого случая комбинациях – имеют значение и для пространств роста либо стагнации городов, и даже для исчезающих городов и оттесненных на периферию городских регионов. В качестве примеров назову восемь таких общих линий развития, которые тем или иным образом оказывают формирующее воздействие на “знание городов” и на сами города:
1. На уровне знания важнейшее значение имеет прежде всего продолжающий сокращаться “период полураспада” валидности знания. Благодаря этому мы видим, что оно принципиально является потенциально неверным. По консервативным подсчетам, период полураспада нового знания составляет от трех до пяти лет, во многих областях высоких технологий и основанных на знании услуг его срок годности, по всей видимости, значительно короче (ср. Willke 1998: 355)[53]. По сравнению с “более традиционными” формами обществ знания (ср. Burke 2001) это новая, неведомая прежде динамика в мире городов, и мы уже нигде не сможем полностью от нее уклониться. Таким образом, выводы даже самой сложной и дорогой экспертизы оказываются резко ограничены в своей правильности фактором времени. Более устойчивые, считающиеся непреложными положения доксы и фоновое знание о жизненном мире, на которое мы опираемся, ходя по улицам городов, втягиваются в процессы переговоров и торга, подчиняются методологическому (т. е. не онтологическому) реализму и знанию, полученному из вторых рук (через СМИ), и за счет этого трансформируются (ср. Matthiesen 1997).
2. Значение знания и в особенности преимуществ в знании (исследования, разработки, контроль) для главных секторов городских социумов и экономик, а также для конкурентоспособных инноваций продолжает, бесспорно, расти. Преимущества в знаниях – это то, на чем города основывают свой профиль и за что они всё больше соревнуются.
3. Вместе с тем, в эру городских экономик знания и те отрасли и индустрии, которые не зависят от интенсивной исследовательской деятельности, тоже реструктурируются вокруг нового потенциально неверного знания – включая то, что долгое время неправильно и пренебрежительно называли “low tech” или “mid tech” (cp. Hirsch-Kreinsen/Jacobson/Robertson 2005)[54].
4. К этому добавляется резкое обострение конкуренции за доступ к знанию, сведениям и данным, причем по всему миру. Глобальная динамика соревнования между основанными на знании проектными сетями и соответствующие экономические формы уже давно проникли и в региональные, и в городские интеракционные переплетения периферийных подпространств, – хотя бы в летальной форме “утечки мозгов”. Потенциальная неверность знания ускоренно обостряет эту конкуренцию между городами и регионами за компетенции, носителями которых являются индивиды.
5. Знание не в чисто когнитивном значении, а в более широком – как способность действовать и как социальное умение, как набор компетенций общества или городского региона – обнаруживает всё более дифференцированную палитру форм. Прежде всего, больше становится самих мест, институтов и сред производства знания. Так, например, клиентские системы рассматриваются и используются теперь как непременный источник знания для инновативных высокотехнологичных систем (ср. статью Керстин Бютнер о системе Siemens-PaCS в Matthiesen/Mahnken 2009). То же самое относится и к так называемым “knowledge intermediaries”, т. е. пространствам, в которых действуют брокеры знаний (Nowotny et al. 2001). Специфика городов определяется во все большей степени тем, как они соединяют процессы производства и потребления знаний через новые “зоны обмена” (“trading zones”, Galison 1997) между разными формами знания, разными исследовательскими учреждениями; это относится не в последнюю очередь и ко взаимоналожению разных технологий и видов динамики взаимодействия (интернет и т. д.), которые “контекстуализируют” ядро основанных на знании процессов, будучи сами опять-таки зависимы от знания.
6. В особенности европейские города растут всё больше за счет миграции (cм. Oswald 2007). Миграция всегда означает, помимо всего прочего, гигантский приток знаний и умений, а его роль в структуре городов и в муниципальной политике еще не оценена по достоинству. Между тем, этот приток знаний уже давно входит в число важнейших “путей индивидуализации” городского развития (ср. Koch в Matthiesen/Mahnken 2009).
7. Поскольку знание пронизывает, в частности, и так называемые жесткие факторы местоположения, происходит гибридизация “жестких” и “мягких” факторов, последствия которой для городских структур еще полностью не осознаны. Сопровождается этот процесс гибридизации новым боевым кличем региональной и муниципальной политики “Головы вместо бетона!”, а также актуальными дискуссиями по поводу структурного расширения понятия “инвестиции” и включения в сферу его охвата также человеческих ресурсов и знания.
8. Последнее, но не менее важное: процессы городского планирования, регулирования и управления (governance) настолько пропитываются потенциально неверным знанием, экспертизами и контрэкспертизами, что модусы и формы управления городами (ср. модную ныне область “creative city”) в целом меняются в направлении опоры на знание.
Эти тенденции, естественно, сопровождаются дискурсом, критическим по отношению к городу знания и обществу знания, что, впрочем, тоже можно рассматривать как явление внутреннее для пространственно-структурной трансформации, опирающейся на знание. Назовем хотя бы три пункта такой критики:
1. Роль “не-знания” возрастает экспоненциально. Поэтому Илья Срубар в порядке остроумного эксперимента запустил в оборот ярлык “общество не-знания”. Однако, отведя центральное место сокращающемуся периоду полураспада и потенциально неверному знанию (см. выше п.1), мы смогли модифицировать эссенциалистские коннотации этого возражения и сделать их плодотворными.
2. Диагноз “город знания/общество знания” – слишком общий, а потому не поддается эмпирической проверке. К тому же большие города всегда притягивали к себе передовое знание – и Вавилон, и Иерусалим, и Афины, и Рим, и итальянские ренессансные города, и Париж как столица XIX века, и Берлин, как мегаполис 1920-х (ср. Hans-Dieter Kübler 2005; ср. также наш небольшой исторический экскурс выше). Мы еще увидим более четко, как потенциальная неверность знания и экспертизы вводит неведомую прежде, т. е. структурно новую, действующую в каждом случае специфическим образом, динамику изменений в инфраструктуру городов (см. ниже раздел 6).
3. И последний пункт: диагнозы, выносимые городам с позиций парадигмы общества знания, зашоривают наш взгляд так, что за рамками картины оказываются систематические диспропорции и деформации. Эта парадигма перегружена слишком “позитивными” коннотациями. Применительно ко многим подходам это приходится признать, но к тому концептуальному проекту и результатам основанных на нем исследований, которые представлены здесь, это не относится. Наоборот, эта концепция подчеркивает новые формы систематических обострений диспропорций в рассматриваемых индивидуально “городах знания” в “обществе знания”.
Промежуточный вывод
Развитие знания, развитие города и развитие управления (governance) в городах посттрадиционных обществ знания вступают в новые отношения друг с другом. Они эволюционируют совместно: это сопровождается множеством конфликтов, противонаправленных процессов, откатов назад; это никогда не обходится без образования периферий и диспропорций.[55] Таким образом, это в опосредованной форме относится теперь и к тем местам или субрегионам, где и близко нет никаких кластеров высокотехнологичной индустрии. Зачастую в таких городских пространствах динамика коэволюции города и знания действует “от противного” – с одной стороны, в форме структурного дефицита основанных на знании инновационных структур и социальных сред, способствующих развитию, а также в форме отсутствия притока мозгов (brain gain)[56], с другой стороны – за счет новых процессов самоорганизации, поиска и объединения акторов в сети.[57] Как в случае позитивной, так и в случае негативной эволюции города фокусировка внимания на знании (с поправкой на его потенциальную неверность), на динамике институтов, связанных со знанием, на общественных дискуссиях по поводу адекватных систем отсчета релевантности и оценок информации – против дурной обобщенности шифров “глобальное/локальное” – позволяет рассмотреть индивидуализированные пути развития и реконструировать специфические правила отбора и оценки, действующие в городах. Благодаря этому возникает возможность обнаружить новые важнейшие инфраструктурные “коды” развития городов.
В особенности применительно к отдельным городам и свойственным каждому из них специфическому таланту и профилю, слабым и сильным сторонам можно наблюдать радикальную перемену в отношениях между наукой и практикой, затрагивающую на самом деле их “генетический код”. Здесь формируется ядро нового порядка знания (Weingart 2001: 89ff.), который в городах характеризуется тесной связкой науки с остальными функциональными системами городского общества (т. е. политикой, администрацией, экономикой, правовыми институтами, а также “креативным классом”, семьей, здравоохранением, трудом и досугом, исключенными или неинтегрированными мигрантскими сообществами, “наземными войсками глобализации”, “оседлыми туристами” и т. д.). Соответственно, потенциально неверное знание, рутинные процедуры обследования и оценки, экспертные системы, ритмы экспертиз и контрэкспертиз во все возрастающей мере и специфичным для каждого случая образом определяют генетические коды всех городов.
4. Сердцевина городских форм габитуса: специфический “габитус знания” города
Для более точного определения специфики отдельных городов и путей их развития в настоящее время используются различные способы, между которыми происходит аргументативно-аналитическая конкурентная борьба. Один из наиболее перспективных способов – это адаптация концепции габитуса, разработанной Пьером Бурдье и другими в рамках “классовой теории”, и перенос ее на мезо – и макроуровень специфических базовых структур городских регионов и процессов их развития. При этом на передний план выходят прежде всего “латентные”, глубинно-структурные правила порождения городских практик, а не более “телесная” метафорика концепции габитуса, хотя и здесь нет принципиальной несовместимости с разговорами о “теле города”, о “мозге города” и о его текстуальной структуре.
В данном параграфе будет развит следующий аргумент: в габитусных формациях того или иного города имеется особенно динамично развивающаяся зона, которую мы попробуем назвать его “габитусом знания”. Нарастающая релевантность этой зоны для “общего габитуса города” (см. аргументы в 3 части) превращает эмпирическое описание габитуса знания городов в важный конструктивный элемент операционализации изучения габитуса в урбанистике (ср. также параграф о “sticky knowledge places” выше).
Города и регионы, как мы видели, весьма заметно различаются тем, как они генерируют и институционализируют знание, информацию и образование, а затем внедряют их – прежде всего в организации и в площадки деятельности горожан. Это относится и к “уровню жизненного мира”, и к его культурным и социальным контекстам. В целом можно сказать, что четко просматриваются, прежде всего, различия в конфигурациях приоритетов, отдаваемых тем или иным формам знания, а также в институциональном устройстве ландшафтов знания того или иного города. Чтобы целостно-гештальтные различия между городскими регионами целенаправленно и более точно анализировать, мы введем концепцию “габитуса знания городского региона”. Понятие габитуса с его квазикаузальными “диспозиционными свойствами” (основанными на “принципе производства практик” и “безинтенционной интенциональности”; Bourdieu 1989: 406, 397; ср. Matthiesen 1989: 221–299) помогает сфокусировать аналитический взгляд на особой структуре конкретных кейсов “взаимоформирующей роли знания и городских пространств”. При этом весьма важную роль играют, в частности, признаки уникальности в области KnowledgeScapes (видимые лишь частично) с их специфичными для каждого случая комбинациями производящих знание институтов, “зон обмена”, со стремительным нарастанием числа акторов-производителей и носителей знания, площадок действия и знания, динамики знания и контекстов его применения.
Целью анализа габитуса в урбанистике является выработка высокопродуктивной структурной формулы, с помощью которой в случае удачи можно будет свести (в плане гештальта и нарратива) массу близких путей и тенденций развития в индивидуальный профиль.[58] Точные структурные формулы, обозначающие габитус, интегрируют экономические тренды и культурные схематизации, политические стили, обыденные практики и формы знания в специфические для каждого города ландшафты вкуса и знания.
Исследование Линднера и Мозера о Дрездене (Lindner/Moser 2006) позволяет наглядно показать, как габитус города может выступать в качестве латентно действующей высокопродуктивной системы правил. Тренды в системной области, в области обыденной жизни и в области культуры спрессовываются при этом в единую структурную формулу “Дрезден как символический город-резиденция”, проявляя гештальтную гармонию друг с другом и в стеклянной архитектуре завода “Phaeton”, построенного в Дрездене концерном “Фольксваген”, и в “зубном эликсире и свободном танце” (по дерзкому и красноречивому выражению авторов), и в стиле бидермайер (не как китчевой декорации, а как “изобретении простоты”), и в воспоминаниях о социализме, и в наследии аристократической культуры. Применительно к Дрездену тоже можно было бы показать, как становится всё важнее роль KnowledgeScapes с их специфическими комбинациями продуцирующих или распространяющих знания институций и медиа, а также зонами обмена знаниями.
Особое значение в процессах коэволюции знания и города всегда имеет “проблема вписывания” (“problem of fit”) в контексты применения. Обыденные интерпретации жителей и пользователей города, касающиеся гештальтного качества этих связей между городом и знанием, тоже играют важную роль, но они давно уже перемешаны с маркетинговыми стратегиями, имиджевыми кампаниями и популярными сводами “научного знания” о городе в целом и в частностях (ср. Matthiesen 2005).
При таком взгляде города и регионы резко различаются еще и тем, как они сами генерируют разнообразное по формам знание и как они его внедряют на разных уровнях деятельности – повседневной жизни, систем, экспертных систем, наук и т. д. Например, наш анализ показал, что максимальные контрасты наблюдаются между Берлином и Йеной (см. Matthiesen u.a. 2004b; Matthiesen 2009, а также см. ниже раздел 6). Это относится и к “системному уровню” экономики, политики, науки, исследований и разработок, и к “уровню жизненного мира” – социальным и культурным сетям интеракций в городской структуре.
В целом можно сказать, что здесь обнаруживаются четкие конфигурации распределения приоритетов между формами знания и локально релевантными стратегиями внедрения и интегрирования в “города знания” или “регионы знания”: в “городах инженеров”, таких как Фридрихсхафен на Боденском озере (традиции “Цеппелина”, “Майбаха” и т. д.), картина совсем не такая, как в старинных университетских городах вроде Гейдельберга, ведущих жестокую конкурентную борьбу за звание элитных университетов. Чтобы анализировать эти целостно-гештальтные различия между городскими регионами, мы и вводим концепцию “габитуса знания городского региона”. В габитусном подходе “knowledge turn” подразумевает дальнейшую операционализацию изучения габитусов за счет аналитического разделения трех уровней: 1) уровня динамики интеракций, 2) уровня культур знания и 3) уровня форм габитуса. Разумеется, при этом мы не забываем об опасности кругового замыкания понятий “большого субъекта” (ср. Matthiesen/Reutter 2003; Matthiesen 2005). Понятие габитуса с его квазикаузальными диспозиционными свойствами может помочь нам сфокусировать урбанистический анализ на специфической гетерогенности во “взаимоформирующей роли знания и городских пространств”. При этом важнейшая роль принадлежит “ландшафтам знания” с их специфичными для каждого случая комбинациями производящих и распространяющих знания институтов и медиа, а также зонами обмена знаниями (см. параграф 5).
Соответственно, понятие собственной логики города мы терминологически теснее привязываем к концепции габитуса знания того или иного города – для того чтобы точнее увидеть устойчивые, зависящие от места, культурные диспозиции городов и в городах. Латентная структурирующая сила таких форматов и режимов знания, которые неотрывно связаны с конкретными лицами и учреждениями, обладает при этом, как нам представляется, особой релевантностью. Ведь понятие собственной логики подчеркивает устойчивые диспозиции именно этого места, не утверждая, однако, что знание и город тождественны друг другу.
В традиции, идущей от Георга Зиммеля, понятие “места” обозначает не что-то сущностно-вещное, а форму отношений – в данном случае отношений знания и процессов торга и переговоров. Что можно знать и рассказать о городе, что люди в нем чувствуют, как воспринимают в опыте и знают его природу, – все это зависит не только от того, какие интерпретативные паттерны и комбинации знания и действия закреплены в качестве убедительных и одобряемых, но в огромной степени и от того, какое при этом генерируется “поле” соперничающих и/или сотрудничающих городов, с которыми он сравнивается. Поэтому собственная логика городов зависима от того, насколько успешно другие города (рассматриваемые как релевантные) справляются с новой конкуренцией процессов коэволюции пространств, знаний и социальных сред.
Внимание к габитусу знания представляется особенно важным применительно к городским контекстам, в которых как бы хронически происходят обмен и распределение идей, персонального знания и шансов – в качестве особых, потенциально неверных, волатильных и креативных форм знания. При таком взгляде города внезапно снова предстают весьма специфическими генераторами случайных личных контактов, шансов, обмена знаниями. Подобным образом знание наряду с основными зонами социального действия – экономикой, политикой, правом – “просачивается” также и в семью, в здравоохранение, в соотношение труда и досуга, в туризм и новые формы “оседлого осмотра достопримечательностей”, причем в самом широком смысле – так, что “систематическое научное знание определяет наше восприятие, нашу рефлексию, наши действия” (Weingart 2001: 8f.).
Это можно, разумеется, описывать и в противоположном направлении – как сциентизацию и медиализацию городской повседневности и повседневных же форм знания и житейской мудрости. Но это отнюдь не “нейтральный” процесс: представления о релевантности, заложенные в опыте повседневной жизни, трансформируются в карьерные модели, в стратегии занятий фитнесом, в “супер-современные” шоколадки с посчитанными калориями или в кулинарно-сознательное “медленное питание по плану”, в регулирование поведения в отношениях посредством консультаций у психолога (ср. принцип, которым когда-то руководствовались в жизни и в отношениях жители Дортмунда: “Жену можно сменить, футбольный клуб – никогда!”).
Этот процесс онаучивания специфически городского повседневного опыта сопровождается экспансией основанных на знании отраслей сферы услуг в городах. В особенности для творческих и инновационных процессов роль близости (proximity) представляется все более релевантной, несмотря на скачкообразный рост значения электронных средств коммуникации, а отчасти даже благодаря ему. Поэтому не удивительно, что детальные этнографические исследования взаимодействий лицом к лицу (“face-to-face interactions”, F2F) являются первостепенно важными для анализа габитуса знания.
Уровень взаимодействий лицом к лицу, свойственных им форм знания и познаний в настоящее время прямо-таки эйфорически открывается заново исследователями пространств в общественных науках и в экономической регионалистике как многофункциональная коммуникационная техника (Storper/Venables 2004). Под аналитическим лозунгом “Близость имеет значение!” (“proximity matters” Howells 2002) в противовес лишенным контекста теоремам транзакций, существующим в парадигме информационного общества, подчеркиваются теперь “коммуникационно-технологические” преимущества и развивающие городскую культуру структурные побочные эффекты коммуникации лицом к лицу – через перенос персонального знания, “неявного знания” и всего “неявного измерения” (“tacit dimension”) багажа человеческих компетенций. При этом, как уже было показано выше, труды Майкла Полани на данную тематику, опубликованные в 1958/1973 и 1985 гг., становятся объектом эйфорической рецепции. Толчок этой рецепции дали, кстати, японские разработки в области менеджмента знания, в ходе которых велись поиски пространственно контекстуализированных форм “создания знания” (“knowledge creation”). Целая школа сложилась вокруг Д. Нонаки и его коллег (Nonaka/Takeuchi 1997). Они отчасти опирались на существующее в японской философии понятие “ба” (“места”) как общего пространства для взаимодействий и позитивно развивающихся отношений. Между пространством контактов лицом к лицу и имплицитным, персональным знанием здесь образуется очень тесная связь не только на концептуальном уровне, но и на уровне менеджмента знания. Отчасти такие подходы приводят к возведенному в принцип локализму, отчасти к технократическим стратегиям кодификации, посредством которых делаются попытки перенести “tacit knowledge” с уровня “пространства очных коммуникаций” на уровень стратегических менеджерских решений в пространствах сетевых связей. Пока лишь изредка встречаются более утонченные комбинации локальной привязки и глобального сетевого охвата – например, в форме городского “Нового локализма” (см. Amin/Cohendet 2004). Стиль и охват локальных культур взаимодействия лицом к лицу, создание “дозированных” публичных сфер образуют при этом одну из главных “инфраструктур” габитуса знания того или иного города.
5. Эвристика изучения ландшафтов знания: перспективный путь к уточнению доминирующих кодов габитуса знания города
Итак, современная сага об обществе знания и городских взаимосвязанностях знания и пространства уже давно дошла и до пространства действий и инноваций городских регионов. “Knowledge-based economies” во многих местах уже считаются главными “моторами” (sic!) развития городских регионов. Однако большинство предполагаемых при этом причинно-следственных связей и квазисвязей определены туманно или лишь в общих чертах. Тем с большей смелостью обобщаются – всегда ex post – возможные взаимосвязи. Одновременно исследователи пространств (как экономисты, так и планировщики) открывают для себя нерыночные интерактивные и культурные контексты, которые оказывают важнейшее формирующее влияние на взаимодействие между процессами развития знания, пространства и города. В области основанного на знании городского развития на сегодняшний день работает уже множество подходов, однако они по большей части еще не учтены дискурсом социологической урбанистики в достаточной мере.
Между тем, прежде всего в новых “рефлексивных” подходах экономической регионалистики (Storper 1997) к изучению “городских регионов, основанных на знании”, есть множество вопросов и исследовательских полей, которые вполне могли бы осваиваться и социологической урбанистикой (о главных характеристиках экономики знания см. Strulik 2004: 30ff.). Ограничимся кратким упоминанием пяти подходов, в рамках которых разработаны теоретически продуктивные гипотезы о коэволюции пространства и знания (а значит, имплицитно, и гипотезы о формах взаимосвязи – например, о форме габитуса знания):
1. Тезис об агломерации, подчеркивающий притягательную силу основанных на знании индустрий, объединенных в сети с университетами и исследовательско-проектными учреждениями (“sticky knowledge places”: Markusen 1996; Malecki 2000; см. выше параграф 2).
2. Тезис о центральности, согласно которому глобальные города служат новыми центрами не только финансовых экономик, но и экономик знания (Sassen 1996).
3. Тезис об урбанизме, сигнализирующий о появлении нового “креативного класса”, который повышает ценность центра города и по-новому структурирует городские пространства с большой выдумкой и при помощи собственного знания, придавая им новый городской характер (Florida 2002; Florida/Gates 2001).
4. Тезисы о создании мест, согласно которым креативность и качественный рост в определенных условиях можно через сети акторов гражданского общества сильнее и устойчивее привязать к конкретным местам с их близкими к очному общению стимулирующими потенциалами (Scott 1997; Amin/Cohendet 2004; Läpple 2003; 2005).
5. На фоне такой ситуации в порядке дальнейшего развития подходов, вдохновлявшихся теорией социальных сред, а также подходов экономической географии и социологии культуры (см. работы итало-французской школы GREMI) мы в Институте регионального развития и структурного планирования имени Лейбница в Эркнере выработали так называемую гипотезу ландшафтов и социальных сред знания.
Сначала, в ходе пилотного проекта 2002–2007 гг., этот последний подход был отточен и дифференцирован при сравнительном изучении развития городов знания в Восточной и Западной Германии; теперь он продолжается в виде компаративного исследования в европейском масштабе – включая анализ комбинации “знание+управление” (ср. Heinelt в Matthiesen/Mahnken 2009; продолжено в Matthiesen (Hg.) 2004; Matthiesen/Mahnken 2009; Matthiesen в: disP Special Issue 2009). Главная исследовательская гипотеза заключается в следующем: KnowledgeScapes – паттерны сочетания стратегических сетей (сетей предприятий, сетей образования, сетей знания) с социальными средами бытования знания (функционирующими в основном неформально) и с их усиленной внутренней коммуникацией играют важнейшую роль в перепрофилировании связей между пространством и знанием в городах. Здесь мы в то же время видим структурные ядра, которые оказывают определяющее воздействие на собственную логику габитуса знания того или иного города.
Коротко об “архитектонике” теории ландшафтов знания. В нашем подходе различаются три уровня:
А. Сетевой уровень, точнее – уровень “жестких” сетей и “мягких” социальных сред, и особенно их типичных для каждого случая сочетаний (KnowledgeScapes).
В. Уровень культур знания.
С. Уровень опирающегося на знание габитуса пространства – городского региона и т. д.
Уровень А – Сети, социальные среды и KnowledgeScapes:
– “Мягкие” сети и социальные среды знания (ССЗ): “мягкие”, по природе подобные социальным средам сети имеют особенное значение именно для основанных на знании интеракционных систем. В новейшей традиции изучения социальных сред принято называть их “социальными средами знания”. Для этих сред, функционирующих с повышенной интенсивностью внутренней коммуникации и сильными точками фокусировки знания, характерна высокая способность к самоорганизации. В принципе, социальные среды знания “производят” концепции интеграции институтов знания и генерируют для конкретных случаев “связки” из имплицитного и эксплицитного знания (ср. Matthiesen/Bürkner 2004).
– “Жесткие” сети знания (СЗ): концепция стратегических сетей знания направлена на анализ структур сотрудничества как внутри формально институционализированных структур и системно-функциональных единиц, так и между ними. В посттрадиционных обществах знания и их городах эти кооперационные структуры приобретают огромное значение. В стандартный репертуар координации действий входят: четко определенные стратегические цели и эксплицитные системы правил (см. например в Ostrom 1999: 52ff. систематику из восьми типов правил: “правила входа и выхода”, “правила позиции”, “правила ландшафта”, “правила власти”, “правила информации”, “правила оплаты”); сюда же добавляются зачастую процедуры “бенчмаркинга”, т. е. сравнительного анализа (c помощью определенных контрольных точек), а также все чаще – интеракционные структуры, построенные в форме проектов, с заданным сроком существования (“смерть сети”). Жесткие стратегические сети знания могут реализовываться в широком спектре вариантов: от классических бюрократических учреждений знания и образования до сверхинновативных исследовательско-конструкторских сетей и недолговечных “cool projects” (выражение Гернота Грабхера).
– KnowledgeScapes (KS) – ландшафты знания: этим искусственным словом обозначаются эмпирически наблюдаемые формы “гибридного” смешения ССЗ и СЗ. Эти гибриды имеют всё большее значение для хорошего (или плохого) функционирования основанных на знании интеракционных систем в городах и динамики порожденных ими пространственных процессов развития и обновления. Ландшафты знания эмпирически проявляются в виде очень широкой палитры структурных смешений, композиций и связок. Они соединяют “преимущества живого контакта при интеракциях между присутствующими” (Kieserling 1999) с реляционными и функциональными, опирающимися на технические средства сетевыми образованиями, создавая в каждом случае особый тип пространства. Фактические правила смешения и динамика изменений пока еще как следует не поняты. В конкретных случаях синтез социальных сред знания и стратегических сетей знания, объединяющий их в KnowledgeScape, форсируется специфичными для каждого из этих случаев транзакционными техническими средствами, а также сочетанием взаимодействия лицом к лицу и электронных медиа.
Илл. 1. Структурные уровни габитуса знания и его форм интеракций и сетевых связей
Источник: UM/IRS 2005
Уровень В – Культуры знания (КЗ):
Все большее влияние на процессы развития городских регионов оказывает гомогенность/гетерогенность их специфических культур знания. Наряду с институциональным и организационным устройством и расположением учреждений образования и знания, для формирования культур знания, накладывающих определяющий отпечаток на населенный пункт, решающую роль играет в особенности взаимодействие 1) интеракционных сетей, 2) локальных, специфичных для определенных социальных сред и глобальных форм знания и 3) динамики обучения, характерной для каждой из них (роль рефлексивного знания!). Ведь от соединения социальных сред знания и гетерогенных стратегических сетей в ландшафты знания, по сути, зависит запас креативности в том или ином населенном пункте.
Уровень С – Габитус городского региона:
Города и городские регионы резко различаются не только тем, как они генерируют разнообразное по формам знание и как они его внедряют на уровне деятельности, но и тем, в частности, как они это знание сводят в специфический гештальт. При этом “системный уровень” экономики и политики и “уровень жизненного мира” с его структурными и социальными интеракционными сетями производят общий эффект.
Во-первых, здесь обнаруживаются четкие конфигурации распределения приоритетов между формами знания (управленческое знание, знание продуктов, локальное знание, инженерные традиции, города банкиров и торговцев с их знанием рынков и институтов, и т. д.), а также конфигурации релевантных стратегий “брендинга” и внедрения – например, создания городов знания или регионов знания. Чтобы анализировать эти целостно-гештальтные различия между городскими регионами, мы и вводим концепцию “габитуса знания городского региона”. Это понятие с его квазикаузальными диспозиционными свойствами и латентными правилами генерирования может помочь нам сфокусировать аналитическое внимание на особых в каждом случае констелляциях форм знания, сетей знания, культур знания и процессов “брендинга” городских пространств. В наших эмпирических исследованиях габитуса знания мы реконструировали фактические и специфичные для каждого города (а иногда и для отдельных институтов) домены и режимы знания.
Из этих подходов к изучению специфически городских связок “знание+пространство” происходят пять тематических и рабочих полей, совместно определяющих и направляющих тот “код”, согласно которому функционирует город:
– Роль специфичных для каждого города динамики интеракций и форм институциональной организации в возникновении инноваций и творческих импульсов.
– Роль персонального знания и успехи (относительные) стратегий кодификации этого знания.
– Конкретное значение пространственной близости для творческих процессов и потоков знания.
– Причины усугубляющихся пространственных диспропорций.
– Специфические разновидности соединения форм знания и компетенций в домены знания и KnowledgeScapes, определяющие облик городов.
Илл. 2. Домены знания как эмпирические варианты сочетания форм знания
Источник: UM/ER-IRS 2006
Наряду с реконструкцией структур того или иного городского габитуса знания изучение социальных сред знания и KnowledgeScapes делает возможным и изучение “непонятных” в первый момент коэволюционных процессов. И всё более важную роль играет при этом именно интеракционный и сетевой уровень совместного генерирования и распространения знания.
Таким образом – в силу причин, указанных выше, – один из наших центральных тезисов заключается в том, что для основанных на знании интеракций (рыночных или нерыночных) решающее значение имеет зачастую лишь отчасти преднамеренное взаимодействие формальных стратегических сетей и их институтов с неформальными структурами социальных сред и сетей. К этому надо добавить структурное значение персонального знания для инновационных процессов и креативности. Тем самым наш центральный тезис приобретает оттенок сдержанности по отношению к “насквозь спланированным” подходам основанного на знании градостроительного развития – помимо всего прочего потому, что креативные сети и социальные среды знания в специфически смешанных KnowledgeScapes обладают значительным потенциалом самоорганизации.
Понятие “KnowledgeScapes” включает в себя англо-американские дебаты по поводу новых социальных и культурных пространственных форм – те, которые ведутся в настоящее время в культурной географии, культурной антропологии и экономике культуры (Landscapes, Mindscapes, MediaScapes; при этом “scapes” используется в переносном смысле – ср. Appadurai 1992; Matthiesen 2007b: 75ff.). Мы вводим понятие KnowledgeScapes для обозначения новых констелляций знания и соединения институтов знания в форме определяющих облик города ландшафтов знания и форм габитуса знания. Культурные кодировки пространств играют при этом ключевую роль. При этом само “знание” мы понимаем как одну из центральных структур культуры. Это то, что нужно было сказать о нашем концептуальном и эвристическом инструментарии. В рамках данного подхода за последние годы были исследованы более преуспевающие и менее преуспевающие “города знания” в восточной и западной Германии. На втором этапе мы эту исследовательскую линию а) “дозированно” интернационализировали на европейском уровне в пределах тех средств, которые имеются в распоряжении нашего института, и б) превратили в крупный проект по городскому управлению (governance), финансируемый ЕС и осуществляемый партнерами из девяти стран (готовятся несколько публикаций).
Один важный научный результат этой стратегии интернационализации следует здесь упомянуть хотя бы вкратце. Он в основном подтверждает центральную гипотезу нашего подхода: важнейшая для многих процессов скоординированность форм знания с институциональными условиями производства и распределения знания, как выяснилось, является в основе своей “социально сконструированной”, причем конструируется она опять же посредством динамики интеракций, базирующейся на знании. Сюда относятся формальные институты обучения, преподавания и исследования, такие как детские сады, школы, университеты и внеуниверситетские исследовательские институты; кроме того, полуформальные экспертные сети и имеющие локальную привязку формы компетенций; далее – так называемые “наземные войска глобализации” (медсестры, слесари, сантехники и их компетенции); не в последнюю очередь – неформальные социальные среды знания, выступающие “рассадниками” креативности (а иногда и “рассадниками” избыточности). В условиях, с одной стороны, давления крайне обострившейся конкуренции, а с другой стороны – сокращающегося, как известно, периода полураспада валидности знания, в новых транзакционных полях знания рядом со старыми экспертными/неэкспертными конфигурациями профессионализированного знания формируются многочисленные новые “профессиональные роли” микро – и мезоуровня. Например, “leakage detectors”, т. е. люди, которые расследуют несанкционированные утечки собственного знания фирмы или учреждения и останавливают их (системное место здесь занимают скандалы весны 2008 г., связанные с практиковавшимся фирмой “Telekom” тайным наблюдением); или “gatekeepers”, которые следят за правилами доступа к запасам знаний и делают это так, что гетерогенное знание, необходимое для креативных рывков, пусть и дозированно, но выдается (ср. Amin/Cohendet 2004); или “наблюдающие за конкурентами”, которые систематически изучают знание и компетенции конкурентов, материализованные в продуктах или проектах. Помимо них мы обнаруживаем также “knowledge brokers”, которые торгуют знанием и пакетами знаний; “boundary spanners”, которые институционализируют границы доступа к знанию; новые элиты знания (Weiß 2006: 13ff.), которые участвуют в установлении правил отбора инновативного знания; а также “трубадуров знания”, которые ведают переносом легитимного знания из одних “режимов знания” и KnowledgeScapes в другие (Serres 1997). Эти новые персонализированные профессиональные роли становятся предметом интереса для пространственно ориентированного изучения знания еще и потому, что формы знания и даже институты “сами по себе” – невидимы. Видимы только “агенты и публичные представители” (Smelser 1997: 46) институтов, основанных на знании. Изначально эти новые, нередко специфические квазипрофессии возникли скорее неформально, вынужденно, под давлением проблем и нужд, связанных с потоками знания, но они постепенно всё больше формализуются в практических контекстах как в плане компетенций и профессиональной подготовки, так и в плане присущих их носителям свойств. Прежняя дихотомия “эксперт-неэксперт” за счет этого превращается в специфические для каждого места, персонально репрезентированные KnowledgeScapes со специфическими констелляциями интеракций и компетенций. Для формирования этих новых профессиональных ролей, основанных на знании, важны становятся наряду с эксплицитными также имплицитные, структурно персонализированные формы знания и структуры комплексов познаний, – а соответственно и цели “попыток несанкционированного подключения”. Помимо этого, знания и умения потребителей тех или иных продуктов и услуг приобретают всё большую релевантность, в том числе и для разработки технологических новшеств (ср. Büttner в Matthiesen/Mahnken 2009 о системах опросов клиентов в высокотехнологичных секторах). На фоне растущего многообразия мест производства знания таким образом появляется целый ряд новых социальных ролевых моделей и социальных мест контроля знания, его передачи и приложения в городе. Они представляют собой в то же время квазипрофессиональные персонификации дифференцированных и сгруппированных форм знания в рамках институциональных ландшафтов, определяющих облик городов. Поэтому их практики во все большей степени участвуют – прямо или косвенно – в процессе реструктуризации новых “пространств знания” в городах (ср. Matthiesen 2007a: Wissensformen und Raumstrukturen).
Опирающийся на концепцию KnowledgeScapes подход как эвристический метод, позволяющий выделять центральный код габитуса знания конкретных городов, оправдал себя еще и в том смысле, что он позволяет точнее определить тот переход власти от индивидов к организациям и институтам, который, как часто утверждают, происходит в “обществе знания” (ср. Willke в Matthiesen/Mahnken 2009). Не затушевывая роль неформальных социальных сред, а значит и структурное значение персонального знания для урбанных KnowledgeScapes и городских ландшафтов, эвристический инструментарий нашего подхода вместе с тем дает возможность реконструировать масштабные изменения, происходящие в топологии знания и экспертизы городских регионов. Лоббистские группы, ассоциации, служащие продвижению групповых интересов, НКО, stake holders и think tanks, университеты как новые инкубаторы, эпистемические сообщества и технически ориентированные “сообщества практики” – все они конкретно демонстрируют количественное увеличение и гештальтно-реляционное группирование источников знания в рамках городского габитуса знания. Одновременно с этим они выполняют всё более важные функции для той части габитуса знания, которая касается регулирования и управления. Ведь именно на “входе”, со стороны легитимности и коллективного действия городов, происходят кардинальные перемены. За счет этого возрастает “основанная на знании” потребность в том, чтобы как можно более многочисленные и гетерогенные организованные интересы и их знания были структурированы как гештальты в габитусе знания городов и их арен. От того, принимают ли города эти новые вызовы, связанные с габитусом знания, и как они с ними справляются, в решающей степени зависят стили, потенциалы и характеристики урбанных форм габитуса знания каждого городского региона (см. опять же Willke в Matthiesen/Mahnken 2009 – анализ smart governance). Одновременно становится еще более очевидно, что знание (например, в форме ритмично сменяющих друг друга экспертиз и контрэкспертиз) на сегодняшний день уже настолько пропитало собой определяющие жизнь городов процессы регулирования и управления, что нам кажется обоснованным наряду с концепцией “арены действия” обозначить отдельную зону – “арену знания” в рамках габитуса знания конкретного города (ср. Matthiesen 2007b: 689; а также Matthiesen/Reisinger 2009a).
6. Логики развития городских ландшафтов знания, имеющих форму габитусов: кейсы-миниатюры
Полные реконструкции габитуса знания какого-либо города пока не осуществлены. Однако команда исследователей Института регионального развития и структурного планирования имени Лейбница в Эркнере изучила центральные участки габитуса знания нескольких городов – для начала трех “маленьких больших городов”, репрезентирующих контрасты городского развития – роста и убывания – на западе и востоке Германии: Эрланген/Siemens, Йена и Франкфурт-на-Одере. К настоящему моменту, как уже упоминалось, хореография контрастов расширена и включает в себя регионы мегаполисов (Берлин/Бранденбург и Гамбург), а также в дозированном масштабе европейский уровень (Эйндховен/Philips, Тулуза/Airbus) – ср. Matthiesen 2004; Matthiesen/Mahnke 2009; Matthiesen 2009. Ведутся и другие работы в рамках исследовательских семинаров – например, о Фридрихсхафене (в сотрудничестве с фридрихсхафенским Университетом им. Цеппелина).
Из результатов всех этих работ – в которых рассматриваются как проблемы, так и возможности – здесь будут кратко изложены лишь некоторые, в виде кейсов-миниатюр. Чтобы сделать концепцию габитуса знания города или городского региона еще более ощутимой и наглядной, мы выберем реконструкции габитуса двух максимально контрастирующих друг с другом кейсов – Берлина и Йены.
Берлин
Мы начнем со сложного кейса. Берлин – периферийный мегаполис, который на первый взгляд кажется во многих отношениях образцовым примером тех “трех Т”, которые прославлял Ричард Флорида (талант, технология, толерантность): много толерантности – даже во главе города стоит бургомистр-гей (“Берлин – бедный, но эротичный”)[59]; высокая привлекательность для творческих талантов; большой технологический потенциал. Тем не менее его экономические показатели всё равно по-прежнему очень слабые в сравнении с другими городами. По сути, это классический случай, опровергающий хваленые тезисы Флориды о “трех Т”. В высшей степени критичные исследования по результатам длительной серии наблюдений (follow-up-studies) будут в скором времени опубликованы Эберхардом фон Айнемом и Дитрихом Хенкелем (ср. также более “позитивную” реконструкцию фигуры “Knowledge City Berlin” Петером Францем: Franz в Matthiesen/Mahnke 2009). Тем более необходимым представляется для начала “бурение” глубинных исторических и локально-географических “скважин”, чтобы обнаружить структурные формулы берлинского габитуса знания и его инновационной динамики. При этом двойной вопрос об инновации и сплоченности играет для этого пространства особенно важную роль. Структурную формулу для всего мегаполиса мы еще не расшифровали, но здесь для примера будут вкратце описаны четыре аспекта габитуса знания этого мегаполиса.
Исторический эффект зависимости от пути развития в габитусе знания Берлина: Далем – немецкий Оксфорд?
Лишь немногие места в мире называют центрами науки. Далем – район Целендорфа, его название не обозначено ни на одной карте Германии, но он входит в число первостепенных мест базирования естествознания XX века. В Далеме, в институтах Общества им. Макса Планка и в институтах им. императора Вильгельма работали 13 нобелевских лауреатов и еще гораздо большее число ученых, не отмеченных столь пышными наградами, но тоже выдающихся (Domäne Dahlem 1992: 3). Мировой успех далемских исследовательских институтов, особенно в период до 1933 г., был обеспечен несколькими “двигателями” и контекстными условиями – экономическими, институциональными и связанными с “ландшафтом знания”. В этом успехе как в капле воды отражаются первые важные ингредиенты успешного контекстного управления научными инновациями: свобода исследовательской деятельности в рамках сетей, связывающих лучшие институты (принцип Гарнака), высокая культура дискурса и свободный выбор перспективных исследовательских тем, администрация, мыслящая с прицелом в будущее, институциональные процессы обучения, меценатские сети поддержки со стороны гражданского общества и прежде всего – продуктивная смесь социальных сред знания и стратегических сетей в креативном ландшафте знания с тесными контактами лицом к лицу – в том числе на террасе изысканно-простого летнего дома Альберта Эйнштейна на склоне холма в Капуте. С помощью этой смеси удалось очень быстро превратить Далем в “sticky knowledge place” Берлина. По сути дела, именно эту концепцию используют в общественно-научных пространственных исследованиях сегодня, когда пытаются выявить кластерные эффекты между вузами, проектно-исследовательскими учреждениями, основанными на знании формами экономической деятельности и динамичным развитием городов (ср. Malecki 2000; Markusen 1996, см. также Florida/Gates 2001; Nowotny et al. 2001; Meusburger 1998; Matthiesen 2004). Поэтому случай Далема можно в порядке эксперимента использовать в качестве эпистемически-топографического мерила для сегодняшней политики городских властей Берлина в области знания и науки. И, если уж на то пошло, пространственная близость берлинского Свободного университета к старому центру знания – Далему – облегчила ему в 2007 г. достижение успеха во втором раунде общенационального конкурса элитных университетов за счет того, что он сумел продолжить невероятно привлекательный и обладающий индивидуальным очарованием научный путь развития.
Структурные дилеммы габитуса знания: problems of fit
Берлин находится в условиях структурной дилеммы: с одной стороны, общество знания требует вхождения в научно-образовательную элиту, с другой стороны, бюджет с безнадежным дефицитом в 60 миллиардов евро диктует необходимость экономии. Он хронически страдает от того, что его огромный потенциал как города знания и города науки дает слишком малый эффект на рынке труда. Только в результате давления, которое стали оказывать социальные среды гражданского общества, связанные со знанием, удалось, начиная с 2004 г., постепенно закрепить знание и науку на более видных местах как в городской повестке дня, так и в дискурсах самоописания этого мегаполиса. В то же время анализ социальных сред знания в сферах стартапов и высоких технологий показывает, что на рынке труда все еще слишком мало заметны эффекты от того, что составляет привлекательность Берлина во всем мире, – а это прежде всего соприкосновение гетерогенных стилей жизни и жизненных миров, профессий и дисциплин, культур знания и KnowledgeScapes мегаполиса, “digital bohemians” и “young urban non-professionals” (Тоби Маттизен, личное сообщение). Поэтому кейс Берлина опровергает, как уже было сказано, в почти классической форме гипотезы Ричарда Флориды о “креативном классе” (Florida 2002).
Илл. 3: Институты Общества им. кайзера Вильгельма в берлинском Далеме
Источник: Domäne Dahlem 1992, S. 9
Многие посвященные Берлину исследования, в том числе наши собственные (Matthiesen u.a. 2004), свидетельствуют о наличии тяжелой “проблемы вписывания” (problem of fit) в столичной культуре знания и присущих ей формах знания. Здесь много фундаментального знания, но пока очень мало таких форм, которые близки к товарной зрелости и обладают релевантностью прямой применимости: это видно, например, по тому, какая относительно малая доля зарегистрированных здесь патентов реализована в виде продуктов, которые можно было бы вывести на рынок. Следует, правда, заметить, что такого рода технико-инженерно-экономические показатели необъективны: они не учитывают наличествующий в Берлине огромный ассортимент продукции гуманитарных наук, наук о культуре и о человеке. К тому же – как смогла показать группа роттердамских исследователей во главе с ван ден Берхом и ван Винденом (EURICUR 2005) – привлекательность крупных городов для внешних компетенций, повышающая инновационный потенциал и потенциал роста, в значительной мере зависит от гетерогенности города и т. д., а не только от зарегистрированных патентов в технологической сфере и т. д. Поэтому при реконструкции габитуса знания мегаполисов следует настраивать оптику так, чтобы сравнительно простые технологические и экономико-географические показатели из области знания и инноваций, специфичные для многих массивов данных по городской экономике, получали расширение, добавленное за счет концептуализации знания.
В том варианте “problem of knowledge fit”, который мы наблюдаем в Берлине – с его проблемами несообразности и непропорциональности, – заметны также, во-первых, перевес научно-исследовательской деятельности, финансируемой не из частных источников, а во-вторых – отсутствие индустриальных исследовательских учреждений, и это – в некогда крупнейшем промышленном городе Германии. Теперь, под ударами тотальной деиндустриализации, промышленность здесь почти исчезла. К тому же группы гражданских активистов, первыми выдвинувшие тему “Берлин как город знания” на повестку дня, слишком долго сталкивались в администрации Сената с позицией, которая граничила с сопротивлением всяким попыткам что-либо обсуждать. За счет этого было упущено драгоценное время. Кроме того, как мы смогли показать, культуры знания в берлинском регионе до сих пор образовывали не совсем оптимальную смесь мягких сетей (социальные среды знания, креативные среды культурной индустрии) и жестких сетей (заинтересованные группы с организационной и ресурсной поддержкой). И не в последнюю очередь надо подчеркнуть, что город по-прежнему слишком слабо использует свою огромную культурную и урбанно-гетерогенную привлекательность для выработки собственных стратегий “sticky knowledge place”. Есть основания усомниться в том, что нынешняя брендинговая кампания “Be Berlin”, с помощью которой пытаются артикулировать повсюду разыскиваемый и не обнаруживаемый центральный код габитуса этого мегаполиса, далеко ушла от прежних духоподъемных кампаний “постфордистских” семидесятых, вроде “Froh in Do” (“Весело в Дортмунде”).
Илл. 4: Берлинские учреждения знания
Источник: IRS
Намеченные здесь лишь в самых грубых чертах дефицитарные аспекты берлинского габитуса знания мы разработали и перепроверили с помощью контрастирующих “глубинных замеров”. Приведем несколько примеров.
Берлин-Адлерсхоф
Мы провели специальное исследование, посвященное непростой истории развития одного из крупнейших научно-технологических парков Европы, который расположен в берлинском районе Адлерсхоф (Petra Jähnke 2009). Включенность акторов в разнообразные, отчасти уходящие корнями в социалистическое прошлое социальные среды знания, а также складывание и закрепление специфических сетей знания с самого начала играли в Адлерсхофе важнейшую, но на протяжении длительного времени неявно осуществлявшуюся роль и в решающей степени содействовали успеху. Например, в кластере, занимающемся фотоникой, а также в зоне химических исследований и разработок удалось обнаружить весьма интересные неформальные среды и сети, сохраняющие преемственность с эпохой Академии наук ГДР, которые оказывают значительное воздействие как на динамику инноваций, так и на распространение неявного знания, и на основанные на доверии формы обмена знаниями. То же самое, между прочим, можно констатировать применительно и к самому этому городскому району (тезис об урбанизации знания), и к социальным средам знания в пригородах (см. работу Торальфа Гонсалеса о районе Штансдорф-Тельтов: González u.a. 2009). Высокая степень преемственности и закаленная кризисами стабильность форм как обмена знаниями, так и его встроенности в среду – причем именно в областях с максимально ускоренной инновационной динамикой (сокращающийся период полураспада валидности релевантного знания) – имели особое значение для формирования габитуса знания, специфичного для этого места.
Формы габитуса знания в Берлине и в регионе
Еще одно направление наших исследований габитуса знания – это соотношение процессов brain drain/brain gain и их последствия для габитуса знания всего берлинского региона. На сегодняшний день актуализированные официальные демографические прогнозы объединенного Управления статистики Берлина и Бранденбурга [т. е. мегаполиса с пригородами и окружающей его федеральной землей – прим. пер.] тоже говорят об амбивалентных тенденциях, характеризующих население этого региона: стагнация в центре мегаполиса, умеренный рост в ближайших окрестностях Берлина, продолжающийся массированный отток (в особенности молодых, хорошо образованных, причем в первую очередь молодых, женщин) из так называемой внешней зоны развития Бранденбурга – теперь этого, кажется, уже никто не оспаривает (Amt für Statistik, Statistische Berichte -berlin.de, последнее обращение: 28.04.2008).
Таким образом, утечка мозгов становится во внешней зоне развития (ВЗР) устойчивым каналом деградации, который, с одной стороны, гомогенизирует остающиеся социальные среды, а с другой стороны – индуцирует длительные дефициты в области инноваций и креативности. Но вместе с тем, за счет этого во всех секторах, отраслях и профессиях освобождаются места для инновативных новопоселенцев (и некоторого количества активных местных). Мы изучаем эти инновационные микросети под собирательным названием “пионеры пространства”, выясняя, выполняют ли они функцию инкубаторов локальных сред знания (cм. Matthiesen 2004a). Микросети “пионеров пространства” в некоторых субрегионах на сегодняшний день уже играют важнейшую роль в формировании инновационного климата и местного габитуса знания.
Наша реконструкция габитуса знания Берлина на этом еще далеко не закончена. Существует целый ряд исследований кейсов по этой теме, описывающих минимальные и максимальные контрасты, и они по меньшей мере складываются в определенный отрезок пути к воссозданию некоего типа или гештальта, при этом решительно подвергая сомнению и расхожие диагнозы, которые ставят Берлину, и концепции имиджевых кампаний. Следует отметить, что новый берлинский министр науки Юрген Цёльнер с июня 2008 г. решительно пытается наряду с заинтересованными кругами бизнеса и членами комиссии по развитию (“BerlinBoard”) привлечь также представителей гражданского общества в “Berlin International Forum for Excellence”. Этот форум создан правительством Берлина, всеми берлинскими университетами и четырьмя научно-исследовательскими обществами для того, чтобы содействовать развитию передовой науки в городе и одновременно привлекать в него интеллектуальную элиту извне, двигаясь таким образом к основанному на знании “городу неограниченных возможностей” (Jürgen Zöllner, Senator für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin – Tagesspiegel 12.06.2008). Однако и тут обнаруживается, что рамки определения “элитных научных институтов” слишком узки, а шансы креативной гетерогенности KnowledgeScapes остаются незамеченными или неиспользованными.
The Spirit of Jena: История успеха из восточной Германии
Йена входит в ту небольшую группу восточногерманских городов и городских регионов, которые успешно осуществили структурную трансформацию, ориентируясь на “экономику знания”. До 1989 г. Йена представляла собой типичный для ГДР промышленный моногород, в котором ядро составлял комбинат “Zeiss”, а вокруг него располагались дополнявшие его жилые структуры. После жесткого структурного слома городу, тем не менее, удалось совершить переход к технологически передовому, интегрированному в мировые экономические отношения, “основанному на знании” ландшафту производства и услуг (KnowledgeScape). В растущей отрасли оптоэлектроники несколько ведущих предприятий – среди них некоторое время лидировала фирма “Jenoptik” – взяли на себя роль моторов инновации для городского региона. В качестве таковых они были с успехом представлены в европейском и даже глобальном масштабе. На имиджевом уровне – иными словами, в каком-то смысле на уровне стратегической реализации форм габитуса города – Йена умело использовала прежние структуры в стиле посттрадиционного “нового изобретения традиций” (в частности, подхватив прекрасное, почти современно звучащее выражение Гёте “Йена – склад знания”). В условиях изменившегося контекста, когда рынки приобретают все более общеевропейский и глобальный характер, эти преимущества получили новый вес, были радикально реструктурированы и виртуализированы. Расположившийся вблизи центра в бывших корпусах завода “Zeiss” университет, как богатый традициями и технологически модернизированный производитель знания, взял на себя функции инкубатора для определенных профилирующих областей (в том числе с помощью давно и сразу с большим успехом начатых семинаров для стартаперов). Это относится как к сфере производства знания, так и к формированию сетей, способствовавших превращению этого места в “sticky knowledge place” (Malecki 2000).
Илл. 5: Учреждения знания в городе Йене
Источник: IRS
С тех пор наряду с профессиональными, ориентированными на отраслевые нужды институтами, занимающимися трансфером технологий, особое внимание уделяется вновь основанным институтам, выделяющимся из университетских исследовательских подразделений. Им оказываются мощная финансовая поддержка, интенсивная организационная помощь и всяческая опека. Кроме того, они соединяются в гетерогенную и одновременно комплементарную сеть компетенций. При этом встречаются друг с другом заинтересованные лица и организации из бизнеса, науки и общества. Спектр участников сети сознательно делается очень широким: он включает и мелкие или средние предприятия оптоэлектронной промышленности, основанные молодыми стартаперами, и университетские или неуниверситетские исследовательские институты, локальные или региональные образовательные учреждения (например, университет прикладных наук, ориентированный на инженерные науки). В сеть интегрированы на раннем этапе потенциальные спонсоры, готовые давать деньги на осуществление рискованных проектов, политические институты, юристы и другие symbolic analysts, а также близкие к бизнесу организации, т. е. группы с собственными интересами. Эта стратегия создала йенскую социальную среду инноваций, которая уже очень близка к модели горизонтально переплетенных, временных, проектно-ориентированных структур новых сетей “альтернативного режима производства знания” (“mode-2”) (Nowotny et al. 2001). Не в последнюю очередь следует упомянуть, что эта среда “альтернативного режима производства знания” (“mode-2”) интерактивно поддерживается и под слоганом “The Spirit of Jena” умело рекламируется через СМИ и коммерциализируется как внешними, так и внутренними усилиями, что имеет позитивное обратное влияние на процесс образования самостоятельного габитуса знания города.
Йенский кейс особенно наглядно показывает, как стратегические сетевые связи между носителями гетерогенных форм знания (т. е. hard networks, см. модель ландшафтов знания выше) в разумном сочетании с soft networks социальных сред знания могут по-новому формировать специфические городские культуры знания и благодаря этому всё больше обретать “качество габитуса”. Их формообразующее качество проявляет себя в том, как они играют роль точки притяжения и одновременно стимула для новых, плодотворно влияющих друг на друга констелляций акторов, которые взаимно подходят друг другу (дозированная гетерогенность как условие привлекательности). В частности, за счет этого успешно ритмизируется поле сотрудничества между предприятиями и заинтересованными кругами. В рамках этих расширенных ассоциаций акторов профилируются “качественные” концепции развития, которые выходят за пределы тех социальных сред, в которых возникают, и уже оказывают свое стимулирующее и средообразующее действие на весь город и его гражданские объединения – и наоборот. Таким образом складывается специфический менталитет развития (“Spirit of Jena”), который через новые смешанные – формально-неформальные – формы образования общностей непрерывно обеспечивается социально-средовой базой. Результат этих процессов, идущих одновременно на нескольких уровнях, – феномен, который самими акторами описывается как “харизма места” (опять см. выше переформулированную концепцию габитуса знания города). Актуальным свидетельством этой основанной на знании харизмы является то, что Йена почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы подать заявку на конкурс по выбору места для Европейского технологического института EIZ; ее соперниками выступают Будапешт, Барселона и Вена/Братислава. (О том, рассматривал ли Берлин вообще возможность своего участия в этом конкурсе, ничего не известно. Вместо этого там предпочитают наращивать семантическое вооружение – с помощью лозунга “Город неограниченных возможностей”). В обосновании заявки неоднократно указывается на “уникальную исследовательскую культуру” Йены, т. е. на харизму места и на “Дух Йены” как высокопродуктивную габитусную формулу.
Таким образом, наш анализ KnowledgeScapes показывает, что “город знания” Йена отличается высокой способностью интегрировать множество гетерогенных акторов на небольшой территории старого городского центра (ср. плотность расположения учреждений знания на карте). Многообразная деятельность центральных основанных на знании институтов по формированию сетей, а также живая городская среда в небольшом пространстве создают шансовые структуры и преимущества тесного контакта, которые могут (но не обязательно) содействовать инновациям – и в данном случае действительно это делают. Главное здесь – потенциалы и шансовые структуры. Это распространяется на все, включая самые общие, ожидания, относящиеся скорее к настроениям и “духу”, нежели к положению в сети экспертного знания, – ожидания того, что “место” само по себе, как городское пространство стимулов и контактов, окажется – обязано оказаться – выгодным в плане работы и карьеры (новые требования к специфическому городу и его политике!). Отсюда следуют, помимо всего прочего, ожидания горожан, ясно и настойчиво высказываемые ими локальным элитам. Одним из таких главных требований, передаваемых через локальные СМИ, является требование усилить качественную (а не количественную) и одновременно комплексную (а не фрагментированную) политику развития города!
Если нанести на карту города расположение учреждений, в которых интенсивно производится и перерабатывается знание, то видно их скопление вблизи центра. Это представляется прямым подтверждением нашей реконструкции габитуса знания. Поэтому здесь, разумеется, следует указать на то, что социальные среды знания и медийные эффекты лишь наслаиваются на попытки картирования институтов и их целевые проектные сети, поскольку наряду с ними они обнаруживают также самостоятельные расширения, поддающиеся картированию посредством сетевых графов, и способствуют образованию локально-специфичных преимуществ агломерации.
Для анализа форм габитуса города мы осуществили дальнейшую сортировку многообразных констелляций акторов и институтов в городских регионах, применяя аналитико-управленческую модель, разработанную в роттердамском Европейском институте сравнительной урбанистики (EURICUR). С ее помощью можно привязать наш анализ KnowledgeScapes к конкретным политическим сферам, релевантным для развития специфичных для каждого города доменов знания и форм габитуса.
Илл. 6: Политические поля в рамках основанной на знании динамики развития города и форм габитуса
Источник: EURICUR Rotterdam, 2004: 30.
Чтобы продемонстрировать специфику основанных на знании вариантов развития пространства и связанных с ними управленческих опций, внутри овала помещен маленький “Дом функций знания”. Тут мы можем идентифицировать четыре задачи, имеющие главное значение для посттрадиционных обществ и их городских пространств. Они профилируют “культуры обучения”, содействующие инновациям, а также их инкубаторы.
Функции:
– Применять знания.
– Создавать новое знание.
– Привлекать и/или удерживать работников знания.
– Создавать/профилировать Sticky knowledge places и кластеры роста.
7. За смену парадигмы в социологии города и муниципальной политике: знание городов как новое предметное поле для компаративной урбанистики на этнографической основе
Важным первым шагом в наших исследованиях габитуса знания в нескольких избранных городах было сосредоточение анализа на центральных констелляциях знания и их организационном устройстве. Этот базовый паттерн институционального устройства (с его исторически предшествующими структурами, задавшими путь его развития) – например, роль университетов – был, вместе с тем, всегда только отправной точкой для детального эмпирического изучения социальных сред и сетей с целью выявить институциональную и интерактивную динамику в поле “город+знание”. Собственная логика городов, если смотреть на нее “со стороны знания”, всегда обнаруживала огромное количество производителей и потребителей знания, далеко выходившее за пределы научного и управленческого знания; при этом растущее значение имело знание локальное и социально-средовое, а также поля компетенций, которые “прибывали” в ходе миграционных процессов. Только такие “гибридные” смеси различных форм и культур знания, а также интеракционных процессов позволяли в конце концов предпринимать с надеждой на успех поиск структурной формулы, “генетического кода знания” того или иного города или городского региона. При этом однозначно подтвердились предположения относительно “гештальта” специфической связки, которая устойчиво реализуется как поддающийся идентификации “индивидуальный закон” (выражение Г. Зиммеля) производства знания и обращения со знанием, обучением, незнанием и утратой умений в каждом городе. Этот “генетический источниковый код знания”, составляющий ядро специфического городского габитуса знания каждого конкретного города обладает структурой правила (“индивидуальный закон”) и благодаря этому имеет, как мы видели на примере Берлина и Йены, большую генеративную силу. Эта генеративная базовая структура габитуса знания порождает и возможности присоединения, и инновационные шансы, и проблемы вписывания, и тупики (“problems of fit”). Наряду с этим, имплицитное знание о подобных глубинных структурах в габитусе города, влияющих в том числе и на его будущее, заложено, словно “membership category”, во многих формах выражения и действия, свойственных нам, горожанам, – например, в формах иронии по поводу “нашего” города. Писательская чувствительность часто подпитывалась из этого источника; упомянем лишь два примера: интеллектуал-писатель Томас Манн в 1926 г., вспоминая свои трудные отношения с родным городом, говорит о “Любеке как духовной форме жизни”; интеллектуал-ученый Эгон Мацнер в своих воспоминаниях о Вене определяет структурную формулу патологии венской духовной жизни так: “Страх перед другим аргументом” (неопубликованная рукопись 18.09.1998).
Таким образом, обычные люди, писатели и ученые обоего пола абсолютно справедливо предполагают, что индивидуальная специфичность их жизненного плана профилируется в реляционно-компаративной рамке духовно-интеллектуального климата городов, причем сам этот климат также продолжает профилироваться. Подобная специфичность (“своё”) подчиняется при этом реляционной технике сравнения, которая нередко носит транснациональные и глобальные масштабы. К этому добавляются в какой-то момент технологические и научные трансформации, зачастую перемешанные с культурной техникой “повторного изобретения традиций” (“старинный университетский город”). Так образуются праксеологически сгенерированные и отработанные на местах структуры и интерпретативные паттерны, которые синхронно и диахронно “знают” данный город как специфический. Все более важным становится тот факт, что местная специфика режимов и формаций знания естественным образом – в силу мощного усиления конкуренции городов между собой – конституируется в реляционных сравнениях. В поле определяющих облик города научных и технологических ландшафтов центральный паттерн габитуса знания – конечно, наряду с национальными культурами, которые по-прежнему нельзя недооценивать, – всё больше профилируется в европейских и глобальных сетях компетенций. Поэтому в поле знания городов своеобразие, сотрудничество, способность действовать в команде и взаимоотношения должны рассматриваться как единый комплекс, а не раскладываться по разным ведомственным или дисциплинарным ящикам.
В муниципальной политике процессы брендинга, которые всё сильнее подчеркивают индивидуальность городов (см. выше “The Spirit of Jena”), всё чаще включают в свои имиджевые и брендовые кампании тему знания – правда, зачастую в серийной форме “готовых чертежей” (blueprints). Это означает, помимо всего прочего, что они недостаточно точно реконструировали структурные формулы, по которым функционирует город в плане компетенций и знания. Если “бренд” не соответствует этому “генетическому коду знания”, который является главным мотором собственных логик городов, то все имиджи и бренды будут “пузыриться” без всяких последствий и, как моды, с завидной регулярностью появляться и исчезать. “Be Berlin” – один из таких. У местных уроженцев, как правило, прекрасное чутье на это, или по крайней мере питаемая неявным знанием способность четко отличать “good cases” от “bad cases”: они сразу знают, если бренд “не попадает в точку”. Поэтому в дискуссиях об имидже, ведущихся в сфере городского развития и планирования, сегодня едва ли не острее, чем когда-либо, встает опасность “готовых чертежей”: проигрываются все возможные сочетания “город+знание”, а специфика городского профиля компетенций, т. е. габитус знания городов, не улавливается. Он редко лежит на поверхности, его приходится обнаруживать, будь то с помощью этнографического “глубинного бурения” или особого дара в области абдукционной логики – используя смесь из реконструкций “имплицитных знаний”, присущих различным городам, и такой фокусировки собственной логики и основных компетенций, которая адекватна структуре каждого кейса, – пока не будет выведен приспособленный для управленческих нужд “smart code” конкретного города. В особенности последнее сегодня “дорогого стоит”.
Тем самым четко очерчена гештальт-гипотеза габитуса знания, в которой нам представляется интересным, в частности, то, что подобные структурные формулы не вытекают суммарно-индуктивно даже из самых детальных анализов KnowledgeScapes. Между описывающим детали анализом и глубинной формулой центрального кода габитуса знания всегда остается зазор, который приходится преодолевать методом абдукции или качественной индукции. Но затем структурный закон найденного кода для того или иного города должен быть проверен жесткими тестами и либо подтвержден, либо опровергнут. При этом – согласно принципу “умеренного методологического холизма” (Albert 2005) – главное значение имеют коэволюционные взаимосвязи между макросоциальной структурой габитуса знания и деятельностью индивидуальных и институциональных акторов, а также теми культурами знания, в рамки которых она вписывается. Методологическая дискуссия о “гештальтных понятиях типа «большой субъект»”, каковым является габитус знания города, требует продолжения, но здесь мы можем лишь начать ее. Отказываясь от лишенной концептуальных оснований “модели социологического объяснения” (MSE) Хартмута Эссера, представляемый здесь подход – операционализированный посредством анализа KnowledgeScapes поиск габитуса знания – ориентируется на интеграцию четырех теоретико-методологических подходов, или “школ”:
– структурной феноменологии Лукмана, Бергера, Келлера, Хильдебранда и других;
– объективной герменевтики (У. Эферман, долговременно развивающий свой подход в одиночестве);
– рефлексивного неоинституционализма и
– реформированной теории социальных сред (Matthiesen 1998 и его же работы последующих годов).
В этих контекстах можно реконструировать структурную динамику, которая успешно “снимает” раскол между “микро-” и “макро-” и позволяет реконструировать релевантные для той или иной деятельности структурные гештальты, такие как габитус знания. Слишком долго социологическая урбанистика, особенно на методологическом фланге, занимала чуть ли не агностическую позицию, без особых сомнений доверяя старинному объективизму (постфордизм и т. д.), который только украшался субъективными компонентами и перспективами, как гарниром, но не связывался с ними в единый структурно-теоретический взгляд. Эмпирических структурных генерализаций на основе отдельного кейса, поддающихся проверке, с его помощью получить было нельзя.
Национальная политика в области городского развития (см., например, “Лейпцигскую хартию устойчивого европейского города” от 24–25 мая 2008 г.) и другие попытки актуализации европейской муниципальной политики до сих пор еще далеки от адекватной рецепции темы знания. Их тематические поля укрупняются в соответствии с текущими кампаниями, поэтому бунтующая культура экспертиз, сформировавшаяся вокруг актуальных тенденций городского развития, тоже еще не прошла сквозь чистилище систематического незнания. Парадоксальное положение основанной на знании муниципальной политики, т. е. сочетание возрастающих специфическим для каждого города образом потребностей в регулировании и опять-таки специфическим образом понижающейся эффективности регулирования (на это неоднократно указывал Томас Зифертс, например в своем сборнике статей “Пятьдесят лет градостроительства” 2001 г.), еще практически совсем не отразилось в текущих программных дебатах. На повестке дня стоят неуклюжие актуализации и укрупнения в направлении “интегрированных подходов”, тогда как необходима была бы более смелая перенастройка урбанистики и муниципальной политики. Правда, лозунги вроде “Головы вместо бетона” всё более позитивно воспринимаются и включаются, например, в начавшиеся с опозданием бюджетные прения по поводу нового определения понятия “инвестиции”. До последнего времени фактическая исследовательская работа и средства на зарплату исследователям – непременные условия инноваций – не считались инвестициями, в отличие от масс бетона, вложенных в те пространственные оболочки, где осуществляются исследования. Классические инфраструктуры, такие как улицы, железные дороги и промышленные сооружения, считались инвестиционными объектами, а знание, исследования и разработки – нет, и это имело большие последствия, например для инвестиционной помощи Восточной Германии, и, конечно, использовалось (как известно, без успеха) в качестве долгового тормоза для городов. Чем бы ни завершались разговоры о новых задолженностях, они лишний раз наглядно показывают, что знание на сегодняшний день уже просочилось в инфраструктуры и их понятийный аппарат (“инвестировать в головы”) и что прежний четкий дуализм жестких и мягких инфраструктур размывается, уступая место, например, введенной Хельмутом Вильке концепции “smart infrastructure”.
Применительно к интересующей нас взаимосвязи города и знания решающее значение имеет то, что структурные комбинации форм “умной инфраструктуры” в высшей степени специфичны для каждого случая: они выглядят в Гамбурге совершенно не так, как в Берлине, хотя в обоих случаях “безмолвное” знание приобретает растущий вес на уровне как “символической”, так во всё большей мере и “фактической” политики. Наш опирающийся на данные исследований тезис гласит: проникновение знания в специфические городские инфраструктуры дополнительно интенсифицирует развитие городов, основанное на их собственной логике. К сожалению, этому противодействует практика многих экспертных групп и муниципальных политиков, которые по известным “blue prints” – например, Силиконовой долины – штампуют структурно идентичные мастер-планы (“Oder-Valley” и т. д.). Знание же, как мы пытались показать, действует, в отличие от информации (см. раздел 1), как генератор дифференциации и гетерогенности. В сторону индивидуализации и гетерогенизации градостроительное планирование подталкивается уже хотя бы одним только экспоненциально возрастающим числом производителей знания, которых надо учесть, – здесь один край спектра образуют т. н. stakeholders, т. е. заинтересованные лица, c их в высшей степени избирательными, направляемыми их деловым интересом, профессионализированными формами познаний о локальном знании “людей”, а другой край – рефлексивные формы знания с их повышенной ответственностью и притязаниями на значимость. Новые гибридные смеси жестких и мягких факторов места открывают, с одной стороны, новые пространства возможностей. Благодаря этому становится больше места для “техник романтизации” – с эффектом укрепления тенденций к индивидуализации, за счет того что пространства возможностей обыгрываются специфическим для каждого города образом (ср. прежние техники опционализации у ранних романтиков круга Новалиса, которые, помимо всего прочего, хотели “придать знакомому достоинство незнакомого”, доходя до требования “власти фантазии” – ср. Safransky 2007: 109–132, 393). С другой стороны, подобные гибридные смеси открывают для урбанистики новые пути изучения общественного участия (“participatory inquiry”), новые пути поддержки локального знания и доступа к нему, включая совместное “обнаружение фактов”, причем без опасности недооценки или переоценки локального и средового знания в контекстах общества знания (Zimmermann в Matthiesen/Mahnken 2009).
Опосредованно – через опирающиеся на медиа процессы взаимодействия в транзакционных сферах знания – возникают, конечно, и новые констелляции власти, которые приобретают релевантность для специфики развития городов. Таким образом, KnowledgeScapes продуцируют и организуют обычно, помимо всего прочего, еще и новые неравные распределения знания (по горизонтали, по вертикали), которые отчасти поддаются описанию уже как “режимы знания”, отчасти образуют более гибкие констелляции. За счет этого преобразуются прежние формы неравенства – частично они становятся гораздо острее, частично более умеренными. “Digital divide”, “brain drain”, “knowledge gaps” – вот лишь некоторые ключевые слова, описывающие это исследовательское поле, обработанное пока только в самых общих чертах. Здесь тоже очень велика потребность в аналитической работе новой, опирающейся на этнографический материал, урбанистики.
Рефлексивная фигура габитусной коэволюции знания и пространства: как известно, знание – “хитрый объект” (“tricky object”). Невзирая на то, что города к настоящему моменту всё больше признаются в качестве “объектов знания” (Berking/Löw 2005), представляется необходимым еще один поворот, который бы затронул также и предметность пространства (а именно – через знание). Благодаря этому сначала пойдут “враскачку” некоторые базовые категориальные сетки общественно-научного изучения пространства (например, как мы видели, традиционное противопоставление “жестких” и “мягких” факторов местоположения). Кроме того, установление реляционности в связке “знание+пространство” поражает и заражает само отношение между наблюдением, действием и познанием. Центральные категориальные базовые положения – например, дисциплинообразующий “социально-конструктивистский” модус конституирования пространств как пространств практики – при этом испытывают значительный дискомфорт. Они – таков наш тезис – неотступно требуют процессов концептуально-методологического обучения для общественно-научных исследований пространства и города в целом. Гносеологическая сторона этого гештальтного скачка характеризуется новыми формами комбинаций экспертного и обыденного знания. Актуальный девиз – “Общество отвечает” (“Society speaks back”). На всякую экспертизу привычно представляется контр-экспертиза; социально обоснованное знание (ср. Nowotny et al. 2001) подкрепляется компонентами доксы – с должным вниманием к притязаниям профессионалов на значимость; в высокотехнологичных разработках системы опроса клиентов используют новое знание, полученное пользователями продуктов, – оно превосходит по объему и опережает то знание, которое есть у ученых. Как минимум в одном из наиболее влиятельных вариантов новейшего науковедения вновь на повестке дня оказываются смеси из эпистемы и доксы (Nowotny et al. 2001). Рефлексивная фигура контекста “знание+пространство” имеет и свою институциональную сторону: наука на сегодняшний день уже почти привычно констатирует, что такая система, как “наука”, превратилась в решающую производительную силу экономики, основанной на знании, а тем самым – и в мотор основанного на знании развития городов, регионов и пространства. Вполне возможно, что рефлексивная и к тому же всегда движущаяся по замкнутому кругу самохаризматизация науки как системы институтов скоро приведет к необходимости и здесь внимательнее присмотреться к новым картелям интересов и отношениям власти. “Science watch” стал бы в таком случае возможным и необходимым способом институционализации пространственно заземленных форм самонаблюдения науки в контексте собственной логики городов.
Мы показали, как, например, “заражаются” так называемые жесткие факторы местоположения и как через ускорение технологических инноваций они настолько сильно пропитываются знанием, что перенимают черты “мягких” факторов и свойственных им ритмов изменения. Поэтому классическое различение жестких и мягких факторов местоположения претерпевает в самой сердцевине самих городов глубинные и структурные (!) трансформации. В процессе социального конструирования городских пространственных структур экспертное и обывательское знание, локальные познания и реляционные структуры близости всё больше и больше переплетаются. Инновативные социальные среды (GREMI), “обучающиеся” регионы (Matthiesen/Reutter 2003), креативные классы (Florida 2002) – хотя и надо с некоторой осторожностью относиться к новым модельным понятиям и в особенности к самохаризматизирующему жаргону новых креативных групп (Florida 2001), – все эти энергичные новые большие субъекты современного урбанизма по крайней мере сигнализируют о том, что (и как) знание, обучение, образование во множестве форм входят в логики формирования социальных и экономических пространств и на сегодняшний день уже становятся, на самом деле, их “инкубатором”. Традиционные агрегирующие систематизации (микро, мезо, макро, глобальное) при этом перемешиваются. Расхожим исследовательским правилом становится принцип “скачущих масштабов” (“jumping scales”), призванный дать исследованиям пространства возможность увидеть важнейшие для этой постановки проблемы новые локально-транслокальные сети акторов. Инновационные процессы, динамика которых отличается коротким тактом и которые могут сопровождаться острыми социально-пространственными поляризациями, превращаются при этом скорее в регулирующие структуры новых быстрых пространств знания – в то время как другие типы пространств из этой динамики обновления выпадают и непреднамеренно мутируют в хронически медленные, отходящие на периферию контрастные пространства (ср. новую национальную и европейскую пространственную категорию: “обширные территории опустошения”). Подобные гибридные эволюционные процессы нужно прежде всего – в сравнительной перспективе! – “высветить” при помощи методов городской этнологии, особенно в том, что касается их функции в специфическом ландшафте знания каждого города.
По сложному вопросу о соотношении гетерогенности и гомогенности в развитии городов, подчиненном их собственным логикам, и об образовании “sticky knowledge places” здесь можно сделать лишь одно заключительное замечание: рост гетерогенности в локальных культурах знания был обнаружен во многих наших исследованиях по социальным средам знания. Представляется, что одновременно он являет собой главное условие для образования притягательных мест знания с увлекательными культурами обучения. Однако гетерогенизация должна сопровождаться профилированием, специфичным для каждого случая и пространства. Только так повышение гетерогенности действительно сможет способствовать образованию “sticky knowledge places” – мест, которые привлекают и удерживают, и не “закрывают” знание.
В условиях конкуренции посттрадиционных обществ знания и их культур обучения центральной управленческой задачей для городских регионов становится следующая сложносоставная компетенция (см. выше илл. 4):
1. Внутреннее профилирование компетенций.
2. Привлечение компетенций извне.
3. Удержание на месте и компетенций, и процессов профилирования, гибкая привязка их к особым местам с помощью, например, проектных сетей, причем таким образом, чтобы образовывались критические массы для взаимоналожения гетерогенных компетенций и разных форм знания.
Примером того, как это удалось, может служить Йена. В Берлине же, вопреки брендинговым обещаниям, пока не удалось. Благоприятствует этому развитие различных форм креативности и инновационных процессов – например, базовых, технологических и рутинных инноваций – в пространственной близости друг от друга и со взаимным (т. е. именно в режиме “лицом к лицу”) плодотворным воздействием (Storper 2004).
Одновременно наши исследования кейсов показывают, что неуклонно обостряющиеся конкурентные процессы всегда одновременно порождают и пространственные гетерогенизации, и гомогенизации. Это, помимо всего прочего, означает, что повышение гетерогенности само по себе больше не представляется “благом”, а повышение гомогенности само по себе не представляется “злом” для структуры города. Благодаря концептуальной дифференциации форм знания и уровней интеракций (см. илл. 1 и 2) теперь есть возможность более точного анализа специфичных для каждого случая видов динамики гетерогенности и гомогенизации, которые обнаруживаются в пространстве между инновативными, гетерогенными по своему составу профилями компетенций в “sticky knowledge places”, и вынужденной гомогенизацией периферийных социальных сред за счет утечки мозгов, т. е. оттока дифференцированных человеческих ресурсов.
Этому противостоит, разумеется, политически более корректная картина мира, предусматривающая только расширение компетенций, т. е. уже вообще не знающая некомпетентности. Но ее вытесняют более или менее сильные сигналы необходимости так реструктурировать финансовую и организационную поддержку развития компетенций, чтобы способности усиливались, а тормозящие факторы ослаблялись.
Хотя именно в науках о культуре излюбленными являются утверждения о гетерогенности вообще (“Гетерогенность хороша для инноваций”), мы на основе наших исследований по габитусу знания конкретных городов пришли к иному предположению: не существует никакой абстрактной меры гетерогенности, способной производить инновативный эффект. Скорее, нужно развивать комбинации гетерогенности, инновативности и профилирования – всегда применительно к специфическому контексту и с опорой на квалитативную типологию. При этом важнейшую роль играет специфика KnowledgeScapes с их сетевыми связями (hard/soft) и их привязкой к специфическим констелляциям форм знания на местах.
Не в последнюю очередь следует упомянуть о том, что взаимосвязь между знанием и пространством по-прежнему справедливо считается недостаточно теоретически обеспеченной (“undertheorized” – Amin/Cohendet 2004: 86). Эти два понятия-контейнера – “знание” и “пространство” – настоятельно нуждаются в скорейшей дифференциации по формам и типам, по институциональным констелляциям и вариантам динамики интеракций (в разных социальных средах, сетях, процессах фильтрации и обмена), в которые они встроены и в порождении которых они сами непрерывно участвуют (ср. гл. 2–3). Только так вопросы о взаимосвязи между пространством и знанием, городом и компетенцией можно будет уточнять, теоретически обеспечивать и, наконец, более адекватно вводить в контексты “умного” управления.
Наш краткий заключительный обзор некоторых опций и сложностей систематического переплетения специфических процессов развития городов и соответствующего им развития знания показал, что нам следует окончательно расстаться с преставлением о развитии города и инноваций как о линейном процессе. Уже одни только непрогнозируемые эффекты непрерывно сокращающегося периода полураспада валидности знания порождают дисбалансы, кризисы, конкурентные процессы, которые действуют специфичным для каждого случая образом. Для городов отсюда может следовать уменьшение жесткости специализаций, похожих на колеи, но не полная их отмена. В расхожем представлении о городе как “обладателе универсальной одаренности” отказ от специализации и новое профилирование должны, таким образом, соединяться в подчиняющуюся собственной логике линию развития. Неоиндустриализм и культура тут и там уже соединяются в новые, специфичные для каждого города смеси. Но при этом всегда обнаруживается, что разнообразное по своим формам знание и его институты, его транзакционные зоны и ритмы их изменений представляют собой важный центральный код/коду в концерте индивидуализированных вариантов городского развития. Новые связи здесь могут освобождать место в голове, например для более четкого профилирования специализаций, которые совместимы с габитусом знания индивидуального города/городского региона или интересным образом дифференцируют его. Тем самым для новой, опирающейся на этнографические принципы и работающей сравнительными методами урбанистики открывается увлекательное поле работы. В условиях обостряющейся конкуренции это поле обладает, кроме того, еще и огромной релевантностью для муниципальной политики.
Литература
Ahrens, Daniela (2001), Grenzen der Enträumlichung, Opladen.
Albert, Gert (2005), Moderater methodologischer Holismus // KZSS, Jg. 57, S. 387–414.
Amin, Ash/Cohendet, Patrick (2004), Architectures of Knowledge, Oxford.
Amt für Statistik, Statistische Berichte, -berlin.de, [Stand 28.04.2008].
Appadurai, A. (1992), Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy // Featherstone, M. (Ed.), Global Culture, London, p. 295–310.
Berger, Peter/Luckmann, Thomas (1967), Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt am Main [рус. изд.: Бергер, Питер/Лукман, Томас (1997), Социальная конструкция действительности, Москва. – Прим. пер.].
Berking, Helmuth/Löw, Martina (2005) (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte, Baden-Baden.
Bourdieu, Pierre (1982), Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt am Main, [1979], [частичное рус. изд.: Бурдье, Пьер (2004), Различение: социальная критика суждения (фрагменты книги) // Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики, Москва. – Прим. пер.].
– (1989), Antwort auf einige Entwürfe // Eder, K. (1989), S. 395ff.
Burke, Peter (2001), Papier und Marktgeschrei. Die Geburt der Wissensgesellschaft, Berlin.
Büttner, Kerstin (2009), Stadtentwicklung durch Großkonzerne – zur Koevolution von Raum und Wissen am Fallbeispiel Siemens und Erlangen // Matthiesen, Ulf/Mahnken, Gerhard (Hg.), Das Wissen der Städte, Wiesbaden.
Cairncross, Frances (1997), The Death of Distance, London.
Castells, Manuel (1996), The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. I: The Rise of the Network Society, Cambridge MA/Oxford UK [рус. изд.: Кастельс, Мануэль (2000), Информационная эпоха: экономика, общество и культура, Москва. – Прим. пер.].
– (1997), The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. II: The Power of Identity, Maiden MA/Oxford UK.
– (1998), The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. III: End of Millennium, Maiden MA/Oxford UK.
– (2002), The Culture of Cities in the Information Age. The Castells reader on Cities and Social Theory, ed. by Susser, Ida, Maiden MA.
Domäne Dahlem (1992) (Hg.), Dahlem – ein ostdeutsches Oxford, Berlin.
EURICUR (2004), Cities in the Knowledge Economy: New Governance Challenges, Rotterdam.
Faßler, Manfred (2001), Netzwerke, München.
Florida, Richard (2002), The Rise of the Creative Class, New York [рус. изд.: Флорида, Ричард (2005), Креативный класс: люди, которые меняют будущее, Москва. – Прим. пер.].
Florida, Richard/Gates, Gary (2001), Technology and Tolerance: The Importance of Diversity to High-Technology Growth, Washington D.C, p. 1 – 12.
Galison, Peter (1997), Image and Logic: A Material Culture of Microphysics, Chicago/London.
Gates, Bill (2006), The Road Ahead. How intelligent agents and mind-mappers are taking our information democracy to the next stage // Newsweek Special Edition 2006: The Knowledge Revolution.
Gonzalez, T./Jähnke, P./Mahnken, G. (2009), “Ich mache jetzt hier einen Wachstumskern” – Raumbindungsstrategien, Wissensmilieus und räumliche Profilbildungen in Berlin-Brandenburg // Matthiesen, U. (Guest Editor), Coevolution of Space, Knowledge and Milieus, Special Issue DisP, ETH Zürich, S. 22–36.
Grabher, Gernot (2002), Cool Projects, Boring Institutions // Production in Projects, Grabher, G. (Ed.) // Regional Studies Special Issue, 36/3, p. 205–214.
Häußermann, Hartmut/Kemper, Jan (2005), Die soziologische Theoretisierung der Stadt und die New Urban Sociology // Berking, Helmuth/Löw, Martina (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte. Soziale Welt, Sonderheft 16, Baden-Baden, S. 25–53.
Hayek, Friedrich A. von (1948), The Use of Knowledge in Society // idem, Individualism und Economic Order, Chicago, p. 77–91.
Heinelt, Hubert (2009), Governance und Wissen // Matthiesen, Ulf/Mahnken, Gerhard (Hg.), Das Wissen der Städte, Wiesbaden.
Hirsch-Kreinsen, H./Jacobson, D./Robertson, P. (2005), Low-Tech Industries: Innovativeness and Development Perspectives A Summary of a European Research Project. Pilot Project Consortium, Dortmund.
Howells, J. R. L. (2002), Tacit Knowledge, Innovation and Economic Geography // Urban Studies, 39 (5–6), p. 871–884.
Huber, Hans Dieter (2004), Bild Beobachter Milieu, Ostfildern-Ruit.
Jähnke, Petra (2009), Vieles ist anders… Zu akteursdifferenzierten Nähekonzepten und Raumbindungsmustern in der “Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien” Berlin-Adlershof // Matthiesen, Ulf/Mahnken, Gerhard (Hg.), Das Wissen der Städte, Wiesbaden.
Kelle, Udo (1997), Empirisch begründete Theoriebildung. Zur Logik und Methodologie interpretativer Sozialforschung, 2. Auflage 1997, Weinheim.
Keim, K. Dieter (1979), Milieus in der Stadt, Stuttgart.
Kieserling, Andre (1999), Kommunikation unter Anwesenden, Frankfurt am Main.
Konau, Elisabeth (1977), Raum und soziales Handeln, Stuttgart.
Kübler, Hans-Dieter (2005), Mythos Wissensgesellschaft. Gesellschaftlicher Wandel zwischen Information, Medien und Wissen, Wiesbaden.
Knorr Cetina, Karin (1999), Epistemic Cultures. How the Sciences Make Knowledge, Cambridge.
Läpple, Dieter (2001), Stadt und Region in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung // Deutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaft/DfK; Deutsches Institut für Urbanistik, Jg. 40, 2001/II.
– (2003), Thesen zu einer Renaissance der Stadt in der Wissensgesellschaft // Gestring, Norbert u.a. (Hg.), Jahrbuch StadtRegion 2003. Schwerpunkt: Urbane Regionen, Opladen, S. 61–78.
– (2005), Phönix aus der Asche. Die Neuerfindung der Stadt // Berking, Helmuth/Löw Martina (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte. Soziale Welt, Sonderband 16, Baden-Baden, S. 397–413.
Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt, -AN/075DokumentLeipzigCharta.pdf, [24.05.2008].
Linde, Hans (1972), Sachdominanz in Sozialstrukturen, Tübingen.
Lindner, Rolf (2003), Der Habitus der Stadt – ein kulturgeographischer Versuch // PGM 2/2003, Neue Kulturgeographie, Gotha.
Lindner, Rolf/Moser, Johannes (2006) (Hg.), Dresden. Ethnografische Erkundungen einer Residenzstadt, Leipzig.
Livingstone, David N. (2003), Putting Science in Its Place: Geographies of Scientific Knowledge, Chicago.
Maar, Christa/Burda, Hubert (2004) (Hg.), Iconic Turn, Köln.
Malecki, Edward J. (2000), Creating and Sustaining Competitiveness. Local Knowledge and Economic Geography // Bryson, John R. et al. (Ed.), Knowledge, Space, Economy, London/New York, p. 103–119.
Maresch, Rudolf/Werber, Niels (2000) (Hg.), Raum, Wissen, Macht, Frankfurt am Main.
Markusen, Ann (1996), Sticky Places in Slippery Space // Economic Geography, 72 (3), p. 293–313.
Matthiesen, Ulf (1989), Bourdieu und Konopka: Imaginäres Rendezvous zwischen Habitus-Konstruktion und Deutungsmuster-Rekonstruktion // Eder, Klaus (Hg.), Klassenlage, Lebensstil und kulturelle Praxis, Frankfurt am Main, S. 221ff.
– (1997), Lebensweltliches Hintergrundwissen // Wicke, Michael (Hg.), Konfigurationen lebensweltlicher Strukturphänomene (Festschrift für Hansfried Kellner), Opladen, S. 157–178.
– (1998) (Hg.), Die Räume der Milieus, Berlin.
– (2004a) (Hg.), Stadtregion und Wissen. Analysen und Plädoyers für eine wissensbasierte Stadtpolitik, Wiesbaden.
– (2004b), Das Ende der Illusionen – Regionale Entwicklung in Brandenburg und Konsequenzen für einen Aufbruch // perspektive, Heft 21, SPD-Landtagsfraktion Brandenburg, S. 97 – 114.
– (2005), KnowledgeScapes – Pleading for a knowledge turn in socio-spatial research, IRSWorking paper, September 2005, www.irs-net.de, S. 1 – 19.
– (2006), Raum und Wissen // Tänzler, Dirk u.a. (Hg.), Zur Kritik der Wissensgesellschaft, Konstanz, S. 155–188.
– (2007a), Wissensformen und Raumstrukturen // Schützeichel, Rainer (Hg.), Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung (Bd. 1), Konstanz, S. 648–661.
– (2007b), Wissensmilieus und KnowledgeScapes // Schützeichel, Rainer (Hg.), Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung, Bd. 2, Konstanz, S. 679–693.
– (2009a), Governance for Sustainability und die Zonen der Wissenstransaktionen – zum Gestaltwandel von Wissen und Steuerung am Beispiel der lokalen Umsetzung von europäischen Feinstaubregulierungen // Matthiesen, Ulf (Guest Editor) (gemeinsam mit Reisinger, Eva), Coevolution of Space, Knowledge and Milieu – zur Koevolution von Raum, Wissen und Milieu, disP ETH Zürich.
– (2009b) (Guest Editor), Coevolution of Space, Knowledge and Milieus – zur Koevolution von Raum, Wissen und Milieus // Special Issue disP, ETH Zürich.
Matthiesen, Ulf/Bürkner, Hans-Joachim (2004), Wissensmilieus – Zur sozialen Konstruktion und analytischen Rekonstruktion eines neuen Sozialraum-Typus // Matthiesen, U. (Hg.), Stadtregion und Wissen, Wiesbaden, S. 65–89.
Matthiesen, Ulf/Mahnken, Gerhard (2009) (Hg.), Das Wissen der Städte: Neue stadtregionale Entwicklungsdynamiken im Kontext von Wissen, Milieus und Governance, Wiesbaden.
Matthiesen, Ulf/Reutter, Gerhard (2003) (Hg.), Lernende Region – Mythos oder lebendige Praxis?, Gütersloh.
Matzner, Egon (1998), Die Angst vor dem anderen Argument, unveröffentl. Manuskript.
McLuhan, Marshall (1964), Understanding Media, New York.
Meusburger, Peter (1998), Bildungsgeographie. Wissen und Ausbildung in der räumlichen Dimension, Heidelberg
– (2005), Wissen und Raum – ein subtiles Beziehungsgeflecht // Kempter, Klaus/Meusburger, Peter (Hg.), Bildung und Wissensgesellschaft, Heidelberger Jahrbücher, Bd. 49, Berlin/Heidelberg, S. 269–308.
Miggelbrink, Judith (2002), Der gezähmte Blick. Zum Wandel des Diskurses über Raum und Region in humangeographischen Forschungsansätzen des ausgehenden 20. Jahrhunderts // Beiträge zur Regionalen Geographie, Bd. 55, Leipzig.
Nonaka, Ikujiro/Konno, N. (1998), The Concept of Ba: Building Knowledge Creation // Californean Management Review, 40/3, p. 40–54.
Nonaka, Ikujiro/Takeuchi, Hirotaka (1997), Die Organisation des Wissens, Frankfurt am Main.
Nowotny, Helga et al. (2001), Re-Thinking Science, Cambridge.
Ostrom, Elinor (1999), Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional
Analysis and Development Framework // Sabatier, Paul A. (Ed.), Theories of the Policy Process, Boulder CO, p. 35–71.
Oswalt, Philipp (2004/2005) (Hg.), Schrumpfende Städte Bd. 1; Bd. 2, Ostfildern-Ruit.
Polanyi, Michael (1958/1973), Personal Knowledge, London.
– (1985), Implizites Wissen, Frankfurt am Main [рус изд.: Полани, Майкл (1982), Личностное знание: На пути к посткритической философии, Москва. – Прим. пер.].
Reichertz, Jo (2003), Die Abduktion in der qualitativen Sozialforschung, Opladen.
Safranski, Rüdiger (2007), Romantik. Eine deutsche Affäre, München.
Sassen, Saskia (1996), Metropolen des Weltmarktes. Die neue Rolle der Global Cities, Frankfurt am Main/New York.
Serres, Michel (1997), The Troubadour of Knowledge, Michigan.
Smelser, Neil J. (1997), Problematics of Sociology: the Georg Simmel Lectures, 1995, Berkeley.
Scott, Allen J. (1997), The Cultural Economy of Cities // International Journal of Urban and Regional Research, 21 (2), p. 323–339.
Schütz, A. (1979), Die Idee des Alltags in den Sozialwissenschaften, Stuttgart.
– (2004), Relevanz und Handeln – Zur Phänomenologie des Alltagswissens, Band VI, 1, ASW, hg. v. List, Elisabeth, Konstanz.
Storper, Michael (1997), The Regional World: Territorial Development in a Global Economy, New York/London.
Storper, Michael/Venables, Anthony J. (2004), Buzz: the Economic Force of the City // Journal of Economic Geography, vol. 4 (4), p. 351–370.
Strulik, Torsten (2004), Nichtwissen und Vertrauen in der Wissensökonomie, Frankfurt am Main/New York.
Weingart, Peter (2001), Die Stunde der Wahrheit? Zum Verhältnis der Wissenschaft zu Politik, Wirtschaft und Medien in der Wissensgesellschaft, Weilerswist.
Willke, Helmut (1998), Systemisches Wissensmanagement, Stuttgart.
– (2002), Dystopia, Studien zur Krisis der modernen Gesellschaft, Frankfurt am Main.
– (2009), Smart Governance. Complexity and the Megacity // Matthiesen, Ulf/Mahnken, Gerhard (Hg.), Das Wissen der Städte, Wiesbaden.
Weiß, Johannes (2006), Wissenselite // Tänzler, Dirk/Knoblauch, Hubert/Soeffner, Hans-Georg (Hg.), Zur Kritik der Wissensgesellschaft, Konstanz, S.13–20.
Zimmermann, Karsten (2009), Von der Krise des Wissens zur Krise des lokalen Regierens // Matthiesen, Ulf/Mahnken, Gerhard (Hg.), Das Wissen der Städte, Wiesbaden.
Что такое “собственная логика”? О смене парадигмы в урбанистике Петра Геринг
Что такое города? Невозможность ответа на этот вопрос не должна нас смущать, если мы знаем, как можно исследовать города. Но как их исследовать? Как на самом деле можно исследовать один – “вот этот” – город?
1
Философский ответ на этот вопрос должен был бы начинаться с различения особенного и сингулярного, т. е. единственного, уникального.
Особенное предполагает наличие общего как рамки. Таким образом, эмпирически изучать особенное применительно к городу – значит исследовать “на местности” специфический фрагмент или, может быть, специфическую смесь элементов социума или социальных условий и отношений. Общие параметры (бедность, безработица, доход, удовлетворенность, определенные формы конфликтов и т. д.) обнаруживают локальные особенности: сколько процентов составляет безработица в этом месте – десять, двенадцать или четырнадцать? Объемы вредных выбросов повысились или понизились? Меры, принятые по тому или иному вопросу, дали более или менее устойчивые результаты? Какие факторы воздействуют на необычное положение города Х и могут объяснить его особенность? В рамках целого, образуемого обществом, локальное вполне может представляться особенным. Но это еще не значит, что мы будем рассматривать его как уникальное. Исходить из “социальной” реальности – значит прежде всего следовать принципу: если где-то еще наличествуют такие же социальные условия, то локальное будет иметь там такую же форму.
Общество представляет собой общее, пусть и скрытое от глаз; оно матрица, которую мы не видим. Именно поэтому, например, феноменологическая философия избегает понятия “общество”. В философии науки говорят о “номотетическом” подходе – таком, который направлен на познание правил и при этом постулирует (хотя бы на заднем плане) наличие закономерного[60]. Одна из форм отображения, типичных для этого подхода в наши дни, – это карта, на которой географически упорядочены статистические особенности: распределение уровней преступности, ставка налога на прибыль, количество соляриев на душу населения нарисованы на карте Германии в виде столбиков рядом с названиями средних и крупных городов. Особенности в таком случае проявляются в виде контраста – и требуют объяснения: почему объем вредных выбросов сократился, а не увеличился? Почему количество соляриев в Висбадене так мало, а в Бохуме так велико?[61] Если померить столбики линейкой, то обнаружится корреляция между большим количеством домохозяйств, состоящих из одного человека, и большим количеством абонементов в местном театре, причем бросится в глаза то, что в Кёльне и в Киле это не так.
Подобные особенности – это, конечно, особенности общего. Их не следует путать (в том числе терминологически) со своеобразными феноменами, которые являются уникальными сами по себе. Иными словами, констатация особенности – это еще не разрушение принципа исследования, ориентирующегося на закономерности. Однако кроме особенного бывает и сингулярное, а оно существует помимо всякой закономерности. Оно представляется нам уникальным, причем полностью. Оно сингулярно в том смысле, что мы не можем не предположить наличия в нем чего-то нового и неизвестного.
2
Размышления о сингулярном традиционно связаны, например, с методологией исторической науки (причинно-следственные связи в истории, историческое событие и т. д.), с вопросом об искусстве или вообще с понятием события. Соображений подобного рода применительно к такому эмпирическому объекту, как город, в философии практически не встречается[62]. Поэтому уместен скепсис: закономерность и заметность, переменная и распределение, объяснение регулярных феноменов, объяснение особенностей. Может ли урбанистика вообще действовать иначе, если она хочет быть эмпирическим изучением городов? Ответ: да. Но для этого нужно последовательно заменить ее исследовательскую оптику. Изучать надо не что-то, т. е. не определенные феномены и отношения “в” городах. Тот, кто изучает что-то в городах, тот изучает не сами города и не их специфические характеристики, проблемы, неповторимые констелляции, одним словом, не сингулярное “этого” города.
Можно сказать, что транспортная проблема в городе Херне “больше”, чем в городе Регенсбурге, потому что через Херне каждый день проезжает больше автомобилей, чем через Регенсбург. Но откуда мы знаем, в чем именно состоит эта “транспортная проблема”? Мы предполагаем, что транспортную проблему в целом можно определить единым образом и дальше использовать как некий общий знаменатель: транспортная проблема – это количество автомобилей в центре города, в жилых районах. Интенсивность транспортного потока в определенные, “чувствительные” часы суток. Количество пробок. Недовольство жителей, выраженное ими при опросе на тему “Транспортные проблемы”. Но что было бы, если бы городской транзитный транспортный поток в Херне имел совсем иное значение, нежели в Регенсбурге? Если “транспортная проблема” в Херне совершенно не похожа на то, что сочли бы “транспортной проблемой” в Регенсбурге? Если бы тема транспорта в ландшафте локально релевантного играла в каждом из этих городов разную роль? Короче говоря, что было бы, если бы урбанистика, выйдя за пределы просто особенного, считала бы возможной такую природу своих объектов, которая основывалась бы на собственной логике каждого их них? Что было бы, если бы города функционировали каждый своим, уникальным образом? И главное: как нужно было бы вести городские исследования, чтобы это измерение обнаружить? Какая методология нужна для этого?
Могут ли вообще уникальность города, его своеобразие, его собственная логика быть объектом какого-либо метода? Во всяком случае, смена парадигмы – т. е. переход к такой урбанистике, которая ставит в центр своего интереса процессы, подчиненные собственной логике, – с философской точки зрения не означает удаления в сферы ненаучного или произвольного. Именно это я и собираюсь доказать.
3
Термин “собственная логика” нуждается в разъяснении. Во-первых, он не обозначает просто особенный случай общего (т. е. “свойственную” чему-то, а значит поддающуюся категориальной атрибуции, логику); во-вторых, имеется в виду не “логика” в ее традиционном понимании как рациональная закономерность или тем более скрытая разумность, выступающие общим знаменателем городского поведения. Комбинация эпитета “собственный” в значении “сингулярный” и слова “логика” – парадоксальна: что-то является единственным и тем не менее обладает некой логикой, этой логикой, своей логикой.
Выражение “собственная логика” представляет собой понятие-приказ, но у него есть и определенная потребительская ценность. Оно обозначает не скрытое ratio города, а то, что в феноменологической традиции назвали бы своеобразием: элементы дорефлексивной “доксы”[63], как правило, действующей без проговаривания, по местной привычке. При этом речь вполне может идти о предметах, которые в тезаурусах эмпирических исследований, проводимых ради нужд социальной политики, имеют некое название. Бедность, усталость от политики, бездомность. Но это может быть и самая нормальная, слишком нормальная жизнь – тот фоновый шум, на который не обращают внимания, то в городе, что не определяется нормальной наукой, а между тем обладает властью и определяет положение дел: местный вкус, гражданское чувство, физическая инертность, привычка все делать неспешно, любовь к праздникам, коммуникационный стиль персонального общения. Но – и это самое важное – о чем бы речь ни шла, если нас интересует собственная логика, то мы никогда не имеем дело с “безработицей” или “любовью к праздникам” как с проявлением “безработицы вообще” или “любви к праздникам вообще”. Предлагаемая здесь рабочая гипотеза гласит, что оффенбахская бездомность, возможно, сущностно отличается от вюрцбургской бездомности – и не потому, что “частный случай бездомности вообще” реализуется “в” Оффенбахе среди иных условий, нежели “в” Вюрцбурге. Мы предлагаем нечто более принципиальное: существует оффенбахская бездомность, которую с вюрцбургской можно сравнивать, но мы не можем заранее быть уверены в том, что у этих двух феноменов много общего. Ведь у них может быть совершенно разный локальный смысл – значение, релевантность для повседневной жизни, да и практические особенности проживания ситуаций, относящихся к тому или к другому феноменам. Например, бездомность в Оффенбахе может означать, что лишенный крова человек на определенных улицах и в определенных парках встраивается в систему жестко распределенных мест пребывания и сна (что с точки зрения властей может означать наличие – или отсутствие – проблемы с ночлегом), а в Вюрцбурге жизнь человека, не имеющего квартиры, может (в том числе в восприятии города) концентрироваться вокруг взаимодействий, связанных с попрошайничеством, и вокруг искусства общения с прихожанами храмов и туристами. Представляют ли собой эти две бездомности всего лишь разновидности одного и того же социального явления? Одной и той же проблемы? Если нас интересует собственная логика, то мы скажем: прежде всего, оффенбахская бездомность дает ключ к пониманию не бездомности вообще, а Оффенбаха. Поняв оффенбахскую бездомность, мы, может быть, получим хорошие шансы лучше понять и, скажем, оффенбахскую культурную политику, сможем более компетентно и умно воздействовать и на оффенбахскую бездомность, и вообще на “оффенбахское”. А к бездомности в Вюрцбурге это не обязательно было бы непосредственно применимо, точно так же, как существует немного прямых аналогий между вюрцбургской культурной политикой и оффенбахской ситуацией.
Абстрактный принцип такой урбанистики, которая ожидает встречи с феноменами, подчиняющимися “собственной логике”, можно было бы сформулировать следующим образом: города – не смеси готовых социальных ингредиентов, они во многом сами порождают свои ингредиенты (и системы взаимовоздействия их компонентов), отличающиеся значительной мерой самостоятельности. Городские реальности – это миры. Их автономность настолько велика, что имеет смысл рядом с теми картами, на которых показаны особенности общих параметров, положить другие исследования, выполненные по иным методикам. Тоже эмпирические, но показывающие портрет. Такие, которые при феноменологическом описании локальных ситуаций и явлений уделяют их характерным чертам (и их контексту) как минимум столь же важное место, что и игре отдельных переменных.
Противоположностью “номотетическому” подходу является “идиографический”. Согласно Виндельбанду – создателю обоих терминов – целью идиографического метода является создание “образов” (Gestalten). Понятие образа столь же плохо подходит к эмпирическому изучению городов, как затертое прилагательное “феноменологический” в социологии плохо помогает дать позитивное определение используемой методологии. Сосредоточение внимания на характерных особенностях событий, т. е. на уникальном в хронологическом отношении, с одной стороны, может помочь исторической науке в уточнении ее предметной области. С другой стороны, для урбанистики этот методологический образец лишь в ограниченной мере может служить примером. Города – не просто скопления событий и не состоят целиком из историй. Сводить их к чисто нарративному феномену – значило бы пренебречь тем гигантским весом, который имеют пространство/соприсутствие, контингентность и материальность.
В ходе дискуссии было выдвинуто интересное предложение: говорить в этом контексте о “габитусе” города[64]. Понятие “габитус” очень хорошо отражает возможность прочтения городов действительно как целостностей. У городов есть как бы типичная манера держаться, лицо, осанка, репертуар жестов. Однако в понятии габитуса заключен и некий антропоморфизм, который так же проблематичен, как был бы в данном случае проблематичен и рационализм. Кто сказал, что города – если рассматривать их как жизненно реализуемые практики – функционируют подобно существам, которые каким-то образом себя “ведут”? Всё же вряд ли это так. Мера сложности и гетерогенности городов настолько велика, что не вписывается в антропоморфную модель.
Трудно свести города и к чему-то вроде археологических существ: классифицировать их как всего лишь седиментацию человеческих действий или человеческих решений – значило бы упускать из внимания специфику такого объекта, каким является город. Специфика города – это вызов и для историков, и для эволюционистов: собственные логики городов, вне всякого сомнения, складываются исторически, у них есть мощная историческая подоснова. Однако их невозможно “объяснить” одной только историей городов, как нельзя в них видеть и лишь результаты так называемого “предшествующего пути развития” (т. е. набора решений и выборов, сделанных ранее). Ни аналогия с биографией, ни каузальная метафора пути не описывают на самом деле все разветвления, переплетения и многообразные рефлекторные точки феномена “город”.
В общем, с аналогиями не складывается. А между тем, вопрос о сингулярных объектах тоже поддается научному выяснению. Только для этого урбанистике придется признать одну базовую посылку. Хотя не существует эмпирического (в узком смысле этого слова) определения города, но – существуют города. Города – это целостности, и их можно воспринимать и анализировать как единства – смысловые единства, поведенчески-практические единства, действующие единства. Города как бы хранят в себе социальные факты – но не только. Они их изменяют. Они предоставляют пространство для процессов развития, следующих собственным логикам, и для характерной социальной среды.
4
Сразу возникают два вопроса. Один нацелен на сам предмет: как конституируется город, из чего возникают и, если угодно, из чего состоят его типичные свойства? Иными словами, на какую субстанциальную основу опирается тезис о “собственной логике”?
Простые причинно-следственные отношения, аккумулированные намерения, природа потребностей и тому подобное, наверное, тоже играют свою роль в конституировании города. Но они не специфичны для города и потому на интересующем нас уровне из рассмотрения исключаются: в городах ход событий следует законам природы, там заявляются намерения и цели, там наблюдаются определенные человеческие потребности. Но всё это еще не делает город городом. По всей видимости, конституирование и единство такой формы, как город, можно представить себе только неким иным образом.
Одно предложение, выдвинутое уже давно, носит очень формальный характер, но именно поэтому феноменологически к нему можно присоединять другие: ровно в той точке, где эмпирически расходятся социология измеряющая и социология понимающая, ориентированная на смыслы, располагается концепция “плотности”. Ее можно было бы актуализировать. Город – это феномен уплотнения. В урбанистике эту мысль различным образом усиливали. Уже Вирт (Wirth 1938) относил “плотность” (наряду с размером и гетерогенностью) к характерным признакам города, или городского образа жизни. “Плотность” может пониматься чисто количественно – как, например, у Вирта, занимавшегося историей поселений. Но когда говорят о специфической плотности как признаке города (плотности населения, транспорта, коммуникаций, платежей, ресторанов – чего угодно), всё-таки всегда как-то имеют в виду и переход количества в качество. Уплотнение релевантно, когда превышаются некие пороговые значения; уплотнение производит “собственные” эффекты, – это предположение присутствует, даже если редко проговаривается то, как именно из “плотности” возникает что-то большее, чем просто заполненность, т. е. где располагаются точки перехода количества в качество и как их надо себе представлять.
Уплотнение как специфическая черта городской действительности – черта, которая не объясняет эффекты собственной логики, но порождает их, – это идея, которой еще мало для теории городского. Но, надо полагать, основанную на собственной логике динамику того или иного города в первом приближении можно описать и изучить как результат уплотнения. Можно ли наблюдать уплотнение, наблюдать плотность? Можно – наверное, именно благодаря тому, что существует математическая ее формула (масса, деленная на объем) и картина физической смены агрегатного состояния удобна для визуализации того, что описывают концепции плотности, – будь то в качестве локальной инклюзии (Held 2005), заполненности, конституирующей пространство (Massey 1999), или взаимоналожения пространств (Löw 2001). Если взять плотность в качестве исходной точки, то количественные методы не исключены, но напрашиваются качественные. Надо лишь ожидать наличия пороговых значений, находить их и серьезно относиться к тому, что на этих порогах городские феномены действительно (иногда из полного небытия) возникают: когда люди очень часто видят очень много людей, возникает то, что мы называем городской анонимностью, – и мы, участвуя в ней, отчетливо ощущаем ее как таковую. Элементы городской действительности возникают под действием уплотнения. Поэтому теорема плотности непосредственно подсказывает нам феноменологический (если бы этому понятию можно было придать изначальную “резкость”) дизайн теории.
Одним из важных методических принципов того, что называли феноменологией (в значении метода), является заповедь безпредпосылочности, которая, естественно, касается не всего, что мы включаем в поле исследования, но по крайней мере эмпирических контуров объекта изучения. “Нечто являет себя как нечто”, – этот минималистский, но вполне поддающийся операционализации принцип гуссерлевой феноменологии, – видеть “чужесть” знакомого (cp. Waldenfels 1985; 1997) – позволяет сформулировать исходные вопросы: что будет являть себя, если я изначально как можно меньше всего исключу? Что выделяется как значимое из массы данностей? Это можно перенести и на “плотность” городских данностей, коммуникаций, практик, а можно переформулировать так: что в Дуйсбурге может распознаваться как “Дуйсбург” (или как “дуйсбургское”) и распознается как таковое, в том числе теми, кто там живет? Какое “нечто” только в Дуйсбурге является таким, каково оно там есть, а в других местах отсутствует или по крайней мере имеет значительные отличия? Само собой разумеется, всякое конкретное исследование должно ограничивать этот широкий вопрос, применяя его к своей системе координат. Но что в этом невозможного? И теорема плотности предлагает нам логику непрерывных переходов (при которых, тем не менее, что-то сохраняет значимость), а эта логика вполне согласуется с феноменологической гипотезой о взаимоперетекании фигуры и фона. Материал реальности состоит из переходов.
5
Другой вопрос таков: если мы говорим о “городе вообще”, говорим “город” (die Stadt) с определенным артиклем, превращающим его во что-то одно, в какую-то категорию, то что это означает? По-настоящему последовательно идею собственной логики можно проводить, только если придерживаться номинализма: нет “города вообще”, у него всегда есть название, и что-то конкретное можно сказать только о конкретных городах. Брауншвейг или Болонья, Вена или Вупперталь лишь в некоем очень формальном (для мышления формально необходимом) смысле представляют собой частные случаи общего понятия “город”. Конкретно изучать Брауншвейг – не проблема. Всякому эмпирику, особенно традиционному, совершенно очевидно: с эмпирической точки зрения “город вообще” – это всегда абстракция. И если традиционная наука в описанной ситуации предпочитает не определять понятие “город”, то это не мешает ей, придя к выводам относительно “вот этого” города, их потом обобщать. И так получается, что нет ни понятия “города вообще”, ни “вот этого города”, а остается только вышеупомянутый синдром проведения исследований “в” городах.
Если мы хотим “перелицевать” проблему, чтобы взглянуть на нее с точки зрения собственной логики городов, то вопрос звучит так: как перейти от “города вообще” к “вот этому городу”? Как теория может обрести методологическую перспективу, в которой явит себя объект – вот этот объект? Следуя терминологической модели, предложенной Фуко, можно сказать, что нечто радикально уникальное нельзя идентифицировать: его нужно индивидуализировать.
Идентификация и индивидуализация – противоположно направленные стратегии. Констатации идентичности базируются на тождественности. Но когда мы говорим о собственной логике, нам не нужно использовать категорию “город”, чтобы классифицировать неизвестный объект Х как город, т. е. сказать, что он есть то же самое (“Х – это тоже город”). Индивидуализация – это не констатация тождественности, а обнаружение различий. Иными словами, наша задача – не проверить набор заранее заданных признаков, чтобы установить, соответствует ли им “вот этот” город, и не в том, чтобы применить к нему какие-то переменные, а в том, чтобы мыслить дифференциями. Надо так определить “вот этот” город в пространстве наблюдаемых в реальности отличий его от других городов, чтобы среди ему подобных можно было по его специфическим отличиям его охарактеризовать и не осталось бы сомнений: это он.
Идентичности наличествуют – или не наличествуют (из-за чего реконструкция сингулярного, основанная на логике идентичности, всегда несет в себе что-то от метода проб и ошибок: набор признаков, по которым устанавливается тождество, или работает, или не работает). А индивидуализации – это всегда приближения. Они стремятся к максимальной глубине резкости. Они обращаются именно и прямо к неожиданным моментам в предметном поле и в высшей степени чувствительны к контексту. У них, правда, нет конечной точки: всегда можно еще увеличить их разрешающую способность.
Разумеется, ограничиться портретами городов, их импрессионистическими образами, – невозможно. Наукой урбанистика становится тогда, когда она города сравнивает.
6
Как изучать “вот этот” город? Ответ должен быть таким: изучать его надо индивидуализируя, но вместе с тем и дифференцируя – т. е. как город среди городов. Интенсивное погружение в детали одного отдельно взятого объекта может, конечно, до некоторой степени представлять собой научный метод. Об этом свидетельствует пример исторической науки, да и этнология тоже порой вела себя как “дисциплина одного объекта”. Однако имплицитно историк использует в качестве контрастного фона свою эпоху, а этнолог – свою культуру. Для социальных наук, которые утверждают, что они являются науками о реальности, такие имплицитные контрасты недостаточны. Потому что возможно большее. Основанием для урбанистики, которая интересуется собственной логикой городов и городскими реальностями, должна служить методология сравнения.
Однако тут необходима осторожность. Сравнение не может, опять-таки, заключаться в том, чтобы мерить изучаемые объекты линейкой: нельзя существенной информацией о них считать математическую разницу между измеренными параметрами, равно как и визуальное сопоставление приведенных к стандартному виду результатов (в виде матрицы или карты). На фоне изложенных выше соображений не покажется удивительным, что, когда мы занимаемся изучением собственной логики городов, “сравнение” может быть только открытым. Оно может означать только исследовательское сравнение, при котором аспекты, центральные феномены и то, как они выстраиваются и складываются в конкретных ситуациях на местах, представляют интерес именно своей непохожестью друг на друга (а их несходство может в некоторых обстоятельствах быть радикальным).
Сравнения, призванные показать различия – причем различия “качественные”, – дело хитрое. Они ведь могут дать очень много. Само сравнение систематически порождает несравнимое. Тем самым оно как бы пилит тот методологический сук, на котором сидит: если достаточно внимательно феноменологически посмотреть, то между тем, что называется “досуговым поведением” или “домашним насилием” в Берлине и тем, что назвали бы “досуговым поведением” или “домашним насилием” в Цюрихе или в Алжире, мало общего. Дифференцирующее сравнение довольно быстро приводит к вопросу о том, можно ли для того и для другого вообще использовать одни и те же понятия. Слова – это тоже линейки. Если относиться к этому серьезно, то в конце концов у нас не останется такого языка, на котором мы всё еще будем вправе осуществлять сравнение.
Это возражение обоснованное, но оно точно так же относится и к номотетическим подходам, и оно не повод отказываться от феноменологически открытого сравнивания. Однако два пункта приобретают особую методологическую важность: во-первых, где предел, до которого можно идти в таком сравнении городов, которое ориентировано на различия? Во-вторых, на каком языке такое сравнение проводить? Язык не бывает нейтрален и не бывает неважен. Он – такая же интервенция, как и многие другие исследовательские инструменты, поэтому выбирать его надо с такой же тщательностью, как и стратегию наблюдения или манеру ведения беседы при интервьюировании. Когда проявляется сингулярность города, его уникальность? Тогда, когда компаративный анализ ведется на определенной дистанции, с использованием третьего языка, и за счет этого создается как бы экран для отображения сравниваемых объектов? Или тогда, когда сравнение осуществляется контрастно, даже конфронтационно, иными словами – позволяет характерным особенностям городов столкнуться друг с другом уже на уровне описания?
Мне кажется, что на этот вопрос однозначного ответа дать нельзя. Но в методе контрастного противопоставления, т. е. в поиске различий, – самая суть такого сравнения. Грубо говоря, сходства всегда найдутся. По-настоящему ценны различия – и они дадут нам тем больше, чем больше они будут не просто располагаться на гетерогенных уровнях, а еще и способствовать тому, чтобы находить и определять такие новые гетерогенные уровни или черты предметного поля. Однако почему сравнительное исследование не может аутентично сочетать обе стратегии описания? Почему добытые обычным путем количественные данные не могут тоже служить экраном для отображения различий, полученных при дифференцирующем сравнении? Вернемся к примеру с оффенбахской бездомностью: что было бы, если, несмотря на ничем не примечательную статистику оффенбахского приюта для бездомных, всё же можно было бы продемонстрировать определенное своеобразие тамошних стратегий организации ночлега? Или наоборот, если бы бросалось в глаза большое количество запротоколированных полицией конфликтов между лишенными крова людьми, но за ним не стояло бы реальной проблемы. А дело было бы, допустим, скорее в специфических интересах или раздражимости оффенбахской полиции. Работа со своеобразием городов – вообще любая “эмпирическая” работа – не похожа на работу в стерильной лаборатории. Но важно понимать: сравнение городов возможно и необходимо – однако не как сравнение, отсылающее опять к общему, не как сравнивающее измерение. А ради различий. Как феноменологически максимально беспредпосылочно начинающаяся процедура “дифференциации”. Как метод, ориентированный на поиск различий и имеющий своей целью в конце концов именно констатацию несходства. Иными словами, города мы сможем индивидуализировать за счет того, что мы сравним их (важная деталь: не что-то “в” них, а сами города, специфический набор их признаков, их черт) с другими городами – как можно ближе и как можно более открыто.
7
Если изучение городов путем контрастного описания их различий позволит нам увидеть характерную городскую доксу – бездомность Оффенбаха vs. бездомность Штутгарта vs. бездомность Эрфурта, – то возникнет, естественно, вопрос, что с этим дальше делать. Без сомнения, тем, кто хочет знать что-то о Штутгарте или об Эрфурте, сравнение Штутгарта с Эрфуртом даст многое. Но можно ли ожидать от этого подхода чего-то еще? Или если мы будем работать индивидуализирующим, выявляющим характерные особенности каждого города методом, то мы обречены получать лишь локально релевантные выводы и результаты наши будут иметь лишь локальную применимость в самом простом смысле?
Изучение своеобразных черт “вот этого” города или “вот этих” городов можно осуществлять пуристически. Но парадигма собственной логики допускает и обобщения. Несомненно, хорошо было бы видеть второй или третий шаг анализа в построении некой конструкции более высокого порядка из результатов сравнений. В истории и в науках о культуре есть методологические образцы таких вторых и третьих шагов.
Например, вопрос о чем-то вроде веберовских идеальных типов – это пример размышления о характерных особенностях городов в контексте их качественного сравнения, последовательно ориентированного на “собственную логику”. Поскольку эмпирика здесь не традиционная, а другая, то и старую постановку проблемы можно таким способом обновить: вопрос о “европейском городе”, социалистическом городе, портовом городе и т. д.
Значительно более открытую рамку дает параллель (на которую уже указывает термин “индивидуализация”) с анализом дискурса фуколдианского типа. Историк знания Мишель Фуко (Foucault 1969 [рус. изд.: Фуко 1996 – прим. пер.]) имеет обыкновение давать дискурсам или “типам власти” имена: есть гетерогенные дискурсы определенных научных дисциплин или иных институциональных сфер (клиники, армии и т. д.), а есть гетерогенные формы власти – опирающаяся на символы “законная власть”, опирающаяся на техники тела “дисциплинарная власть”, основывающаяся на статистике “нормализующая власть” и т. д. В своих исторических исследованиях Фуко, таким образом, практикует своего рода плюрализм сравнений: построение типов подобно перечислению, причем перед нами всегда открытый ряд преходящих форм, среди которых ни одной не отдается предпочтения, – в том смысле, что ни одна не объявляется идеальным типом или архетипом.
Еще более широкие перспективы в изучении этих второго или третьего шагов сравнения городов открывало бы применение к ним концепции “семейного сходства”, намеченной в философии языка у Витгенштейна, но встречающейся также и в концепциях, связанных с понятием “прегнантности”, или “содержательности”, в теории гештальтов, а также в не вполне чуждой структуралистскому критерию концепции “значимости”. Как в дискуссии о языковых играх формальные (лингвистические) и эмпирические (прагматические) компоненты принято соотносить друг с другом для того, чтобы выявить родственные отношения между видами предложений, – точно так же можно фиксировать черты семейного сходства между городами, не выводя их из какой-то теории или структуры более высокого уровня. Собственные логики невозможно объединять в группы в соответствии с еще какой-то логикой. Описывать можно только сложную сеть сходств, которые взаимонакладываются и пересекаются друг с другом (ср. Wittgenstein 1984 [рус. изд. Витгенштейн 1985 – прим. пер.]). Возможно, города бывают “похожи” друг на друга, как бывают друг на друга похожи тексты или произведения искусства – или грамматики целых языков.
Наверное, трудно вывести действительно идеальнотипические формы или обозримые констелляции из нескольких феноменологических типов города (именно вопрос их количества не является методологически тривиальным: городов существует наверняка больше, чем, например, дискурсов или типов власти). Но и в этом случае концепция семейного сходства позволяет делать обобщения – причем абсолютно сознательно не поднимаясь на уровень, с которого возможен вид сверху.
8
Урбанистике не следует ни быть большой теорией, ни теряться в микрологиках. Велик соблазн под знаменем изучения собственной логики призывать смелее осваивать “средний уровень”. С философской (внешней) точки зрения, урбанистика такого типа – изучающая город именно как “вот этот” город в отличие от остальных ему подобных, т. е. рассматривающая его при сравнении в качестве своего рода “индивидуума” и лучше всего в междисциплинарной перспективе, – могла бы разрубить гордиев узел застарелой эпистемологической конфронтации. Количественные данные традиционного типа пригодятся ей точно так же, как и исторические портреты городов – их специфическая полезность сохранится. Добавятся сюда и изобретательные методы этнологии и дискурс-анализа. В конечном счете важны вовсе не инструменты. Они должны быть так же многообразны и гибки, как и грани самого города. Важно направление взгляда, которое организует стратегии работы: общая рамка измененного теоретического притязания. Что такое города, мы не знаем. Но мы можем их открывать. Мы можем оторвать свой взгляд от общества и его особенностей. И тогда мы направим его на то, что является сингулярным, уникальным для “вот этого” города – среди других городов.
Литература
Foucault, Michel (1969), Archäologie des Wissens, Frankfurt am Main [рус. изд.: Фуко, Мишель (1996), Археология знания, Киев. – Прим. пер.].
Gehring, Petra (2007), Gebauter Nahraum und innere Fremde. Nachdenken über die Stadt // Busch, Kathrin/Därmann, Iris/Kapust, Antje (Hg.), Phänomenologie der Responsivität. Festschrift für Bernhard Waldenfels, München, S. 75–85.
Held, Gerd (2005), Territorium und Großstadt. Die räumliche Differenzierung der Moderne, Wiesbaden.
Löw, Martina (2001), Raumsoziologie, Frankfurt am Main.
Massey, Doreen (1999), Power-Geometries and the Politics of Space-Time, Heidelberg.
Waldenfels, Bernhard (1985), In den Netzen der Lebenswelt, Frankfurt am Main.
– (1997), Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des Fremden 1, Frankfurt am Main.
Weber, Max (1922), Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen, 3. Aufl. 1968.
Windelband, Wilhelm (1894), Geschichte und Naturwissenschaft, Straßburg.
Wirth, Louis (1938), Urbanität als Lebensform // Herlyn, Ulfert (Hg.) (1974), Stadt – und Sozialstruktur. Arbeiten zur sozialen Segregation, Ghettobildung und Stadtplanung, München, S. 42–67.
Wittgenstein, Ludwig (1984), Philosophische Untersuchungen 1, (1952) // Werksausgabe in 8 Bänden, Bd. 1, Frankfurt am Main, S. 225–580 [рус. изд.: Витгенштейн, Людвиг (1985), Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике, вып. XVI, Москва, с. 79 – 128. – Прим. пер.].
Городское пространство как необходимая предпосылка социальности Герд Хельд
Когда спрашивают, может ли город выступать в качестве самостоятельного объекта исследования для социальных наук, самое главное – это выяснить, что может означать слово “самостоятельный” применительно к такому объекту, как город. Если рассматривать город в качестве большого социального субъекта, то он большой лишь потому, что заимствовал эту величину у общества: все определения должны относиться к обществу, которое в этом городе живет и работает, чьи пути здесь пересекаются и которое здесь, так сказать, выходит на сцену. Подобным образом можно, несомненно, описать целый ряд разнообразных феноменов, которые составляют “городскую жизнь”. Но как только мы приступим к анализу действующих в нем сил, общество как актор протиснется на авансцену, а город отступит на задний план как декорация. Такое социальное понятие города сначала многозначительно подчеркивает специфику городской среды, но потом сразу же вновь подводит ее под более крупную категорию общества. Тогда получается, что урбанистика в конечном счете всегда будет сводиться к изучению акторов и сетей, которые обеспечивают городу как своему субстрату и назначение, и динамику.
Но, может быть, науку о городе можно было бы рассматривать и практиковать как некую особо холистическую науку, дающую своего рода сводную картину всех социальных систем и подсистем? О таком “интегрированном” взгляде наук о городе много говорилось[65]; он следует принципу видовой открытки, на которой тот или иной город представлен нашему взору в виде обозримой общей панорамы и целый мир, без изъятий, собран на маленьком куске картона, который мы держим в руке. Но конституируется ли город посредством такого “открыточного метода” еще и как научный объект? Если бы это было так, то нужно было бы задаться вопросом, почему экономическая наука, политология и правоведение, инженерная наука или литературоведение столько усилий кладут на то, чтобы дать определение некоторым предметным областям в реальности – а значит и в городе. Почему все эти дисциплины столь избыточно обстоятельны, если существует “интегрированный взгляд”, который к тому же имеет еще и моральное преимущество, поскольку “учитывает все”?
Оттого, что мы посмотрим на город как на видовую открытку, он еще не станет единым, поддающимся определению, чемто целостным. Наглядность этой картинки обманчива: на самом деле в ней царит некая неохватность и неконцептуализированность. Общая панорама города станет пригодной для научного изучения лишь после того, как удастся обнаружить в ней некий определенный статус, который, охватывая в определенном смысле все детали, все отдельные движения, как бы пронизывает весь город насквозь. Иными словами, этот статус должен быть чем-то “меньшим”, чем “всё”. Он должен обладать определенностью, чтобы иметь возможность определять. Если нам сегодня так трудно представить себе город в качестве самостоятельного объекта исследования для социальных наук, то это может быть связано с тем, что у нас завышенные ожидания. Когда урбанистика хочет быть некой тотальной наукой и метанаукой об обществе, она приводит к чему угодно, только не к городу[66]. Поэтому важнее всего было бы для начала сформулировать более скромные вопросы по поводу того, что это за статус – “город”. И тогда может выясниться, что речь идет вовсе не о какой-то всеохватной контекстуализации, а всего лишь о коррективе. Если быть осторожнее в своих ожиданиях, возлагаемых на город как объект изучения, то – и в этом основная мысль данной статьи – взамен у нас появится возможность выделить обстоятельства и эффекты, которые действительно будут “городскими фактами” (а не “социальными фактами”). Тише едешь – дальше будешь.
1. “Вопрос об условии”
В данной статье собственная логика городской действительности будет возвращена в рамки старого вопроса – вопроса о необходимых предпосылках социальности. Специфика городской среды будет пониматься здесь как предпосылка, внешняя по отношению к социальности, – или, если использовать слово, к которому теперь относятся с подозрением, – как ее условие. Тот, кто в наше время заявит, что необходимо заниматься обусловленностью социальности, почти автоматически навлечет на себя обвинение в детерминизме. Такой приговор исходит из убеждения, что на любой вопрос об условии можно ответить лишь в том смысле, что условия “диктуют” акторам их поведение. Однако, поскольку совершенно очевидно, что подобный диктат абсурден, то и сам вопрос об обусловленности является бессмысленным и устаревшим. В рамках данной статьи нет возможности прослеживать историю теоретического изгнания вопроса об “условии”. Настоящей дискуссии о том, что могут собой представлять “условия” в современном мире, на мой взгляд, просто не было. Часто можно слышать разговоры о “социальных условиях”, но при этом едва ли кто-то заметил, что тем самым вопрос об условиях, выставленный за дверь, совершенно незаметно вернулся через окно[67]. Тот, кто говорит о внешних условиях, как правило, имеет в виду заданную природой среду обитания и включенность жизни в биотоп, или природно-пространственный контекст, а не те “миры”, которые в виде артефактов (невероятных с эволюционной точки зрения) выламываются из хода природного развития и вводят в круг условий человеческой жизни новые дифференциации, разрывы и сломы. Для таких миров имеется понятие “культуры” (или “цивилизации”), а также понятие “духа”, однако в сегодняшнем дискурсе эти понятия приписываются социальным акторам. Этому дискурсу трудно помыслить такие фактические обстоятельства, в которых соединяются объектный статус и дух. Поэтому всякое мышление приходит к разделению на “общество” и “природу”. При этом всё духовное относят к сфере человеческой, т. е. социальной (интер)субъективности, а объективности мира отводится лишь роль простой материальности или монотонных медленных шагов эволюции. Историческое творение превратилось в социальный акт, в то время как объективный мир не способен на какие-либо внезапные, невероятные, гештальтные повороты, разрывы и сломы[68]. Так мир превратился в константу, которая как бы стоически претерпевала протекание сквозь нее различных эпох “социальной истории”[69].
Таким образом, “обусловленность” стала одной из тех типичных мертвых зон, которые присущи любому порядку дискурса. Но, как будет показано в данной статье, именно в этой точке можно и нужно заново обосновать самостоятельность такого объекта, как город. Более того: именно город как объект может стать рычагом, который позволит осуществить общий сдвиг дискурса в сторону нового разговора о внешних предпосылках, более адекватного открытости современного мира. Поэтому речь здесь будет идти не о списке новых специальных тем для урбанистики, а о сдвиге дискурса, о другом стиле мышления. Для этого будут намечены несколько линий аргументации и маркированы возможные точки подсоединения к ним.
2. Социальность как универсальная предпосылка?
Прежде всего следует напомнить об одном “споре о предпосылках”, который еще не завершен. Эрнст-Вольфганг Бёкенфёрде заявил (Böckenförde 1976: 60), что либеральное секуляризованное государство живет благодаря предпосылкам, которые оно само не способно гарантировать[70]. Ресурсы, которыми подпитывается государственный суверенитет, опирающийся на свободных граждан, невозможно генерировать в системе государственной деятельности. Они должны поступать извне, генерироваться в отдельной сфере. Эта сфера должна поставлять ориентации и мотивации, которые необходимы при выработке общеобязательных решений. Бёкенфёрде прав. Его аргументация говорит (и в этом ее ценность для нашего вопроса о своеобразии города) о разделении сфер деятельности. Уровень ориентирующей и мотивирующей деятельности отделяется от уровня фактического принятия решений. Различие, таким образом, проводится не между структурой и действием, а между разными видами деятельности – ориентацией и решениями (а также между структурами решений и структурами ориентации)[71].
Формулу Бёкенфёрде можно применить и к современной хозяйственной жизни. Рыночная экономика, предъявляющая высокие требования к профессионализму и аккумуляции, живет благодаря предпосылкам, которые она сама не способна генерировать и консервировать. Знаменитое исследование Макса Вебера о протестантском “духе” капитализма (Weber 1988 [рус. изд.: Вебер 2003 – прим. пер.]) было посвящено той сфере, где генерировались ориентации и мотивации, которые вливались затем в деятельность предпринимателей по принятию решений. Предпринимательская деятельность, согласно Веберу, была слишком рискованным и требующим отваги делом, чтобы ее можно было утилитаристски вывести из ожиданий дохода. Это относится и к поразительно устойчивой профессиональности, которая вырабатывается у людей, занятых зависимым наемным трудом на принципиально негарантированных рабочих местах.
Таким образом, государство и рынок представляют собой лишь относительно автономные образования, которые в значительной мере зависят в своем функционировании от поступления вполне определенных ресурсов из других сфер. При этом очевидно, что под такими внешними факторами не могут подразумеваться какие-то природные данности. Невозможно и отмахнуться от этих внешних факторов как от “шума” в окружающей среде, т. е. в экономической или политической системе. Они должны обладать особой дифференцированностью, чтобы иметь способность ориентировать и мотивировать.
Чаще всего в качестве ответа на вопрос о предпосылках встречается указание на “социальность”. В том же направлении идет и Бёкенфёрде в процитированном выше пассаже, говоря о “моральной субстанции индивида и гомогенности общества”. Но используемые им понятия “субстанция” и “гомогенность” показывают, что отсылка к социальности дает не так много, как кажется на первый взгляд[72]. Социальность лишь кажется чем-то осязаемым. Если мы захотим уточнить, что она значит, то либо придем к антропологическим константам, нарушение которых ведет к крушению государства и экономики[73], либо будем понимать социальность как царство особого произвола и самочинности людей и придем к релятивистскому слому экономических и политических порядков[74]. Даже когда мы обращаемся к дифференцированным моделям общества и вводим описание определенных социальных отношений между разными социальными группами, всё равно мы довольно скоро приходим к апориям. Так, в усилиях высшего класса общества, направленных на поддержание дистанции между ним и низшим классом, усмотрели мотор государственной и экономической жизни[75]. Точно так же можно и выводить мотивацию, наоборот, из стремления к социальной (“братской”) близости – так поступал социализм XIX века, продолжавший давнюю социально-христианскую традицию. Этот же механизм социальной близости лежит и в основе “идеальной речевой ситуации”, которая создает построенный на принципах коммуникации жизненный мир у Юргена Хабермаса. Однако подобные конфигурации социальности слишком мало дают, чтобы можно было с их помощью обосновать высокий уровень многообразия и сплоченности, достигнутый экономикой и государством. Все вариации отношений между ego и alter слишком общи и пусты, чтобы можно было с их помощью проследить развитие экономической и политической жизни. Прежде всего, они не могут объяснить особую “мировую” ориентацию современности, потому что зациклены на внутренних социальных отношениях. Что гонит экономических акторов из домашней экономики в полный рисков мир, что гонит государственную власть из ее аристократически воздушных высот в низменности тотальных норм и территориальных учреждений? На эти вопросы нам мало что сможет ответить подход, ищущий предпосылки государства и экономики в социальности.
Поэтому социология, полагающаяся на такой подход, в значительной мере утратила ту привлекательность, которой она обладала в начале своего похода в 60-е годы. Сегодня в ней наблюдается вал описательных case studies, над которыми без всякой связи возвышаются два понятия, прилагаемых к чему угодно: одно – “власть”, другое – “доверие”. Это то, что осталось от выдохшейся социальной теории.
Практика повсеместного использования такой универсальной отмычки, как понятие “доверие”, позволяет продемонстрировать апории концепции “социальной обусловленности”. Доверие, как говорит Никлас Луман, есть “механизм редукции социальной комплексности”. В самом деле, нельзя поспорить с тем, что “редукция комплексности” является необходимой предпосылкой для экономики и политики. Однако доверие – это очень специфический механизм редукции: редуцирование заключается, по сути дела, в перенесении извне вовнутрь:
Система ставит внутреннюю устойчивость на место внешней и тем самым повышает свою способность справляться с неустойчивостью во внешних связях. Проблематика перепада комплексности между системой и внешней средой тем самым отчасти переносится во вторичные проблемы этой внутренней устойчивости (Luhmann 1989: 28).
Но если доверие превращается в своего рода универсальный ответ на проблему предпосылок, то этим предъявляются весьма завышенные требования к (интер)субъективной силе людей. А между тем при ближайшем рассмотрении “доверие” оказывается всего-навсего откладыванием проблемы комплексности, а не реальной редукцией. Использование понятия “доверие”, таким образом, никак не приближает нас ко всей той внешней конструкции объективных редукций, которую цивилизация возводит для того, чтобы обеспечить “доверительные отношения”. Всплывающий ныне повсюду в качестве суррогата теории, фактор “доверия” лишь закрывает от нас те порядки, которые редуцируют комплексность мира уже в ее объектном статусе и нагружают ее ориентациями. Это была, так сказать, та “программа объективности”, которая запустила современную эпоху и которая играет ключевую роль в работе Вебера о протестантизме: мир превращается в духовный вызов. Вот то направление, в котором можно было бы вести поиск ответов на вопрос Бёкенфёрде. И тогда приобрела бы релевантность пространственная структура внешнего мира (а значит и города) – как ответ на вопрос о предпосылках.
Отсылка же к социальности уводит прочь от этого, в апории. Формулу Бёкенфёрде можно перенести с государства на социальность: последняя в современную эпоху тоже живет предпосылками, которые сама не может ни генерировать, ни гарантировать. Общественная жизнь – тоже не что-то априори существующее, она питается внешними ресурсами. Социальность даже еще теснее и статичнее, чем государство и экономика. У нее еще более острая проблема с ресурсами, чтобы генерировать из самой себя социальную дифференциацию или социальную сплоченность в таком объеме, который сегодня необходим. Поэтому социальность невозможно привлекать ни к решению проблемы предпосылок государства и экономики, ни к ответу на вопрос о предпосылках города[76]. Мы должны повернуть вопрос о предпосылках по-другому.
3. Видеть город как предпосылку
Существуют весьма многочисленные и актуальные исследования, в которых – эксплицитно или имплицитно – город рассматривается как предпосылка экономических или политических процессов.
1. В определенных отраслях (или подразделах) экономики, где изделия каждого отдельного предприятия и его работников изготавливаются преимущественно из комплектующих, которые само это предприятие не выпускает, часто и много пользуются внешними ресурсами, обеспечиваемыми за счет пространственного уплотнения. С 80-х годов вышло большое количество исследований о неоиндустриальных “районах” (текстильное, керамическое, деревообделочное/мебельное, обувное производство); точно так же и в транспортном машиностроении (поставка комплектующих для автомобилей, самолетов, поездов, кораблей) были обнаружены нежесткие и не такие концентрированные, но все же кластеры – или очень плотные квази-кластеры в производственных комплексах, которые раньше были полностью интегрированными (например, химические “парки”). Поскольку цель заключается в том, чтобы как можно меньше комплектующих производить на самом предприятии, виды деятельности, фигурирующие в качестве услуг, не случайно играют особую роль при такой экстернализации с использованием пространственной плотности. Кроме того, нельзя не заметить, что “культурная” деятельность там, где она имеет такую дробную структуру, тоже пользуется городскими внешними ресурсами (медиа-кластеры, художественные и дизайнерские сообщества). Эта дробность и опора на внешние ресурсы не есть что-то совершенно новое, она наблюдалась уже на заре развития современных больших городов. Они – теплицы, в которых развивается разделение труда: это было установлено уже очень давно (см., например, Simmel 1984 [рус. изд.: Зиммель 2002 – прим. пер.]; Jacobs 1970).
2. Вторая группа исследований анализирует использование городской плотности там, где первоочередную роль играют процессы массового и сложного отбора. Новейшие исследования городов в глобальной перспективе (Global City Forschung) показали, что в этой сфере происходит усиленная централизация штаб-квартир и менеджерских услуг (финансы, право, технологии, подбор персонала и т. д.). Расположение компании в большом городе означает ее репутацию и предопределяет выбор партнеров, с которыми она сможет осуществлять дальнейшие шаги по отбору подходящих топ-продуктов, технологических процессов, презентаций, договоров, моделей предприятия и т. д. Это же относится и к потребительской деятельности: здесь центральные ареалы высокоспециализированного или высокодифференцированного шопинга и публично-“светского” потребления предметов роскоши (бутики, универмаги, рестораны, кафе, бары) тоже представляют собой внешний ресурс предварительного отбора. Здесь же, как было показано в исследованиях, сосредоточивается большая доля эксклюзивных видов культурной деятельности.
3. Третья группа исследований посвящена изучению внешних ресурсов в форме “порталов” (gateways) между разными экономическими пространствами (разными уровнями стоимости и качества продукции, разными рынками труда, отличающимися по квалификации и стоимости рабочей силы). Пространственное уплотнение (“портал”) облегчает в таких случаях переходы с одних уровней на другие. Здесь же наблюдается и культурная гетерогенность между областями.
Мы привели работы, посвященные экономике, просто в качестве примера исследований, в которых “город” относится к категории внешних ресурсов. В каждом случае речь идет об облегчении перемещений продуктов, людей и информации между формально независимыми хозяйственными единицами и акторами – это, так сказать, уязвимая точка экономики как дифференцированной социальной системы. Исследования, в которых урбанистические особенности городской среды анализируются в качестве предпосылки политической системы, встречаются реже. Во многих случаях эти исследования к тому же не оригинальны, поскольку просто копируют постановку проблемы в системе экономики и переносят ее на систему политики[77]. Мы здесь этим кругом проблем больше заниматься не будем. Мы также не будем пытаться пополнять список существующих или возможных в будущем тем исследований, в которых город играет или мог бы играть некую роль как предпосылка социальных систем. Нашей задачей в данной статье является не создание максимально полного каталога задач, а описание определенного стиля мышления. Что именно означает “город как предпосылка”? Как она действует? Для начала – четыре наблюдения:
– Город, или уплотненное пространство, всегда существует в контексте более обширной области, откуда в него стекаются люди и ресурсы.
– Не все виды хозяйственной деятельности и не все звенья цепочки создания стоимости нуждаются в интервенции уплотненного пространства.
– Воздействие городского, или уплотненного, пространства не везде одинаково, оно по-разному реагирует на разные типы проблем.
– Социальная коммуникация в пространственном уплотнении зачастую поразительно слаба; во всяком случае, не существует никакой постоянной пропорции между уплотнением и коммуникацией.
Все это указывает на то, что “город как предпосылку” нам не следует толковать ни слишком универсально, ни слишком интимно. Его скорее нужно рассматривать как нежесткое, ориентирующее воздействие, которое невозможно сравнивать по степени однозначности с такими отношениями, как диалог, обмен или заказ. Речь идет о дополняющей роли, а не о всеохватывающей.
4. Незавершенный проект: исследование Георга Зиммеля о большом городе
И все же городские предпосылки не тривиальны. Их значение можно пояснить на примере статьи Георга Зиммеля “Большие города и духовная жизнь” (Simmel 1903 [здесь и далее цит. по рус. изд.: Зиммель 2002 – прим. пер.]). Она посвящена ответу на принципиальный вопрос: “Как возможно общество?” Здесь, как и во многих других местах, Зиммель не принимает априори общество просто как нечто уже конституированное, с тем чтобы потом задаться вопросом о его влиянии на свои внешние условия. Объектом изучения у него служат не “большие города общества”, а те особенные черты, которые приобретает социальность в форме большого города[78]. Статья Зиммеля была написана в 1903 г. на фоне катившейся по Германии подобно взрывной волне урбанизации, впервые превратившей “урбанизм как форму жизни” в экономически, политически и культурно релевантную тему[79]. Большой город стал вызовом нового типа для социальности. Зиммель усматривал в ситуациях уличной жизни, в “объективной культуре” зданий и инфраструктур, в новом режиме времени, учитывавшегося теперь с точностью до минуты, некую внешнюю данность, которая не представляла собой субстрат какой-то уже существующей социальности, а наоборот, извне ставила все прежние психологические и социологические диспозиции в условия цугцванга. Это спровоцировало, например, дискуссию о новых клинических картинах болезней и, более широко, о новом нарастании отчуждения[80]. В контексте нашей проблематики важно то, что критической точкой были субъектно-объектные отношения[81]. Критика большого города апеллировала к фигуре автономного творческого субъекта (в виде индивидуума или народа), чтобы доказать, что объективность большого города носит упадочный характер. Зиммель не пошел этим путем – ни в плане констатаций, ни в плане исследовательского подхода. Он искал приращения знания именно в рассмотрении того нового веса, которым теперь обладало объективное[82]. Его интересовали адаптации и пространства свободы.
Впрочем, “пространство” в дискуссии о предпосылках не стояло на первом плане. К тому же в большом городе оно специфическим образом сокращается. Зиммель моделирует это пространство прежде всего через то впечатление, которое производит на людей чувственный опыт восприятия внушительных фасадов зданий или уличной жизни с ее специфическими временными ритмами. Получается, что большой город имеет как бы импрессионистический характер. Его воздействие изображается так, как будто оно осуществляется через ближнюю зону человека. Среди масштабов преобладает “малое” измерение человеческого жизненного мира[83]. Возможность того, что опыт переживаний в ближней зоне человека в большом городе является лишь крохотной верхушкой гигантского айсберга пространственно-временных связей и отношений в общенациональном и мировом масштабе, остается неисследованной. “С каждым переходом улицы, – пишет Зиммель, – уже в чувственных основаниях душевной жизни” утверждается резкий контраст между большим городом и малым. Точку соединения между пространством и духом Зиммель ищет в феноменологической ближней зоне человека[84]. Поэтому понятие духа у него съеживается до совладания с ситуациями и очень узкой зоны непосредственного. А то, что в большом городе наличествует еще и очень обширный пространственный слой отношений и связей и что именно он мобилизует наблюдаемые Зиммелем интеллектуальные способности людей, способности к расчету и оценке, – остается непроясненным.
Однако феномены, появляющиеся при каждом переходе улицы, репрезентируют общие политические и экономические обстоятельства, которые отнюдь не ограничиваются данным городом. В качестве таких репрезентаций они и воспринимаются. Из зрелища фасадов и пешеходов большого города можно получать оценки рынков труда, инвестиционных шансов или стабильности правовых систем – не в смысле точных данных, а в смысле общих, приблизительных порядков величин, которые позволяют в этом мире высокой контингентности выводить некие вероятностные показатели. “Город – это форма поселения, которая делает вероятной встречу чужих друг другу людей”, – пишет Ричард Сеннет (Sennet 1983: 60f.). Можно добавить: не только встречу чужих людей, но и встречу чуждых друг другу вещей – товаров, профессий, капиталов, норм, партий, религий и т. д. Речь идет не только о чувственном восприятии: встреча в пространстве представляет собой не просто столкновение (по-французски “choc”) физически свободно перемещающихся тел, а дозированную, пропорционально уравновешенную, оформленную и цивилизованную встречу-контакт. Такая встреча делает зримыми те условия, при которых могут отстаиваться экономические интересы или политические представления. Таким образом, встреча, характерная для большого города, – это встреча вполне определенного рода. Не в том узком смысле, что при ней сообщаются биографические данные или какие-то другие вещи во всех подробностях[85]. И не в том слабом смысле, что люди только защищаются и напяливают на себя толстую кожу. Когда Зиммель пишет о “защитном слое” и “блазированности” жителя большого города, он слишком приближается именно к этой слабой версии и упускает из виду свойственное жителю большого города чувство пропорциональности, которое есть субъективная сторона внешних, архитектурных обстоятельств. Мы не должны забывать о том, что большие города, помимо всего прочего, являются гигантскими поисковиками рабочих мест, образовательных возможностей, знакомств, потребительских товаров и политических новостей и что духовная жизнь здесь постоянно стремится очерчивать уплотненные поля поиска с повышенными шансами на обнаружение искомого. Этот дух сопровождает человека “при каждом переходе улицы”. Импрессионистическое видение города сводит ситуацию к непосредственным чувственным впечатлениям и упускает из внимания ее опосредованный, репрезентативный характер.
Оборотной стороной этого является крайне редуцированное, пустое понятие пространства, в котором масштабы и степени уплотнения не играют никакой роли и которое не поддается как пространство никакому дальнейшему дифференцированию. Дифференциации могут быть только “залиты” в это пустое пространство. Так, у Зиммеля, с одной стороны, фигурирует сильный мир вещей (“объективная культура”), и он подчеркивает, что именно большие города (их здания, их транспортные средства, их места собраний) представляют собой подлинные арены “культуры, перерастающей все личное”. С другой стороны, статус этого вещного мира никак не уточняется и не обсуждается. Никакой упорядочивающей силы за ним не признается. Пространственная форма в конечном счете – всего лишь “арена”. Ей не положено иметь никаких духовных качеств. Нельзя рассматривать ее и как вызов. По сути, она форма без формирующей силы. Во всяком случае, формирующая сила представлена очень слабо и понимается как своего рода стопор, не допускающий хаоса. Именно это подразумевает знаменитая фраза Зиммеля, предрекающая всеобщую путаницу в том случае, если бы кто-то перевел берлинские часы так, что они стали бы показывать разное время, не совпадая друг с другом “хотя бы в пределах часа”. Образ большого города остается, кроме того, очень недифференцированным: его пространство – это нерасчлененное, монотонное, “глобальное” единство. На план города не обращается никакого внимания, равно как и на системы, включающие в себя несколько городов разных рангов и типов (Christaller 1968). Показаны только отличия большого города от старинного провинциального городка, поэтому он остается очень обобщенной и монотонной величиной. А раз нет дифференциации общего, то невозможно ввести и никакую силу, дифференцирующую социальные системы.
Таким образом, зиммелевский большой город оказывается чем-то вроде пальто, которое одновременно и мало, и велико. Импрессионистический подход делает его слишком маленьким, а из-за недифференцированного понятия пространства он велик психосоциальному измерению человека и потому не может обрести ориентирующей силы[86]. Поэтому не случайно, наверное, что Зиммель в своих работах после 1903 г. так и не продвинулся дальше в вопросе о городе.
5. Городская среда как механизм репрезентации
Мы подчеркнули одну слабую сторону работы Зиммеля о большом городе, в полной мере отдавая себе отчет в том, что его основная идея о связи между большим городом и духовной жизнью представляет собой веху в истории урбанистики, причем такую веху, до которой впоследствии многие даже и не добирались. Однако импрессионистическая редукция большого города – это путь в тупик, где “собственной логике города” не раскрыться. Ведь из-за этой редукции человек видит только те структуры большого города, которые находятся близко к нему, и замыкается на них. Таким способом понять город как репрезентацию мира не получится. “Картина большого города”, нарисованная Зиммелем, редуцирует значимость городского пространства. Оно означает только само себя, а не более широкий круг данностей. Архитектурные артефакты репрезентируют своего рода резюме, в которых спрессованы бесчисленные местные (в том числе и негородские) данности. Эти резюме, которые – в зависимости от степени центральности – могут существовать лишь в нескольких точках нашей планеты, играют определенную роль в ориентации нашей экономической (и политической) деятельности, в поиске работы, рынка сбыта для товара или услуги, в выборе товара. Уровень зданий, зафиксированный в их размерах, эстетическом качестве и материале, может служить мерилом качества и уровня цен определенного рынка или указывать ранг государства. А ведь ни этот рынок, ни государство не “локальны”. Резюме составлено из тысяч и тысяч местных обстоятельств, собранных с обширной (зачастую охватывающей несколько стран) окрестной территории. Поэтому мы в нашем восприятии городского пейзажа ищем не только особое и локальное, а еще и признаки чего-то всеобщего[87]. Промышленный город уровнем своей общей структуры расскажет нам не о том, к какой отрасли он принадлежит (город стали, город обуви, город пива…), а о своей принадлежности к определенному классу доходности в рамках страны или в международном масштабе. В городе-портале (Gateway-City, Burghardt 1971) мы видим не только конкретную форму портовой бухты, но и разброс (от регионального до мирового) тех областей, “ворота” между которыми этот город образует собой. Речь всякий раз идет об уровнях, классах, рангах, – о той “лиге”, в которой играет город и которая отражена в его пространственном устройстве.
Репрезентативность современного большого города не явлена чувственному восприятию непосредственно – ее приходится вычитывать по определенным знакам. Для этого требуются интеллектуальные операции: абстракции, оценки, размышления. Эти операции эксплицитно или имплицитно совершаются людьми, которые организуют свою жизнь, перемещаясь по городу[88].
Соответствующие знаки для этих операций в городе обнаруживаются. Город – не объект чувствования, он не полностью доступен через чувственное восприятие. Его физическая субстанция является носительницей духовного содержания. В этом смысле она – “объективный дух”. Этот дух заключается прежде всего в масштабе, потому что именно в масштабе заключается репрезентативная способность города как пространственно-временного образования. Масштаб представляет собой критерий, апеллирующий к той способности суждения, которой обладает оценивающий разум. Так, город может превосходить то, что ему “подобает по положению”, а может и “не дотягивать” до этого. Пропорциональность пространственных величин – это та форма, в которой множество индивидуальных отдельных и специальных условий самых разных мест сводятся воедино. Эта репрезентация есть не повтор, отображение или копия индивидуального многообразия, а уплотнение. Размеры и пропорции на карте города показывают, насколько удалась эта репрезентация, и каждая новая стройка всегда помимо прочего еще и подтверждает или изменяет то общее резюме, которое представляет собой город. Поэтому для планирования и строительства городов существуют объективные критерии – правда, довольно размытые и растяжимые. Но принцип таков: в градостроительстве размер можно “установить” только приближаясь к нему посредством оценки. Иными словами, его приходится скорее находить, чем придумывать.
Пространственная репрезентативность большого города абстрагируется от многих качественных определений. Поэтому количественные определения (размеры, пропорции) играют очень важную роль. Но мы говорим здесь не о пустой, тривиальной количественности, а о содержательной, критической. Те, кто выступает против “геометрических пространственных представлений” и требует “качественных” определений (чтобы потом следующим шагом поместить сюда “социальность”), лишь доказывает, что не умеет читать количества. Разумеется, пространственная репрезентация большого города абстрагируется не от всех качеств. Но ей приходится выбирать такие художественные решения и свойства материалов, которые “попадают” в индивидуально-общее. Серо-синие крыши Парижа никак не связаны с локальными месторождениями материалов. Они наверняка могли бы иметь и другую скромно-благородную окраску, но они точно не могли бы быть пестрыми или яркими, как детские конфеты. Так большой город даже в своих качественных художественных решениях показывает, что он не просто “место”: он – квинтэссенция многих мест[89].
Здесь нужно быть точным: современный большой город в своей архитектурно-пространственной объективности репрезентирует не разнообразие жизни и ее историй. Мы слишком многого хотели бы от плана города-резиденции, если бы стали ожидать от него репрезентации отдельных историй власти. Городское пространство не может “рассказывать” историю, оно не есть “хранилище памяти” обо всех общественных событиях. Эти слова, которые часто употребляют, – благонамеренные клише, призванные придать городу как объекту больше значения; но он не способен им соответствовать. Вследствие этого они переключают внимание с города как самостоятельного объекта на персоналии, на публичные дебаты, на письменные тексты в городских архивах. Большой город может репрезентировать только “условия возможности”, и то не во всем разнообразии широкого диапазона локальных условий. Всякая репрезентация есть отбор. Большой город тоже производит отбор, при котором включает в себя крайности и за счет уплотнения усиливает и подчеркивает их, но вместе с тем образует их сокращенные версии и клише[90].
Таким образом, эта репрезентация представляет собой большую работу по синтезу: самое удаленное, самое гетерогенное сводится вместе, при том что чувственное восприятие всех этих данностей не ставится в качестве предпосылки. Сила на то, чтобы выстроить деловой квартал, ратушу, церковь или университет до определенной высоты и величины, а потом постоянно их содержать, берется из многих мест. Каждый большой город (и вся система больших городов разного ранга) пребывает – как в системе сообщающихся сосудов – в постоянной связи с этими местами (а не только со своим собственным локусом). Он может компенсировать множество мелких изменений, но любой крупный сдвиг в совокупности локальных обстоятельств страны или континента обязательно его затронет. Так благодаря городу только и возникает возможность уловить и оценить необозримое разнообразие и непрерывную смену отдельных локальных обстоятельств и движений. Лишь на этом уровне мы можем представить себе, почему в упомянутых выше экономико-пространственных процессах пространство уплотнения может играть заметную роль.
6. Объективный дух I: Знаковые системы
У такого стиля мышления есть одно уязвимое место: как можно помыслить вместе духовное содержание и архитектурно-пространственную объективность города? Когда говорится, что мы понимаем город как репрезентацию “мира” отношений и связей, первым делом приходит на память язык. И действительно, часто речь ведется о том, что город надо “читать”, дабы узнать то действительно значимое, что в нем заложено. Говорят, что городские пространства определенным образом “кодированы”[91]. Тем самым совершенно справедливо учитывается то обстоятельство, что городские объекты означают не только самих себя, а еще и указывают на что-то другое. Они служат передатчиками (“медиумами”) того, что недоступно напрямую для восприятия и практики. Но что и как они передают?
В этой точке, как правило, очень торопливо делается следующий мыслительный шаг от города как языка к городу как социальному конструкту. При этом “реляционное” (“связанное с сетью отношений”) понятие пространства незаметно превращается в “социально-реляционное” (“связанное с сетью социальных отношений”). Решающую роль в этом шаге играет вполне определенное представление о языке: предполагается, что язык возник в ходе установления взаимопонимания между субъектами и потому представляет собой социальный медиум. Тогда город получается как бы встроенным в социальные коммуникационные процессы и сам предстает медиумом социальной коммуникации (Hard 1993; Klüter 1986). Таким образом, если продолжить этот ход мысли, то в конце концов объект “город” все же подводится под категорию “общество” как вышестоящую. Попытка вызволить город из импрессионистической редукции и понимать его как репрезентацию опять неизбежно ведет, как представляется, к примату социальных связей и отношений и их анализу. Так и хочется сказать “как пришло – так и ушло”: здесь тоже платой за более полное понимание города оказывается утрата его собственной логики.
Но идти таким путем не обязательно. Нам нужно еще раз вернуться к двум развилкам на пути нашей мысли и проявить больше осмотрительности.
Начнем со второй развилки: следует ли считать язык как медиум прежде всего социальным феноменом, прагматическим назначением которого является установление взаимопонимания (Хабермас) или власть (“поздний” Фуко)? Тогда духовные порядки оказались бы прежде всего социальными порядками, а “дух” объяснялся бы человеческой деятельностью и межчеловеческими отношениями. Тем самым отношение духа к миру было бы низведено в ранг вторичного феномена, а формирование духовного содержания превращалось бы в вопрос самосовершенствования людей. Духовные формации были бы “изобретениями”, а не “открытиями”. Возникновение духовного порядка относилось бы к психосоциальному внутреннему пространству людей, а возникновение его снаружи было бы уже невообразимо. Язык, а с ним и репрезентации в своей эволюции, были бы для людей прозрачными и целиком находящимися в их распоряжении. Это относилось бы и к городу как “пространственно-языковой” репрезентации.
Но надо ли идти по пути такой социологизации языка? Мишель Фуко (“ранний” Фуко) в своей книге “Слова и вещи”[92] сделал одно открытие, которое сотрясает основы социально-прагматического представления о языке и духе. Он выявил две фундаментальные трансформации, произошедшие со всей системой духовного порядка после окончания Средневековья. Основные духовные понятия, способы представления вещей и различных видов деятельности, а также базовые ориентации и мотивы, определяющие картину мира, дважды – в XVI и в XVIII вв. – изменились, претерпев тотальные тектонические сдвиги. Это не было делом рук отдельных гениальных изобретателей, как не было и неизбежным следствием прогресса познания, будь то общечеловеческого (в результате научных открытий) или какого-то одного возвышающегося класса (например, буржуазии). Каждая новая дискурсивная формация (Фуко называл их “эпистемами”) представляет собой удивительную фикцию, которая, с одной стороны, в самом общем плане редуцирует сложность мира для людей, но, с другой стороны, не является единственной возможной, строго последовательно объяснимой редукцией. Эта фикция в определенной мере является социально “выбранной”, и в конечном счете выбрана она все же вслепую, потому что выдвинутые и запротоколированные историей идей аргументы в пользу какого-то определенного духовного порядка никогда не являются неотразимыми. Возникновение того или иного духовного порядка невозможно объяснить социальными условиями, отношениями или связями. Оно скрыто во мраке[93].
Происхождение и эволюция языка как медиума духа не прозрачны. Он приходит к говорящим, превращается ими в действительно проговариваемые формулировки устной речи (parole), но сам язык (langue) не есть творение говорящих. Он не только “отражает” “речевые акты”, но и предшествует им. Более того: одна из главных особенностей этой археологии духовной жизни заключается в ее способности показать, что и центральное положение “человека” есть лишь часть вполне определенной и ограниченной духовной формации, которая возникла в конце XVIII в. и вовсе не обязательно является лучшей и последней из всех формаций.
Это направление в понимании духовных феноменов до сих пор оставалось побочным; эта дорога мысли во многих отношениях даже “заросла” – достаточно вспомнить, что Фуко сам ее потом потерял[94]. Но имплицитно такая объективация духовной жизни, которая серьезно относится к внешнему происхождению знаковых систем[95], а не пытается сразу подчинить их социальности в качестве средств общения и взаимопонимания, подтверждается многочисленными отдельными эмпирическими данными[96]. Духовные паттерны расположены, так сказать, слишком далеко в мире, они не могут быть предвосхищены в социальных связях и отношениях людей[97]. Таким образом, уже в языке “репрезентация” есть нечто гораздо большее, чем просто социальный конструкт. Иначе говоря, социальные и поддающиеся социологическому объяснению компоненты языка как конструкта гораздо скромнее по размерам, чем утверждает доминирующий в настоящее время крайне антропоцентристский конструктивизм.
В этой недоступности и “объективности” языка заключается возможность прочтения такого предмета, как город. Определенный порядок городского уплотнения – например, новая публичная сфера в виде ее репрезентации посредством строительства зданий, которая стала характерной особенностью городов с наступлением Нового времени, или происходящее с недавних пор раздробление городской системы на несколько “субгородских”, – можно понимать как интеллектуальное образование, как формирование системы знаков. Если мы будем принимать всерьез город как исторически изменчивый “код” (иными словами, языковой в самом широком смысле этого слова набор взаимосвязанных референций), то мы сможем в какой-то мере высвободить этот предмет, ныне полностью подведенный под вышестоящую категорию “социального”.
7. Объективный дух 2: пространственно-временные системы
И все же необходимо продолжать задаваться вопросом о том, может ли такой объект, как город, вообще быть адекватно понят, если понимать его как язык. Является ли отношение репрезентации в самом деле лишь отношением отсылки? Осуществимо ли обобщающее опосредование между местом и миром только с помощью “знаковых систем” (т. е. языка в самом широком понимании)? Нам придется вернуться к первой развилке и перепроверить путь наших размышлений еще раз. Со времен лингвистического поворота начала прошлого века примат знаковых систем настолько укрепился, что прочие возможности уже и не видны. Там, где лингвистический поворот от разговора о “репрезентации” сразу перескакивает на разговор о “языке”, существует еще и другое возможное направление мысли, о котором в прошлой главе было уже сказано: город как репрезентирующая величина стоит в определенном пропорциональном отношении к репрезентируемому (т. е. к миру). Здание, площадь, система улиц, карта города – все эти городские факты не могут не вбирать в себя факты мира в их телесной протяженности. Город – особенно современный большой город – при этом не обязательно вбирает в себя бесчисленные и знакомые факты в масштабе 1:1, но должен их в принципе в каком-то определенном масштабе в себя вобрать. Как сказал Шиллер, “в мозгу весьма легко ужиться мыслям рядом одна с другой; в пространстве же вещам приходится не раз столкнуться сильно” – это относится и к данной ситуации, если “голову” понимать как “знаковую систему”. Город – это акт уплотнения, а не акт отсылки. Присутствие мира в городе как его репрезентации вещественнее, нежели в знаковой системе[98].
Таким образом, речь идет об ином способе осуществления “репрезентации” в пространственно-временной системе. Лингвисты установили, что знак (означающее) есть отличительный маркер, который не обязательно как-то отображает или воплощает репрезентируемое (означаемое). Последовательность звуков или букв в слове никак не соотносится с вещью, к которой оно отсылает. Красный свет светофора никак не соотносится с состоянием улицы или с движением транспортного средства. Но пространственно-временные репрезентационные системы совсем другие. Они всегда обнаруживают определенную пропорциональность или соотнесенность с внешним миром. Это можно понимать поначалу в том же смысле, в каком сосуд должен быть пропорционален своему содержимому: высота и ширина здания “осилят” определенные виды использования его объема. Грузоподъемность моста должна соответствовать тяжести вещей. Изоляционный материал, которым покрыта стена дома, должен выдерживать ветер, осадки и колебания температуры, т. е. соответствовать силе воздействий среды. Качество используемых материалов соответствует качеству объектов, в которых они используются. Декоративное убранство здания тоже соответствует тому, для чего его используют.
Все это, конечно, хорошо. Но такое понимание означало бы редукцию и недооценку потенциалов пространственно-временных систем. Ведь, строго говоря, речь идет о соответствии не просто “вещам” как содержимому, а условиям. Пространственно-временные формы репрезентируют формальные факты, т. е. они репрезентируют условия, их трудность или благоприятность. Каждое здание, каждая площадь, каждая уличная сетка, каждое увеличение или уменьшение города репрезентируют условия жизни в данную эпоху. Под этим следует понимать не только условия, заданные природой, но и созданные либо трансформированные человеком условия той или иной цивилизации. Город как тектоническая реальность, со всеми своими качествами (размерами, материалами и образами) не может рассказывать истории – он может только воплощать те условия, в которых они разыгрываются. Таким образом, произведение архитектуры не есть “мертвая” реальность: оно заключает в себе и резюмирует степени трудности жизни. Каждое произведение архитектуры – в известном смысле всегда представляет чью-то сторону. Однако оно представляет не сторону жизни, а сторону более или менее далеко идущих ограничений жизни. Оно может эти ограничения смягчать, но должно в принципе оставаться в зоне ограничений. Оно может закрывать глаза на многие детали и локальные оттенки условий, резюмируя их в сокращенном виде, но оно может быть только условием. Город не может ничего иного, кроме как “обусловливать” – или, точнее, переводить одни условия в другие. Иными словами, из абсолютно необозримой сложности мира, в котором все возможные процессы протекают нераздельно, пространственно-временные системы выделяют аспект условий.
Поэтому было бы ошибкой ожидать, что социальные движения и позиции отразятся в пространственно-временной системе города. Для этого архитектурно-пространственная реальность совершенно непригодна. Она одновременно и беднее, и притязательнее: она резюмирует условия. Пространственно-временная система обладает собственным творческим – и в этом смысле “духовным” – потенциалом: этот потенциал заключается, во-первых, в редукции сложности, а во-вторых – в открытии еще не реализованных возможностей. В качестве “условия возможности” (Кант) пространственно-временная система может опережать реальную жизнь и заключать в себе нечто большее, чем “реальность”. Поэтому разговоры об отражении социальности в пространственном “субстрате” города – это медвежья услуга ему. Свобода города есть свобода условий. Он – не вся проживаемая реальность “в” городе, но, будучи пространством возможностей, он эту реальность и опережает. “Прочтение” города – это взвешивание и измерение условий мира, который этот город резюмирует со всеми его благоприятными и неблагоприятными моментами, со всеми его шансами и рисками. В объективности пространственно-временной системы заключен большой потенциал свободы – даже больше, чем в знаковой системе. Ведь репрезентативные пропорциональности менее детализованы, чем знаковые системы в смысле Фуко. И уж точно их потенциал свободы больше, чем у социальной конструкции и “включенности” (Berger/Luckmann 1980 [рус. изд.: Бергер/Лукман 1997 – прим. пер.]; Granovetter 1985), потому что он гораздо менее интимно вторгается в жизнь, нежели интерсубъективное, ориентированное на взаимопонимание, коммуникативное действие[99].
Пропорциональность города как пространственно-временной системы может быть достигнута или не достигнута. Важно при этом то, что ее достижение не зависит от соотношения с некой “функцией”. Функционализм в градостроительстве отрезает город от внешнего мира и заставляет его служить слишком узким целям. Не случайно функционализм отдает предпочтение отдельному зданию и отдельному району перед городом как целым. Как зданию или району дозволяется лишь следовать своей функции, так городскому целому дозволяется быть лишь суммой зданий и районов. Однако если градостроительная мера являет собой репрезентацию условий мира, то она должна быть обретена прежде всего в городском целом (и в целой системе городов, определяющей ранги, к одному из которых должен быть отнесен данный город). Таким образом, связь репрезентации с внешним миром означает, что не отдельное здание будет образцом пространственных систем, а городское всеобщее. Эта связь принципиально игнорирует специфическую роль города как репрезентации условий[100].
Если сравнить пространственно-временные системы со знаковыми, то репрезентация, осуществляемая первыми, с одной стороны, “беднее”, но, с другой стороны, она несколько теснее связана с репрезентируемой реальностью условий. Конечно, резюмировать условия – не значит “отображать” реальность условий, в которую входит совершенно необозримое число деталей. Поэтому и пространственно-временные системы всегда до некоторой степени фиктивны. Однако фикции носят здесь характер не субъективного, а “объективного произвола”: это рестриктивные фикции, или фиктивные ограничения, которые для субъективного произвола служат противодействием, преградой, стимулом и вызовом[101].
Город есть построенная фикция, причем такая, которая подчиняется требованиям масштаба. Пространственно-временные системы только тогда выполняют свою функцию, когда они с максимальной силой и четкостью вбирают в себя обусловливающий характер объективного и тем самым реально извлекают масштабы из окружающей сложности мира. А для знаковых систем действует иной критерий качества: различимость и точность обозначений и интерпретаций. Если понимать город так, то можно различать городские формации, каждая из которых специфическим образом резюмирует самые разные социальные факты в рукотворной, “тектонической” среде. Здесь же наблюдаются и фундаментальные исторические переломы, происходившие на протяжении современной эпохи (например, барочный город раннего Нового времени или город, переместившийся в предместья)[102].
Если объект “город” понимать как фиктивное ограничение, то открываются интересные возможности для сотрудничества с науками о культуре, поскольку существуют культурные техники и завоевания технической цивилизации, которые задействуются при выстраивании таких фикций[103]. Часы – классический пример машины, функцией которой является создание фикции условия: это машина для изготовления пропорциональности (упрощенной и уточненной). Часы задают меру обусловленности по координатной оси преходящести и длительности. Проблемы, связанные с их конструкцией, позволяют увидеть жесткий закон масштабности, который исключает нежесткие связи и произвол. Часы – не книга, они относятся к совсем другой логике. Но кроме них еще многие другие технические приборы и устройства становятся по-новому интересными, если мы будем рассматривать их как машины пропорциональности. Шифельбуш говорит применительно к железной дороге об “индустриализации пространства и времени” (Schivelbusch 1989). Существуют исследования и фрагменты теорий, посвященные стальным конструкциям (Benjamin 1983; Giedion 1965), искусственному освещению (Schivelbusch 1983), технологиям воспроизводства изображений (фотография, кинематограф – Benjamin 1972 [рус. изд.: Беньямин 1996 – прим. пер.]), техникам изменения телесно-духовной диспозиции человека (чай, кофе – Schivelbusch 1995), духам (Corbin 2005). Другая группа исследований, проведенных в науках о культуре, отправляется от географических данностей (типов ландшафта) и изучает исторические ритмы изменения этих ландшафтов, наблюдая за взаимодействием между эволюцией менталитетов (ср. “Открытие побережья” – Corbin 1990) и эволюцией конструктивно-технической (культура плотин и польдеров в “системе Голландии”, конструирование пространства посредством корректировки русел рек, строительства дорог и мостов, террасного земледелия, осушения болот). В рамках теоретического подхода, разделяющего знаковые и пространственно-временные системы, перспективным направлением исследований было бы изучение соотношения между “городской техникой и городской культурой” (Hoffmann-Axthelm 1989) или вызывающей сетования “безъязыкости инженеров” (Duddeck, Mittelstraß 1999)[104].
8. Город как корректив: многоуровневая схема
Возвращаясь к вопросу о предпосылках социальности: если мы видим в городской среде обусловливающую фикцию, как можно видеть в ней предпосылку экономических или политических процессов и встраивать ее в них? А как можно видеть в ней предпосылку социальных процессов, охватывающих жизненные миры людей? Роль пространственно-временных систем не следует видеть в том, чтобы охватить все на свете. Это было бы завышенным требованием к этим системам, которому они в наблюдаемой реальности не могли бы соответствовать, что неизбежно вело бы к разочарованию. Пространственно-временные системы следует рассматривать как коррективы. Возьмем социальную деятельность горожан в рамках их жизненного мира. Она нуждается в коррективе постольку, поскольку сама по себе она слишком ограниченна и близорука. Невежество и склонность к скороспелым выводам, часто проявляемые борющимися за свои жизненные миры акторами (гражданскими инициативами) в отношении крупных проектов, касающихся всего общества, – свидетельство такой локальной зашоренности. Иными словами, деятельность индивидов и групп в рамках и в интересах их жизненного мира не означает, что они обладают всеми компетенциями. В таких ситуациях перед пространственно-временными системами встает задача: разрушить самоизоляцию этой деятельности и принудить ее к большей открытости миру. Вне всякого сомнения, пространства больших городов, равно как и крупные территориальные образования (которые шире тех границ, что заданы “кровью и почвой”), осуществляют такое принуждение. И наоборот, системы политической и экономической деятельности отличаются известной функциональной узколобостью, в то время как их притязания на значимость заходят очень далеко: недостаток деятельности не в локальной зашоренности, а во вводящей в заблуждение глобальности. Здесь нужно вмешательство пространственно-временных систем, чтобы принудить эту вводящую в заблуждение глобальность к ограничениям. Классическим примером может служить “территория” (как пространственная система, возникающая в результате отграничения), которая в территориальном государстве, состоящем из нескольких дополняющих друг друга областей различного размера, может стать элементом конституционного порядка и противовесом произволу. Территориальный принцип принуждает политическую систему к самоограничению, а взамен предлагает относительно сплоченные системы сопринадлежности[105]. Современная система города представляет собой еще одну такую пространственную систему, которая радикально сводит необозримое разнообразие местных условий в мире к нескольким пунктам и заставляет социальные системы мириться с особой плотностью и трением. Она принуждает политическую и экономическую систему к толерантности и строгому отбору, а взамен предлагает легкость доступа и открытую конкуренцию элит (ср. исследования, упомянутые в начале 2 части).
Следует обратить внимание на глубину этой коррективной роли. Без мощной репрезентации условий экономической деятельности абсолютно невозможно представить себе центральный параметр процесса создания стоимости в экономике – ограниченность ресурсов. Пространственно-временные системы играют важную роль в репрезентации ограниченности, потому что знаковые системы отображают степень ограниченности с помощью “слабого” средства (знака). Об ограниченности много говорят. Но лишь масштабированная ее репрезентация в архитектурно-пространственных воплощениях дает возможность ее одновременно почувствовать и оценить[106]. Точно так же и в политической системе без такой мощной репрезентации немыслим центральный параметр общеобязательных нормативных решений: пропорциональность распределения средств. Ассигнование средств и баланс их распределения между различными частями страны зависят от разумного территориального деления данного государства.
Глубиной обладает и еще один феномен, который относится, скорее, к борьбе локальных обществ за сохранение своих жизненных миров: их самоизоляция посредством губительно скороспелых выводов (“коротких замыканий”) может быть разорвана только с помощью пространственно-временных репрезентаций. Когда в жизненном мире локального общества происходит “короткое замыкание”, его члены видят, например, только те экологические последствия, которые имеют место у них под окнами, а непрямые эффекты, возникающие в результате полного отказа от нагрузок на окружающую среду в узком локальном масштабе, они даже не способны помыслить. Или, например, выдвигают требование дотаций для мгновенного “повышения покупательной способности”, а непрямые потери, которые от этого возникнут в более крупных экономических циклах, они вообще не видят[107].
Здесь мы подходим к одному моменту, важному для нынешней дискуссии о “глобальном” и “локальном”, – на ее апории уже указывал Хельмут Беркинг (Berking 2006). Если смотреть с точки зрения собственной логики города (и определенной территории), то современные пространственно-временные системы не являются ни “глобальными”, ни “локальными”, они располагаются на промежуточном уровне. На этом уровне они действуют в качестве коррективов, исправляющих недостатки в деятельности политики, экономики, жизненных миров. Если “глобальное” и “локальное” рассматривать как два полюса и соединить их в единую модель “глокального”, то она будет всего лишь отображать и воспроизводить уже существующие апории деятельности. Город тоже может обрести реальную самостоятельную роль только в том случае, если между глобальным и локальным ему будет отведен собственный уровень действия с коррективным потенциалом. Правда, городу придется делить этот уровень с территорией. Таким образом, этот уровень состоит из двух пространственно-временных образований, каждое их которых имеет свою специфическую конституцию и свои эффекты (ср. Held 2005а).
Если мы в этой системе координат будем рассматривать город как корректив, то из этого вытекают следствия для моделирования действий и структур в целом. Многоуровневый анализ приобретает новый смысл и новую глубину. Поиск своеобразия города в таком случае уже не приведет нас к стремлению одним ударом понять и объяснить феномены жизни. Всеохватное понятие “социального” растворится и при этом не будет заменено на новое всеохватное понятие “городского”. Как пространственно-временная система, город никогда не будет определять жизнь людей во всех подробностях. И страшно было бы представить себе пространственное планирование, всерьез нацеленное на то, чтобы планировать “жизнь”.
Если мы захотим объяснить некое решение, некий эпизод, некую биографию, то сам факт, что помимо всего прочего в них сыграл свою роль город, даст нам необходимый, но не достаточный фрагмент такого объяснения. Работу по реконструкции нужно будет вести на нескольких уровнях. Возьмем в качестве примера выбор места жительства в большом городе. Как правило, этот выбор совершают, основываясь не на том, как выглядит та или иная квартира, и не на дружеских отношениях, и не на том, где работает кто-то один из выбирающих. В большинстве случаев выбор места жительства в большом городе связан с расчетом на определенный набор возможностей. Если выясняется, что квартира, друг или работа были выбраны ошибочно, все равно еще сколько-то возможностей остается. Решения легче отменить. Или выбор изначально облегчается тем, что человек, приезжая в новый город, всегда в том или ином отношении приезжает налегке. Реальные истории обретений – образовательной, профессиональной и семейной карьеры – пишутся на другом уровне. Тысячи и тысячи уникальных личных историй не принадлежат городу как целому, всеобщему. Тут проявляются аналитические возможности экономической науки и политологии или исследований жизненных миров, социальных сред и стилей жизни. Может быть, имеет смысл сначала применить эти подходы, а уже потом дополнить картину изучением пространств. Настойчивое внимание к собственной логике городов не предполагает стремление всё детерминировать одним махом. Как раз наоборот, мышление в стиле “одним махом” – это признак дискурсов, видящих в городе субстрат социальных процессов. Собственная логика города представляет собой осмысленный предмет изучения только в рамках объяснительных стратегий, предполагающих движение в несколько шагов по нескольким уровням структуры и деятельности. Можно было бы даже сказать так: многоуровневый анализ проявит свои специфические сильные стороны лишь после включения в изучаемую систему пространственно-временного уровня. Интересной задачей для урбаниста было бы протестировать этот стиль мышления: эмпирически реконструировать “истории поиска” (как человек нашел себе те или иные товары или услуги, работу, вуз, клуб, спутника жизни?). Исследовательская гипотеза в данном случае звучала бы так: истории поиска охватывают несколько уровней, и в них различаются разные этапы с разной степенью детализации (предварительная сортировка, окончательный выбор). При таком рассмотрении “большой город как пространство поиска” представлял бы собой уровень, на котором происходит ранний этап этих историй (ср. Held 2005b).
9. Историческая перспектива: секуляризация предшествует социализации
Собственная логика города – в том смысле, в котором мы здесь говорим о нем, т. е. в смысле репрезентации большего мира (поэтому имеется в виду “большой город”), – это завоевание всего общественного развития XIX–XXI вв., а не только той части этой эпохи, на которую пришлись крупные социальные движения. Собственная логика мыслима только в условиях секуляризации, т. е. появления огромного количества земных проблем. Лишь таким образом вообще могла возникнуть объективная задача упорядочивания. Поэтому и разрыв между средневековым городом, с одной стороны, и протестантским торговым или католическим барочным городом (оба – прототипы репрезентативного большого города), с другой, был фундаментальным. Эпоха классического модерна (которая в немецкоязычном словоупотреблении часто носит название “Нового времени”) началась прежде всего в секулярно-объективной сфере (в соотнесении с миром), а не в социально-субъективной. Она выдвинула на передний план вещи и внешние условия. “Овеществление” выполняло при этом роль рычага, с помощью которого достигалась свобода. Оно и только оно создало возможности для расшатывания и расторжения феодальных личных уз. Замена личных отношений территориальными в процессе формирования государства – часть этого движения (Roth 2003). Прежнее господство, с его “безусловными” связями, бывшее одновременно интимным и безграничным (прикрепление к земле и вселенская имперская идея), оказалось открыто и ограничено благодаря такой пространственной абстракции, как “область”. В XIX в. средневековый порядок был сломан совершенно новой и мощной соотнесенностью с посюсторонним миром. С секуляризацией этот мир обрел совершенно новый собственный вес и совершенно новую собственную логику. “Расколдованный” мир, которым уже не управлял ставший теперь более далеким Бог, вовсе не был жесткой, полностью механизированной машиной: у него были и духовные составляющие. Расколдована была магия, т. е. прямое и произвольное вмешательство богов. Невероятность мира никуда не делась, а даже наоборот, была повышена – это ощущается и во фламандской пейзажной живописи, и в динамике барокко. Художественные решения в градостроительстве той эпохи прикладывали свою мерку к этой невероятности и пытались придать ей какую-то форму. Город стал в небывалой степени публичным: эстетически-рецептивным в случае барочного города, морально-аскетическим в случае торгового.
Иными словами, секулярный мир стал творческим – произошло как бы удвоение идеи творения. Величие Бога искали в то время не в человеке и не в социальности, а в мире, который был творением и своеобразным вызовом[108]. В процессе секуляризации мир стал посредником в общении с Богом. Теперь свидетельством величия Бога были уже не ничтожность мира и предстоявшая ему в скором времени гибель (эсхатология), а его важность. Полнота и отвратительность мира стояли на пути к Богу, ставшему теперь более далеким[109]. Так мир смог стать главной предпосылкой хозяйственной и политической жизни[110]. Сформулируем еще острее: секуляризация означает, что мир приобретает духовную нагрузку. “Наука о духе” теперь выступает в качестве изучения мира. Это предполагает новое представление о времени и пространстве. Пространственно-временные системы как системы порядка становятся возможны только теперь; только с этого времени можно говорить о “пространственной дифференциации” (Held 2005a).
Применительно ко времени это уже много раз подчеркивали (Dohrn van Rossum 1992). Объективное освобождение открытого времени от прежнего постоянного присутствия “конца света”. Дифференциация этого открытого времени на абстрактное структурное время с эпохами и разрывами между ними, с одной стороны, и конкретное время “моментов”, с другой. Через это абстрактно-конкретное удвоение времени возникла возможность структурирования когерентности и контингентности. Но гораздо меньше задумывались о том, какое освобождение пространства принесла с собой секуляризация. А между тем и здесь тоже можно наблюдать двоякое движение, ликвидировавшее вселенскую “империю” мира, в которой каждой детали было отведено свое постоянное положение. С одной стороны, в новом радикальном многообразии и контингентности существует “место”, а с другой стороны – “пространство”, обеспечивающее возможность более крупных, но ограниченных соединений необозримого количества соседствующих предметов и явлений, а именно – территории и большого города. Теперь политические и экономические системы (территориальные государства и рыночные ареалы) действительно могли покрывать ту или иную зону полностью, чего в прежних “державах” не бывало. Одновременно и локальные особенности могли теперь гораздо сильнее отличаться друг от друга. Конкретная сторона нового пространственного устройства – локальность – предоставляла возможность для гораздо большей специализации.
Таким образом, новое мышление посредством временных и пространственных структур есть квинтэссенция объективной духовности, которая была “найдена” в ходе секуляризации. Ведь невозможно предполагать существование в раннее Новое время такого индивидуального или социального субъекта, который мог предвосхитить открывающийся мир и секуляризационное движение. Результаты исследований в области истории духа и истории культуры говорят скорее о том, что современная (интер)субъективность – в сильном смысле – возникает позже, в конце XVIII столетия. Отсюда ясно, что “предшественников” надо искать не в социальной области: современный субъект – “совершеннолетний”, обладающий возможностями деятельности и ответственностью, – мыслим только тогда, когда существует секулярно-духовный мир с объективными артефактами, которые питают и поддерживают субъективность. Такое социальное завоевание, как представительская демократия, могло быть придумано лишь после того, как объективные механизмы репрезентации были разработаны и найдены в устройстве мира. К таковым относятся и знаковые системы (Anderson 1988 [рус. изд.: Андерсон 2001 – прим. пер.], Foucault 1974 [рус. изд.: Фуко 1977 – прим. пер.]), и пространственно-временные системы.
10. Конкуренция между городским и социальным
Современный большой город представляет собой точку кристаллизации этого движения. Он, прежде всего, определенная форма репрезентации объективного мира. Одновременно он – пространственно-временное “публичное” уплотнение мира, и в этом своем качестве он принуждает социальные силы, вышедшие из феодальных отношений, к реализму и толерантности. Аккультурационная функция большого города в первую очередь заключается главным образом в том, что он заставляет говорить и мыслить о вещах. Это – ранняя кристаллизационная точка, которая предпослана развитию социальной жизни “в” городе, а потому является в научном смысле состоянием, предшествующим тому, в котором большой город сделается объектом и сооснователем социологии. Объективность большого города оказывает революционное действие на физические и телесные диспозиции. Здесь – великое сборище чужих вещей и дел (колониальных товаров, государственных бюрократических систем, бирж, исследовательских учреждений и художественных субкультур), складывающееся в “объективную культуру”, которая “предшествует” субъективной культуре и “опережает” ее по масштабам.
Этот классический, объективный город Нового времени от нас сегодня ушел. Даже если мы живем в самом его центре, он все равно образует лишь далекий, туманный и бессильный горизонт. “Общество” вырвалось на передний план и заправляет теперь происходящим. Его – это социологическое априори – можно видеть не только в городе. Оно и возникло не в нем, а как бы колонизировало его. Оно определяет вообще всё мышление нашего периода современной эпохи[111]. Только в этот период на вопрос о предпосылках экономики и политики стали отвечать ссылкой на социальность, а внешнюю предпосылку – секуляризацию – подводить под категорию социальных актов. Науки о духе превратились в гуманитарные и социальные науки.
Что же касается собственной логики города, то ее оттеснил с авансцены не только другой порядок знания, но и другой порядок практики. Описывать этот процесс в рамках настоящей статьи нет возможности. Уже много раз подчеркивалось значение функционализма (начиная с широкого распространения функциональных производственных систем в период индустриализации). Важно, на мой взгляд, то, что функциональная селекция обошла проблему репрезентации мира. Это относится и к пространственно-временным системам, и к городу. Город как физическая данность никуда не делся, но его системный состав и его роль изменились фундаментально. В системном отношении он теперь был уже лишь тенью самого себя. Ему поручались только второстепенные роли. Внешняя субурбанизация была лишь видимой стороной внутренней[112]. Интересно, что эта системная конкуренция между индустриальной функциональностью и городской пространственностью проявляется уже у Риля, который критиковал город от имени индустрии и предрекал, что ее мощь покончит с нелюбимым им большим городом: “Наступит время высокого и наивысшего расцвета промышленности, а с ним и благодаря ему разрушится современный мир, мир больших городов. И эти города останутся стоять как торсы статуй” (цит. по: Pfeil 1972: 39).
Таким образом, можно представить себе сочетание двух процессов – изменения дискурса и изменения практики, – в ходе которых современный большой город оказался оттесненным на задний план. Разумеется, наши большие города при этом не исчезли на самом деле с лица земли, но они исчезли с нашей карты предпосылок. Стало всё труднее говорить о городе в его объективной данности. В социологическом дискурсе отсутствовали возможности для подсоединения нового. Прежние темы урбанистики – например, роль материальной инфраструктуры и техники в городе – еще разрабатывались, но уже не занимали своего былого места в иерархии. Примером может служить работа Ханса Линде “Доминирование вещей в социальных структурах” (Linde 1972), в которой он предупреждал, что социальные науки слишком далеки от мира вещей; он демонстрировал это применительно к задачам по планированию пространств и говорил о “болезни коммунальной социологии”[113]. Хотя теперь в науках о культуре снова пишут многочисленные истории вещей, из этих историй еще не получается город, потому что дискурсивные упорядочивающие понятия и синтез находятся под властью социальных наук. С одной стороны, на протяжении XX в. то и дело совершались все новые и новые попытки указать на исконную роль города и предостеречь от определенных опасностей, с которыми связано подведение его под категорию “социального”[114]. Но эти попытки были изолированными и практически не имели последствий: кто сегодня всерьез принимает “Тиранию интимности” Сеннета (1983) как предостережение от “короткого замыкания” внутрисоциальных конструкций? А порой и сами авторы в своих более поздних произведениях отрекались от сказанного.
Кроме того, в урбанистике всё настойчивее выходили на первый план модели более частных пространств. В этих пространствах еще безудержее царила логика социальности, потому что пространственно-временные системы на этом уровне практически невозможно было рассматривать. Единицы, меньшие, чем целый город, не обеспечивали необходимой величины объекта, чтобы побудить к размышлениям о собственной логике города. А потом надо всем этим взошло абсурдное понятие “социальный город”, в котором плоский и интимный уравнительный социальный масштаб совершенно бесстыдно овладевает городом.
Поэтому мы все же кое-что выиграли бы, если бы обратили внимание на то, что современный большой город с точки зрения его упорядочивающей функции является конкурентом социальности. “Городское” и “социальное” соперничают в деле описания и категоризации мира. Главное заключается в том, чтобы прежде всего хотя бы различать эти две упорядочивающие силы и понимать специфическую структуру и действие каждой из них.
Заключение
В социологическом дискурсе о городе существуют два радикально различающихся подхода. Один – его можно назвать более новым, потому что он со всей отчетливостью проявился и стал доминировать только в XX в., – занимается социальными предпосылками урбанизма. Он исходит из того, что общество, социальные группы, связи и отношения существуют как данность, и смотрит, как из них образуется пространственный субстрат – город. На практике такой подход быстро привел к тому, что смотреть стали на то, что лежит по ту сторону и вне города, а на нем самом не так уж и задерживались. Разумеется, социологический исследовательский подход, ставящий в центр внимания субъективно-социальные параметры, такие как “смысл” или “власть”, дает ценные приращения знания. Он незаменим. Но собственную логику объективных обуславливающих систем – а значит и собственную логику города – он не улавливает. Так, можно было бы адресовать этому подходу вопрос, почему он непременно хочет именоваться “изучением городов и регионов” вместо того, чтобы считать себя чем-то вроде метадисциплины, изучающей формирование и действие социального смысла. Не попахивает ли колониализмом такое настойчивое удержание за собой исследовательского поля, за специфическим объектом которого этот подход не желает признавать права на собственную логику?
Другой подход, описанный в данной статье, обладает совершенно противоположной направленностью: он интересуется городскими предпосылками социальности. Было бы ужасно, если бы всё поле социальных феноменов подверглось бы при этом объективистской оккупации. Поэтому здесь очень важно мудрое самоограничение в приращении знания. Кроме того, стало очевидно, что этот подход не беспроблемен в теоретическом отношении и заключает в себе целый ряд мыслительных ловушек. Нам необходимо ясно отдавать себе отчет в том, что собственная логика города – это элемент дискурса, который, с одной стороны, является частью базового инструментария современной эпохи, но, с другой стороны, в течение XX в. был вытеснен и искажен. Заново подключиться к этому классическому для эпохи модерна дискурсу будет нелегко. Должны открыться окна и в доминирующем дискурсе, априори постулирующем социальность. Поэтому нам следует набраться терпения и довольствоваться в том числе и частичными успехами, маленькими шагами навстречу. Время крупной исследовательской программы еще не пришло. Исследовательский ландшафт в области изучения города будет оставаться хаотичным и лишь понемногу, в отдельных образцовых работах, будут совершаться подвижки вперед. Но нам нужен и разговор о теории – такой, который больше не прервется, а станет постоянным.
Литература
Adorno, Theodor/Horkheimer, Max (1969), Dialektik der Aufklärung, Frankfurt am Main [рус. изд.: Адорно, Теодор / Хоркхаймер, Макс (1997), Диалектика Просвещения. Философские фрагменты, Москва-СПб. – Прим. пер.].
Anderson, Benediсt (1988), Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt am Main/New York [ориг. изд.: Anderson, Benedict R. O’G. (1983). Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism (Revised and extended. eds. 1991 and 2006). London; рус. изд.: Андерсон, Бенедикт (2001), Воображаемые сообщества, Москва. – Прим. пер.].
Arendt, Hannah (1981), Vita activa. Oder: Vom tätigen Leben, München [рус. изд.: Арендт, Ханна (2000), Vita activa, или О деятельной жизни, СПб. – Прим. пер.].
Asendorf, Christian (1984), Nerven und Elektrizität // Bartels, M. u.a. (Hg.), Elektropolis. Ein Strom-Lesebuch, Oberhausen.
Bahrdt, Hans Paul (1969), Die moderne Großstadt. Soziologische Überlegungen zum Städtebau, Reinbek.
Benjamin, Walter (1972), Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt am Main [рус. изд.: Беньямин, Вальтер (1996), Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости, Москва. – Прим. пер.].
– (1983), Das Passagenwerk, Frankfurt am Main [рус. изд.: Беньямин, Вальтер (1991), Париж – столица XIX века // Историко-философский ежегодник, Москва. – Прим. пер.].
Berger, Peter/Luckmann, Thomas (1980), Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Frankfurt am Main [рус. изд.: Бергер, Петер / Лукман, Томас (1995), Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания, Москва. – Прим. пер.].
Berking, Helmuth (2006), Raumtheoretische Paradoxien im Globalisierungsdiskurs // ders. (Hg.), Die Macht des Lokalen, Frankfurt am Main/New York, S. 7 – 22.
Böckenförde, Ernst-Wolfgang (1976), Staat, Gesellschaft, Freiheit, Frankfurt am Main.
Bourdieu, Pierre (1987), Die feinen Unterschiede, Frankfurt am Main [ориг.: Bourdieu, Pierre (1979). La Distinction: critique sociale du jugement, Paris; рус. изд.: Бурдье, Пьер (2004), Различение: социальная критика суждения (фрагменты книги) // Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики, Москва. – Прим. пер.].
Braudel, Fernand (1985), Sozialgeschichte des 15. – 18. Jahrhunderts, München [рус. изд.: Бродель, Фернан (1986, 1988, 1992), Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв., Москва. Т. 1, 1986. Т. 2, 1988. Т. 3, 1992. – Прим. пер.].
– (1992), Geschichte und Sozialwissenschaften. Die lange Dauer // ders., Schriften zur Geschichte, Bd. 1, Stuttgart.
Burghardt, A. F. (1971), A Hypothesis about Gateway Cities // Annals of Association of American Geographers, 61 – 1971, p. 19.
Christaller, Walter (1968), Die zentralen Orte in Süddeutschland, Darmstadt.
Corbin, Alain (1990), Meereslust. Das Abendland und die Entdeckung der Küste, Berlin.
– (2005), Pesthauch und Blütenduft. Eine Geschichte des Geruchs, Berlin.
Dohrn van Rossum, Gert (1992), Die Geschichte der Stunde. Uhren und moderne Zeitordnungen, München.
Duddeck, Heinz/Mittelstraß, Jürgen (1999) (Hg.), Die Sprachlosigkeit der Ingenieure, Opladen.
Foucault, Michel (1974), Die Ordnung der Dinge, Frankfurt am Main [ориг. изд.: Foucault, Michel (1966), Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris; рус. изд.: Фуко, Мишель (1977), Слова и вещи. Археология гуманитарных наук, Москва. – Прим. пер.].
Giedion, Siegfried (1965), Raum, Zeit, Architektur, Ravensburg.
Granovetter, M. (1985), Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness // American Journal of Sociology, 91, p. 481–510.
Habermas, Jürgen (1969), Arbeit und Interaktion // ders., Technik und Wissenschaft als “Ideologie”, Frankfurt am Main.
Hard, Gerhard (1988), Selbstmord und Wetter – Selbstmord und Gesellschaft, Stuttgart.
– (1993), Über Räume reden // Mayer, J. (Hg.), Die aufgeräumte Welt, Loccum.
Held, Gerd (1998), Potentiale der kompakten Stadt. Eine institutionenökonomische Studie über die spanische Schuhstadt Elche, Dortmund.
– (2005a), Territorium und Großstadt. Die räumliche Differenzierung der Moderne, Wiesbaden.
– (2005b), Suchraum Großstadt. Suchbiographien als Beitrag zum Verständnis räumlicher Zentralität, (unveröffentlicher Vortrag auf der Tagung “Mikrosoziologische Perspektiven auf die Stadt”/DGS-Sektion Stadt – und Regionalsoziologie. Köln)
Hoffmann-Axthelm, Dieter (1989), Stadttechnik und Stadtkultur // Bauwelt, 36 – 1989.
Jacobs, Jane (1970), Stadt im Untergang, Frankfurt am Main/Berlin/Wien.
Keller, Reiner (2004), Diskursforschung, Wiesbaden.
Klüter, Hans (1986), Raum als Element sozialer Kommunikation, Gießen.
Läpple, Dieter (1991), Essay über den Raum // Häußermann, Hartmut u.a. (Hg.), Stadt und Raum. Soziologische Analysen, Pfaffenweiler.
Linde, Hans (1972), Sachdominanz in Sozialstrukturen, Tübingen.
Luhmann, Niklas (1989), Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, Stuttgart.
McCarthy, Cormac (2007), Die Straße, Hamburg [рус. изд.: Маккарти, Кормак (2008) Дорога // Иностранная литература, 2008, № 12. – Прим. пер.].
Montesquieu, Charles de (1992), Vom Geist der Gesetze, Tübingen [ориг.: Montesquieu, Charles de (1772) De l’esprit des lois. Рaris; рус. изд.: Монтескьё, Шарль Луи (1955), О духе законов // Избранные произведения, Москва. – Прим. пер.].
Pfeil, Elisabeth (1972), Großstadtforschung. Entwicklung und gegenwärtiger Stand, Hannover.
Popper, Karl R. (1973), Über Wolken und Uhren // ders., Objektive Erkenntnis, Hamburg.
Radkau, Jochen (1998), Das Zeitalter der Nervosität, München/Wien.
Roth, Klaus (2003), Genealogie des Staates. Prämissen des neuzeitlichen Politikdenkens, Berlin.
Schivelbusch, Wolfgang (1983), Lichtblicke. Zur Geschichte der künstlichen Helligkeit im 19. Jahrhundert, München/Wien.
– (1989), Die Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main.
– (1995), Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft. Eine Geschichte der Genussmittel, Frankfurt am Main.
Sennett, Richard (1983), Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität, Frankfurt am Main.
Sieverts, Thomas (2007), Um uns die Stadt. Doppelt codierte Übergangsräume im öffentlichen Raum // Der Architekt, 6 – 2007, S. 10–13.
Simmel, Georg (1983a), Die Differenzierung und das Prinzip der Kraftersparnis // ders., Schriften zur Soziologie, Frankfurt am Main.
– (1983b), Die Arbeitsteilung als Ursache für das Auseinandertreten der subjektiven und der objektiven Kultur // ders., Schriften zur Soziologie, Frankfurt am Main.
– (1984), Die Großstädte und das Geistesleben // ders., Das Individuum und die Freiheit, Berlin [рус. изд.: Зиммель, Георг (2002), Большие города и духовная жизнь // Логос, 2002, № 3(34), с. 1 – 12. – Прим. пер.].
Tocqueville, Alexis de (1994), Über die Demokratie in Amerika, Stuttgart [рус. изд.: Токвиль, Алексис де (2000), Демократия в Америке, Москва. – Прим. пер.].
Weber, Max (1988), Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Tübingen [рус. изд.: Вебер, Макс (2003), Протестантская этика и дух капитализма, Москва. – Прим. пер.].
Wirth, Louis (1974), Urbanität als Lebensform // Herlyn, Ulfert (Hg.), Stadt und Sozialstruktur, München, S. 42–67.
Собственная логика городов: взгляд с точки зрения политологии Карстен Циммерман
Помимо описания моделей, режимов или институциональных сред муниципального управления компаративный урбанистический анализ должен также выявлять, что в них есть локального.
(Sellers 2005: 436)1. Введение: собственная логика не означает самостоятельности
Вопрос о том, способны ли города лишь на пассивное приспособление к более мощным федеральным структурам и экономическим процессам или существуют возможности для локального самоуправления, неоднократно стоял в центре научных дискуссий. К их числу относится, например, начавшаяся в середине 80-х годов дискуссия по поводу “обновления политики снизу” (Hesse 1986), которая в последующие годы приобрела новую остроту (Häußermann 1991a; 1991b; Mayer 1991; Wollmann 1991). Возникший на ее основе спор об эволюции муниципальной политики в эпоху постфордизма дает повод и для размышлений на тему собственной логики городов, поскольку, во-первых, растущая конкуренция между городами за привлечение бизнеса привела к складыванию локально специфических стратегий роста, а во-вторых, постфордистский режим “гибкой аккумуляции” выдвигал структурно специфическое требование пространственных – или локально окрашенных – форм регуляции (Mayer 1996; Keil 1998). Вопрос о том, сколько может быть политики на местах и сколько ее желательно, по-прежнему вызывает споры. Понятие собственной логики подразумевает, что города формируют собственные паттерны функционирования и упорядочивания. Это не следует путать с децентрализацией или локальной автономией. И тем не менее получается так, что когда политолог начинает заниматься темой собственной логики, перед ним очень скоро встает вопрос о включенности городов в структуру государства. Поэтому с политологической точки зрения эта тема, возможно, имеет гораздо более фундаментальную природу, ведь все время обнаруживается ее связь с коммунальной самостоятельностью и автономией, а это как нельзя яснее указывает на желательную (в известном смысле) собственную логику решения проблем на местах (Nassmacher/Nassmacher 1999: 12–71). С одной стороны, города должны выполнять значительные административные задачи, поставленные перед ними федеральными и земельными властями, а с другой – в рамках муниципального самоуправления они представляют собой арену автономного демократического формирования политической воли. По этой причине локальная политика постоянно пребывает в силовом поле между эффективной реализацией задач, поставленных внешней инстанцией, – и артикуляцией локальных интересов. В последнее время о муниципальном самоуправлении говорят в основном с целью его защитить, потому что в Германии оно воспринимается как объект угроз с разных сторон (Wollmann 2002) или по крайней мере как объект всяческих реформаторских устремлений, последствия которых одними рассматриваются как укрепление, другими – как ослабление идеи муниципального самоуправления (Holtkamp 2007).
Помимо этих основополагающих вопросов муниципальной автономии в федеративных или унитарных государствах, политологический интерес к теме собственной логики управления городами выражается в поиске объяснений того очевидного факта, что города по-разному решают проблемы, – как в техническом, так и в политическом плане. Здесь в значительной мере институциональные рамочные условия определяют политические процессы. Вместе с тем эмпирические исследования раз за разом показывают многообразие локальных политических моделей, и это – одна из точек, от которых можно отправляться в поисках собственной логики городов. Того, кто задается вопросом о такой логике, в первую очередь интересует, как работает локальная политика в условиях постоянно меняющихся вызовов. Разные города вполне могут сталкиваться с одинаковыми проблемами. Но почему один город в состоянии решить их лучше, быстрее или полнее, чем другой? Какой город чаще создает возможности для прямой демократии, т. е. для непосредственного влияния горожан на принятие решений, и почему? Еще более масштабным, чем вопрос о разном подходе к одинаковым проблемам, является вопрос, почему определенные проблемы в некоторых городах вообще не воспринимаются как проблемы, а либо игнорируются, либо реинтерпретируются как задачи, решаемые в рабочем порядке. Эти вопросы становятся особенно интересны тогда, когда, например, с точки зрения рамочных институциональных условий и финансовых возможностей города между собой одинаковы.
Это не в последнюю очередь методологическая проблема: чем в компаративной урбанистике определяется различие? В качестве ответа можно указать на институты – прежде всего на федеральное и земельное законодательство, – а также на разные констелляции политических партий, разную компетенцию персонала в администрации и многое другое. Однако вопрос о собственной логике городов, лежащий в основе данного сборника, отсылает не к этим факторам, а к другим. Имеет ли значение место? Можно ли объяснение политических изменений или специфических паттернов решения проблем искать в самих городах, абстрагируясь от их включенности в национально-государственные нормативные системы?
Если наряду с классическими факторами политологического анализа допустить и другие, то сразу возникнет вопрос: как можно операционализировать ситуативные или локально-контекстуальные факторы таким образом, чтобы они были способны выдерживать сравнение с другими категориями? Концептуально представляются возможными разные пути: на ум приходят локальные стили в политике, локальные политические культуры и социальные среды, а также зависимость от исторического пути развития.
Данная статья начинается с краткого воспоминания о дискуссии 80 – 90-х гг. по поводу локальной автономии. После обзора основных позиций, представленных в ней, будет предпринята попытка показать на материале нескольких сравнительных исследований, что политологам, занимавшимся локальной политикой, на самом деле всегда была очевидна высокая степень зависимости управленческой деятельности и реализации политических программ от локальных предпосылок. В заключение будет поставлен вопрос о том, какие существуют концептуальные возможности эмпирического изучения собственной логики городов.
Мой подход в данном случае – не совсем политологический; скорее это подход с позиций урбанистики и регионалистики, осведомленной в политологической области и открытой исследовательским интересам социологии, географии и наук о планировании.
2. Обновление политики снизу: новый взгляд
Чтобы определить собственную логику муниципального управления, необходимо классифицировать возможности действия, имеющиеся в локальной политике. Здесь будет уместен небольшой обзор прошлых дискуссий на эту тему, ведь вопрос обсуждался неоднократно и в разных контекстах. Так, в 80-е и в начале 90-х годов разговор о возможностях автономии на локальном уровне был связан с надеждой на обновление политики снизу или с идеей альтернативного ее осуществления снизу (Hesse 1986; Wollmann 1983). Локальная политика считалась экспериментальной площадкой в деле модернизации государства. Тогда это обосновывали тем, что государство частично перестало вмешиваться в некоторые политические области, и это поощряло (или заставляло – в зависимости от точки зрения) города находить собственные решения для локальных проблем – например, в области жилищной политики или политики в отношении занятости (по принципу “голь на выдумки хитра”). К тому же новые социальные движения бросали вызов традиционным моделям локальной политики, а поскольку приходилось решать проблемы, близкие каждому, возникала надежда, что муниципальные органы власти станут более эффективно реагировать на экономические и социальные структурные перемены (кризис социального государства, кризис управляемости – ср. сборники Heinelt/Wollmann 1991; Blanke 1991; Hesse 1986). Все это было обстоятельно описано на примерах из области локальной социальной политики и политики в области занятости (Blanke u.a. 1989). Но обычно изучение этой проблематики было привязано к вопросу о роли, которую могут и должны играть городские органы власти в модернизации государства и изменении общественного распределения задач. При этом говорилось, с одной стороны, что эти органы необходимо реформировать, а с другой – что они с энтузиазмом относятся к реформам и инновациям (Wollmann 1991: 25). В целом можно сказать, что в начале 90-х гг. шла очень острая дискуссия, в которой одни утверждали, что в условиях жестокого бюджетного кризиса и передачи всё большего числа функций на муниципальный уровень у городов не остается вообще никакой свободы действий, а другие – что в этих условиях города, наоборот, прямо-таки вынуждены решать проблемы самостоятельно[115]. Хойсерман считал, что как с исторической точки зрения, так и с точки зрения финансового положения городов вероятность появления чего-то радикально нового в муниципальной политике невысока (Häußermann 1991a; 1991b).
Вольман тоже считал, что “простор деятельности муниципальных органов власти по-прежнему в решающей степени определяется и ограничивается внешними экономическими и институциональными (правовыми, финансовыми и т. д.) условиями, на которые они не могут или почти не могут влиять” (Wollmann 1991: 27).
Иную позицию занимала Маргит Майер, которая – тоже в начале 90-х гг. – указывала на то, что локальные варианты политики, во-первых, можно наблюдать, а во-вторых, можно объяснять с помощью теории регуляции или теории “локального государства”. Опираясь на теорию регуляции, Майер отмечала расширение возможностей для самостоятельной деятельности городов в связи с постфордистской перестройкой экономических и общественных отношений. Важнейшей характеристикой постфордистской или “предпринимательской” муниципальной политики была попытка городов приобрести более отчетливый самостоятельный облик за счет создания различий и подчеркивания локальных потенциалов, пусть даже при этом некоторые города становились все более похожи друг на друга, а пространство их свободного действия по разным причинам бывало ограниченным. После эпохи фордизма, когда муниципальные органы власти рассматривались как функциональный и инструментальный дериват государства, важнейшими признаками новой, постфордистской эпохи стали регионализация, децентрализация и дифференциация. Во многих программах развития городов и регионов подчеркивалось значение социальных сетей, эндогенных потенциалов и инновативных социальных сред, т. е. региональные диспозиции и неперемещаемые социально-организационные структуры объявлялись предпосылкой успешного развития. Города, с одной стороны, были беззащитны перед этой трансформацией, но с другой – могли принимать участие в ее разработке: “Эта начавшаяся в процессе перестройки дифференциация типов городского развития изменила и локальное государство, при том что оно в первую очередь и выступало мотором этого процесса” (Mayer 1991: 39).
Локальным акторам приписывалась способность влиять на этот процесс перестройки локальной политики:
В самых разных политических сферах нащупываются институциональные возможности для контакта, описываются новые формы сотрудничества одних ведомств с другими и с акторами, находящимися вне системы муниципального управления, а также обнаруживаются “совершенно новые” коммунальные задачи. При этом значимость и перспективы этих “новаций” отнюдь не всегда ясны (Mayer 1991: 40).
Для развития собственной логики локальной политики всё это было релевантно постольку, поскольку задача муниципальных властей теперь заключалась уже не в исполнении порученных им обязанностей (в качестве “удлиненной руки” государства): они проводили активную политику развития городов, возможности для которой обнаруживались именно в зазорах и нишах германской системы федерализма. В их число входили и сотрудничество с частными акторами, и локальные административные реформы (перераспределение компетенций, слияние функций), а также целенаправленный поиск и использование локальных потенциалов и ресурсов. Впоследствии многими авторами было показано, что именно в эпоху растущей международной конкуренции особенно важно, чтобы на локальном уровне позиции удерживались с помощью подчеркивания местных особенностей и развития муниципальной политики на принципах предпринимательства. “Особенностью” в данном контексте могла быть и специфическая структура локального рынка труда, и высокое качество администрации, ее чуткость к запросам людей, и наличие особенных объектов культурной инфраструктуры, исторического наследия, образовательных или досуговых учреждений (Mayer 1996). Все это интерпретировалось как повышение ценности городов. Имелся в виду, правда, в основном город как новая координатная сетка экономической деятельности, но и локальная политика тоже не осталась незатронутой. Так, например, Роджер Кил в 1997 г. на конгрессе политологов в Бамберге сделал обстоятельный доклад, в котором призывал к “повышению значимости городов как мест политической деятельности в эпоху глобализации” (Keil 1998). Он указывал на новые формы государственного порядка и управления, складывающиеся на уровне “мировых”, или “глобальных”, городов. Более или менее успешные попытки европейских городов достичь решительного улучшения своих структур с помощью стратегий роста и образования коалиций на сегодняшний день описаны подробно, хотя оцениваются по-разному (Mouleart et al. 2003; Le Galès 2002). Но даже если результаты таких стратегий роста в значительной мере контингентны, они в любом случае являются политическими (Le Galès 2001: 170–171). Разработка индивидуального профиля для города считалась и считается легитимным политическим проектом, в то время как здания, заказанные “звездным” архитекторам, мега-постройки и особенно “флагманские” проекты считаются скорее делом элит или предсказуемых коалиций различных экономических и политических сил (Swyngedouw 2005; Harding 1995). При этом не только создаются новые альянсы между частными акторами и муниципальными властями в форме частно-государственных партнерств, но и разнообразные другие формы сотрудничества – сети, коалиции и т. д., – для которых в науке выработаны различные концепции (Judge et al. 1995). Правила совместной работы при этом не установлены, взаимодействие складывается само собой, как локальная модель упорядочивания. Самостоятельность – или собственная логика – прослеживается прежде всего в том, как институционализируются сотрудничество и координация локальных констелляций акторов и режимов (Lowndes 2001; Bogason 2000). Способность к коллективному действию и успех в решении проблем существуют в таких ситуациях поначалу лишь как гипотезы, и они не всегда подтверждаются. Случаи инклюзивных форм местного управления сравнительно редки (Mouleart et al. 2003). Если локальные группы акторов (а также режимы, коалиции), несмотря на фрагментацию, все же совместно вырабатывают стратегии, то собственная логика будет обнаруживаться не в последнюю очередь именно в этих процессах выработки стратегий. В зависимости от своего исторически сложившегося профиля города вырабатывают разные стратегии конкурентной борьбы за привлекательность. Каждый город – а в данном случае это значит: каждая коалиция экспертов, чиновников и политиков, объединившихся ради обеспечения роста, – находит свой собственный ответ на актуальные проблемы современности (Harloe et al. 1990).
Это, впрочем, лишь косвенно затрагивает вопрос о соотношении центральной и локальной политики или, иными словами, о том, где именно мы еще можем говорить о муниципальном самоуправлении, когда все уровни настолько переплетены между собой. Концепция собственной логики городов не нацелена на воскрешение политически самостоятельных городов-государств или муниципальной автономии. Сегодня лишь небольшая часть задач – те, что добровольно принимает на себя город, – может быть решаема локальными политическими структурами автономно.
Вряд ли кто-нибудь станет спорить с тем, что положение городов в государственной системе и растущее влияние законодательства Евросоюза в муниципальной сфере ограничивают автономность принятия политических решений в городе. Однако привязанность местных способов решения проблем к конкретному контексту делает возможными креативные альтернативные способы проведения в жизнь нормативов и распоряжений. Так, например, Вольфрам Лампинг в своем сравнительном исследовании Ганновера и Мюнстера показал, что разница между этими двумя городами заключается в том, как решают проблему отходов в Мюнстере, где существует мощная лево-альтернативная социальная среда (Lamping 1997: 59). Однако оба города, каждый по-своему, оказываются “островками инноваций” в вопросе обработки отходов, и обоим удалось в споре с земельными властями добиться соблюдения своих локальных политических приоритетов и собственных определений проблемы мусора (в данном случае речь шла о том, чтобы обходиться без его сжигания).
Муниципальная политика, разумеется, стеснена различными – в зависимости от сферы – ограничениями. Но, хотя в общем случае эта оценка верна, сравнительные эмпирические исследования много раз показывали, как по-разному города реагируют на схожие проблемы (Glock 2005; von Alemann u.a. 2005; Schridde 1997; Lamping 1997; Blanke u.a. 1989; Dente et al. 2005). В рамках заданных им условий, по всей видимости, города вырабатывают каждый свои подходы к проблемам и задачам.
Так, например, Хеннинг Шридде в своем сравнительном анализе немецких городов продемонстрировал целый ряд различий между локальными вариантами социальной политики в диахронном разрезе (Schridde 1997). Города явно формируют индивидуальные профили, интерпретируя и решая каждый по-своему проблему бедности и маргинализации. И в Мюнхене, и во Франкфурте-на-Майне, и в Гамбурге бедность рассматривается в контексте социальной и экономической модернизации. Однако если в Мюнхене борьба с бедностью и маргинализацией ориентировалась на “синхронную политику” 70-х годов, то во Франкфурте эти проблемы рассматривали как социально-культурное многообразие и мирились с ними как с неизбежным следствием модернизационного процесса. В Гамбурге осуществлялась стратегия “солидарного города”, т. е. уравновешивания социальных различий и разногласий с целью преодолеть тенденцию усиления социальной поляризации. А в Ганновере, например, социальные дисбалансы, возникшие в ходе общественных модернизационных процессов, трактовались наиболее влиятельными акторами локальной социальной политики как новые формы проявления прежнего вертикального социального неравенства между трудом и капиталом. В Дуйсбурге же, с одной стороны, тоже говорят о бедности и маргинализации как о проявлениях вертикального неравенства, но с другой – здесь бедность включается в общий кризис, охвативший весь город вследствие структурных трансформаций. При этом характерными особенностями местной социальной политики являются потенциал солидарности, которым обладает рабочее движение, а также традиционные формы социальной политики предприятий и корпоративистские альянсы местных институтов. Наконец, в Лейпциге, согласно наблюдениям Шридде, социальная политика определяется процессом трансформации и подчинена примату догоняющей модернизации (Schridde 1997).
Таким образом, предположение, что городам свойственны политические модели, подчиняющиеся их собственным логикам, и что поэтому при прочих равных условиях ими могут достигаться неодинаковые результаты[116], вошло в устоявшийся аргументационный канон исследований локальной политики. Интерес к собственной логике – это не возврат к угасшей дискуссии об автономии: от нее он отличается тем, что вопросы касаются особенностей локальных условий управления (“governance arrangements”). Их своеобразие в решающей степени зависит от того, как по-разному воспринимаются и интерпретируются в каждом городе современные социальные и экономические структурные перестройки, а также от того, какие в локальных сетях акторов протекают конфликты и процессы складывания консенсусов, какие существуют в каждом городе социокультурные контексты и социальные среды (Le Galès 2001; Healey et al. 2002). Это связано и со специфическими формами координации и кооперации, которые еще Маргит Майер описала в качестве составной части новой муниципальной политики и центр тяжести которых лишь отчасти располагается в законодательных собраниях городов (Mayer 1991; 1996; ср. также Cole/John 2001).
Поэтому вопрос о собственной логике городского управления не терпит замкнутых концепций. На него вряд ли возможно удовлетворительно ответить в рамках такого подхода, который учитывает только политические институты, администрацию и рамочные социально-экономические условия. В ходе недавней дискуссии о “local governance” и в исследованиях, вдохновленных англо-американской “теорией городских режимов управления” (“Urban Regime Theory”), внимание снова было обращено на местные общественные контексты и на захватывающие часть бизнес-сообщества сети как элементы локальных “governance arrangements” (Cole/John 2001; Haus et al. 2005). Таким образом, по крайней мере применительно к нескольким сферам деятельности, формальная институциональная рамка локальной политики могла использоваться для объяснения достигнутых эффектов лишь частично. Те неформальные, но все же устойчивые формы сотрудничества, которые существуют между частными и муниципальными акторами, заставляли в ходе дискуссии обращаться к неоинституционалистским теориям (Lowndes 2001; Bogason 2000; Haus 2005). Только при таком подходе к локальной политике можно наряду с формальными политическими институтами адекватно понять и наделить равноправным статусом и привычные практики администрирования, и неформальные, однако все же имеющие обязующую силу отношения между акторами. Как показывают сравнительные исследования, эти формы образования институтов очень разнятся между собой и всегда привязаны к локальным предпосылкам.
3. Трансформация локального управления как референтная точка сравнительного изучения городов
За минувшие годы произошла трансформация локального управления, осуществлявшаяся на основе концепции “governance” (зачастую неоднородной и нечеткой), и она стала общей системой отсчета в компаративной урбанистике. Публикаций по этой тематике так много, что здесь мы не будем углубляться в подробности (см. Cole/John 2001; Pierre 2005; Haus et al. 2005; Dente et al. 2005; Blatter 2007). Важен тот вывод, к которому пришли все эмпирические исследования: трансформация, обозначаемая понятием “governance”, протекает явно очень по-разному в разных местах, и ее совершенно невозможно описать просто как повышение значимости сетей, охватывающих различные сектора муниципальной политики. Это продемонстрировано как при изучении отдельных кейсов, так и в сравнительных исследованиях[117]. Ни на национальном, ни на международном уровне сравнения не зафиксировано гомогенизации локальных “government arrangements”; при этом не наблюдалось и ожидавшихся эффектов подражания (Nunes Silva/Syrett 2006; Cole/John 2001; Dente et al. 2005; Heinelt et al. 2005). Объясняется это не в последнюю очередь тем, что трансформацию локальных “government arrangements” всегда объясняли внешними причинами и локальными причинами, и в конечном счете за локальными причинами приходилось признать более важную роль (Cole/John 2001).
Примером удачного компаративного исследования, в котором целенаправленно учитывалось значение локальных факторов, может служить работа Алистера Коула и Питера Джона. Они проанализировали четыре города (два в Англии и два во Франции), сравнивая их с точки зрения трансформации локальных структур “governance” в двух политических сферах (Cole/John 2001; 1999). Был уточнен вопрос: можно ли считать институциональные рамочные условия национального уровня причиной разницы между структурами и потенциалами локальных политических сетей? Или же дело в особенностях каждой политической сферы, которые, возможно, сглаживают национальные различия? А может быть, для объяснения разницы главное значение имеет фактор локальности? Последнее ближе всего подходит к тому, что мы здесь именуем собственной логикой в локальной политике.
Авторы рассматривали две сферы: образование и поддержку бизнеса. Анализ привел их к выводу, что все три объяснения равноправны. Ни институциональная рамка, ни логика той или иной политической сферы, ни локальная собственная логика в одиночку дела не решают. Лишь в комбинации их можно найти удовлетворительные объяснения. Собственная логика городов проявляет себя в составе и дееспособности тех сетей, которые налагают определяющий отпечаток на местные “governance arrangements” (Cole/John 2001:150). Однако “локальный эффект” в экономической политике сильнее, чем в образовательной[118], поскольку в первой решающую роль играет необходимость вовлечения внешних акторов и открываются возможности институциональных контактов. А школа и вузы, особенно во Франции, рассматриваются как дело национальное и сильно интегрированы в государственную администрацию. Поэтому простора для деятельности здесь меньше.
И тем не менее исследование показывает, что значение локального фактора (или собственной логики городов) следует признать гораздо большим, нежели предполагают многие ученые. Как правило, оказывается недостаточно взять за ориентир для сравнительного изучения городов национальные рамочные условия и сферы муниципальной политики. Важно именно взаимодействие факторов – когда, например, институциональные реформы, такие как децентрализация во Франции, создают и поддерживают возможности для локального действия (Cole/John 2001: 152).
В другом исследовании, построенном по схожей схеме, сравнивались между собой Турин и Милан. Вопрос заключался в том, привел или не привел переход от “government” к “governance” (в смысле выстраивания устойчивых сетей, охватывающих несколько секторов) к внедрению инновационных практик или к успехам в развитии городов (Dente et al. 2005)[119]. Оба города пережили за рассматриваемый период схожие изменения в политической и институциональной сферах. В 80-е гг. для обоих считалась характерной некоторая слабость в деле осуществления стратегических проектов. Кроме того, в начале 90-х гг. оба города прошли фазу политической нестабильности, которая, правда, несколько сильнее ощущалась в Милане – ведь он и был исходной точкой процесса крушения итальянской партийной системы (ibid.: 46). Турин в конечном счете оказался более успешен в наращивании стратегической дееспособности – ярким проявлением этого стало проведение там Зимней Олимпиады 2006 г. С олимпийскими играми была связана реализация многочисленных инфраструктурных проектов, планировавшихся уже давно. Одновременно удалось добиться и частичного изменения имиджа города: Турин сумел приобрести репутацию одного из центров высокой ресторанной культуры и slowfood-движения. Свою роль в этом сыграли и память о традициях Савойской династии, и производимые в окрестностях города дорогие вина.
В Милане же, несмотря на множество попыток, практически не удалось преодолеть разобщенность акторов и институтов. Многочисленные проблемы региона (транспорт, загрязнение воздуха, разрастание города) по-прежнему ждут своего решения (cр. также Healey 2007).
Турин сумел по крайней мере обозначить свой путь в постиндустриальную эпоху (автозавод “Fiat”), в то время как Милан сотрясали политические скандалы. Кроме того, в Турине удалось, метафорически выражаясь, снова сделать ратушу центром муниципальной политики, тогда как в Милане основными силами в инициативах по развитию города были мощное гражданское общество и бизнес, однако эти инициативы в конечном счете были избирательными и фрагментарными.
Тем, как в них осуществлялась перестройка институтов и практик управления, Милан и Турин продемонстрировали две разные реакции на общественно-политическую и экономическую ситуацию, сложившуюся к началу 90-х гг. Исследователи считают, что решающим фактором в этом является неодинаковая плотность и сложность существовавших в них сетей “governance”[120].
Вместе с тем, обе эмпирические работы, о которых здесь было рассказано, не свободны от недостатков в том, что касается операционализации фактора “локальность”. В обеих содержатся ссылки на традиции и зависимость от предшествующего пути развития: “У каждого города своя культура и свои особые способы понимания внешнего мира” (Cole/John 2001: 150).
Но помимо этого “эффект локальности” концептулизирован слабо. Указывается на такие факторы, как идентичность, история, размер и расположение города, пространственная организация (количество районов и муниципалитетов, институциональная фрагментация), структура и положение местной экономики, состав локальных элит и то, как в данном городе проявляется “лидерский потенциал” (leadership) (Cole/John 2001: 150–151). Все это остается методологически туманным, собственная логика локальной политики в городе концептуально не очерчена. Никто не отрицал, что на локальную политику, наряду с институциональными условиями, соотношением политических сил, а также с политическими сферами, у каждой из которых есть собственная логика, оказывают влияние и другие контекстные факторы или ситуации. Но характер города рассматривался в этих исследованиях, как правило, по остаточному принципу, ведь они следовали принципу научной экономии “не надо объяснять акторами то, что можно объяснить институтами” (Mayntz/Scharpf 1995: 66). Тут встает вопрос: не связан ли поиск собственной логики всегда с некой междисциплинарной программой, которая заставляет включать в рассмотрение также категории, идеи и концепции из других дисциплин, не входящих в исконный политологический набор? (Ramadier 2004).
4. Поиск следов
Несмотря на существование эмпирических данных, указывающих на собственную логику локальной политики, явно не хватает концептуальной интеграции и систематического обсуждения этой концепции. У нас есть целый ряд исследований индивидуальных кейсов, детально описывающих развитие городской политики, но убедительная аргументация была бы возможна только на основе сравнительных исследований, в которых наряду с институциональными, национальными и региональными аспектами учитывались бы и многие другие категории (Denters/Mossberger 2005; Pierre 2005).
Рассматривая локальную политику, исследователи – особенно те, которые сравнивали города одной страны, – первостепенное внимание уделяли, как правило, различиям и локальному разнообразию, но при ближайшем рассмотрении обнаруживалась их концептуальная слабость в анализе специфичности локальных феноменов.
Если мы не хотим объяснять различия локальными отношениями власти или фактором большинства тех или иных политических сил, а также не хотим чисто дескриптивно рассказывать об отличиях одного кейса от другого, то у нас есть всего несколько способов описывать собственную логику городов систематически. Зачастую остается лишь один путь: называть ее “ситуативными факторами” (как в Mayntz/Scharpf 1995: 58) или “структурами политических возможностей” (Maloney et al. 2000: 809). Таким образом, поиск ответа на вопрос о различиях между городами идет скорее интуитивно. В научном мейнстриме, объясняя несходство в деятельности локальных властей, указывают на институциональные рамочные условия или на соотношение политических сил и партий, а также на зависимость от предшествующего пути развития или на традиции. Вне мейнстрима можно насчитать всего несколько попыток учета других факторов. Иными словами, поиск следов все же дает определенные результаты. Ниже будут представлены подходы, которые в большинстве своем были разработаны для того, чтобы найти ответ на некие определенным образом сформулированные вопросы и чтобы расширить набор возможных объяснений для различий в локальной политике. Это концепция “окрашенности арены” (Blanke/Heinelt/Benzler 1989), идея региональных стилей руководства (Fürst 1997), концепция гражданской активности и локального социального капитала (Cusack 1997; Haus 2002), а также концепция локальных порядков знания/KnowledgeScapes (Matthiesen 2006). Этот спектр составлен, разумеется, избирательно и никоим образом не претендует на полноту.
Концепция “окрашенности арены”
Попытку концептуализации собственной логики, ориентированную преимущественно эмпирически, представляет собой концепция “окрашенности арены”, которую Бланке, Хайнельт и Бенцлер разработали и применили в своих исследованиях локальной политики занятости (Blanke u.a. 1989). Объяснить нужно было широкое разнообразие мер против безработицы, принимавшихся в немецких городах в 80-е гг. С помощью имевшегося инструментария анализа политических решений (policy analysis) найти удовлетворительное объяснение не удавалось. Было очевидно, что “проблема” безработицы воспринималась в разных городах с разной степенью остроты и по-разному интерпретировалась, а вследствие этого по-разному ее и решали. Концептуально расширяя свой аналитический инструментарий, авторы пришли к идее “окрашенности арены”. Метафорически свойственный каждому городу особый путь выражался с помощью цветового оттенка каждой из политических арен, почти идентичных в плане институциональных условий, а отчасти и в плане состава акторов. Концептуально такая окрашенность обозначает комбинацию подвластных и не подвластных локальному влиянию факторов, обладающую определенной избирательностью: “Каждая арена получает свою специфическую окраску только благодаря комбинации всех названных элементов, т. е. как тех, которые локальные акторы никак не могут или почти не могут изменить, так и тех, на которые они могут оказывать влияние” (Blanke u.a. 1989: 538).
Окрашенностью локальной арены предрешается, какие действия и решения будут возможны: “В силу той или иной окрашенности арены будут учитываться лишь определенные аспекты проблемы безработицы, будут отслеживаться лишь определенные содержательные аспекты политики, будут приниматься определенные меры, задействоваться инструменты и привлекаться акторы, в то время как другие, по этой же причине, – не будут” (ibid.: 547).
Данная концепция ставит своей главной целью объяснить избирательное восприятие и подходы к решению проблем со стороны тех акторов, которые имеют господствующее влияние на рассматриваемой “арене”. Все акторы действуют в условиях, заданных тремя параметрами, которые они лишь в ограниченной степени могут менять: это проблема, финансовые возможности и административные/структурные возможности (Blanke u.a. 1989: 537). Окрашенность политической “арены” всегда локальна, потому что она возникает из специфического сочетания дискурсивных, ресурсных и институциональных факторов. Можно также сказать, что она следует локальной собственной логике. У этой концепции появляется легкий конструктивистский оттенок, когда авторы констатируют, что проблема безработицы по-разному воспринимается и интерпретируется акторами. За счет этого к анализу политики добавляется еще одна категория, которая позволяет учитывать в качестве отдельных критериев влияние господствующих акторов на восприятие и дефиницию проблем, что во многом и предопределяет их решение. В проведенном тогда авторами сравнительном исследовании удалось таким способом обнаружить и объяснить различия в содержании и структуре локальных мероприятий по борьбе с безработицей, например, в Дортмунде и в Мюнхене. В Дортмунде безработица была связана с кризисом всей горнодобывающей отрасли и поэтому не рассматривалась как проблема отдельных групп: ее можно было представлять как предмет ответственности всего общества в целом. Свою роль в этом сыграла и сильная позиция профсоюзов, типичная для горно-металлургической промышленности. В Мюнхене же безработица, которая росла – по тогдашним мюнхенским меркам – очень быстро, интерпретировалась как проблема отдельных групп: женщин, молодежи, пожилых людей, мигрантов; соответственно, на институциональном уровне ею занимались избирательно (Blanke u.a. 1989: 538).
Здесь видны региональные различия в местной “окрашенности арены”, проявившиеся вопреки или, наоборот, благодаря изменениям федерального законодательства в начале 80-х гг., когда на города были переложены расходы по социальному обеспечению. Варианты решения этой проблемы различаются в зависимости от локальной/региональной политической культуры, и иногда политики, состоящие в одной и той же партии, подходят к ней в разных местах по-разному (Blanke/Benzler/Heinelt 1989: 540ff.).
Региональные стили руководства
С помощью концепции региональных стилей руководства Дитрих Фюрст попытался операционализировать то, что понятию “культура”, на его взгляд, было не под силу, – а именно тот факт, что региональные ментальности и ценности могут оказывать значительное влияние на успех новых инициатив в области регионального развития (Fürst 1997: 195). Это происходит в рамках утвердившейся в 90-е гг. парадигмы автономного регионального развития, которая имела своей целью регионализацию поддержки бизнеса и мобилизацию эндогенных потенциалов. Она оказывала определяющее влияние на региональную политику в течение многих лет (ibid.). Тот факт, что регионы достигали неодинаковых успехов, явно не поддавался удовлетворительному объяснению с помощью прежних концепций. Таким образом, Фюрст вел трудный поиск ответа на простой вопрос: почему, “невзирая на одинаковую административную структуру, одни регионы обладают лучшей способностью конструктивно подходить к возникающим проблемам и управлять собой, чем другие” (Fürst 1997: 199).
Региональные стили руководства Фюрст описывает как нормативные и когнитивные диспозиции, которые могут быть, например, патерналистскими или демократически-кооперативными и, соответственно, в конечном счете указывают на соотношение между государственными и приватными акторами в региональной политике. Эмпирической проверки этой концепции осуществлено, к сожалению, не было. Концепция стилей управления, или стилей политики, получила в целом лишь ограниченное развитие в политологии (Richardson et al. 1982), но она вполне годится для того, чтобы концептуализировать региональные или городские различия. Однако ее теоретическая проработка недостаточна, она не выходит за пределы простого деления политических стилей на распределительные и перераспределительные, а на более высоких уровнях никто не пытался отграничить ее от более крупных концептов, таких как “культура”. Ханс-Георг Велинг относит к политической культуре те “системы верований, установки, ценности и ментальности, которые влияют на политическое поведение” (Wehling 1993: 91). Основанное на таком определении понятие “локальной политической культуры” часто привлекалось, когда озадаченные авторы не знали, чем объяснить явные различия, наблюдаемые в практике регионов и городов (Heinelt et al. 2005: 13; Blanke u.a. 1989: 540f.). Так, например, Ульрих фон Алеманн указывает, помимо всего прочего, на локальную политическую культуру как на причину того, что в четырех районах одного города были по-разному применены техники прямой демократии (von Alemann u.a. 2005: 229f.).
Изучение феномена “governance”, обращающее внимание на политические стили и культуры, получает поддержку со стороны исследований по региональным ментальностям и социальным средам (Matthiesen 1998; Vester u.a. 2001: 253f.; Lindner 1994). Однако до сих пор оно почти не применялось для объяснения локальной политики. Подходы, выделяющие локальные политические стили, политические культуры (если не считать тех, которые связывают разницу с доминирующими партиями или языковыми различиями, например, в Канаде), региональные ментальности, этосы политической деятельности и социальные среды никто никогда систематически не сводил воедино, и они практически не вошли в арсенал методов изучения локальной политики.
Гражданская активность и локальный социальный капитал
Понятие социального капитала было привлечено Робертом Патнэмом и его исследовательской группой, помимо всего прочего, ради того, чтобы объяснить, почему административная реформа, проведенная по всей Италии, привела в разных регионах страны к совершенно несхожим результатам в том, что касается эффективности управления (Putnam 1993 [рус. изд. Патнэм 1996 – прим. пер.]). Неодинаковый успех реформ, считают Патнэм и его сотрудники, связан с тем, что в разных регионах наличествуют разные формы и разное количество социального капитала, который, выступая как своего рода эквивалент общества, оказывает влияние на эффективность и легитимность администрации.
Связь с темой собственной логики здесь в том, что такой фактор, как “гражданственность”, или “демократическая культура”, отражает наличие локальных ассоциаций и активность членов гражданского общества. Социальному контексту политических институтов (или демократической культуры) отводится не меньшая роль, чем им самим, – и в этом отличие данной концепции от чисто институционалистского подхода. Она предлагает многообещающую альтернативу такому подходу, если только нас интересует не чисто количественный подсчет и измерение эффективности гражданских добровольных объединений, а еще и содержательная сторона их деятельности. Ведь социальный капитал не везде одинаков, и именно благодаря своей укорененности в локальных гражданских сетях и ассоциациях он мог бы дать нам ключ к расшифровке процессов, подчиненных собственной логике городов и регионов. Он позволяет выявлять различия и объяснять непохожие способы решения проблем, поскольку с этой концепцией можно связать не только масштабы и структуру, но и содержание деятельности ассоциаций. Проблематика, очерченная Патнэмом, была впоследствии схожим образом проработана на материале многих других стран, в том числе и в одном сравнительном исследовании социального капитала германских городов (Cusack 1997). В нем с помощью количественного анализа тезисы Патнэма были подтверждены, но более подробное описание специфических взаимоотношений между социальным капиталом и локальным формированием институтов было снова оставлено другим исследователям, занимающимся отдельными кейсами (Maloney et al. 2000).
Локальные порядки знания / KnowledgeScapes
Опираясь на различные концепции и теории, Ульф Маттизен значительно расширил идею городского развития, основанного на знании, и обеспечил возможность ее применения в исследовании локальной политики. Он понимает KnowledgeScapes как гибридную смесь из типов интеракций (социальных сред, сетей) и комбинаций знания, которые могут оказаться важными факторами, влияющими на локальные практики управления и принятия решений. KnowledgeScapes или порядки знания можно привязывать к конкретным социально-пространственным контекстам, таким как города и регионы (Matthiesen 2006). Они образуют наличный (и обладающий, как правило, лишь временной устойчивостью) запас доминирующих оценок ситуаций, интерпретативных паттернов, возможных путей решения проблем, а также альтернативных способов действия. Понятие “порядок знания”, сформулированное с опорой на Фуко, подчеркивает в данном контексте существующие иерархии различных видов знания (например, экспертные культуры vs. обыденное знание), которые не одинаковы по своей внутренней структуре и по своим притязаниям на значимость (Wehling 2004)[121].
“Локальные порядки знания”, особенно в интерпретации Ульфа Маттизена, не тождественны тривиальному локализму. Локальное знание как специфическое знание о местных взаимосвязях и контекстах, которое откладывается и в форме рутинных действий и привычных практик, а также в форме институтов и организаций, не противостоит глобальным экспертным культурам как нечто, несовместимое с ними (как считает Fischer 2000), а вступает с ними порой в гибридные связи и ситуативные комбинации (Matthiesen 2006). Локальные KnowledgeSсарes вместе с сообществами знания, которые выступают их носителями, и с “governance arrangements” образуют структуру возможностей для преодоления проблемных ситуаций. По крайней мере, на основе специфических порядков знания и “governance arrangements” можно идентифицировать в городах разные стили или собственные логики обращения с проблемами. В таком случае собственная логика означает, что управленческие практики (performance) следуют специфическим местным закономерностям и комбинациям знания.
Когда подход, ориентированный на анализ порядков знания, применяется в исследовании локальных проблемных конструкций, он представляет собой многообещающую перспективу, особенно в сочетании с интерпретативным подходом анализа комплексных политических мер (Nullmeier 1997, Nullmeier/Rüb 1994). Если понятие знания использовать дифференцированно, то в поле зрения исследования попадут как фрейминг и рефрейминг локальных проблемных ситуаций, так и обыденное знание, релевантное для локальных процессов образования институтов. Институты – в широком понимании, как каркас социальных правил, – задают критерии адекватности поведения. Кроме того, они являются результатом накопления исторического опыта или рутинизации в обращении с проблемами: “Институты в своей эксплицитной и имплицитной форме есть аккумулированное и направленное на решение проблем знание” (Nullmeier/Rüb 1994: 51). Как показывают новейшие теории институциональности, подобного рода подход не обязательно игнорирует динамику знания: он позволяет увязывать ее с трансформацией институтов. Таким образом, дискурсивный или конструктивистский институционализм делает возможным динамичное видение общественных форм и практик управления и организации и обеспечивает связку с политологией знания (Schmidt 2005).
5. Заключение
Вопрос о собственной логике городов связан с изменением аналитического подхода. Если понятие “governance” не использовать просто огульно для всех эмпирически обнаруживаемых новых форм управления, а связывать его с современными институционалистскими теориями, то оно позволяет описывать собственную логику городского управления, не упуская при этом из виду материальные ограничения, с которыми связаны возможности немецких муниципалитетов. При этом становится очевидно, что называемая словом “governance” форма институционализации коллективного действия – например, в виде коалиций акторов, составленных ради обеспечения городу роста, или в виде городских режимов, – указывает нам на необходимость анализа собственной логики городов, которую мы не увидим ни во включенности в многоуровневые переплетения, ни в глобальных императивах (Elkin 1987; Stone 2001; Stoker 2000). Поэтому вопрос об автономии муниципальных образований отсылает нас к одному предмету, а вопрос о собственной логике городов – к другому. Состоявшаяся в начале 90-х гг. дискуссия о муниципальной автономии проходила, так сказать, еще в русле старого институционализма, который за минувшее десятилетие все больше и больше уступал место новым вариантам институционалистского подхода (Lowndes 2001; Bogason 2000: Haus 2005). Этот подход позволяет анализировать процесс локального институционального развития в том числе и вне жестких рамок формальных политических институтов. В последние годы уже неоднократно была продемонстрирована собственная логика городов, проявляющая себя в образовании новых институциональных констелляций на локальном уровне (Cole/John 2001).
В таких обстоятельствах вопрос о том, нужно ли защищать муниципальное самоуправление от посягательств государства, превращается скорее в барьер на пути к пониманию того, что может иметься в виду под собственной логикой. Разумеется, специфический “стиль” каждого города зависит от рамочных условий, таких как финансовая ситуация или законодательство, на которые практически невозможно повлиять на локальном уровне и которые поэтому могут считаться независимыми переменными. При сравнительном исследовании городов, нацеленном на изучение их собственной логики, эти переменные (рамочные условия государственного уровня и логики, специфичные для каждого сектора) необходимо контролировать. Отсюда вытекает необходимость компаративного многоуровневого подхода, позволяющего рассматривать влияние “общенациональной инфраструктуры” (national infrastructure) отдельно от местных особенностей (Sellers 2005; Denters/Mossberger 2006: 554). Так можно было бы избежать “ловушки локальности” (locality trap), или методологического локализма, т. е. стремления в конечном счете для всего найти локальные объяснения.
До сих пор редко предпринимались попытки заимствовать идеи из других дисциплин. Такие концепции, как “габитус города” или “этос региона” (Lindner 2005; Lindner 1994), пока не проявили способности к “пристыковке”. Концепция региональных стилей политики или руководства (Fürst 1997) тоже на данный момент представляет собой не более чем побуждение к размышлению, хотя и весьма интересное. Кроме того, фактор знания еще не учитывается в должной мере в исследованиях по локальной политологии. А между тем именно в своем локально-контекстуальном проявлении этот фактор, возможно, обладает высоким объяснительным потенциалом применительно к рассматриваемой нами проблематике.
Литература
Blanke, Bernhard (1991) (Hg.), Staat und Stad // PVS-Sonderheft, 22, Opladen.
Blanke, Bernhard/Benzler, Susanne/Heinelt, Hubert (1989), Arbeitslosigkeit im Kreislauf der Politik. Eine konzeptionell erweiterte Policy-Analyse zur Erklärung unterschiedlicher Aktivitäten gegen Arbeitslosigkeit auf lokaler Ebene // Gegenwartskunde, 4, S. 529–560.
Blatter, Joachim (2007), Governance – theoretische Formen und historische Transformationen, Baden-Baden.
Bogason, Peter (2000), Public Policy and Local Governance, Cheltenham.
Cole, Alistair/John, Peter (2001), Local Governance in England and France, London.
Cusack, Thomas R. (1997), Social Capital, Institutional Structures, and Democratic Performance: A Comparative Study of German Local Governments, WZB FS III, p. 97 – 201.
Dente, Bruno/Bobbio, Luigi/Spada, Alessandra (2005), Government or governance of urban innovation // DISP, 162; 3/2005, p. 41–52.
Denters, Bas/Mossberger, Karen (2005), Building blocks for a methodology for comparative urban political research // Urban Affairs Review, vol. 41, 4, p. 550–571.
Elkin, Stephen L. (1987), City and regime in the American Republic, Chicago [et al.].
Fischer, Frank (2000), Citizens, Experts, and the Environment. The Politics of Local Knowledge, Durham/London.
Fürst, Dietrich (1997), Humanvermögen und regionale Steuerungsstile // Staatswissenschaften und Staatspraxis, 6, S. 187–204.
Glock, Birgit (2005), Umgang mit Schrumpfung. Reaktionen der Stadtentwicklungspolitik in Duisburg und Leipzig // Gestring, Norbert/Glasauer, Herbert/Hannemann, Christine/Petrowsky, Werner/Pohlan, Jörg (Hg.), Jahrbuch Stadtregion, Wiesbaden, S. 71–91.
Harloe, Michael/Pickvance, Chris/Urry, John (1990) (Eds.), Place, Policy and Politics, London.
Harding, Alan (1995), Elite Theories and Growth Machines // Judge, D./Stoker, G./Wolman, H. (1995) (Eds.), Theories of Urban Politics, London, p. 35–53.
Haus, Michael (2002), Einleitung: Lokale Politikforschung als Frage nach Bürgergesellschaft und sozialem Kapital // Haus, M. (2002) (Hg.), Bürgergesellschaft, soziales Kapital und lokale Politik. Theoretische Analysen und empirische Befunde, Opladen, S. 9 – 29.
Haus, Michael/Heinelt, Hubert/Stewart, Murray (2005) (Eds.), Urban Governance and Democracy, London.
Häußermann, Hartmut (1991a), Lokale Politik und Zentralstaat. Ist auf kommunaler Ebene eine “alternative” Politik möglich? // Heinelt, Hubert/Wollmann,
Hellmut (1991) (Hg.), Brennpunkt Stadt, Basel u.a., S. 52–91.
– (1991b), Die Bedeutung “lokaler Politik” – neue Forschungen zu einem alten Thema // Blanke, B. (1991) (Hg.), Staat und Stadt, Opladen, S. 35–50.
Healey, Patsy (2007), Urban Complexity and Spatial Strategies. Towards a relational Planning for our times, London.
Healey, Patsy/Cars, Göran/de Magalhães, Claudio/Madanipour, Ali (2002), Transforming Governance, Institutional Analysis and Institutional Capacity // Cars, Göran/Healey, Patsy/Madanipour, Ali/de Magalhães, Claudio (2002) (Eds.), Urban Governance, Instituional Capacity and Social Milieux, Aldershot, p. 6 – 28.
Heinelt, Hubert/Sweeting, David/Getimis, Panagiotis (2006) (Eds.), Legitimacy and Urban Governance.
Holtkamp, Lars (2007), Kommunen im Reformfieber. Ursachen, Ausmaß und Folgen von Partizipations – und Ökonomisierungstrends // Wolf, Klaus-Dieter (Hg.), Staat und Gesellschaft – fähig zur Reform?, Baden-Baden, S. 127–149.
Judge, David/Stoker, Gerry/Wolman, Harold (1995) (Eds.), Theories of Urban Politics, London.
Keil, Roger (1998), Globalization makes states: perspective of local governance in the age of world city // Review of International Political Economy 5; 4, p. 616–446.
Lamping, Wolfram (1997), Mit Phantasie die Ketten der Hierarchie abstreifen – am Beispiel der kommunalen Umsetzung der Technischen Anleitung Siedlungsabfall // Heinelt, Hubert/Mayer, Margit (Hg.), Modernisierung der Kommunalpolitik. Neue Wege zur Ressourcenmobilisierung, Opladen, S. 48–67.
Le Galès, Patrick (2001), Urban governance and policy networks: on the urban political boundedness of policy networks. A French case study // Public Administration, vol. 79, 1, p. 167–184.
– (2002), European Cities – Social Conflicts and Governance, Oxford 2002.
Lindner, Rolf (1994), Das Ethos der Region // ders. (Hg.), Die Wiederkehr des Regionalen, Frankfurt am Main, S. 201–231.
– (2003), Der Habitus der Stadt – ein kulturgeographischer Versuch // PGM, Zeitschrift für Geo – und Umweltwissenschaften, 147, 2, S. 46–53.
Lowndes, Vivien (2001), Rescuing Aunt Sally: Taking Institutional Theory Seriously in Urban Politics // Urban Studies, vol. 38, 11, p. 1953–1971.
Maloney, William/Smith, G./Stoker, Gerry, (2000), Social capital and urban governance: Adding a more contextual “top-down” perspective // Political Studies, 48, p. 802–820.
Matthiesen, Ulf (1998) (Hg.), Die Räume der Milieus, Berlin.
– (2006), Raum und Wissen. Wissensmilieus and KnowledgeScapes als Inkubatoren für zukunftsträchtige stadtregionale Entwicklungsdynamiken? // Tänzler, Dirk/Knoblauch, Hubert/Soeffner, Hans-Georg (Hg.), Zur Kritik der Wissensgesellschaft, Konstanz, S. 155–188.
Mayer, Margit (1991), “Postfordismus” und “lokaler Staat” // Heinelt, Hubert/Wollmann, Hellmut (1991) (Hg.), Brennpunkt Stadt, Basel u.a., S. 31–51.
– (1996), Postfordistische Stadtpolitik // Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie, Jg. 40, Heft 1–2, S. 20–27.
Mayntz, Renate/Scharpf, Fritz W. (1995), Der Ansatz des akteurszentrierten Institutionalismus // Mayntz, R./Scharpf, F. W. (Hg.): Gesellschaftliche Selbstregulierung und politische Steuerung, Frankfurt am Main/New York, S. 39–72.
Moulaert, Frank/Rodriguez, Arantxa/Swyngedouw, Erik (2003) (Eds.), The Globalized City, Oxford.
Nassmacher, Hiltrud/Nassmacher, Karl-Heinz (1999), Kommunalpolitik in Deutschland, Wiesbaden.
Nullmeier, Frank/Rüb, Friedbert W. (1994), Die Transformation der Sozialpolitik, Frankfurt am Main.
Nullmeier, Frank (1997), Interpretative Ansätze in der Politikwissenschaft // Benz, A./Seibel, W. (Hg.), Theorieentwicklung in der Politikwissenschaft – eine Zwischenbilanz, Baden-Baden, S. 101–145.
Nunes Silva, Carlos/Syrett, Stephen (2006), Governing Lisbon: Evolving Forms of City Governance // International Journal of Urban and Regional Research, vol. 30, 1, p. 98 – 119.
Pacchi, Carolina/Spada, Alessandra (2007), Innovatività e governance: quattro città italiane al passaggio degli anni Novanta, unveröffentliches Manuskript, DIAP, Politecnico di Milano.
Pierre, Jon (2005), Comparative Urban Governance. Uncovering Complex Causalities // Urban Affairs Review, vol. 41, 4, p. 446–462.
Putnam, Robert D. (1993), Making democracy work. Civic traditions in modern Italy, Princeton [рус. изд.: Патнэм, Роберт (1996), Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии, Москва. – Прим. пер.].
Ramadier, Thierry (2004), Transdisciplinarity and its challenges: the case of urban studies // Futures, vol. 36, p. 423–439.
Richardson, J. J./Gustafsson, G./Jordan, A. G. (1982), The concept of policy style // Richardson, Jeremy (Ed.), Policy Styles in Western Europe, London.
Schmidt, Vivien A. (2005), Institutionalism and the state // Hay, Colin/Marsh, David/Lister, Michael (Eds.), The State: Theories and Issues, Basingstoke.
Schridde, Henning (1997), Lokale Sozialpolitik zwischen Integration und Ausgrenzung // Zeitschrift für Sozialreform, 11–12/1997, S. 872–890.
Sellers, Jeffery (2005), Re-Placing the Nation. An Agenda for Comparative Urban Politics // Urban Affairs Review, vol. 41, 4, p. 419–445.
Stoker, Gerry (2000), Urban politicial science and the challenge of urban governance // Pierre, J., (Ed.), Debating Governance, Oxford, p. 91 – 109.
Stone, Clarence N. (2001), The Atlanta Experience Re-examined: The Link between Agenda and Regime // International Journal of Urban and Regional Research, vol. 25, 1, p. 20–34.
Swyngedouw, Erik (2005), A “New Urbanity”? The ambiguous politics of argescale urban development projects in European cites // Salet, Willem/Stan, Majoor (Eds.), Amsterdam Zuidas – European Space, Rotterdam, p. 61–79.
Vester, Michael/von Oertzen, Peter/Geiling, Heiko/Hermann, Thomas/Müller, Dagmar (2001), Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel, Frankfurt am Main.
Von Alemann, Ulrich/Gehne, David H./Strünck, Christoph (2005), Lokale Politische Kultur und die Krise der Repräsentation // Behrens, Fritz/Heinze, Rolf G./Hilbert, Josef/Stöbe-Blossey, Sybille (2005) (Hg.), Ausblicke auf den aktivierenden Staat, Berlin, S. 219–240.
Wehling, Hans-Georg (1993), The Significance of Regional Variations: The Case of Baden-Württemberg // Berg-Schlosser, Dirk/Rytlewski, Ralf (Eds.), Political Culture in Germany, Houndmills, p. 91 – 101.
Wehling, Peter (2004), Reflexive Wissenspolitik: Öffnung und Erweiterung eines neuen Politikfeldes. Technikfolgenabschätzung // Theorie und Praxis, 13, Heft 3, S. 63–71.
Wollmann, Hellmut (1983), Implementation durch Gegenimplementation von unten // Mayntz, Renate (Hg.), Implementation politischer Programme II, Opladen.
– (1991), Entwicklungslinien lokaler Politikforschung – Reaktionen auf oder Antizipation von sozio-ökonomischen Entwicklungen // Heinelt, Hubert/Wollmann, Hellmut (1991) (Hg.), Brennpunkt Stadt, Basel u.a., S. 15–30.
– (2002), Die traditionelle deutsche kommunale Selbstverwaltung – ein “Auslaufmodell”? // Deutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaften, Jg. 41, Heft 1, S. 42–51.
Yin, Robert K. (1994), Case Study Research, Thousand Oaks.
“Обычные” африканские города и их собственная логика Седрик Янович
1. Введение
В научной литературе парадоксальным образом словно бы отсутствуют и Африка, и такой объект исследования, как город: Георг Брунольд пишет, что “Африки не существует” (1994), этнолог Мишель Лейрис, много лет проведший там в экспедициях, до конца дней считал Африку “фантомом”[122] (Leiris 1985); точно так же Энтони Кинг констатирует, что “there is no such thing as city” (King 1996: 1; курсив в оригинале). Оба правы и неправы в одном: Африка существует, но не как воплощение евроцентристского идеализированного представления о некоей гомогенной и аутентичной африканской культуре, а лишь в многообразии своих локальных контекстов. И “Города” в урбанистике, как это ни парадоксально, тоже нет. Урбанистике приходится не просто анализировать город как фокус общественных процессов и, стало быть, как дериват структур более высокого уровня, а высказываться “о собственной логике городов, о городе как отдельном объекте знания” (Berking/Löw 2005: 12). Тем, кто занимается социологией города, необходимо обратить внимание на традицию “городской антропологии” (urban anthropology), где Ульф Ханнерц (Hannerz 1980) провел различие между “антропологией в городе” (anthropology in the city) и “антропологией города” (anthropology of the city). Посредством этой дифференциации он указал на то, как трудно теоретически адекватно описать феномен города и при этом ухватить специфику какого-то конкретного города и связанной с ним проблематики. Существует – особенно в англосаксонской урбанистике – “предпочтение, отдаваемое малым пространствам” (Lindner 2005: 58). Его бесспорное преимущество заключается в том, что исследователь может сосредоточить внимание на гомогенных и обозримых единицах, но его столь же очевидный недостаток – в том, что при этом утрачивается то специфически городское, что было в намеченной исследовательской проблеме: ведь в конечном итоге и каждое данное исследование, и то, что мы благодаря ему узнали, могло иметь место и в совсем другом городе. Поэтому всякое исследование, которое всерьез учитывает контекст конкретного города, должно не в последнюю очередь адекватно учесть и историческую эволюцию тех или иных проблем. В виде программного тезиса это можно сформулировать так: “Вместо того, чтобы отображать группу, антропологам нужно отображать целое, то есть – город […] так как антропология городской жизни может сказать что-то новое тогда и только тогда, когда она может отобразить место, исторический момент” (Peattie/Robbins 1984: 95).
При этом необходимость выработки адекватной теории города ни у кого при нынешнем движении населения вопросов не вызывает. По всей вероятности, никакой другой демографический процесс не изменит условия жизни людей так фундаментально, как непрекращающаяся всемирная урбанизация. Она представляет собой один из главных общественных процессов последних 150 лет. Уже сейчас население городов увеличивается более чем на 60 миллионов человек в год, и, по оценкам ООН, с середины 2006 г. впервые в истории человечества обитатели городов или городских агломераций стали составлять большинство жителей Земли (UN 2006).
Основная динамика мировых урбанизационных процессов приходится почти исключительно на южные регионы, на так называемые “города третьего мира”. На африканском континенте наблюдается такой темп роста городского населения, какого в истории еще никогда не было. Однако удовлетворительного теоретического осмысления этой головокружительной динамики в мировой урбанистике пока явно не хватает. В научных дискуссиях на международном уровне превалируют недостаточно комплексные подходы: либо выдвигается тезис о “конвергенции схемы и структуры африканских городов” (Simon 2001: 140), либо сочиняются красочные апокалиптические сценарии, пророчащие “наступление анархии” в городских ареалах Африки (Kaplan 1996). Невозможно не заметить, что пути африканской урбанизации и возникающие в ее ходе городские формы по многим пунктам не вписываются в наши привычные схемы восприятия и классификации, которыми мы привыкли интерпретировать городские агломерации. Может быть, это одна из причин, в силу которых “по-прежнему очевидно, что мы плохо понимаем и недостаточно изучаем процесс урбанизации и динамику городов к югу от Сахары” (Myers 2005: 4).
Ниже я вначале представлю краткий обзор мировых урбанизационных процессов, затем обобщенно расскажу о теории “обычного города” – особенно в том виде, как она разрабатывалась Дженнифер Робинсон, – и представлю эвристическую схему “собственной логики” городов, разработанную Мартиной Лёв и Хельмутом Беркингом. Эта схема, в противоположность тезису о гомогенизации городских агломераций, гласит, что развитие городов можно понять лишь как специфичное для каждого случая сочетание местных культур и исторических взаимосвязей, элементов колониального наследия и постколониальных процессов, а потому с необходимостью предполагает гетерогенность путей развития городов.
2. Мир становится городом
Если присмотреться к дискуссиям, которые идут в западной социологии по поводу города как объекта познания, то обнаруживается еще одна их особенность, кажущаяся парадоксальной: широко распространены утверждения о “распаде города” (Siegel 1996), о “конце городов” (Tourraine 1996), о связанной с этим “дезурбанизации” (Herlyn 1998) – какой контраст с упомянутой выше картиной непрекращающейся всемирной урбанизации! О причинах этого кажущегося противоречия еще будет сказано ниже. А сейчас вернемся к количественным параметрам демографической динамики: нет сомнения, что наблюдаемый ныне процесс роста городского населения представляет собой исторически беспрецедентную пространственную реорганизацию человеческого населения планеты. Поэтому в докладе экспертов по развитию городов мира содержится многозначительный вывод: “Будущее человечества – в городах” (Hall/Pfeiffer 2000). Его значительность, несомненно, связана с тем, что с исторической точки зрения упомянутый выше переломный 2006 год следует рассматривать как начало новой эпохи: впервые в человеческой истории в городах стало жить больше людей, чем в сельской местности (Cities Alliance 2006). Такое развитие городских центров в самом деле дает основание признать известную убедительность этого тезиса. Урбанизация представляет собой один из главных общественных процессов последних 150 лет, и во всем мире наблюдается неуклонная тенденция в сторону роста городского населения. С 1950 по 2000 г. его численность возросла с 0,75 млрд. до 2,9 млрд. чел., соответственно, доля его в населении земного шара увеличилась за это время с 29 % до 48 % (UN 2002b: 1). Если эти темпы роста сопоставить со среднегодовым темпом прироста населения мира за последние 50 лет, то нельзя не заметить, что число городских жителей увеличивалось на 2,68 % в год, тогда как население Земли в целом – всего на 1,75 % (Schulz/Swiaczny 2003: 37). На сегодняшний день количество горожан растет более чем на 60 миллионов человек в год, и по расчетам ООН в 2025 г. около 60 % человечества будут жить в городах или городских агломерациях (UN 2002a). Тот факт, что в начале века в урбанизованных условиях жило всего 7 % населения (Berking 2002: 11), наглядно демонстрирует присущую этой социально-пространственной реорганизации головокружительную динамику. Похоже, что в XXI в. находит свое подтверждение гипотеза Лефевра, который еще в 1970-е гг. предсказывал “полную урбанизацию общества” (Lefèbvre 2003: 11).
Если изучать урбанизационные процессы более обстоятельно, то неизменно обнаруживается, что одной из их важнейших характеристик является неравномерное географическое распределение (см. илл. ниже). В то время как в развитых странах урбанизация стагнирует или обращается вспять, развитие городов в Азии, Африке и Латинской Америке – при всех различиях между отдельными странами – идет в неслыханных масштабах (ср. UN 2002a; UN-Habitat 2004; UN 2006). Доля городского населения в Азии с 2000 по 2020 г. предположительно вырастет с 38 % до 50 %, в Латинской Америке, где самый высокий уровень урбанизации на Земле, 85 % населения, согласно прогнозам, будет жить в городских агломерациях, а для Африки, где процесс переселения в города начался заметно позже, прогнозируется самый высокий в мире темп роста – 4 % в год. Если в настоящее время в городах живет около 37 % населения африканских стран, то к 2030 г. этот показатель достигнет уже 53 % (UN 2002b: 10).
Илл. 1: Географическое распределение урбанизационной динамики
Источник: UN Population Division 2003.
Таким образом, очевидна тесная взаимосвязь между паттернами развития населения планеты в целом и региональной динамикой урбанизационных процессов: как и рост населения вообще, рост населения городов имеет место практически только в малоразвитых и самых неразвитых странах. Поэтому почти весь прирост населения Земли в ближайшие десятилетия будет происходить исключительно в городских агломерациях (Population Information Program 2002; UN-Habitat 2004; UN 2006). За 80 лет с 1950 по 2030 г., по всей вероятности, сельское население во всем мире удвоится, городское же увеличится в шесть раз (Swiaczny 2005c: 25). По-прежнему около 83 % этого роста будет приходиться на города Азии и Африки, причем в Африке, где сегодня доля городского населения составляет 27 %, ожидаются самые высокие темпы его прироста.
В сельской местности, однако, все еще выше рождаемость, и поэтому следует ожидать непрекращающихся массовых миграций людей оттуда в города. Даже при том, что практически нет надежных источников данных об отдельных составляющих роста городского населения, предполагается, что ввиду неравномерного распределения естественного прироста между городом и деревней сохранится тенденция к преобладанию иммиграционной составляющей над естественным эндогенным ростом городского населения. В 1960-е гг. доля мигрантов в росте числа городских жителей составляла всего 40 %, в 70-е – уже 44 %, а к концу 80-х гг. достигла 64 % (Swiaczny 2005c). При этом нельзя не упомянуть о том, что соотношение этих двух составляющих обнаруживает значительные региональные различия. Так, урбанизационные процессы в Африке по-прежнему обеспечиваются преимущественно естественным приростом, тогда как стремительный рост азиатских агломераций в большей мере объясняется миграцией (ibid.: 24).
Таким образом, мы можем резюмировать, что в мире сосуществуют гетерогенные тенденции развития городских агломераций (ср. Swiaczny 2005c: 26). Для Европы общее демографическое развитие позволяет предсказать на период до 2030 г. небольшой (ок. 0,1 %) рост городов. В республиках бывшего СССР ожидается прирост от 0,5 до 1,5 процента в зависимости от региона, однако начиная с 2025 г. в связи с общим сокращением прироста населения эти показатели пойдут резко вниз. Для Латинской Америки, где уровень урбанизованности уже сейчас высок, предсказывается незначительный положительный или даже отрицательный прирост. В Индии, Китае и на Африканском континенте темпы роста городов непропорционально высокие – от 2,5 до 4,5 %.
3. От кризиса “городского” к “обычному” городу
Как на этот беспрецедентный процесс урбанизации реагирует социология города? Прежде всего следует сказать, что с точки зрения ее развития как научной дисциплины, она сама является порождением “города”. В социологии науки возникновение новой научной дисциплины объясняется реагированием на новые общественные проблемы, для которых требуется решение и которые невозможно решить с помощью имеющихся традиционных форм знания (ср. Nassehi 2008: 18). Американские и европейские города, стремительно разраставшиеся в эпоху индустриальной революции, были главным символом новых социальных условий, которые самому обществу, в котором они царили, казались чужими: это был мир, настолько “сбившийся с колеи” в связи с распадом и развалом всей сословной системы, что Великая Французская революция казалась по сравнению с этим детской игрой (Marx 1971: 343).
Поэтому едва ли приходится удивляться, что многие темы и вопросы, которыми занимались классики социологии, возникли в городском контексте и, таким образом, “город” представлял собой точку опоры для целого ряда теоретических подходов. При этом разные варианты теоретического осмысления городской проблематики с самого начала отражали то напряженное отношение, которое существовало между проявлениями тревоги и замешательства, вызванными промышленной революцией и связанными с ней фундаментальными трансформациями общества, с одной стороны, и беспрецедентными возможностями создания новых жизненных форм, с другой. У всех вариантов рефлексии по поводу города – у Маркса, писавшего о свободном в двояком смысле рабочем (Капитал, т. 1), у Зиммеля, полагавшего в 1903 г., что ему удалось вывести три главных критерия большого города (разделение труда, денежная экономика и размер – ср. Simmel 1995 [рус. изд. Зиммель 2002 – прим. пер.]), у Чикагской школы с ее социально-экологическим анализом городских пространств (ср. Park/Burgess/McKenzie 1925) – была общая черта: они исходили из того, что города во многих отношениях выступают своего рода линзами, фокусирующими социальные преобразования, но вместе с тем для адекватного понимания этих изменений пока не хватает самостоятельной теории города.
Колебание между тревогой и новыми возможностями оставило заметные следы и в определениях сути города (см. обзорную работу Schroer 2005). В наши дни еще бывает так, что понятие “городского” наполняют позитивными качествами, в силу чего оно “с самого начала [заключает в себе] эмансипационную составляющую” (Siebel 2000: 264). При этом город представляется как сосуд, содержащий некий особый образ жизни, который однозначно отличает “горожанина” от “сельского жителя”: “Городским (urban) мы называем утонченное, интеллектуализированное и дистанцированное поведение, разделение публичной и приватной жизни, работы и досуга” (Siebel 2004: 25). В качестве мерила используются при этом не столько вопросы качественного своеобразия городской застройки и пространства, сколько социокультурные критерии: по ним “городское” интерпретируется как высшее и наиболее совершенное воплощение культурного, цивилизованного образа жизни современного человека; в памяти вызываются картины красивой, хорошей жизни в городе (ср. Rötzer 1995: 114; Wefing 1998: 86). Особенно во влиятельной теории Салина, считавшего, что корни городской культуры следует искать в античности, эта культура отождествляется с открытостью миру, активной политической позицией и либеральным мышлением, ориентированным на свободу (ср. Salin 1960). Из-за своих позитивных коннотаций слово “городской” часто выступало в проектах градостроительного развития в качестве “волшебного слова”, конкретное содержание которого, как правило, не требовалось раскрывать (ср. Wüst 2004: 44). Такая интерпретация в конечном итоге служит и системой отсчета, в которой происходящие сегодня изменения толкуются – в сравнении с гипотетически удачными формами городской культуры прошлого – как “распад «городского»” (Keim 1997) и “конец цивилизованного города” (Eisner 1997).
Наряду с этим в принципе позитивным понятием городского исконно существует и другая его интерпретация – с позиций критики цивилизации. Со времени урбанизационной революции в Европе начала XIX в., если не раньше, социальная критика в адрес больших городов приняла весьма ожесточенный характер. Ее ключевыми словами стали “бескрайнее разрастание”, “чрезмерная плотность заселения”, “опасность эпидемий”, “хаос на дорогах”, “моральное разложение и пороки”, “голод и нищета”, “политически опасные низшие классы”, “мятежная чернь” и многое другое (ср. Held 2005: 232f.). За этим с самого начала стояли идеологически нагруженные дискурсы, вращавшиеся вокруг социальных нестроений, потому что “скопление людей […] всегда можно интерпретировать и как сборище, а инфекцию – как заражение чуждым духом, как насаждение взглядов, позиций и практик, противных данному обществу” (Ibid.). Далее, стоит обратить внимание на то, как диковинным образом смешивались друг с другом мифологизация дальних стран в популярной в XIX в. колониальной литературе о путешествиях, дискурс об индустриальном городе и “анималистичекая” риторика. Например, описания чикагских или лондонских кварталов бедноты в то время полны метонимий и метафор, рассказывающих о чужом, находящемся рядом с читателем, и о связанных с этим ужасах: жилища бедняков сравнивались с “пещерами”, “гнездами”, “рассадниками” и “крольчатниками”, в которых происходило не поддающееся контролю и беспорядочное размножение, а обследование бедных районов описывалось наподобие экспедиции по черному континенту в сердце тьмы; роль “дикарей цивилизации” при этом играли неимущие жители городов (Lindner 2004: 32). Этот критический дискурс на темы города и городской жизни прослеживается и в отстраненных наблюдениях Зиммеля (Simmel 1995 [рус. изд. Зиммель 2002]), и в размышлениях Тённиса о соотношении общности и общества (Tönnies 1991 [рус. изд. Тённис 2002 – прим. пер.]), и в трудах Майка Дэвиса (Davis 1994; 1999) и в новейших публикациях, посвященных разобщенности и маргинальности городского населения (Keller 1998; Häußermann/Kronauer/Siebel 2004). Во многих нюансах подобный дискурс сохранился до сегодняшнего дня, когда кризис города интерпретируется как его нарастающая неспособность функционировать в качестве “инклюзионной машины” (Nassehi 2002).
Какое отношение всё это имеет к африканским городам и их теоретическим описаниям? Самое прямое, потому что вплоть до недавнего времени этот возникший в особых, специфически европейских (или западных) условиях процесс урбанизации и относящиеся к нему теории города служили основой для интерпретаций и анализа африканских урбанизационных процессов. Прямым следствием такого подхода стало то, “что понимание «городского» (city-ness) в Африке стало базироваться на опыте (обычно не эксплицированном) сравнительно небольшой группы городов (преимущественно западных), и города незападные стали оцениваться на основе этого предзаданного (мирового) стандарта «городского»” (Robinson 2002: 531f.). Особенно в дискурсе развития долгое время имплицитно сохранялась в качестве доминирующего представления о “форме, функции и распределении городов” (Myers 1994: 196) евроцентристская модель развития и социальной трансформации. В силу такого взгляда африканские города нередко объявлялись “ненастоящими городами”, а теоретические подходы местных исследователей отметались как “ненаучные” (ср. Sanders 1992; Myers 1994). Таким образом, преобладает однозначно негативная оценка урбанизационных процессов в Африке. Роберт Каплан в своей статье, привлекшей много внимания и много критики, нарисовал резко отрицательную картину будущего африканских городов. Говоря о “разлагающих общественных эффектах жизни в городах”, он объявил прежде всего Западную Африку “символом того глобального демографического, социального и экологического бремени, из которого возникает криминальная анархия – подлинная «стратегическая» опасность” (Kaplan 1996: 54). Указывая на болезни, принимающие эпидемические масштабы, и на “перенаселение”, он называл Мальтуса[123] “пророком западноафриканского будущего” (ibid.: 53), которое, с его точки зрения, “явно близится к взрыву” (ibid.: 52). Такой пугающий сценарий, по мнению Каплана, должен был стать следствием заколдованного круга из перенаселения, хищнической эксплуатации природных ресурсов, маргинальной позиции (или отсутствия какой-либо значительной роли) Африки в мировой экономике, болезней (таких как ВИЧ/СПИД) и обусловленной бедностью преступности. Никакого объяснения этого заколдованного круга в статье не приводилось.
Столь же безнадежную картину нарисовал почти десять лет спустя Майк Дэвис в своей книге “Планета трущоб” (Davis 2007). Анализируя эволюцию городских ландшафтов в южных регионах, Дэвис сосредоточил внимание преимущественно на мегаполисах и на происходящем в них необычайно быстром разрастании трущоб[124]. Несмотря на то, что этой динамике, как кажется, предшествовали аналогичные процессы в Европе и Северной Америке XIX–XX вв., превращение горожан в жителей трущоб приобрело сегодня совершенно иные масштабы: вышедшее в 2003 г. исследование ООН “Проблема трущоб”, на которое Дэвис часто ссылается, показывает, что процент трущобного населения необычайно высок именно в африканских городах. Вот лишь три примера: в Эфиопии, Танзании и Чаде, согласно выводам этого исследования, доля городского населения, проживающего в трущобах, достигает почти невероятной цифры – более 90 %. По всему миру численность трущобных жителей оценивается в 900 миллионов человек – это более трети всех горожан (UNESCO 2006: 91). Сообщения такого рода поражают воображение не в последнюю очередь именно за счет того же, к чему апеллировала критика больших городов в Европе XIX–XX вв.: царящие сегодня в этих трущобах условия дают, как кажется, достаточно реальные наглядные свидетельства истинности подобных апокалиптических видений. Жилищные условия там во всех отношениях нездоровые, доступа к медицинской помощи нет, бедность крайняя, уровень преступности высокий, и т. д. Поэтому в отчете о “городском вызове XXI века” констатируется, что “городские ареалы в развивающихся странах – ключевой участок борьбы за достижение более высокого уровня жизни” (Population Information Program 2002: 1).
Если же мы обратимся к международным исследованиям по урбанизации, то они зачастую сосредоточивают свое внимание лишь на одном из наиболее зрелищных проявлений социально-географической трансформации – на мегаполисах. По классификации ООН от 1994 г., мегаполисы – это города, в которых проживают более 10 миллионов человек (ср. UN 1994). На фоне вышеописанных темпов урбанизации в южных регионах неудивительно, что, если не говорить о Токио, Нью-Йорке и Париже, такие города (из которых самые крупные – Лагос, Дакка, Макао, Гуанчжоу и др.) встречаются большей частью в развивающихся странах. Однако в русле теоретической традиции “новой городской социологии” (“New Urban Sociology”), объяснявшей процессы развития городов прежде всего капиталистической формой товарного производства, исследовательский интерес урбанистов сузился до изучения феномена “глобальных городов” (cp. Sassen 1991; 1996; Castells 1996 [рус. изд.: Кастельс 2000 – прим. пер.]). Согласно определению, “глобальные города” – это города, в которых расположены командные и контрольные органы компаний, ведущих бизнес в мировом масштабе. Самые современные отрасли сферы обслуживания – страхование, финансы, дизайн, юридические услуги, управление информационными системами и т. д. – составляют ядро всех городских экономических процессов. Эта концентрация хозяйственной деятельности в нескольких узловых пунктах привела к тому, что выстроилась иерархия городов относительно тех или иных видов услуг. Например, Саския Сассен в своем ставшем уже классикой исследовании показала, что в международной финансовой системе ведущее положение занимают Нью-Йорк, Токио и Лондон (ср. Sassen 1996). Таким образом, лейтмотивом международного изучения “глобальных городов” является вопрос о том, как изменяется роль экономически влиятельных городов в процессе реструктуризации хозяйственных отношений под воздействием глобализирующихся денежных и информационных потоков.
Непосредственным практическим результатом этой тенденции в научной теории явилось составление разнообразных карт, описывающих те или иные аспекты западных мегаполисов с числом жителей более 10 миллионов (ср. Knox/Taylor 1995; Sassen 1996; Noller 1999; Smith 2001). В то же время, на том месте в исследовательском ландшафте, где должно быть обстоятельное социологическое изучение мегаполисов Африки, пока наблюдается белое пятно (ср. Gugler 1996a; 1996b; Robinson 2005; Myers 2005). Таким образом, возникает впечатление, что из-за сосредоточения внимания на “глобальных городах” в теоретическом дискурсе о процессах урбанизации воспроизводится та же ситуация, что и в мировой экономике: города вроде Лагоса, Найроби или Киншасы и тут, и там оказываются в маргинальном положении. С точки зрения исследователей “глобальных городов”, они “экономически иррелевантны” (Knox 1995: 41), а значит за ними можно не признавать и структурной важности для урбанизационной теории. Это удивительно, поскольку реальные процессы развития городских регионов в странах Юга порождают такие социальные и экологические проблемы, в сравнении с которыми все обсуждаемые ныне феномены неравенства в социально-пространственных структурах городов Севера выглядят не столь уж значительными (ср. Häußermann/Kronauer/Siebel 2004). Кроме всего прочего, это означает, что большинство городского населения планеты просто не попадает в поле зрения исследователей (ср. van Naerssen 2001: 35). Более того: лишь незначительная часть горожан – всего 4,3 % (Schulz/Swiaczny 2003: 40) – живет в этих многомиллионных мегаполисах, а гораздо более динамичные и, соответственно, для многих регионов гораздо более проблематичные процессы ожидаются в мегаполисах будущего. Поэтому Майерс в своем обзоре новейших исследований пришел к выводу, что “уникальная история урбанизации в […] Африке последних пятидесяти лет до сих не удостоилась внимания ученых, хотя бы приближающегося к такому, какого она заслуживает” (Myers 2005: 14).
А как могло бы выглядеть адекватное теоретическое осмысление африканских городов и связанных с ними процессов? Один из возможных вариантов мы находим в работах Дженнифер Робинсон (ср. Robinson 2002; 2005; 2008). В своих размышлениях она отталкивалась от одного меткого наблюдения относительно описанной выше ситуации в науке: тот факт, что во многих урбанизационных теориях не представлены южные города, проистекает, по мнению исследовательницы, из характерного для мировой урбанистики дуализма “теория vs. развитие”, который препятствует адекватному теоретическому описанию значительной части урбанизационных процессов Юга в силу того, что они рассматриваются западными исследователями преимущественно под углом зрения теории развития, тогда как западные города и протекающие в них процессы становятся привилегированной основой для “теории города”, которая признана универсальной, не зависящей от региона (ср. Robinson 2002: 532). Из-за этого города “третьего мира” всегда выглядят “иными”; их альтернативные пути урбанизации и прочие неудобные для анализа особенности не вписываются в расхожие теоретические конструкции, а потому объявляются структурно иррелевантными для всоехватной теории города и сбрасываются со счетов. Робинсон признаёт, что после того, как два десятилетия подряд в науке обсуждались прежде всего “глобальные города” Севера, на южные города больше внимания стали обращать в критической урбанистике – но и там они в конечном счете рассматриваются почти исключительно с позиций теории развития, свидетельством чему служат многочисленные работы на такие темы, как “участие жителей в управлении городом, жилье, землевладение и землепользование, предоставление услуг, административные потенциалы, инфраструктура, неформальный сектор и т. п.” (ibid.: 540). Всё это, несомненно, темы важные, значимые для выживания городов, но всё же “такое восприятие города – лишь с точки зрения развития – не помогает расширить определение «городского» (city-ness): подобная перспектива, скорее, служит основанием для того, чтобы обозначить, чем города не являются” (ibid.). Таким образом, развитие южных городов – это то, что мировой урбанистике не удается адекватно интегрировать в свои теоретические построения, чтобы они креативно стимулировали такую рефлексию по поводу сложности и разнообразия городских пространств, которая была бы свободна и от устаревших категорий, и от иерархизаций. Благодаря этому подобные теоретические конструкции могли бы фиксировать и описывать города, “глобальные города” и “большие города третьего мира” как нечто не столько “отличающееся”, сколько “обычное”. Концепция Робинсон, которую она разрабатывает на основе работы Амина и Грэма (Amin/Graham 1997), гласит, что города Юга – это города обычные, а стало быть и развитие их не следует считать скандальным отклонением от нормы. На взгляд Дженнифер Робинсон, эта концепция позволила бы синергетически соединять теоретические подходы урбанистов с эмпирически насыщенными исследованиями в области развития городов: “Обычные города (а это значит – все города) рассматриваются как многообразные, креативные, современные и самобытные, способные (в рамках серьезных ограничений, накладываемых конкуренцией и неравным распределением власти) представлять себе как собственное будущее, так и самобытные формы «городского» (city-ness)” (ibid. 546).
4. Урбанизационные процессы в Африке: макдональдизация городов или африканские пути урбанизации?
На самом деле существует уже целый ряд исследований, авторы которых если и не отводят эксплицитно центральное место робинсоновскому “обычному” городу, то все же стараются выработать такое понятие “городского” применительно к Африке, которое подразумевало бы фокусировку исследовательского интереса на повседневной жизни африканских городов и попытку очертить контуры теоретических репрезентаций городских пространств этого континента не прибегая к “дефицитарной модели”. Знание и мышление исследователей об африканских процессах урбанизации в последние годы необычайно расширились, особенно под влиянием постколониального дискурса (Jacobs 1996; Simon 1992; 1999; King 1976; 2005). Постколониальные дискуссии сделали “конец универсальных нарративов” (Feiermann 2002: 50) бесповоротно свершившимся фактом. Констатация этого обстоятельства привела в конечном счете и в африканской урбанистике к осознанию того, что следует отказаться от иллюзии, будто “происхождение реалий сегодняшнего дня можно установить, основываясь на концептуальных конструкциях, унаследованных от «европейской модели»” (Sanders 1992: 210). Тем самым и в постколониальной урбанистике был провозглашен “поворот в сторону афроцентричного мышления в вопросах города” (ibid.: 205). В конце концов в специфическом вопросе об “адекватном” теоретическом описании африканских путей урбанизации проявляется обозначенная в рамках дискуссии о постколониализме проблематика адекватной репрезентации социальных процессов, протекающих в чуждых культурах. Однако в этом пункте (если не раньше) обозначилось разногласие между исследователями, которое вплоть до сегодняшнего дня делит их на два лагеря. Для одних это был переход к “афроцентризму” (Myers 1994: 197), в ходе которого целый ряд авторов, прежде всего африканских, заявили, что единственно адекватным эпистемологическим подходом, позволяющим “аутентично” описывать городские темы, является представление городов Африки с точки зрения самих африканцев (пример – Asante 1988; 1989). Другие авторы, такие как Майерс, признают, что “эмические дискурсы открывают прекрасные возможности, но они не должны становиться такими же деструктивными или исключительными, как те дискурсы, которым они стремятся прийти на смену” (Myers 1994: 198). Поэтому представители данного лагеря скорее склонны считать, “что по-прежнему существует множество способов, которыми «неместные» могли бы участвовать в создании эмансипаторного знания об африканских городах” (ibid.).
Так, в последние годы наряду с весьма пессимистически окрашенными штудиями появился целый ряд работ, авторы которых не столько сосредоточивают внимание на якобы царящем в городах Африки хаосе, сколько пытаются выяснить, какие у континента есть возможности для эндогенного развития” (cp. Simon 1992; Kappel 1999; Falola/Salm 2004; Simone/Abdelghani 2005). C одной стороны, бесспорно, что африканские пути урбанизации связаны с многочисленными тяжелыми проблемами и эти проблемы требуют решения. С другой стороны, бесспорно и то, что надежды на улучшение ситуации приходится возлагать именно на города: во многих странах Африки голод и крайняя бедность – феномены прежде всего сельские, а в городских регионах доступ к образованию и медицинскому обслуживанию несравненно лучше; в ходе формирования индустриальных центров и расширения локальных рынков рост крупных городов в некоторых регионах породил слой мелких и средних предпринимателей; наконец, если в изучаемых странах наличествуют демократические структуры формирования общественного мнения, то наблюдаются они прежде всего в агломерациях, так что “городские территории во всем мире, возможно, дают самую большую надежду на устойчивое развитие в будущем” (Cities Alliance 2006: 3). Таким образом, изображать африканские города лишь как зоны хаоса, сотрясаемые кризисами, – значит рисовать слишком одностороннюю картину.
Если мы обратимся к исследованиям, посвященным поиску паттернов пространственной организации и развития городских агломераций южных регионов, то и там по-прежнему наблюдается своеобразное деление на лагеря в соответствии с дихотомией “теория vs. развитие”. В целом ряде работ пространственная реорганизация, происходящая в наше время на африканском континенте, подчеркнуто рассматривается в контексте глобализации. В дискуссии о том, к каким последствиям для процессов урбанизации на Юге приводит понимаемое как глобализация превращение товарных, финансовых и культурных рынков в международные, авторы этих штудий высказывают убеждение, “что «глобальное» представляет собой главную точку отсчета для анализа социально-пространственных форм образования общества” (Berking 2006a: 10). На этом фоне было сначала сформулировано важное для социологической урбанистики наблюдение, что города невозможно концептуально описывать и изучать просто как изолированные и четко очерченные единицы: их необходимо встраивать в более широкие процессуальные контексты. Затем, по мере того как становился все более динамичным и рыхлым процесс глобализации, включающий в себя, как утверждается, усиленную циркуляцию архитектурных стилей и связанных с ними строительных технологий и материалов, был сформулирован – преимущественно в интернациональных исследованиях – тезис о “конвергенции планов и структур африканских городов” (Simon 2001: 140). В качестве доказательств понимаемой таким образом “макдональдизации” (Ritzer 1993) городских пространств приводятся главным образом феномены разрастания городов (urban sprawl) и возникающей в связи с ним полицентрической городской структуры, а также строительство небоскребов в “интернациональном” стиле и появление стерильных на вид торговых центров американского образца. К числу подобных доказательств относят, впрочем, и сопоставимые экономические и экологические проблемы, возникающие перед городами (обзор см. в Smith 2001; Graham/Marvin 2005).
Зачастую, однако, оборотной стороной тезиса о “нарастании глобального” (Urry 2006: 87) в теории развития городов оказывается систематическая “тривиализация локального”, которая “заключает в себе соблазн забвения и недооценки мест и территориальных форм образования общества” (Berking 2006a: 11). Некоторые авторы в ответ на тезис о нарастающей гомогенности городских агломераций возражают, что развитие городов можно понять только как специфическое для каждого случая сочетание местных культур и исторических взаимосвязей, колониального наследия и постколониальных процессов; а потому исследователь непременно должен исходить из гетерогенности путей городского развития: “Отношения между социальным процессом и пространственной формой не являются ни статичными, ни единообразными, они специфичны для каждого хронологического и географического контекста” (Simon 1992: 23). При подобном подходе отрицается не столько факт глобализации – в смысле создания глобального “пространства потоков” (Castells 2003: 431), сколько зачастую выдвигаемый в связи с ним и гораздо более далеко идущий тезис о том, что локальные условия больше не играют значительной роли в социально-пространственной организации общественных связей и отношений и что это якобы позволяет рассматривать их в качестве величины, которой, в принципе, можно пренебречь. В основе этого подхода лежат концепции, которые посредством таких несхожих понятий, как “гибридизация” (Pieterse 1995) или “креолизация” (Hannerz 1996) обращают наше внимание на сложное взаимодействие и многообразные переплетения между локальными и глобальными контекстами. Соответственно, представление об однонаправленной конвергенции, идущей в социально-пространственной организации южных агломераций, оказывается слишком упрощенным, ведь и постколониальный дискурс заставил исследователей более внимательно относиться к тому факту, что сходство внешних форм проявления не дает права автоматически делать вывод о сходстве стоящих за ними процессов и динамик. Кроме того, простой тезис о гомогенизации вызывает подозрения в евроцентристском универсализме, грозящем скрыть диалектику глобального и локального в конструкциях “переплетенных современностей” (Randeria 1999b) или “множественных современностей” (Eisenstadt 2000).
Поэтому более убедительным мне кажется предположение, что объяснить развитие городских пространств Юга можно только рассматривая как силы конвергенции, так и силы дивергенции. Соответственно, теоретическая проблема, которую нужно решить, заключается в том, чтобы осмыслить глобальное и локальное не как простую бинарную оппозицию и не как просто внетерриториальное пространство потоков в первом случае и территориальную форму образования общества во втором (cp. Berking 1998; Berking/Löw 2005), а в интеграции “различных масштабов и уровней” (Simon 1992: xii). Правда, такой взгляд неизбежно влечет за собой сложный вопрос о “масштабировании – точнее, о значении социально-пространственных единиц измерения для построения социологической теории” (Berking 2006c: 68). Какие последствия имеет этот взгляд для таких социологических концептов, как инклюзия и эксклюзия, власть и господство, институциональные и организационные формы или проявления социального неравенства? Ясно одно: его теоретические подводные камни нельзя обойти за счет противопоставления глобального локальному, а внепространственного – пространственному.
5. Собственная логика городских пространственных порядков
Если относиться к этой теоретической проблеме серьезно, то напрашивается следующий шаг: очертить объект исследования “город” как пространственно-структурный организационный принцип. С одной стороны, этот шаг напрашивается потому, что социология города очевидным образом имеет дело с пространственно релевантным феноменом. Но, с другой стороны, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что в своих размышлениях социология города часто обходится без рефлексии по поводу понятия пространства. Город как объект исследования во многих дефинициях более или менее эксплицитно отграничивается от пространственного определения, хотя очевидно, что изучаются застроенные и построенные пространства. И вот, хотя очевидно, что города – это феномен пространственно релевантный и что они воплощают новые формы процессов социальной спатиализации, протекающих в современную эпоху, тем не менее понятия “город” и “пространство” в социологической урбанистике лишь изредка систематически соотносили друг с другом[125]; М. Лёв даже говорит о “социологической урбанистике без пространства” (Löw 2001: 44). Впрочем, в последние годы наблюдается все больше усилий, направленных на то, чтобы связать “пространство” и “город” друг с другом на теоретическом уровне (см. Läpple 1991; Breckner/Sturm 1997; Schroer 2006; Berking/Löw 2005). Одной из причин такого плодотворного сближения можно было бы, несомненно, назвать растущий интерес социологии к понятию пространства. В философских дискуссиях пространство издревле играло важную роль, но на протяжении долгого времени казалось, что на него распространяется тотальное “нежелание нашей социологии иметь дело с вещами” (Linde 1972: 12). К сегодняшнему дню изучение пространства уже может похвастаться вполне насыщенной историей: характерное прежде для социологического теоретизирования “забвение пространства” (Schroer 2006: 17) было преодолено – в частности, Мишелем Фуко, который констатировал, что насущнейшие вопросы, волнующие современность, теперь касаются уже не времени, а пространства “самым принципиальным образом” (Foucault 1990: 37). В утопии “атопического общества”, где место и пространство снова разжалованы в пренебрежимые параметры (Wilke 2001: 13), пространство в конце концов опять переживает “в высшей степени неожиданный и даже пугающий ренессанс” (Maresch/Werber 2002: 7). О том, что в немецкоязычной теоретической мысли пространство “вновь появилось” (ibid.), красноречиво свидетельствует волна новых публикаций (ср. Rheinberger/Hagner/Wahrig-Schmidt 1997; Löw 2001; Sturm 2000; Dünne/Günzel 2006; Schroer 2006; Löw/Steets/Stoetzer 2007).
При этом, однако, бесспорно, что проблематика “пространства” в гораздо большей мере, нежели “город”, относится к базовому эпистемологическому уровню и связанные с этим вопросы неизбежно приводят исследователя “в опасные воды” (Schmid 2005: 27), где “с одной стороны подстерегают скалы «реификации пространства» и, соответственно, превращения социальных фактов в природные, а с другой стороны грозят бездны «тезиса о происхождении», согласно которому «пространство» понимается как всего лишь выражение общесоциальных процессов” (ibid.). Тем самым четко обозначена и та задача, на которую следует обратить главное внимание при теоретизировании:
Поэтому задача […] в том, чтобы в центр поставить процесс конституирования. Теперь уже недостаточно определить пространство как реляционный предписанный порядок всего лишь через взаимное расположение [предметов]. В центре внимания […] – то, что предписывается (вещи, события и др.?), кто предписывает (по какому праву, какой властью?) и как пространства возникают, испаряются, материализуются или меняются и таким образом структурируют общество” (Löw 2001: 151).
Такой процессуальный взгляд на пространство требует, с одной стороны, распознания контекста, но, с другой стороны, также и признания трансформационного характера тех категорий, которые изначально считались “неизменяемыми”. Тем самым он означает и расставание с долго доминировавшим в дискуссиях представлением о пространстве как гомогенном и неделимом. С этим связан переход от вопроса “что?” к вопросу “как?”: не что такое пространства, а как они делаются пространствами. Объектом исследования в таком случае становится пространственная конструкция социального и социальная конструкция пространственного (ibid.: 56). С опорой на выдвинутую Энтони Гидденсом концепцию дуализма структуры и действия теперь, при новом понимании пространственного порядка, должна быть продемонстрирована именно эта его амбивалентность: пространства обладают, с одной стороны, измерением порядка, которое структурирует социальную деятельность и тем самым ограничивает ее случайный характер, а с другой стороны – измерением действия, в котором заключен и процесс упорядочивания и предписывания (cp. Löw 2001: 131).
Если эти соображения из области теории пространства соединить с эвристическими положениями “собственной логики” городов, то откроются те потенциалы, которые необходимы для теоретического продвижения по “пути от города к городам” (Berking/Löw 2005: 15):
Внутри этого спатиализированного образа городов как мест, где налагаются друг на друга сети отношений, где люди, ресурсы и идеи соединяются во множестве различных комбинаций, в сложных географиях внутренней дифференциации и у(бес)порядочивания, будущее каждого города – неопределенно, оно подлежит созданию и при этом ограничено теми историческими обстоятельствами, в которых данный город существует (Robinson 2002: 545).
На этом фоне реконструкция собственной логики городских процессов директивного упорядочения пространства представляет собой амбициозную попытку использовать этнографию города, чтобы показать те логики, по которым создается локальное. Соответственно, город как отдельный объект знания осмысляется в рамках теории пространств, и благодаря этому возникает возможность раскрыть специфику конкретного города и, значит, его собственную логику.
Сказанное означает, что мыслительная фигура “собственная логика городов” – это прежде всего эвристика, а не классификационная схема. Существенная разница заключается в том, что делается акцент скорее на процессуальности городских феноменов, нежели на стремлении классифицировать города и выстраивать их иерархию по тем или иным критериям (ср. Robinson 2002: 548). В соответствии с этим теоретическая стратегия, основанная на логике родовидовой иерархии, заменяется на реляционную логику, усматривающую главную объяснительную ценность анализа в том, что он располагает наблюдаемые феномены относительно друг друга с учетом контекста, ибо “только в реляционных связях можно понять локальность как систему пространственных и символических дистанций” (Berking/Löw 2005: 18). Цель – понять собственную логику города – при этом подразумевает и еще одно имманентное этой теории направление движения. В социологической урбанистике считается общепризнанным на уровне здравого смысла, что города в качестве отдельного объекта знания не существует. В этом отношении весьма влиятельны труды Питера Сондерса (в особенности “Социология города” – Saunders 1987), который приходит к такому парадоксальному выводу, констатировав гетерогенность городов в целом и связанных с нею городских форм жизни в частности. На эту его констатацию урбанистика отреагировала двояко. В одних случаях исследования разбиваются на конкретные вопросы и проблемы (неравенство, молодежная преступность, стили жизни, специфичные для тех или иных социальных сред, и т. д.). При такой конкретизации легко избежать необходимости давать определение “городского”, так что Робинсон характеризует подобную урбанистику как “заключенную в гетто эмпиризма” (Robinson 2002: 546). В других случаях город и его развитие рассматриваются лишь как субкатегория более крупных аналитических концептов, таких как “модернизация”, “капитализм” или “общество”.
Обе эти исследовательские стратегии породили много знания о городской жизни, но о чем мы узнаём мало – так это о собственной логике городов. Поэтому цель, достигнуть которой планируется с помощью концепции “собственной логики городов”, заключается в таком расширении перспективы, когда не только город в качестве объекта знания осмысляется в рамках логики родовидовой иерархии как необходимый элемент универсальных процессов образования общества, но и обращается больше внимания на способы производства локальности:
Не пора ли сделать предметом изучения уникальные особенности, локально-специфичный облик этого города в отличие от того, и таким способом узнать что-то об эволюции социально-пространственных процессов образования общества в городах? Может ли традиционная, циркулирующая в дискурсе глобализации мудрость, гласящая, что локальное исчезает, а места не имеют значения, в самом деле претендовать на более высокую степень убедительности, нежели простое предположение, что локальное и сегодня – особенно сегодня – еще обладает, возможно, способностью генерировать контексты? И не представляет ли первостепенного теоретического интереса задача идентификации локально-специфических классификационных систем, фондов знаний и форм апроприации, чтобы на их базе можно было бы разработать концепцию локального, позволяющую строить гипотезы о том, почему бедность в Брауншвейге, может быть, контекстуализируется совершенно иначе, чем в Ростоке или в Маниле? (Berking/Löw 2005: 18)
Это, однако, предполагает не только такое обособление локального, при котором пришлось бы сделать вывод, что развитие любого города само по себе уникально и несравнимо с другими. Если эти рассуждения переносить на теоретически адекватное осмысление процессов урбанизации в Африке, то цель должна заключаться скорее в том, чтобы выработать такое понятие африканских городских пространств, которое позволило бы “ловить” и различия, и сходства в эволюции городских контекстов. Поэтому для того, чтобы объяснять урбанизационные процессы в Африке, необходимо включать в анализ мощные силы как дивергенции, так и конвергенции. В первом случае мы обращаемся к специфическому “своеобразию” каждого локального процесса, во втором стремимся идентифицировать черты “семейного сходства” в развитии разных городов, которые мы сможем обнаружить посредством систематического сравнения различных регионов. Поиск собственной логики – это попытка обрести иной взгляд на вещи, потому что, как сказал Джереми Сибрук, “апокалиптический взгляд на рост городов Юга не улавливает самого главного” (Seabrook 1996: 7). Такой новый взгляд означал бы отказ от провозглашаемого снова и снова фаталистического восприятия городов (особенно южных) как “буйных” (Pile/Brook/Mooney 1999). В противоположность ему он утверждал бы на эмпирической основе, что если реконструировать их специфическую собственную логику, то окажется, что это обычные города.
6. Эпилог. Состязание
Если в завершение вернуться к упомянутой в начале парадоксальной ситуации в урбанистической теории современности, где, с одной стороны, констатируется кризис или даже исчезновение города, а с другой – нет сомнения в том, что городские формы жизни в будущем станут одним из главных факторов, определяющих жизненные условия большей части человечества, то это противоречие можно разрешить в рамках предлагаемой эвристической модели собственной логики городов следующим образом: эти дискуссии “свидетельствуют не о конце города, о конце Города” (Berking 2002: 12; курсив в оригинале). Эвристические модели собственной логики городов и обычного города призваны помочь нам в попытке выработать такое понятие африканских городских пространств, которое отмечало бы и различия, и сходства между специфическими процессами развития урбанных контекстов в Африке, тем самым противодействуя давним попыткам написания глобальных историй Города вообще (пример – Benevolo 1993). Таким образом, в рамках данного подхода решительно отвергается идея культурной гомогенизации и подчеркивается сочетание локального с глобальным. Модель “глобального города”, для которой характерен “политэкономический уклон” (Noller 1999: 23), мало что может рассказать нам о культурных практиках, о восприятии обыденной жизни и о символических действиях, посредством которых субъекты ежедневно конструируют свою городскую форму жизни. Но именно эти “репрезентации” (ibid.: 24) города нам прежде всего и нужно нащупывать, если мы хотим понять ту гигантскую притягательную силу, которая исходит от африканских городских агломераций. В пространстве города происходит обмен не только товарами, но и информацией, знанием, имиджами и символами, которые встроены в знаковую систему, приобретшую на сегодняшний день уже глобальный масштаб (ср. Lash/Urry 1994). Следовательно, город нельзя “ни в аналитическом, ни в эмпирическом плане просто объявить культурным или экономическим объектом – его можно понять только во взаимодействии обоих факторов” (Noller 1999: 31). Миграция из деревни в город, продолжающаяся несмотря на бедность, безработицу и дефицит продуктов питания, – это феномен, понять который можно не в последнюю очередь с помощью изучения города как пространства ориентации: мигранты надеются частично вырваться из тесных уз деревенского сообщества и ослабить таким образом действие механизмов социального контроля, надеются встретить в условиях городского ценностного разнообразия большую толерантность и возможность политической мобилизации собственных интересов, верят в создаваемую средствами массовой информации иллюзию, что в городе они будут жить непосредственно ощущая “пульс времени”; всё это – культурные образы, способные оказывать мощное притягивающее воздействие (ср. Simone 2004; Simone/Abouhani 2005; Falola/Salm 2004).
Несомненно, собственная логика “обычного” в африканских городах развивается своим путем, не похожим на европейские города. О том, почему это так, исследователи часто задумывались и предлагали самые разные объяснения, начиная с тезиса об “урбанизации без экономического роста” (ср. Davis 2006) и заканчивая требованием рассматривать африканские процессы урбанизации как специфичные для каждого случая комбинации аборигенных культур, исторических контекстов, колониального наследия и постколониальных процессов. Мне же хотелось бы в заключение сформулировать, опираясь на упомянутые выше работы по теории пространств, несколько иной, осторожный, тезис[126]. Фернан Бродель в своих работах по социальной истории назвал город и государство двумя состязающимися бегунами: будучи независимыми друг от друга принципами организации пространства, каждый со своей логикой действия, они соперничают за то, кому быть главным структурообразующим фактором (ср. Braudel 1985: 560). При этом важно подчеркнуть, что с точки зрения теории пространств логика спатиализации у них разная (ср. Nassehi 2002; Held 2005: 230f.). В то время как государство действует прежде всего как машина эксклюзии, т. е. основывается на принципе территориального исключения и тем самым продуцирует гомогенность, городу такой механизм различения не свойственен. Город, с его многообразными функциональными дифференциациями, представляет собой скорее гетерогенизирующую машину инклюзии, причем ареал, из которого к нему стекаются люди, зачастую выходит за границы территориального государства.
Кто выиграл в этом состязании бегунов в Европе, мы знаем: в первые столетия городского развития – по крайней мере, в Италии, Германии и Фландрии – города одержали победу над территориальными государствами и долгое время жили самостоятельной жизнью (ср. Braudel 1985: 560), однако в современную эпоху, без всякого сомнения, победителями гонки являются пока национальные государства. Если же мы обратим свой взор к Африке и происходящим там сейчас процессам, то можно сформулировать такую гипотезу: состязание между национальным государством и городом как принципами организации пространства еще не закончено, его исход пока неясен, и, может быть, африканские города даже лидируют в нем. Именно об этом, как мне кажется, говорят работы целого ряда авторов, которые решительно оспаривают ценность “контейнерной” теории национального государства для анализа городских реальностей. Так, например, национальное государство используется в качестве базовой “счетной единицы” (Berking 2006: 67) в международных исследованиях Всемирного банка, посвященных определению позиции каждой страны в конкуренции за экспортные квоты, измерению параметров бедности, ВВП и т. д.; но обеспечивает ли такая счетная единица убедительный порядок знания? Может быть, следовало бы расширить горизонт и включить в рассмотрение те транснациональные сети, которые оказывают на повседневную хозяйственную деятельность в африканских городах гораздо большее влияние, нежели то, которое приписывает им контейнерная теория методологического национализма? В защиту такого взгляда – прежде всего применительно к Африке – высказывались в последнее время многие авторы (ср. Callaghy/Kassimir/Latham 2001; Nordstrom 2005), чей главный аргумент сводится к тому, что архитектура используемой в международных исследованиях по городским экономическим пространствам Африки аналитической рамки с ее упрощающими дуальными схемами “национальное/локальное”, “формальное/неформальное” и “легальное/нелегальное” не годится для описания африканских реалий, потому что охватывает лишь часть осуществляемых видов экономической деятельности. Главная причина этого – в том, что внимание авторов подобных исследований сфокусировано на национальном государстве и, следовательно, роль “трансграничных образований” (Latham/Kassimir/Callaghy 2001: 1) в процессах создания стоимости, протекающих в африканских городах, оказывается у них в слепой зоне. Эти образования – как правило, негосударственные – сочетают в себе “глобальные, региональные, национальные и локальные силы, [объединяемые] структурами, сетями и дискурсами, которые обладают широким спектром воздействия (как благотворного, так и вредоносного) и на Африку в целом, и на каждое сообщество” (ibid.: 5). Поэтому необходимо поменять исследовательскую перспективу, с тем чтобы в центре внимания оказалось изучение городских пространств как “места создания транслокальных экономик, разворачивающихся и используемых в рамках таких логик и практик, которые не вписываются в привычные понятия роста и развития” (Simone 2004: 2).
Кто бы ни победил в состязании, африканские города во многих отношениях не поддаются удовлетворительному описанию с помощью расхожих урбанистических концепций. Несмотря на те недостатки (в области инфраструктуры, индустриализации, социальной интеграции, безопасности), которые заметны снаружи и постоянно подчеркиваются, города Африки обнаруживают удивительную жизнестойкость и высокий креативный и инновационный потенциал. Чтобы преодолеть привычную модель описывания недостатков и адекватно оценивать специфические потенциалы африканских городских пространств, нужен интегративный и междисциплинарный подход.
В рамках такого подхода, помимо всего прочего, больше внимания будет снова обращено на тех, кто играет одну из главных ролей в формировании облика этих пространств, – на их жительниц и жителей. На передний план в таком случае сильнее выдвинется роль городов как мест культурных и социальных трансформаций – в противовес широко распространенному дискурсу о чрезмерной урбанизации как “главном показателе скандальной ситуации в недоразвитых странах” (Coquery-Vidrovitch 2005: 21). Такой взгляд никоим образом не будет означать затушевывания серьезных экологических и социальных проблем, с которыми приходится справляться многим городам в Африке. С точки зрения предлагаемого подхода, “урбанизация не хороша и не плоха – она, как и повсюду, есть необратимый факт, и в ее условиях будет разыгрываться будущая жизнь обществ” (ibid.: 22). Не предполагается также и никакой романтизации тех повседневных стратегий выживания, к которым прибегают многие люди в африканских городах, потому что, вне всякого сомнения, “для большого числа городских обитателей жизнь представляет собой одну сплошную чрезвычайную ситуацию” (Simone 2004: 4). Но уже само английское слово emergency [чрезвычайная ситуация, от глагола to emerge (возникать) – прим. пер.] заключает в себе указание на то, что из подобной ситуации вполне могут (хотя и не обязаны) возникать такие новые формы продуктивного решения острых жизненных проблем, которые “людям с докторскими степенями и в голову бы не пришли” (Annorbah-Sarpei 2004: 457).
Литература
Amin, Ash/Graham, Stephen (1997), The ordinary city // Transactions of the Institute of British Geographers (22), p. 411–429.
Annorbah-Sarpei, James (2004), Die Arbeit in Slums war meine Ausbildung. Interview mit Professor James Annorbah-Sarpei (Accra) // E+Z, Entwicklung und Zusammenarbeit, Jahrgang 45, Heft 12, S. 456–459.
Asante, Molefi Kete (1988), The Afrocentric Idea, Philadelphia.
– (1989), Afrocentricity, Trenton.
Benevolo, Leonardo (1993), Die Geschichte der Stadt, Frankfurt am Main/New York.
Berking, Helmuth (2002), Global Village oder urbane Globalität? Städte im Globalisierungsdiskurs // ders./Faber, Richard (Hg.), Städte im Globalisierungsdiskurs, Würzburg, S. 11–25.
– (2006a), Raumtheoretische Paradoxien im Globalisierungsdiskurs // ders. (Hg.), Die Macht des Lokalen in einer Welt ohne Grenzen, Frankfurt am Main/New York, S. 7 – 22.
– (2006b) (Hg.), Die Macht des Lokalen in einer Welt ohne Grenzen, Frankfurt am Main/New York.
– (2006c), Global Images: Ordnung und soziale Ungleichheit in der Welt, in der wir leben // ders. (Hg.), Die Macht des Lokalen in einer Welt ohne Grenzen, Frankfurt am Main/New York, S. 66–86.
Berking, Helmuth/Löw, Martina (2005), Wenn New York nicht Wanne-Eickel ist… Über Städte als Wissensobjekt der Soziologie // dies. (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte. Soziale Welt Sonderband 16, Baden-Baden, S. 9 – 22.
Braudel, Fernan (1985), Der Alltag. Sozialgeschichte des 15. – 18. Jahrhunderts, München [рус. изд.: Бродель, Фернан (1986, 1988, 1992), Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв., Москва. Т. 1, 1986. Т. 2, 1988. Т. 3, 1992. – Прим. пер.].
Breckner, Irene/Sturm, Gabriele (1997), Raum-Bildung. Übungen zu einem gesellschaftlich begründeten Raum-Verstehen // Löw, Martina (Hg.), Raumbildung – Bildungsräume. Über die Verräumlichung sozialer Prozesse, Opladen, S. 213–236.
Brunold, Georg (1994), Afrika gibt es nicht. Depeschen aus drei Dutzend Ländern, Eichborn.
Callaghy, Thomas M./Kassimir, Ronald/Latham, Robert (2001) (Hg.), Intervention & Transnationalism in Africa. Global-local Networks of Power, Cambridge.
Castells, Manuel (2003), Jahrtausendwende. Teil 3 der Trilogie Das Informationszeitalter, Opladen [рус. изд.: Кастельс, Мануэль (2000), Информационная эпоха: экономика, общество и культура, Москва. – Прим. пер.].
Cities Alliance (2006), Cities without slums, Annual Report 2006, http:// – -report/2006-annual-report.html [последнее обращение: 01.08.2008]
Coquery-Vidrovitch, Catherine (2005), The History of African Cities South of the Sahara. From the Origins to Colonization, Princeton.
Davis, Mike (1994), City of Quartz. Ausgrabungen der Zukunft in Los Angeles und andere Aufsätze, Berlin.
– (1999), Ökologie der Angst. Los Angeles und das Leben mit der Katastrophe, München.
– (2007), Planet der Slums, Berlin/Hamburg.
Dünne, Jörg/Günzel, Stephan (2006) (Hg.), Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt am Main.
Eisenstadt, Samuel (2000), Mulitple Modernities // Daedalus, 129 (1), p. 1 – 29.
Eisner, Manuel (1997), Das Ende der zivilisierten Stadt? Die Auswirkungen von Modernisierung und urbaner Krise auf Gewaltdelinquenz, Frankfurt am Main/New York.
Falola, Toyin/Salm, Steven J. (2004) (Ed.), Globalization and Urbanization in Africa, Asmara.
Foucault, Michel (1990), Andere Räume // Barck, Karlheinz (Hg.), Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, Leipzig, S. 34–46.
Gugler, Josef (1996), Cities in the developing world, Oxford.
– (1996b) (Ed.), The Urban Transformation of the Developing world, Oxford/New York.
Hall, Peter/Pfeiffer, Ulrich (2000), Urban 21. Der Expertenbericht zur Zukunft der Städte, Stuttgart/München.
Hannerz, Ulf (1980), Exploring the city. Inquiries towards an urban anthropology, New York.
– (1996), Transnational Connections, Culture, People, Places, London/New York.
Häußermann, Hartmut/Kronauer, Martin/Siebel, Walter (2004) (Hg.), An den Rändern des Städte, Frankfurt am Main.
Held, Gerd (2005), Territorium und Großstadt. Die räumliche Differenzierung der Moderne, Wiesbaden.
Herlyn, Ulfert (1998), Zur Neuauflage des Buches “Die moderne Großstadt” // Bahrdt, Hans-Paul (Hg.), Die moderne Großstadt. Soziologische Überlegungen zum Städtebau, Opladen, S. 7 – 26.
Jacobs, Jane (1996), Edge of Empire: Postcolonialism and the City, London.
Kaplan, Robert D. (1996), Die kommende Anarchie. Ökonomie, Religion, Gesellschaft – Weltordnungen im Zerfall // Lettre International, Heft 32, 1996/1, S. 52–61.
Kappel, Robert (1999), Das Chaos Afrikas und die Chancen für eine endogene Entwicklung //Prokla. Zeitschrift für eine kritische Sozialwissenschaft, Heft 117, Jg. 29, Nr. 4, S. 517–534.
Keim, Karl-Dieter (1997), Vom Zerfall des Urbanen // Heitmeyer, Wilhelm (Hg.), Bundesrepublik Deutschland. Auf dem Weg von der Konsens – zur Konfliktgesellschaft, Bd. 1: Was treibt die Gesellschaft auseinander?, Frankfurt am Main, S. 245–286.
King, Anthony D. (1976), Colonial Urban Development: Culture, Social Power and Environment, London.
– (1990), Urbanism, Colonialism, and the World Economy, London/New York.
– (1996), Introduction: Cities, Texts and Paradigms // idem (Ed.), Re-Presenting the City. Ethnicity, Capital and Culture in the 21st century Metropolis, Basingstoke, p. 1 – 19.
– (2005), Postcolonial Cities/Postcolonial Critiques: Realities and Representations // Berking, Helmuth/Löw, Martina (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte. Soziale Welt Sonderband 16, Baden-Baden, S. 67–83.
Knox, Paul (1995), World cities in a world system // idem/Taylor, Peter (1995), World Cities in a world system, Oxford, p. 1 – 16.
Knox, Paul L./Taylor, Peter (1995), World Cities in a world system, Oxford.
Läpple, Dieter (1991), Essay über den Raum // Häußermann, Hartmut u.a. (Hg.), Stadt und Raum. Soziologische Analysen, Pfaffenweiler, S. 157–207.
Lash, Scott/Urry, John (1994), Economies of Signs & Space. Theory, culture & Society, London.
Latham, Robert/Kassimir, Ronald/Callaghy, Thomas M. (2001), Introduction: transboundary formations, intervention, order and authority // eidem (Eds.), Intervention & Transnationalism in Africa. Global-local Networks of Power, Cambridge, p. 1 – 20.
Lefèbvre, Henri (2003), Die Revolution der Städte, Dresden.
Leiris, Michel (1985), Phantom Afrika. Tagebuch einer Expedition von Dakar nach Djibouti 1931–1933. Zweiter Teil, Ethnologische Schriften, Bd. 4, Frankfurt am Main.
Linde, Hans (1972), Sachdominanz in Sozialstrukturen, Tübingen.
Lindner, Rolf (2005), Urban Anthropology // Berking, Helmuth/Löw, Martina (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte. Soziale Welt Sonderband 16, Baden-Baden, S. 55–66.
Löw, Martina (2001), Raumsoziologie, Frankfurt am Main.
Löw, Martina/Steets, Silke/Stoetzer, Sergej (2007), Einführung in die Stadt – und Raumsoziologie, Opladen.
Malthus, Thomas R. (1826), An essay on the principle of population: or a view of its past and present effects on human happiness; with an inquiry into our prospects respecting the future removal or mitigation of the evils which it occasions, Cambridge [рус. изд.: Мальтус, Томас Роберт (1868), Опыт о законе народонаселения или изложение прошедшего и настоящего действия этого закона на благоденствие человеческого рода, с приложением нескольких исследований о надежде на отстранение или смягчение причиняемого им зла. СПб. – Прим. пер.].
Maresch, Rudolf/Werber, Nils (2002), Permanenzen des Raums //dies. (Hg.), Raum-Wissen-Macht, Frankfurt am Main, S. 7 – 30.
Marx, Karl (1971), Die Frühschriften, Stuttgart.
Myers, Garth Andrew (1994), Eurocentrism and African Urbanization: The Case of Zanzibar’s Other Side // Antipode 26 (3), p. 195–212.
– (2003), Colonial and Postcolonial Modernities in Two African Cities // Canadian Journal for African Studies, vol. 37, № 2, p. 328–357.
– (2005), Disposable Cities. Garbage, Governance and Sustainable Development in Urban Africa, London.
Naerssen van, Ton (2001), Global Cities in der Dritten Welt // Peripherie, No. 81/82, p. 32–52.
Nassehi, Armin (2002), Dichte Räume. Städte als Synchronisations – und Inklusionsmaschinen // Löw, Martina (Hg.), Differenzierung des Städtischen, Opladen, S. 211–232.
– (2008), Soziologie. Zehn einführende Vorlesungen, Wiesbaden.
Noller, Peter (1999), Globalisierung, Stadträume und Lebensstile, Opladen.
Nordstrom, Carolyn (2005), Leben mit dem Krieg. Menschen, Gewalt und Geschäfte jenseits der Front, Frankfurt am Main/New York.
Park, Robert E./Burgess, Ernest W./McKenzie, Roderick D. (1925), The city, Chicago/London.
Peattie, Lisa/Robbins, Edward (1984), Anthropological approaches to the city // Rodwin, Lloyd/Hollister, Robert (Eds.), Cities of the mind. Images and themes of the city in the social sciences, New York/London, p. 83–95.
Pieterse, Jan (1995), Globalization as Hybridization // Featherstone, Mike/Lash, Scott/Robertson, Robert (Eds.), Global Modernities, London.
Population Information Program (2002), Population Reports. Meeting the Urban Challenge, Volume XXX, Number 4, ed. by Center for Communications Program, The John Hopkins Bloomberg School of Public Health.
Population Reference Bureau (2006), 2006 World Population Data Sheet, Washington D.C.
Randeria, Shalini (1999a), Jenseits von Soziologie und soziokultureller Anthropologie: Zur Ortsbestimmung der nichtwestlichen Welt in einer zukünftigen Sozialtheorie // Soziale Welt 50 (1999), S. 372–382.
– (1999b), Geteilte Geschichten und verwobene Moderne // Rüsen, Jörn (Hg.), Zukunftsentwürfe. Ideen für eine Kultur der Veränderung, Frankfurt am Main.
Rheinberger, Hans-Jörg/Hagner, Michael/Wahrig-Schmidt, Bettina (1997) (Hg.), Räume des Wissens. Repräsentation, Codierung, Spur, Berlin.
Ribbeck, Eckhart (2005), Die Welt wird Stadt. Stadtbilder aus Asien, Afrika, Lateinamerika, Berlin.
Ritzer, George (1993), The McDonaldization of Society, Newbury Park.
ROAA UN-Habitat (Regional Office for Africa and Arab States) (2005), Addressing the challenge of slums, land, shelter delivery and the provision of and access to basic for all,
Robinson, Jennifer (2002), Global and World Cities: A view from off the Map // International Journal of Urban and Regional Research, vol. 26 (3), p. 531–554.
– (2005), Ordinary Cites. Between Modernity and Development, London.
– (2008), Developing ordinary cities: city visioning processes in Durban and Johannesburg // Environment and Planning A, vol. 40, p. 74–87.
Rötzer, Florian (1995), Telepolis. Urbanität im digitalen Zeitalter, Mannheim.
Salin, Edgar (1960), Urbanität // Deutscher Städtetag (Hg.), Erneuerung unserer Städte. 11. Hauptversammlung des Deutschen Städtetags, Stuttgart/Köln, S. 9 – 34.
Sanders, Ricki (1992), Eurocentric bias in the Study of African Urbanization: a provocation to the debate // Antipode 24, (3), p. 202–213.
Sassen, Saskia (1991), The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton.
– (1996), Metropolen des Weltmarkts. Die neue Rolle der Global Cities, Frankfurt am Main/New York.
Schmid, Christian (2005), Stadt, Raum und Gesellschaft. Henri Lefèbvre und die Theorie der Produktion des Raumes, München.
Schroer, Markus (2005), Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raums, Frankfurt am Main.
Schulz, Reiner/Swiaczny, Frank (2003), Globale Verstädterung – Entwicklung, Ursachen, Folgen // Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, Jg. 28, 1/2003, S. 37–66.
Siebel, Walter (2000), Urbanität // Häußermann, Hartmut (Hg.): Großstadt. Soziologische Stichworte, Opladen, S. 264–272.
– (2004), Einleitung: Die europäische Stadt // ders. (Hg.), Die europäische Stadt, Frankfurt am Main, S. 11–48.
Simmel, Georg (1995), Die Großstadt und das Geistesleben // ders., Aufsätze und Abhandlungen, 1901–1908, Gesammelte Werke, Bd. 1, Frankfurt am Main, S. 116–131 [рус. изд.: Зиммель, Георг (2002), Большие города и духовная жизнь // Логос, 2002, № 3(34), с. 1 – 12. – Прим. пер.].
Simon, David (1992), Cities, Capital and Development. African Cities in the world economy, London.
– (1999), Rethinking Cities, Sustainability, and Development in Africa // Kalipeni, Ezekiel/Zeleza, Paul T. (Eds.), Sacred Spaces and Public Quarrels. African Cultural and Economic Landscapes, Asmara, p. 17–42.
– (2001), Veränderungen von urban-ländlichen Zonen in afrikanischen Städten // Peripherie 81/82, S. 138–161.
Simone, Abdoumaliq (2004), For the City yet to Come. Changing African Life in Four Cities, Durham/London.
Simone, Abdoumaliq/Abouhani, Abdelghani (Hg.) (2005), Urban Africa. Changing contours of survival in the city, Dakar.
Smith, Michael Peter (2001), Transnational urbanism: locating globalization, Oxford.
Sturm, Gabriele (2000), Wege zum Raum. Methodologische Annäherungen an ein Basiskonzept raumbezogener Wissenschaften, Opladen.
Swiaczny, Frank (2005a), Aktuelle Aspekte des Weltbevölkerungsprozesses. Regionalisierte Ergebnisse der UN World Population Prospects 2004 // Materialien zur Bevölkerungswissenschaft, hg. v. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Heft 117, Wiesbaden.
– (2005b), Regionalisierte Ergebnisse der World Population Prospects 2002, Teil 6, Internationale Migration // BIB-Mitteilungen 02/2005, S. 33–36.
– (2005c), Regionalisierte Ergebnisse der World Population Prospects 2002, Teil 7, Verstädterung // BiB-Mitteilungen 03/2005, S. 24–30.
Tönnies, Ferdinand (1991), Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, Darmstadt [рус. изд.: Тённис, Фердинанд (2002), Общность и общество. Основные понятия чистой социологии, СПб. – Прим. пер.].
UN (2002a), World Urbanization Prospects. The 2001 Revision, New York.
– (2002b), World Urbanization Prospects. The 2001 Revision. Data Tables and Highlights, .
– (2005), The Millennium Development Goals Report 2005, New York.
– (2006), World Urbanization Prospects. The 2005 Revision. Executive Summary. Fact Sheets. Data Tables, New York.
UN-Habitat (2004), The State of the World’s Cities 2004/2005. Globalization and Urban Culture, London.
Urry, John (2006), Globale Komplexitäten // Berking, Helmuth (2006b) (Hg.), Die Macht des Lokalen in einer Welt ohne Grenzen, Frankfurt am Main/New York, S. 87 – 111.
Wefing, Heinrich (1998), Die neue Sehnsucht nach der Alten Stadt, oder Was ist Urbanität? // Neue Rundschau 2/1998, S. 82–98.
Wilke, Helmut (2001), Atopia. Studien zur atopischen Gesellschaft, Frankfurt am Main.
Wüst, Thomas (2004), Urbanität. Ein Mythos und sein Potential, Wiesbaden.
Индивидуальность городов: Франкфурт и Гамбург в сравнении Марианне Роденштайн
1. Теория собственной логики как эвристическая модель для изучения городских процессов
Чем различаются такие города, как Франкфурт и Гамбург? На этот вопрос есть много ответов. Можно указать на разницу в размерах и привести много других статистических данных, но это не поможет нам уловить то особенное, что есть у каждого из этих двух городов, их индивидуальность. Их разная история о чем-то нам скажет, но едва ли сможет объяснить разную атмосферу этих городов сегодня.
Хельмут Беркинг и Мартина Лёв (Berking/Löw 2005) недавно предложили подумать о том, чтобы изучать города с точки зрения их собственной логики или своеобразия.
Тот, кто задается вопросом о собственной логике городов, принципиально исходит из того, что города и динамика их развития различаются, и эту разницу пытается объяснить. Предположение о различии выглядит поначалу правдоподобно, ведь по опыту мы знаем, что никто не спутает Франкфурт с Мюнхеном, Гамбургом, Кёльном или Оффенбахом. Но что составляет эту индивидуальность города, и как она возникла? Один из нескольких возможных ответов на этот вопрос будет предложен в данной статье. Мой исследовательский интерес направлен на развитие города как процесс, определяемый прежде всего экономическими и политическими факторами. Основная гипотеза состоит в том, что в ходе этого процесса формируется индивидуальность каждого города и это можно изучать, анализируя развитие города с точки зрения его собственной логики.
Что в этом контексте следует понимать под “собственной логикой”?
Хотя понятие логики означает правила мышления, понятие собственной логики подразумевает, что из определенного набора обстоятельств, или исходных условий, можно сделать определенные “логичные” выводы и обнаружить причинно-следственные цепочки и эффекты обратной связи, которые отличаются от тех выводов, причинно-следственных цепочек и эффектов обратной связи, которые вытекают из других начальных условий.
Идею собственной логики городского развития я понимаю как эвристическую модель и гипотезу, которая задает урбанистическому исследованию определенную перспективу. Она может служить удобным инструментом для конструирования взаимосвязей в истории и в современности города. Во-первых, можно задаться вопросом о том, как город стал тем, что он есть, и какие его индивидуальные особенности, сохраняющие свою действенность и по сей день, сформировались в ходе истории. Во-вторых, можно спросить, что и по какой причине сегодня в этом городе функционирует иначе, нежели в других городах, и чем в его истории это можно объяснить. Поскольку эти два вопроса взаимосвязаны, ответы на них в идеале следовало бы дать путем двух связанных друг с другом способов анализа – вертикального (уходящего в историю) и горизонтального (охватывающего настоящее).
2. Сравнение городов как метод
В связи с тем, что гипотеза о собственной логике принципиально предполагает несходство вариантов городского развития, сравнение городов выполняет несколько функций. Оно призвано показать:
1) что различия между городами действительно существуют;
2) в чем эти различия заключаются и какими специфичными для каждого из городов структурами они обусловлены.
В плане методологии это – индуктивный подход.
Возможны два способа сравнения: в поперечном срезе современной ситуации и в продольном историческом разрезе. В первом случае можно начать с нынешних всеобщих культурных, социальных, экономических или политических процессов и посмотреть, как с ними справляется сегодня – одновременно, но, согласно гипотезе собственной логики, по-разному – каждый из сравниваемых городов, а затем найти причины этих различий. Существует большое количество проведенных социологами и политологами компаративных эмпирических исследований, в которых делается вывод, что города по-разному реагируют на одинаковые общие процессы – такие как экономическая глобализация или европеизация и т. д. – и называются причины, которыми эти различные реакции обусловлены. Подобные сравнительные исследования дают нам материал и могут дать нам гипотезы для анализа с точки зрения собственной логики городов, но сами они не относятся к тому типу анализа, о котором здесь идет речь. Ниже это будет показано на двух примерах, которые были выбраны потому, что на их основе можно сформулировать гипотезы для изучения городов с точки зрения собственной логики.
Свежим примером такого анализа современных городов “в разрезе” является работа Биргит Глок под названием “Городская политика в уменьшающихся городах” (Glock 2006). В ней сравниваются Дуйсбург и Лейпциг. Автор констатирует, что в Дуйсбурге проблему уменьшения воспринимают просто как экономическую проблему, связанную с местоположением города, и решения ищут только на этом уровне, в то время как в Лейпциге помимо этого применяются еще и другие стратегии, призванные остановить уменьшение города. Откуда берется это различие? Глок указывает на то, что в Лейпциге из-за смены элит после 1989 г. были в меньшей степени переплетены друг с другом политические и экономические акторы, а это позволяло им проявлять большую гибкость, чем в Дуйсбурге.
С точки зрения подхода, направленного на изучение собственной логики городов, можно для создания общей системы координат позаимствовать из этого исследования идею, что в анализе нужно учитывать существующие в каждом из городов связи между политикой и экономикой, за которыми стоят местные структуры власти и иерархии. Но для того, чтобы приблизиться к ответу на вопрос о специфике развития Лейпцига, или о том, как сформировалась индивидуальность этого города, нужно было бы сравнивать с ним другие города бывшей ГДР, потому что смена власти и смена элит произошла и в них. Наконец, следовало бы проверить, нет ли еще каких-то причин – связанных, например, с многовековой городской традицией Лейпцига – которые оказывают определенное формирующее воздействие даже на новые элиты, на их мышление и действия. Точно так же, если интересоваться особенным в развитии каждого города, то надо было бы проверить, отличается ли переплетенность сфер политики и экономики, наблюдаемая в Дуйсбурге, от того, что можно наблюдать в других городах Рурской области.
Второй пример сравнения городов, который я хочу привести, – это книга Джанет Абу Лугод о Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе (Abu Lughod 1999). В качестве скорее побочного продукта своего анализа исследовательница указывает на то, что особый характер каждого города можно увидеть в различных паттернах организации пространства.
Уникальный характер Нью-Йорка или Лос-Анджелеса определяется, по мнению Абу Лугод, теми разными решениями, которые были приняты в каждом из этих городов в 1920 – 30-е гг. по поводу развития транспортных систем: в Нью-Йорке решили тогда продолжать развивать сеть рельсового транспорта, а в Лос-Анджелесе отказались от реализации уже имевшихся проектов по расширению рельсовой сети и вместо этого сделали ставку на автомобиль и начали строить скоростные автодороги – это был общий тренд в городах США. После Второй мировой войны объем строительства шоссе в Лос-Анджелесе быстро рос (Abu Lughod 1999: 253), а в 1961 г. были выведены из эксплуатации последние маршруты рельсового транспорта (ibid.: 254). Если в Нью-Йорке в 1990 г. около 60 % рабочей силы перемещалось на общественном транспорте, то в Лос-Анджелесе – всего 6 % (ibid.: 78). “Если искать действительно главную переменную, которая отличает Нью-Йорк от Чикаго и Лос-Анджелеса и определяет его уникальную форму городской застройки и городской жизни, то она заключается именно в этом” (ibid.).
В Нью-Йорке, считает Абу Лугод, пространство собирает людей вместе, а в Лос-Анджелесе – разделяет. Ньюйоркцы живут в сообществе (community), тогда как обитатели Лос-Анджелеса живут в своих приватных мирах. Это объясняется прежде всего различием транспортных систем: в одной люди встречаются и должны как-то взаимодействовать друг с другом в метро и на улицах, как в Нью-Йорке, где из-за этого образуется специфическая, заряженная энергией атмосфера; а в другой системе, как в Лос-Анджелесе, личный автомобиль разделяет людей. Нью-Йорк – общественный город, Лос-Анджелес – приватный (ibid.:. 424). Эти условия, по мнению исследовательницы, оказывают свое влияние на жителей городов:
Актеры, даже те, кто только что вступил в труппу, должны осваивать свои роли, учась у тех, кто уже на сцене; они должны научиться вписываться в паттерны, которые уже прочерчены по городскому ландшафту, должны научиться приспосабливаться к тому, что от них ожидается. Именно в этом смысле можно сказать, что стереотипы не полностью ложны, хотя всегда, конечно, существует большее разнообразие, чем то, которое допускают наиболее поверхностные из них (ibid.: 423).
Для построения нашей системы координат можно взять из этого исследования тот вывод, что городское пространство и социальные отношения, которые оно провоцирует, а также связанную с этим атмосферу города надо связывать с историческими причинами.
С другой стороны, в порядке критики можно заметить, что и это исследование не отвечает требованиям подхода, ориентированного на изучение собственной логики городов, поскольку, как признает сама Абу Лугод[127], в нем недостает связи между пространственным и социальным анализом, с одной стороны, и политическим и экономическим – с другой: ведь мы так и не узнаём из этой книги, почему в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе были приняты эти различные решения.
Поэтому было бы логично исследовать с позиций предлагаемого подхода структуры власти и их связь с пространственными структурами в городах.
Обобщим изложенные выше методологические соображения. К индивидуальности каждого города можно подступиться двумя способами. Во-первых, можно рассматривать “горизонтальную”, синхронную картину и, соответственно, собственные логики сравниваемых городов, основываясь на сегодняшнем реляционном порядке людей и вещей, материального и нематериального, и в ходе такого сравнения обнаруживать несхожие черты и объяснять их историческими причинами. Таким образом, нужно было бы из современной ситуации делать выводы о том, как она возникла, и для этого обращаться к прошлому города.
Во-вторых, можно строить исследование “вертикально”, как сравнение двух или нескольких городов в “продольном разрезе”, и начинать с национальной экономики, характеристики которой относительно стабильны. Если прослеживать их историю в течение достаточно длительного периода, то обнаружатся точки, в которых возникают различия, и можно будет изучить эволюцию этих различий в развитии каждого из городов по сегодняшний день. Именно таким способом будет осуществлено сравнение Франкфурта и Гамбурга.
Независимо от того, как мы будем действовать, нам потребуются критерии для сравнения.
3. Критерии для сравнительного анализа городов с точки зрения собственной логики
Подход, направленный на выявление собственной логики городов, позволяет обнаружить их специфическую динамику в истории и современности. Если мы понимаем собственную логику как причинно-следственные цепочки с петлями обратной связи, то это означает, что мы ищем те условия, которые определяют, с одной стороны, производство города и его изменения с течением времени (причинно-следственные цепочки), а с другой – возникающие при этом специфические механизмы, которые отвечают за воспроизводство структур в городе и их устойчивость во времени (эффект обратной связи).
Прежде всего будут выработаны релевантные для производства города и его трансформаций категории, задающие условия для воспроизводства городских структур. Производство и воспроизводство структур – это, в принципе, один процесс, но здесь для нужд анализа он будет разделен на части. Это разделение призвано нагляднее продемонстрировать, как структуры, которые, с социологической точки зрения, отвечают за производство города, а именно – границы и их регулирование, а также отношения власти в городе, – одновременно производят то, что имеет важное значение для воспроизводства города, потому что регулирует возвратность мышления, действий и чувств горожан в повседневной жизни, замыкая их снова на производственные структуры. В качестве таких механизмов саморегулирования или саморефлексии здесь будут рассматриваться политическая культура и самопонимание города, а также его архитектурные формы, облик и атмосфера, если они исторически сравнительно устойчивы. В этом процессе производства и воспроизводства города и возникает его индивидуальность.
В целях выработки критериев сравнения будут выделены социологически релевантные особенности городов, за которыми легко можно распознать один из вариантов данного Вебером определения западного города[128]. Дальнейшие рассуждения следует относить прежде всего к городам, возникшим в эпоху Средневековья в Европе, особенно в Германии.
Территория, границы города и их регулирование
В социологической урбанистике до сих пор уделялось слишком мало внимания территории города, потому что этот аспект был иррелевантен для классической социологии, построения которой не были привязаны к какому-либо конкретному пространству и месту (критику этого подхода см., в частности, в Löw 2001). Для изучения собственной логики, однако, вопрос территории может служить одной из важных точек отсчета.
Социологическое значение ареала или территории города заключается в его пространственной границе, которая отделяет то, что внутри, от того, что вне его. Это одновременно политическая, экономическая и социальная граница. По мере регулирования границы во внутреннем и внешнем направлениях город исторически постепенно формируется как все более и более сложное социальное образование (в том числе с определенными гендерными отношениями). Каждый день город производится и воспроизводится путем соотнесения себя со своими границами. Возведение стен вокруг городов в Средневековье было зримым материальным выражением устойчивых границ между пространствами внутри и вне города, однако этот символ обманчив в том, что касается социологического значения границы. Она – кроме ситуации войны – не является непроницаемой ни в ту, ни в другую сторону. С социологической точки зрения, мы рассматриваем ее открытие и ее закрытие, ее пересечение, ее размыкание и расширение в качестве точки отсчета для мышления и действий жителей этой территории, благодаря которым город и возникает. По-английски мы бы сказали: “Doing boundaries is doing the city”.
Границы городской территории определяют зону действия городской политики: она направлена внутрь, и посредством действующих для городской территории правил, норм, инфраструктуры, ставок налогообложения и т. д. она создает внутреннюю и внешнюю структуру города. За его границами действуют другие законы. Благодаря этому также становится ясно, где город, а где не город, кто к нему относится, а кто нет.
Важнейшее социологическое значение для развития города граница – реальная и символическая граница в мышлении, деятельности и чувствах горожан – приобретает не только потому, что она обозначает различие между тем, что внутри, и тем, что снаружи, и посредством чего, собственно, и производится и воспроизводится город, но еще и потому, что тем самым к городской политике предъявляются требования, касающиеся регулирования границы. Города в том смысле, в каком мы о них здесь говорим, возникают только с “политическим” рождением города – в тот момент, когда они получают в свои руки контроль над собственной границей посредством привилегий, касающихся сбора таможенных пошлин, погрузки и выгрузки транзитных товаров, проведения ярмарок, строительства порта и т. д. Благодаря этому обеспечиваются постоянные доходы в городскую казну и городская община может сама принимать решение об их использовании. Это политическое рождение города состоялось во Франкфурте, когда в 1235 г. он получил привилегию на проведение ярмарок (купцам, едущим на ярмарку и с ярмарки, гарантировалась королевская защита) и когда эта привилегия была подтверждена в 1356 г. Золотой буллой, в которой Франкфурт был определен в качестве места избрания и коронации императоров. В 1372 г. город получил статус Имперского города и стал напрямую подчиняться императору, а не местным правителям – его наместникам. В силу своего центрального географического положения Франкфурт стал городом политических собраний и ярмарочной торговли.
В Гамбурге в 1188 г. тогдашним правителем города был построен порт на реке Альстер, благодаря которому этот город стал известен как “ворота в мир”. Торговые, таможенные и навигационные права Гамбурга, распространявшиеся на нижнее течение Эльбы, были подтверждены в 1189 г. грамотой императора Барбароссы (поддельной). С 1190 г. город управлялся собственным советом.
Города всегда так или иначе зависят от своего политического, экономического, социального и культурного окружения. На изменения в этом окружении им, как правило, приходится реагировать и адаптироваться к ним. Таким образом возникает требование к политическим властям города – обеспечивать регуляцию его границ, а это включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю политику (Moraw 1994: 107).
Хозяйственная деятельность купцов и производителей, которые ищут рынки для закупок или сбыта, выходит за границу территории. В силу того, что у политической и экономической деятельности разные радиусы действия и разные логики, возникает напряженность между политикой и экономикой, касающаяся пограничного регулирования. Требование экономики заключается в том, чтобы политика действовала в ее интересах, что та и продолжает делать по сей день. Экзистенциальная связка политики с экономикой, существующая в городе, может служить объяснением того постоянного стремления к объединению в одних руках политической и экономической власти, которое, как показывают примеры Франкфурта и Гамбурга, может принимать различные институциональные формы. На этом фоне можно также понять и конфликты между различными группами в городе, имеющими различные экономические интересы в отношении регулирования границ: например, в Средние века это были конфликты между купцами (выступавшими за открытый город) и ремесленными цехами (выступавшими за закрытый город), а сегодня – это конфликты между экономическими субъектами, ориентирующимися на глобальный или же на локальный рынок. Такие конфликты могут приводить к борьбе за политическую власть. Урегулирование конфликтов между различными экономическими интересами при регулировании границ между городом и его округой или регионом (розничная/ оптовая торговля) и сегодня является важной темой для городов, в том числе для Франкфурта и Гамбурга.
Другая фундаментальная проблема в области регулирования границ города связана с иммиграцией и эмиграцией. С одной стороны, то и дело возникает нужда в новых жителях. Долгое время господствовало структурное принуждение к открытию территории для иммигрантов, потому что в Средние века и в раннее Новое время население регулярно сокращалось – прежде всего в результате эпидемий и инфекционных болезней. Жители были необходимы, чтобы сохранить экономический и социальный порядок. Сегодня прирост населения также необходим для экономического развития. С другой стороны, принимаются меры к тому, чтобы открытие границы города для иммигрантов происходило лишь в той мере, в которой это будет, с точки зрения политических властей, на пользу внутреннему порядку (и существующим отношениям власти). Средством регулирования иммиграции исторически было право гражданства; с тех пор как существует свобода передвижения, такими средствами являются политика размещения производительных сил, жилищная, культурная политика и вообще все, что делает город привлекательным для нового населения и/или отпугивает нежелательное бедное население, – например, целенаправленное пренебрежение строительством дешевого наемного жилья, нетолерантное истолкование норм общественного порядка и т. д. Политика в области регулирования границ означает внимание к ситуации внутри и за пределами города и требует гибкости.
Всё сказанное выше означает: пространственная граница представляет собой социальный факт, потому что она обеспечивает социальное разделение между тем, что внутри, и тем, что снаружи, и таким образом город производится и воспроизводится, потому что различия между радиусами действия и логиками политики и экономики порождают напряжение, требующее урегулирования как внутри, так и вовне. Точно так же численность прибывающего и убывающего населения должна регулироваться таким образом, чтобы не утрачивалось внутреннее равновесие, которое поддерживает господствующий порядок. Все эти регулировки порождают структурные образования как в пределах, так и за пределами города. Регулирование границы требует гибкости, дабы можно было реагировать на политические, экономические, социальные и культурные изменения в окружающей среде на всех уровнях.
Гамбургу и Франкфурту удавалось по-разному и с разной степенью успеха регулировать свои границы, будучи имперскими городами, подчиненными непосредственно кайзеру, затем вольными городами, а затем и находясь в структуре федеральных земель. Разница определялась прежде всего отношениями власти внутри этих городов.
Города как центры власти
Гидденс (Giddens 1995: 12) и многие другие указывают на то, что города были центрами власти, пока национальные государства и промышленный капитализм не изменили навсегда местные социальные и политические условия, урезав политические возможности городов в области самостоятельной организации своей экономической и социальной жизни. Поэтому, как полагают эти авторы, сейчас города уже не являются центрами власти. Этот ход мысли в основном и воспроизводится в немецкой социологии города и в исследованиях по локальной политике[129]. Никто, наверное, не будет оспаривать то, что промышленный капитализм и образование национальных государств означали перелом в истории городов, однако работа в рамках подхода, направленного на анализ собственной логики, заставляет нас удерживать в поле внимания именно город. С такой точки зрения, переход от широкой автономии некоторых городов в Средние века к зависимому положению в рамках территориальных монархий, а потом и национальных государств можно рассматривать как процесс, означавший относительную утрату городами политической власти, но еще оставлявший за ними некоторые возможности самостоятельного регулирования границ даже в централизованных государствах, таких как Англия и Франция. Власть у Гидденса и других авторов рассматривается только в отношении к более крупным территориальным единицам, в которые встроены города. Но еще более проблематично то, что учтены только такие отношения власти, которые служат основой политического господства. В противоположность этому, наш подход изначально предполагает существование социальных, экономических и культурных отношений власти в самом городе. Власть, таким образом, понимается как распоряжение ресурсами, с помощью которых можно влиять на поведение других. Это позволяет нам увидеть кроме политической власти еще и социальную, экономическую и культурную власти в городе и направить больше внимания на их переплетение или разделение и на изменения, которые происходят в этих блоках, когда исчезают источники тех или иных ресурсов. Если политическая власть утрачивает внутреннюю или внешнюю поддержку со стороны той политической системы отношений, в которую встроен город, это может вызвать в нем фундаментальные изменения, в которые затем окажутся втянутыми и механизмы, прежде использовавшиеся для воспроизводства этих структур.
Поэтому я рассматриваю города и сегодня как территориальные центры власти, так как, с одной стороны, в рамках муниципальной администрации, коммунального самоуправления или других политических институтов в городах принимаются решения, касающиеся развития и распределения ресурсов, а с другой стороны, в городе наличествуют и иные ресурсы – экономические (деньги и имущество), социальные (престиж), культурные или религиозные (обещания спасения, идеологии), – которые дают власть. Так что город можно анализировать с точки зрения разных источников и иерархий власти, меняющихся с течением времени. В этом смысле – в смысле наличия различных источников и иерархий власти – город в самом деле является центром власти.
В зависимости от своих ресурсов и источников разные иерархии предъявляют и различные требования к политике в том, что касается регулирования границы: например, группа, представляющая общественную власть, может исторически стремиться к тому, чтобы обеспечить дальнейшее существование самой себя и своих капиталов путем выдачи своих дочерей замуж за неместных мужчин, и поэтому она формулирует соответствующие требования к праву на гражданство. Группа, обладающая экономической властью, в силу логики своего бизнеса заинтересована в высоком уровне автономии и в соответствующем регулировании границы. Ее притязания не всегда можно примирить с притязаниями всех прочих экономически релевантных групп в городе. Политическая власть, со своей стороны, заинтересована в сохранении власти и в ее легитимности. Она использует свои средства для того, чтобы регулировать границу во внутреннем (механизмы урегулирования конфликтов) и внешнем (союзы, правила обороны) направлениях. Ее задача состоит в синхронизации экономических и социальных условий в городе в интересах социального мира.
Механизмы воспроизводства города, или отношений власти
Из взаимодействия и противодействия групп, обладающих властью, а также из установленных и принятых ими в ходе борьбы за власть механизмов урегулирования конфликтов возникает относительно постоянная политическая культура города. В политической культуре города формируется общее представление о легитимности господства, о том, по какой причине оно признается, об обращении с противниками, об отношении к тем, кто не допущен к власти, об отношении к прошлому города и о том, как быть с социальными противоречиями в городе. Политическая культура определяет политический “климат” в городе и его открытость миру или, наоборот, закрытость и т. д. Нормы и ценности, которые составляют политическую культуру, – это писаные, а зачастую и неписаные правила, которые обычно всем известны, всеми осознаются и определяют характер взаимодействия между различными группами, обладающими властью.
Кроме того, из взаимодействия и противодействия этих групп в городе рождается представление города о самом себе, о своем политическом статусе и экономической функции. Самопонимание города, как и политическая культура, представляет собой конструкт, который проникает в мышление, действия и чувства, а потом начинает управлять ими как нечто само собой разумеющееся. С этими конструктами связаны ожидания, за которыми следуют соответствующие реакции. Если они в течение длительного времени остаются стабильными, то апелляция к ним становится в данной культуре чем-то само собой разумеющимся и рефлексия по ее поводу прекращается. А с помощью апелляции к тому, что само собой разумеется, стабилизируются стоящие за этим контексты действий, институты и структуры власти.
Политическая культура и самопонимание города сами по себе являются нематериальными ориентирами для касающихся города действий, мыслей и чувств, которые могут иметь в повседневной жизни вполне материальные последствия. С точки зрения подхода, интересующегося собственной логикой городов, эти ориентиры способствуют воспроизводству отношений власти в городе. Конструкты “политическая культура” и “самопонимание города” – это механизмы, с помощью которых запускаются процессы обратной связи.
Но существуют и иные механизмы, такие как структура застройки и облик города, – они имеют материальную природу и тоже должны рассматриваться как продукт структур власти. Ведь каждая из групп, обладающих властью, заявляет свои материальные притязания на территорию города, которые эти группы реализуют в постройках, домах, городских пространствах, церквях, борделях, заводах и т. д. В результате возникают особые пространственные констелляции и образы города, которые, в свою очередь, присутствуют в повседневной жизни горожан и могут структурировать их повседневность, но прежде всего здания и облик города символически демонстрируют жителям городские властные структуры в их овеществленной форме. Эти структуры могут требовать от людей того или иного специфического поведения, как например в церкви, в ратуше, на вилле предпринимателя, на рынке. При этом возникают определенные паттерны поведения, социальные отношения и атмосфера, которые обычно поддерживают отношения власти. Но все зависит от субъективных ощущений, потому что архитектурные структуры не детерминируют социальное действие, но могут делать те или иные действия и коммуникации возможными или невозможными. На примере процесса модернизации застройки во Франкфурте во второй половине XVIII в. я показала, в частности, как уничтожение герэмсов [Geräms – небольшая пристройка с фасадной стороны дома, через решетчатые окна которой жильцы общались с прохожими и соседями. – Прим. пер.] при перестройке старых фахверковых домов в представительные барочные бюргерские дома, замена обычных колодцев насосными колонками, а также более высокая чувствительность к запахам привели к тому, что женщины и женские виды деятельности были вытеснены из пространства улицы с его коммуникационными возможностями внутрь домов, а там – из передней части дома в заднюю (Rodenstein 2002).
С этой точки зрения снос зданий, перестройка или строительство новых всегда означают больше, чем просто архитектурное и функциональное изменение: это артефакты власти, они меняют или закрепляют то или иное существующее положение дел, которое воспринимается как само собой разумеющееся.
Поэтому исследование собственной логики направлено также и на этот материальный уровень функционирования городов, с которым индивидуальность города взаимосвязана в том, что касается его повседневной жизни, облика и создаваемой ими атмосферы. В настоящее время исследователи уделяют все больше внимания прежде всего конфликтам, касающимся облика городов, который визуально репрезентирует глобализацию (Rodenstein 2006), и атмосфере городов, “которая является их неотъемлемой частью и в определенном смысле их символизирует” (Hasse 2008: 204). Это повышенное внимание обусловлено воздействием атмосферы на то, чем в социологическом анализе так долго пренебрегали, а именно – на настроение и душевное состояние человека, которые, в свою очередь, проявляют себя в качестве потенциала, формирующего атмосферу города.
Ниже на основании этих критериев сравнения будут исследованы исторически сложившиеся непохожие друг на друга констелляции власти во Франкфурте и в Гамбурге – особенно отношения между политической и экономической властью, а также вытекающие из них последствия для регулировки границ в условиях политических и экономических кризисов. В результате возникают различные политические культуры, различное самопонимание городов и различные их облики и атмосферы, которые, будучи вместе взятыми, и составляют индивидуальность города.
Франкфурт и Гамбург были выбраны для сравнения по трем причинам. Во-первых, оба они были важными торговыми городами, имперскими городами и, наряду с Любеком и Бременом, вольными городами в составе Германского союза. Они и сегодня входят в число наиболее преуспевающих больших городов ФРГ, поэтому вопрос о различиях между ними может указать нам на индивидуальность каждого из этих двух городов. Во-вторых, благодаря сравнительно-историческому исследованию, проведенному Хельмутом Бёме (Böhme 1968)[130], в нашем распоряжении имеется большое количество материала и гипотез о Франкфурте и Гамбурге для анализа их с точки зрения собственной логики. В-третьих, я долго жила в этих двух городах и поэтому при их анализе чувствую себя увереннее, чем при анализе других, которые я знаю только с профессиональной точки зрения.
4. Исходные условия Гамбурга и Франкфурта
Географическое положение и заданные им природные условия – один из важных факторов, определяющих, чем город может стать, а чем нет. И Гамбург, и Франкфурт были торговыми городами, пережившими в XIII в. похожие фазы экономического расцвета. Однако причины расцвета были разные.
Гамбург был через Эльбу связан с Северным морем и располагался на периферии Священной Римской империи, а Франкфурт – в самой ее середине. Это несходство географического положения порождало разные проблемы регулирования границ и разные формы переплетения политической, экономической и социальной власти. Таким образом, исходные условия у городов были тоже разные.
После первых экономических успехов в обоих городах эти успехи были закреплены посредством привилегий, касавшихся границ. Так началось “рождение” Франкфурта и Гамбурга, или, точнее, их независимости.
В городе ярмарок вопросы регулирования границ выглядели совсем иначе, нежели в городе морской торговли, и это имело разные внутренние и внешние последствия.
Ярмарочная торговля означала, что франкфуртские купцы оставались на месте и могли ждать, но пребывали в постоянной зависимости от императора и соседей, потому что те могли в любое время затруднить доступ приезжих купцов к городу. Следовательно, было необходимо тесное сотрудничество с императором и соседями, чтобы обеспечить проезд торговцев на ярмарки через чужие земли (Moraw 1994: 107). Видное положение Франкфурта было достигнуто им не самостоятельно, а в конечном счете благодаря императорской поддержке (Böhme 1968: 33).
Гамбургские же купцы должны были сами заботиться о том, чтобы их торговым плаваниям за море ничто не мешало, так как император был от них далеко. Поэтому купцы сами становились дипломатами, политиками и военачальниками, не попадая в зависимость от императора. В деле достижения независимости города, его господства над Эльбой, обеспечения надежного сообщения с Любеком – крупным и важным городом, которому Гамбург служил воротами в Северное море, – значительную роль играла вся коммуна, без помощи которой купцы не могли бы добиться успеха. Это различие исходных условий, определявшееся характером торговли и проблемами безопасности границ для ее обеспечения, сказалось в том, какая политическая власть установилась в том и в другом городе.
В Гамбурге политическая власть не была полностью в руках Совета: ему приходилось делиться ею. В отличие от Франкфурта, политическая система в Гамбурге, закрепленная уже в первом своде городского права (1270 г.), основывалась на воле к консенсусу между Советом и коммуной[131]. Совет и коммуну следует рассматривать как два органа политической власти Гамбурга, которые должны договариваться и контролировать друг друга. Эта система становится предметом многих конфликтов и часто ставится под вопрос, но потом каждый раз закрепляется вновь – последний раз в 1712 г.
Поскольку имелись эти два органа политической власти и поскольку купцам часто приходилось надолго отлучаться из Гамбурга, здесь не сформировался патрициат (Böhme 1968: 44). Патрициат – это круг богатых и давно живущих в городе семей, который имеет тесные и постоянные связи со сферой власти (Hansert 2000: 13). В Гамбурге, таким образом, власть общественная и экономическая не были столь тесно переплетены с политической, как во Франкфурте.
Из оседлых франкфуртских купцов и банкиров в XIII–XIV вв. образовался патрициат. Коммуна вместе с цехами занимала в Совете только одну скамью против двух наследственных скамей патрициев, которые поэтому всегда могли рассчитывать на большинство при голосованиях. В 1377 г. Совет, в котором главную роль играли старинные богатые семейства крупных купцов и землевладельцев, окончательно подчинил своей власти цехи, которые до того принимали в свои ряды (и, соответственно, в город) людей извне, не имевших права гражданства, и осуществляли собственное судопроизводство (Bothe 1913: 128ff.). Так патрицианский Совет обрел монополию на регулирование границ города и надолго закрепил политическое господство патрициев и их экономических интересов, хотя до некоторой степени коммуна и продолжала участвовать в управлении Франкфуртом. Политическая, экономическая и социальная власть были объединены в руках одной группы. Кроме того, социальная мобильность, приводившая к вхождению в патрициат, была невелика.
В то время как во Франкфурте круг патрициев оставался относительно замкнутым, характерной чертой Гамбурга было то, что иммигранты имели возможности для восходящей социальной мобильности. До XVII в. в ганзейских городах доля иммигрантов среди полноправных представителей коммуны превышала долю местных уроженцев. “Если это так, то становится понятнее, почему так много лиц, вновь принятых в гражданство, смогли подняться до высших должностей в городе”, – пишет Долленже (Dollinger 1966) и указывает на тот факт, что из четырех бургомистров Гамбурга, занимавших этот пост в 1490 г., ни один не был ни уроженцем города, ни сыном гамбургского гражданина (Dollinger 1966: 173). Во Франкфурте дело обстояло иначе: здесь бургомистры всегда происходили из “группы знатных и богатых семей – патрициев” (Jahns 1991: 156).
Это сравнение исходных условий развития двух городов в Средневековье показывает, что в зависимости от географического положения, от связанных с ним экономических условий и характера коммерческой деятельности, очевидно, формировались и различные формы политического господства, и различная плотность переплетения политики и экономики, и, соответственно, разная политическая культура.
Если в Гамбурге – грубо говоря – сумели реализовать модель городской власти, построенную на консенсусе между Советом и горожанами, то во Франкфурте мы наблюдаем модель доминирования Совета над коммуной.
Значительно различалось и самопонимание этих двух торговых городов. Во Франкфурте оно покоилось на двух столпах: во-первых, будучи местом избрания и коронации императоров, он по своему политическому статусу стоял выше остальных многочисленных имперских городов; во-вторых, будучи городом ярмарочным, он зависел от властей окрестных территориальных государств, которые могли помешать доступу купцов на ярмарку. Самопонимание Гамбурга было сосредоточено на порте, через который шла торговля по морю и по суше. Политически более независимый, чем Франкфурт, Гамбург был членом Ганзы – ассоциации немецких купцов, имевшей привилегии в других странах, – но, в отличие от других ганзейских городов, закатом Ганзы он не был серьезно ослаблен.
Различия в исходных условиях предопределили и различные условия для дальнейшего развития Франкфурта и Гамбурга, которые теперь будут поочередно рассмотрены.
5. Констелляции власти и регулирование границ во Франкфурте и Гамбурге
Франкфуртская модель власти и ее последствия
Если мы посмотрим на дальнейшее историческое развитие Франкфурта, то увидим, что в связи с той моделью неравного распределения власти, которая была характерна для его политического строя, экономические интересы крупного купечества были подчинены политической власти. Это легко объясняется, поскольку сначала политическая власть была в руках патрициата – группы, которая обладала и экономической властью в городе. Одна и та же группа сосредоточила у себя политическую, экономическую и социальную власть. Поэтому Совет, состоящий на две трети из представителей патрициев, руководил коммерческими делами с помощью своих комиссий и должностей, на которые он назначал людей по своему усмотрению (Böhme 1968: 106). У экономических сил не имелось никаких собственных институтов, которые осуществляли бы собственное регулирование границы. Эта констелляция власти, основанная на доминировании патрициата, не менялась со временем, а неоднократно поддерживалась извне, императором. После того, как экономически активный слой патрициата в XV–XVI вв. почти полностью удалился от коммерческой деятельности и стал жить на проценты со своих капиталов, он по-прежнему доминировал в Совете. Теперь общественная и политическая власти стали одним целым и не допускали новые группы, представлявшие экономическую власть, до политического господства. Эта общественная власть – патрициат, опиравшийся на свое давно приобретенное богатство и земельные владения, – была организационно объединена в две аристократические корпорации, которые имели наследственное право на членство в Совете. Поскольку ярмарочная торговля пошла на убыль, после Тридцатилетней войны во Франкфурте радушно принимали состоятельных беженцев – реформатов, католиков и лютеран, купцов, менял и ремесленников. Границы были для них открыты. Однако Совет не допускал, чтобы они (за исключением лютеран) становились полноправными гражданами. Право гражданства использовалось в интересах сохранения власти патрициев.
Новые активные экономические силы обязаны были подчиняться политической власти патрициата. Чтобы расширить границы торговли, вновь прибывшей группе менял, банкиров и ремесленников потребовалась бы хорошо функционирующая биржа, независимый переводной банк и реорганизация купеческих корпораций. Переселившиеся во Франкфурт купцы-реформаты, католики и иудеи с удовольствием образовали бы учреждение для представительства своих интересов, чтобы расширить границы денежной торговли и в качестве посредников проводить через Франкфурт “огромный транзитный поток из Англии, Нидерландов, Франции, северной и западной Германии в южную Германию, Швейцарию и Италию и обратно” (Böhme 1968: 46). Но Совет не позволил этого, дабы предотвратить ухудшение экономического положения патрициата и дальнейший приток иммигрантов. Новых богатых жителей Франкфурта так и не допускали в Совет, если только они не были “гражданами по жене”[132]. Так цеховые традиции и патрицианские привилегии тормозили развитие коммерции во Франкфурте, которая теперь включала в себя еще и денежный рынок и ремесло. Патрициат продолжал господствовать в городе до начала XIX в.
При ретроспективном взгляде кажется, что закрепленное наследственным членством в Совете многовековое господство патрициата, почти не дававшего слова иным группам бюргерства, нуждается в объяснении. Хотя такая ситуация и приводила к крупным конфликтам, которые император улаживал с помощью политических уступок недовольным[133], практически неизменным оставалось доминирование слоя, который свое экономическое значение постепенно все более и более утрачивал. Решающим фактором успеха патрицианской элиты было то, что даже после тяжелых кризисов – таких как Реформация, восстание под руководством Фетмильха, политический кризис начала XVIII в. – ей снова и снова удавалось в своих непрерывных усилиях по регулированию границ (что означало отношения с вышестоящими политическими структурами) добиваться благорасположения сменявшихся императоров, в том числе путем денежных выплат. Благодаря этому город сохранял свои специфические источники дохода, содействовавшие благосостоянию и низших слоев, отрезанных от всех ресурсов власти. Город считался богатым и поэтому оставался привлекательным для иностранцев и беженцев, несмотря на ограничения, касавшиеся прав гражданства. Политическая культура доминирования была внутри города основана на политике исключения, но легитимировалась за счет своей экономической успешности.
Патрицианское господство закончилось только тогда, когда с приходом Наполеона окончательно рухнула Священная Римская империя германской нации. Франкфурт тоже был захвачен французами и получил нового властителя – Карла Теодора фон Дальберга, который сначала (1806–1810) был князем-примасом, а затем (1810–1813) великим герцогом. При нем были введены новые, современные законы: эмансипация евреев, отмена наследственных мест в Совете и др. В 1808 г. во Франкфурте была наконец создана торговая палата. Дальберг даже наделил ее законодательными функциями в сфере коммерческой деятельности (Böhme 1968: 126) и таким образом, путем создания нового института, поддержал отделение экономической власти и полномочий регулирования границы от политической. Однако после отставки Дальберга палате не удалось сохранить за собой этот статус.
Старый имперский город был включен в качестве вольного города в Княжеский союз и продолжал выполнять функции столицы в донациональный период. В новой конституции Вольного города Франкфурта 1816 г. Совет был переименован в Сенат и дополнен законодательным собранием. Торговая палата была включена непосредственно в политическую систему: теперь она могла направлять в Сенат трех своих представителей, и эти сенаторы получали должности. В дальнейшем значение Торговой палаты определялось конфликтом интересов между стремившимися к свободе торговли купцами-оптовиками и банкирами, с одной стороны, и купцами, торговавшими в розницу, с другой. Первые вскоре вышли из Торговой палаты и стремились приобрести непосредственное влияние на политику Совета – и преуспели в этом[134]. Теперь в городе снова была правящая группа, сосредоточившая в своих руках политическую, экономическую и общественную власть, хотя Конституция и предусматривала участие граждан в работе органов управления. Но во Франкфурте не было такого принуждения к консенсусу, как в Гамбурге. Новая правящая элита использовала свою политическую власть для сохранения прежних условий в собственных экономических интересах. Так, “эмансипация евреев” была отменена, попытки демократизации тормозились, свобода занятия ремеслами без принудительного вступления в цехи не допускалась вплоть до 1864 г., индустрии не оказывалось поддержки. Но не все были с этим согласны.
Господствовавшая во Франкфурте в 1860 г. политическая культура и ее воздействие на общество были таковы, что, как пишет Бёме, город жил в постоянном конфликте между Сенатом и Законодательным собранием (Böhme 1968: 235). Кроме того, углублялся социальный “раскол в городе. Патрицианские семьи, денежный патрициат и еврейские крупные финансисты задавали тон в обществе и в политике, будучи отделены от буржуазно-либеральной элиты, с которой они, однако, были вынуждены сотрудничать. А от них, в свою очередь, был отделен низший слой буржуазии, образ действий которого был «демократическим», но который не имел никакой связи с рабочим движением, набиравшим обороты начиная с 1859 г.” (ibid.: 236).
Правящий класс жил хорошо, пользуясь благоприятными обстоятельствами, постоянным присутствием Федерального собрания (союзного сейма немецких князей) в городе. Даниэль Генрих Мумм, первый бургомистр после 1866 г., оглядываясь впоследствии назад, назвал это состояние своего рода “блаженной самодостаточностью” (Forstmann 1991: 384).
После распада Священной Римской империи германской нации Франкфурту не пришлось отказываться от прежнего самопонимания: он все еще мог рассматривать себя как главное место политических форумов в Германии и как важный в экономическом плане центр ярмарок и финансовых операций. Об утрате статуса имперского города, подчиненного непосредственно императору исчезнувшей теперь империи, жалеть не приходилось, потому что после 1815 г. постоянное присутствие Бундестага превратило благополучную жизнь Франкфурта в роскошную и сформировало соответственную общественную атмосферу:
Жизнь высокооплачиваемых дипломатов Бундестага не только придавала вольному городу внешний блеск, была не только источником [его] благосостояния, но также оказывала непреходящее влияние на его социальный организм. Ведя одинаково аристократический образ жизни, дипломаты Бундестага и крупные купцы слились в невиданное ранее во Франкфурте однородное общество, которое своими дорогими экипажами, изысканными обедами, зваными вечерами и блестящими балами изображало маленький высший свет (Klötzer 1991: 322).
Социальное общение во Франкфурте определялось не высотой духа и интеллекта, а “настроением, изяществом и блеском, но не без мещанского уюта” (ibid.). Франкфуртская элита, таким образом, была тесно связана с политической группой – дипломатами Бундестага, от которых вольный город был политически зависим. Эта пространственная и личная близость порождала отношения лояльности, из-за которых положение города в ситуации политического кризиса между Австрией и Пруссией было оценено неверно. В соответствии с традицией и как столица Германского союза, главой которого был австрийский император, Франкфурт принял сторону Австрии и поддерживал ее в Бундестаге. Неправильно оценив свое положение, город заявил о политическом нейтралитете, когда между Австрией и Пруссией началась война, закончившаяся в пользу Пруссии. Франкфурт, где существовала и пропрусская партия, был завоеван пруссаками и с 1866 г. превратился в провинциальный прусский город.
Во Франкфурте правящая элита в силу своей близости и разнообразной – в том числе экономической – зависимости от Федерального собрания уже не могла вести себя с такой же самостоятельностью и такой же гибкостью, какие проявил Гамбург, в самом главном тогда вопросе регулирования границ, который звучал так: как можно сохранить автономию города?
Но захват Франкфурта Пруссией не следует понимать как результат какого-то неправильного решения, которое могло бы оказаться и иным: он был предопределен логикой царившей в городе констелляции власти.
Лишившийся власти правящий слой заботился прежде всего о собственных экономических интересах, а они были связаны с финансовым рынком. Значительную роль в том, что Франкфурт упорно держал сторону Австрии, сыграли давние и интенсивные политические, а также экономические связи между ними. Среди банкиров и биржевых дельцов никто (за исключением Бетмана и Мецлера) не ориентировался на развивавшиеся новые отрасли индустрии. Антииндустриальная политика, с одной стороны, защитила город от модернизации, от фабрик и от рабочих, но одновременно привела к застою и проявила неспособность Франкфурта регулировать границу в соответствии с новыми обстоятельствами.
На тот момент, когда Франкфурт в 1866 г. отошел к Пруссии, его общество было расколото по нескольким линиям, так что у буржуазии не было других крепких связующих уз, кроме памяти о славном прошлом и скорби по поводу утраты независимости. Не было ничего, что объединяло бы всех граждан и могло бы связывать прошлое с неким возможным будущим. Нельзя было построить будущее ни с помощью воспоминания о временах империи или Княжеского союза, ни с помощью обращения к традиции Конституционного собрания в церкви Св. Павла в 1848 г.: жители Франкфурта были свидетелями его краха. В Гамбурге же, как будет показано в дальнейшем, когда город оказался в столь же опасной ситуации, что и Франкфурт, такие объединяющие всех узы существовали.
1866 год стал в истории города Франкфурта-на-Майне годом эпохального перелома. Насильственный конец республиканской самостоятельности Франкфурта означал резкий обрыв той длительной традиции существования в качестве города-государства, которая определяла жизнь Франкфурта со времен высокого Средневековья (Forstmann 1991: 361).
Франкфурт утратил свой особый политический статус вольного города и места политических форумов, а кроме того – свои лидирующие позиции на финансовом рынке. Та роль, на которой основывалось самопонимание этого города, была потеряна или перешла к Берлину. Эта утрата нанесла городу тяжелую рану – у него больше не было такого самопонимания, которое могло бы указывать дальнейшее направление для мышления, действия и чувствования жителям города и оказывать стабилизирующий эффект.
Франкфурт в поиске нового самопонимания
Как было жить дальше Франкфурту, когда он больше не мог быть главным местом политических форумов, а превратился в провинцию прусской монархии? Рассматривать себя по-прежнему в качестве центрального места собрания политических сил, от которых он зависел, город уже не мог, как не мог он и считать себя важнейшим банковским центром.
И вот город начал искать новое самопонимание, новую функцию и новый статус в политической структуре. Но набор вариантов, из которых еще можно было выбирать, выглядел отрезвляюще. Франкфурт должен был стать “одним из центральных пунктов большой мировой жизни и сообщений”, – так смутно представлял себе будущее города в 1868 г. обер-бургомистр Мумм (Forstmann 1991: 384).
Для Франкфурта начался теперь новый путь: в политической сфере он определялся прусскими законами о муниципальном самоуправлении и об избирательном цензе, в экономической сфере это был путь индустриализации (которой содействовали бургомистры Мумм, Микель и Адикес), догоняющей модернизации инфраструктуры, расширения городской территории и систематического градостроительного планирования. Это привнесло свежие веяния и в остальные стороны жизни города. Так, на взгляд франкфуртского историка Боте (Bothe 1913: 714), “городская жизнь приобрела более свободный свежий тон, всё обывательское, мелочное отмирало”. Но сохранялся еще позднесредневековый центр города, а с ним – живая память о богатом традициями прошлом. С одной стороны, готические дома сносили, чтобы прокладывать новые улицы, а здание ратуши достроили в историцистском стиле. Но, с другой стороны, город в то же время выкупал исторически значимые здания, такие как Заальхоф (где, как предполагали, располагался бывший императорский дворец), дворец семьи Турн-и-Таксис (в котором когда-то заседало Федеральное собрание) и Золотые весы (важный памятник фахверковой архитектуры), с целью не допустить, “чтобы эти места памяти великого прошлого подверглись бесцеремонной перестройке” (Bothe 1913: 722). Городские политики сознавали, что приезжим, которые посещали ярмарку, надо было предъявить и какие-то достопримечательности.
На рубеже века обозначилась проблема в области регулирования границы: состоятельные франкфуртцы стали переселяться в окрестные городки, расположенные у подножья Таунуса. Чтобы предотвратить отток, Адикес инициировал проектирование жилого района на Гинхаймском холме (“Квартал дипломатов”), который должен был стать для этой группы привлекательной альтернативой переезду. Но в итоге план не сработал, и отток богатых жителей стал перманентной проблемой для города и до сих пор таковой остается.
Когда Франкфурт начал осознавать себя промышленным и торговым городом, изменилась и его атмосфера. Как писал в 1913 г. Боте, новое время и его требования заставили город облечься в новые одежды:
Ведь движение стало теперь огромным, и богатый воспоминаниями Франкфурт превратился в блестящий большой город, в котором охотно останавливаются путешественники и который благодаря своему удачному расположению между Севером и Югом, а также пересечению многочисленных железнодорожных линий, кажется, более, чем все прочие города, предопределен служить местом для проведения собраний (Bothe 1913: 792).
Новая жизнь, начавшаяся после 1866 г., с новыми констелляциями власти, которые были заинтересованы в модернизации города, вскоре породила и новую промышленную элиту, которая перемешивалась со старой крупной буржуазией. Это способствовало росту влияния и интеграции еврейского населения Франкфурта. В 1914 г. здесь был основан – главным образом на деньги еврейских меценатов – первый университет с социологическим факультетом. Франкфурт рассматривал себя как промышленный город, а также как место проведения ярмарок и транспортный узел. Среди его небольшого населения все еще было почти 500 миллионеров.
Переход от Франкфурта, каким он был до Первой мировой войны, к Франкфурту послевоенному историк Ребентиш (Rebentisch 1991: 445) описывает так: “Война и период рецессии уничтожили рентный капитал и поколебали основы экономики Франкфурта”; причину этого усматривали в “утрате духовной субстанции некогда господствовавшей крупной буржуазией”. Франкфурту, “как это уже много раз бывало в его истории, вновь грозила опасность после стольких лет социальных и культурных усилий в довоенный период скатиться в блаженно-самодостаточную провинциальность. Этой роковой склонности к ограничению политики узкоместными интересами Ландман”, который был с 1917 г. главой отдела экономики в Сенате, а с 1924 по 1933 г. обер-бургомистром, “противопоставил целостную общую концепцию муниципальной политики, основные пункты которой можно […] лишь перечислить: создание возможностей для размещения новых промышленных предприятий путем всеобъемлющей политики включения предместий в состав города; усовершенствование энергетики, электро – и газоснабжения […]; проведение выставок и ярмарок; борьба с нехваткой жилья путем строительства жилых районов силами города […]”. Ландман (член Немецкой народной партии) и поддерживавшие его политические партии, в том числе социал-демократы, успешно осуществляли регулирование границы, присоединяя к Франкфурту промышленные городки, примыкавшие к нему, – например, Хёхст, Грисхайм и Фехенхайм. Благодаря этому во Франкфурте появились важные отрасли индустрии и рабочие, а кроме того было создано Берлинское бюро магистрата и Торговой палаты для лоббирования франкфуртских интересов в столице. Все это демонстрирует ориентацию города на промышленность.
Но Франкфурт расширялся и как транспортный узел. Людвиг Ландман с 1926 г. принимал участие в планировании автомагистрали Гамбург-Франкфурт-Базель. В том же году был открыт первый аэродром, а в 1930 г. был приобретен крупный земельный участок для нового аэропорта. Город основал свою собственную авиакомпанию.
В большей степени, нежели другие города, Франкфурт был в то время открыт для модернизма в архитектуре и градостроительном проектировании[135], но “великолепие двадцатых годов” было связано с его культурной политикой (Rebentisch 1991: 457).
В политической культуре 20-х гг. ведущую роль играли демократические силы. В ней не наблюдалось фигур, которые объединяли бы в себе политическую мощь с экономической, но все же политика была теснейшим образом связана с интересами деловых кругов в силу функциональной взаимозависимости между местной экономикой (налоги) и местной политикой (инфраструктура, жилищное строительство). По сути, эта культура производила и закрепляла новое самопонимание Франкфурта как современного промышленного города и транспортного узла. Оно основывалось не только на его истории, которая присутствовала в нем в виде исторического центра, но и на архитектуре модернизма, возникшей на окраинах в двадцатые годы. Этот контраст между современностью и Средневековьем был характерен для атмосферы города. После того, как в 1944 г. был почти полностью разбомблен исторический центр Франкфурта, он утратил и свой облик старинного имперского города, потом вольного города – члена Германского союза, а вскоре исчезла и память об этом облике, потому что в прежнем виде были восстановлены только церкви и ратуша, а все остальное застроили современными зданиями[136].
Только после того, как мы сравним развитие Франкфурта с историческим путем Гамбурга, станет заметно, в чем его особенность. Приводит ли гамбургская консенсусная модель политики к последствиям, отличным от тех, которые вытекают из франкфуртской модели доминирования, – или все-таки к схожим, потому что политические и экономические обстоятельства предъявляли к обоим городам похожие требования?
Консенсусная модель политики и доминирование торговли в Гамбурге
В Гамбурге соотношение общественной, политической и экономической власти было не таким, как во Франкфурте. Общественная и экономическая власть была в руках купечества. Однако в Совете, который пополнялся путем рекрутирования новых членов, купеческие семьи отнюдь не занимали господствующих позиций. По словам Бёме (Böhme 1968: 44), “хотя отдельные семьи из верхнего слоя купечества и доминировали в течение многих лет в Совете и в приходах, все же политическое влияние было в Гамбурге всегда обусловлено той экономической мощью и тем авторитетом, которыми обладал тот или иной человек лично”. Переселявшиеся в город купцы-лютеране могли, если дела их шли успешно, быть избраны в Совет очень скоро. В Гамбурге – в отличие от Франкфурта – коммерция была институционализирована как власть с собственной функцией регулирования границы. Торговля и биржа были выделены из общих компетенций Сената по управлению городом. Особые реалии заморской торговли подчинялись собственным законам и требовали специфических действий, которые были оставлены на усмотрение самих купцов. Именно купцы объединились в Ганзейский союз. Таким образом, в Гамбурге правление городом оказалось устроено не так, как во Франкфурте. Экономика не была подчинена политической власти, а оставалась относительно автономной. Это привело к тому, что в Гамбурге – в отличие от Франкфурта – важные институты были созданы самим купечеством в соответствии с логикой коммерции. Так, с 1619 г. существовал Гамбургский банк. Объединение честных купцов – старинная торговая корпорация – было реорганизовано в 1665 г. Из его рядов избирались семеро представителей – коммерц-депутатов, которые сотрудничали с Советом во всех вопросах, касавшихся коммерции (Böhme 1968: 45). При посредстве этой депутации экономические интересы купцов реализовывались и в Совете, так что в Гамбурге торговля всегда занимала главенствующее место[137]. В XIX в., по мере роста трансконтинентальной торговли, купцы стали держать собственные торговые банки. Купец был судовладельцем, перекупщиком и банкиром в одном лице, а зачастую имел и долю в промышленных предприятиях. В этих отраслях дела велись очень успешно. Богатые старинные семьи не только соединялись друг с другом посредством браков и представляли общественную власть – их торговые интересы определяли и всю политическую деятельность в городе, потому что в бюргерских кругах царило убеждение: то, что хорошо для торговли, хорошо для всех. Купец задавал тон в городе.
Торговля с заокеанскими странами стала в начале XIX в. более прибыльной, но в силу растущей конкуренции и более рискованной. Это привело в 1857 г. к экономическому кризису, представлявшему угрозу для Гамбурга. Все началось в том году с банкротства одного банка в штате Огайо, которое повлекло за собой неплатежеспособность 1415 банков в США, а также некоторого числа банков в Англии. Гамбург тоже серьезно пострадал. Вскоре говорили уже о 105 банкротствах. Коммерц-депутация хотела принудить Сенат к выпуску бумажных денег в качестве экстренной меры, однако Сенат сделал ставку на серебряный заем, чтобы спасти троих крупных купцов-банкиров и таким образом предотвратить разорение многих других. Спасение в виде серебряного займа пришло не из Берлина, а в последнюю минуту из Вены, от императора (Böhme, 1968: 247ff.).
Этот кризис, в свою очередь, имел следствием модернизацию политического устройства, жертвой которой пало самостоятельное представительство интересов торговых кругов в виде коммерц-депутации: в 1866 г. депутация, просуществовавшая 202 года, была упразднена, потому что не справилась с экономическим кризисом. Относительно независимое представительство интересов купцов было скорректировано и ликвидировано Советом, так как выяснилось, что оно не было адекватно требованиям времени в качестве инструмента для решения проблем регулирования границы. Теперь интересы торговли были привязаны к политике, как во Франкфурте. Но тем не менее в Гамбурге торговые интересы продолжали доминировать в политике. Согласно Конституции 1860 г. за них стал отвечать Сенат, члены которого избирались им самим и собранием граждан – по-прежнему пожизненно. Одновременно собрание граждан отныне составлялось не из “наследственных” членов, а путем выборов по смешанной избирательной системе, включавшей в себя элементы как выборов по сословиям, так и избирательного ценза[138]. Важнейшей составляющей реформы было сохранение принципа “Kyrion”, согласно которому важные решения требовали консенсуса между Сенатом и собранием граждан. Это оказалось главным для политической культуры города и послужило основой легитимности политического господства.
Констелляция власти сохранилась. О ее конце можно говорить в Гамбурге только после того, как эта биполярная политическая система перестала работать и не смогла принять демократические тенденции. Конец ее приходил постепенно и наступил бесповоротно в 1918 г.
Но в первое время после политического кризиса 1866 г., угрожавшего независимости города, Совет в деле регулирования границ продемонстрировал такую же обучаемость и гибкость, как и в ситуации экономического кризиса.
Гамбург был более лоялен Австрии, нежели Пруссии – уже хотя бы за спасение от экономического кризиса в 1857 г., – но после событий в Франкфурте перешел на сторону пруссаков. Вместе с Бременом и Любеком он вступил в Северогерманский союз, а потом, после того как Бисмарк пригрозил включить его в состав Пруссии на правах обычного города, вошел в качестве города-государства в состав Германской империи. Свое самопонимание он смог сохранить в названии “Вольный и ганзейский город Гамбург”. Путем трудных переговоров удалось обеспечить свободу от таможенных пошлин в порту, благодаря чему торговля продолжалась, как и прежде. Но когда Бисмарк отказался от политики свободной торговли и начиная с 1878 г. стали взиматься пошлины с импортируемых товаров, Гамбург должен был присоединиться к Таможенному союзу. Но городу и теперь удалось добиться того, чтобы в порту была выделена зона, свободная от таможенного обложения. Эта зона порто-франко была открыта в 1888 г., и в том же году состоялось вступление Гамбурга в Таможенный союз.
Создание свободного порта было спланировано таким образом, что целый жилой район был снесен, а его жители изгнаны. Вместо этого для купцов был построен “город складов”. Столь же жестоко обошлись с жителями квартала Генге, который в 1892 г. был идентифицирован как очаг холеры и в 1900–1908 гг. подвергся капитальной перестройке. При этом более 20 000 человек были изгнаны из своих жилищ, и ничего не было сделано, чтобы найти для них другое жилье (Evans 1990: 646).
Классовое господство как нельзя более выразительно проявилось в застройке. Гамбург был городом труда, подчиненного купцам и их интересам, и купцы сумели сделать так, чтобы он и архитектурно отвечал их интересам и убеждениям. Ведь согласно мнению, распространенному тогда в бюргерских кругах, что хорошо для торговли, то хорошо для всех. На протяжении всего XIX в. данный принцип главенствовал и в застройке. Это проявилось в том, что Гамбург был беден общественными зданиями (Evans 1990: 64). Коллекция произведений искусства, принадлежавшая городу, была в момент финансовых трудностей в 1768 г. продана Сенатом на аукционе. Готический собор, отошедший в собственность города согласно Заключительному постановлению имперской депутации в 1806 г., был снесен, а камни его были проданы и использованы для укрепления берегов Эльбы. За счет этого освободился участок земли, годный для застройки, и в связи с увеличением спроса на жилье его можно было с выгодой пустить в оборот. За период между 1807 и 1837 гг. были снесены еще пять средневековых церквей. Даже с постройкой собственной ратуши, после того как старая сгорела при большом пожаре 1842 г., тянули до 1886 г. (открытие состоялось в 1897 г.). Особенно наглядным архитектурным проявлением царившего в Гамбурге симбиоза между политикой и экономикой было то, что новая ратуша была через подземный переход соединена с биржей.
Конец этой констелляции власти был, как это ни парадоксально, связан с новыми успехами Гамбурга в качестве торгового и особенно в качестве промышленного города. Здесь была самая высокая концентрация капитала в Германии (Evans 1990: 60). Возможность найти работу привлекала сюда бесчисленных рабочих и членов их семей, так что в 1890 г. население составило уже более 500 000 человек (ibid.: 150) и жилищный вопрос становился все острее. Стесненные жилищные условия и, в особенности, долго не решавшаяся проблема снабжения питьевой водой (ее брали из Эльбы, куда сливались и сточные воды) привели к вспышке холеры в 1892 г. В течение нескольких недель 17 000 человек заболели и 8600 умерли. “Сенат в истории с холерой опозорился. По всей империи только качали головами по поводу того, что эти господа так плохо оборудовали свой город и явно не имели никакого представления его нуждах” (Jungclaussen 2006: 105).
После этого в Гамбурге было учреждено профессиональное чиновничество по прусскому образцу, чтобы обеспечить необходимую инфраструктуру для быстро растущего города. Купеческий капитал превратился в промышленный и инвестиционный. Новые картели привлекали всё больше и больше рабочих в город и в ряды социал-демократии, которой на выборах в рейхстаг в 1890 г. достались все три гамбургских мандата. После этого в Сенате и в собрании граждан стали обсуждать реформы избирательного законодательства, которые и были реализованы в 1896 и 1906 гг., но не позволили социал-демократам получить большее влияние на Сенат.
Легитимация традицией
Политической культуре Гамбурга была свойственна одна особенность, которой во Франкфурте в 1866 г. не наблюдалось: в дополнение к мерам принуждения, применявшимся в отношении рабочего класса с целью обеспечить господство Сената, в Гамбурге для легитимации классовой гегемонии использовались и другие элементы. К таковым относилась, во-первых, всеобщая вера в то, что от интересов торговли зависит благо всех гамбуржцев, будь то коммерсантов или рабочих. Не менее важен был неизменный республиканизм Сената и его правило не принимать орденов и дворянских титулов от иностранных держав. За счет этого поддерживалась видимость, будто городом управляли обычные граждане, которые ни в чем не стояли выше остальных горожан (Evans 1990: 135), в отличие от франкфуртской верхушки, которая жила в роскоши и демонстрировала ее. Кроме того, Сенат во время особо торжественных мероприятий облачался в новые, старинные на вид одеяния, пытаясь этим подчеркнуть свою долгую и богатую традициями историю (ibid.: 137f.):
Гордость прошлым Гамбурга, равно как и гордость принадлежностью к городу-государству со своими собственными ярко выраженными традициями и образом жизни, была существенным элементом локального патриотизма, к которому апеллировала крупная буржуазия в стремлении как-то противодействовать тому, что гамбургский рабочий класс все больше “поддерживал анти-гамбургских социал-демократов” (ibid.: 139).
Коснувшиеся всех перемены, связанные с Первой мировой войной, положили конец существованию в Гамбурге этой консенсусной модели власти политически и экономически могущественных граждан, основанной на недопущении неимущих слоев к участию в управлении городом.
Результаты сравнения Гамбурга и Франкфурта в период до 20-х гг. XX в
Взгляд с позиций анализа собственной логики, направленный на политическую культуру и самопонимание городов, на их архитектурную структуру и воздействие на городскую атмосферу, предполагает, что эти механизмы рассматриваются, с одной стороны, как результат причинно-следственных связей, констелляций власти и регулирования границ. С другой стороны, эти механизмы являются ориентирами для мышления, действий и чувств граждан, посредством которых сознательно или бессознательно оказывается влияние на устойчивость или неустойчивость структур власти. Они – в качестве места стыка для процессов обратной связи – могут быть отправной точкой как для усиления, так и для ослабления отношений власти в городе и за счет этого снова влиять на тип воспроизводства этого города.
Теперь мы сравним Франкфурт и Гамбург с точки зрения констелляций власти, регулирования границ, выработанной при этом политической культуры и самопонимания, а также архитектурного производства города и его атмосферы.
Прежде всего бросается в глаза то, что в Гамбурге и Франкфурте общественная, экономическая и политическая власти были переплетены очень по-разному.
Во Франкфурте, несмотря на новые, более современные механизмы рекрутирования политической верхушки города, в XIX в. снова установилось доминирование одной группы, которая держала в своих руках политическую, экономическую и общественную власть. Причину этого можно усмотреть, с одной стороны, в социальной близости городской элиты к той политической власти, от которой город зависел, а с другой стороны, также в экономических преимуществах, которые получали от этого все слои населения города. Доминирование во Франкфурте означало, что не было необходимости достигать компромиссов с другими силами в политической системе: решающими факторами были отношения власти и стабильное большинство. Эта модель доминирования не сработала в 1866 г. при регулировании границы для поддержания независимости города именно из-за близости правящего класса к вышестоящей политической власти. Это положило конец политической культуре доминирования, а также традиционному самопониманию Франкфурта как главного места политических форумов в Германии. В связи с этим рухнуло многое из того, что считалось само собой разумеющимся, и возникла необходимость вырабатывать новое самопонимание города и новую политическую культуру. Рамку для этого задавала прусская система муниципального самоуправления с сильной позицией обер-бургомистра. В данном процессе стали играть роль подавлявшиеся до 1866 г. демократические и промышленные силы, но неимущие классы, как и прежде, к нему не допускались. Сформировалась новая промышленная элита, которая стала задавать тон в общественной жизни города. Она поддержала своими деньгами создание университета с социологическим факультетом, который должен был обогатить потенциал Франкфурта как промышленного, торгового и транспортного узла, однако город и его экономика уже скатились обратно в “блаженную самодостаточность”. Будучи богатым городом, он не считал для себя необходимым приспосабливаться к новым требованиям экономической и политической ситуации.
Когда после Первой мировой войны во Франкфурте появилось демократически избранное руководство, политика переориентировалась в большей степени на промышленность, легитимируя себя вниманием к интересам рабочих и условиям их жизни.
В 1920-е гг. Франкфурт в архитектурно-градостроительном отношении решительно превращается в современный город на окраинах – в качестве контрапункта позднесредневековому историческому центру, который хранил память о значимой истории города и мог пробуждать воспоминание о ней. Тем не менее, в это время стало заметно, что старый город из-за скопления в нем беднейшего населения и из-за тех транспортных затруднений, которые он претерпевал, все меньше годился на роль структурной основы для самопонимания Франкфурта как процветающего современного промышленного города.
В Гамбурге направляющую роль в политике играла модель консенсуса между Советом и собранием граждан. В XVIII и XIX вв. решающее значение для города имели рекрутировавшиеся из верхнего слоя купечества Совет и коммерц-депутация в консенсусе с собранием граждан. Это означало больше гибкости в экономических делах; свободная торговля как основа экономического успеха ни у кого не вызывала возражений. Во Франкфурте же самостоятельное регулирование границ было в течение длительного времени блокировано экономически активными силами. Когда политическое руководство осуществлялось их представителями, они блокировали развитие индустрии.
Гамбургская культура консенсуса оказалась и в условиях политического кризиса 1866 г. более гибкой, чем франкфуртская культура доминирования, так что Гамбург смог сохранить свою независимость, а местная традиция и самопонимание остались неизменными.
Наряду с этими структурными различиями, однако, нельзя упускать из виду такой существенный, решающий для развития каждого из городов фактор, как долговечность и устойчивость их институтов.
В Гамбурге традиционная политическая система с ее консенсусом между Сенатом и собранием граждан просуществовала на 50 лет дольше, чем культура доминирования во Франкфурте.
Точно так же Гамбург на 50 лет позже Франкфурта оказался включен в германское таможенное пространство. Специализация крупного купечества и связанный с ней раскол интересов произошли в Гамбурге на 50 лет позже, чем во Франкфурте. В течение этих 50 лет в общественной сфере Гамбурга постоянно господствовал коммерчески активный, скрепляемый брачными связями верхний слой купечества, который не смешивался с остальными и отграничивался от них внешне, тогда как во Франкфурте задавал тон круг коммерсантов, который уже в первой трети XIX в. распался на тех, кто жил в основном ярмарочной торговлей, и тех, чьи интересы лежали в банковской сфере. Относительно небольшой круг франкфуртского высшего общества в этот исторический период оказался более открытым для иммигрантов, нежели гамбургская финансовая и политическая элита.
Поэтому неудивительно, что в Гамбурге в течение длительного времени сохранялись ценностные представления купечества, которое вело трансконтинентальную торговлю. Во Франкфурте же такие традиционные ценности, служившие критерием отграничения этого слоя от других, не зафиксированы[139].
И в Гамбурге, и во Франкфурте на протяжении столетий старая застройка заменялась новой и ничто не указывало на особое уважение к старине, к традиции. Однако во Франкфурте не могли обойтись без каких-то достопримечательностей для иностранцев, приезжавших на ярмарки и коронационные церемонии, поэтому город и в XIX в. пусть скромно, но украшали. В Гамбурге же господство купечества в XIX в. проявлялось в том, что и в области строительства особенно последовательно руководствовались соображениями собственной выгоды.
В Гамбурге этот высший слой в то время стремился строить себе летние дома вдоль Эльбы, вплоть до Бланкенезе и Риссена – точно так же, как богатые франкфуртцы выселялись в Таунус. Постепенно летние дома превращались в места постоянного проживания. Согласно Закону о большом Гамбурге 1937 г., объединившему Гамбург, Альтону, Харбург, Вильгельмсбург и Вандсбек, эти купеческие резиденции оказались в черте города. То, что пространственные границы Гамбурга так раздвинулись, нельзя не признать удачей, если сравнить его с Франкфуртом, где такого большого расширения не произошло и где сегодня город испытывает серьезные проблемы с окружающим регионом.
Но есть и еще одно различие в политической культуре Франкфурта и Гамбурга, проявившееся в переходе последнего к демократической системе.
Демократически избранный орган власти, в котором большинство мест получили социал-демократы, вывел Гамбург на новый демократический путь. Однако переход этот не был резким, и он показал, что сохранялась связь между старой системой и новой, между старыми купеческими семьями, правившими прежде, и новыми представителями рабочих. Это указывает на существование неких общих уз, связывавших воедино население города и апеллировавших не только к прошлому, но и к будущему Гамбурга. Так, создание университета – которое при старой системе в силу характерных для нее отношений власти не могло быть осуществлено, но было подготовлено в основном стараниями Вернера фон Мелле – произошло в 1919 г. Социал-демократы не полностью порвали со старыми семействами и их ноу-хау: когда в 1918 г. СДПГ получила абсолютное большинство в избиравшемся теперь демократическим путем городском собрании, должность первого бургомистра была предложена партией представителю старинного сенаторского рода, либералу Вернеру фон Мелле (1919–1924), а место председателя финансового комитета – одному известному коммерсанту. После фон Мелле бургомистром был Карл Петерсен (1924–1930 и 1931–1933)[140].
Таких уз, объединяющих между собой старую и новую политическую элиту, во Франкфурте ни в 1866, ни в 1918 г. не наблюдалось.
Подводя итог сравнению городов с точки зрения их собственной логики в период до 1920-х гг., мы констатируем четкие различия между ними, которые в социологическом отношении представляют собой индивидуальность каждого из них. По сравнению с Франкфуртом, индивидуальность Гамбурга характеризуется следующими признаками:
– стабильное, непрерывное самопонимание, основой которого служат порт и торговля по морю;
– политическая культура, которая при всех конфликтах в конечном счете покоится на консенсусе;
– безжалостное обращение (путем сноса и строительства новых) с городскими структурами, которые больше не соответствовали господствующим экономическим интересам;
– ресурсы легитимации и стабилизации отношений власти, черпаемые из долгой успешной истории города, в которой всегда доминировала торговля.
Для Гамбурга, таким образом, характерно, что ориентация на будущее тесно связана с памятью об истории города, традиции используются как ресурсы для строительства будущего. Это, впрочем, не относится в той же степени к сохранению архитектурных традиций, когда они противоречат интересам коммерции.
Индивидуальность Франкфурта заключается в следующем:
– городу пришлось выстраивать новое самопонимание – в качестве промышленного города и транспортного узла, – поскольку в 1866 г. он пережил разрыв с собственной историей, и как ресурс для строительства будущего она использоваться больше не могла;
– это самопонимание укрепляется по мере успешного развития соответствующих отраслей экономики, а с их закатом приходится искать новые ориентиры. Поэтому самопонимание Франкфурта вынужденным образом меняется;
– самопонимание Франкфурта как города современного и промышленного эстетически контрастирует с обликом исторического центра, хранящего много воспоминаний, хотя пространственно и отделенного от новых районов. Исторический старый город не подкрепляет самопонимание Франкфурта как преуспевающего промышленного современного города, а наоборот, подрывает его.
Поэтому характерной чертой Франкфурта является то, что новое самопонимание и память об истории города как бы отделяются друг от друга. Здесь царит политическая культура, легитимирующая себя через экономический успех и привязку к современной эпохе. Привязка же к истории города не может поддерживать это самопонимание и, следовательно, не может рассматриваться в качестве ресурса для строительства будущего города.
Сохранились ли индивидуальные особенности Гамбурга и Франкфурта, возникшие в результате взаимодействия их самопонимания, политической культуры, облика и атмосферы каждого из двух городов, – или же изменения в этот период были так сильны, что под их воздействием возникли новые индивидуальности?
С точки зрения подхода, ориентированного на анализ собственной логики городов, логичной представляется гипотеза, что динамика развития Гамбурга после войны скорее характеризовалась стабильностью и взаимным усилением действия таких механизмов, как самопонимание, политическая культура, облик города и его атмосфера, в то время как гипотеза относительно динамики Франкфурта скорее предполагает, что с 1866 г. представление этого города о себе вынужденным образом менялось в соответствии с его экономическим развитием и подключением иных механизмов обратной связи.
6. Наследие прошлого в настоящем
Закрепление самопонимания Гамбурга как портового города
Вопрос о том, каким путем идти после Второй мировой войны, для Гамбурга был менее проблематичен, чем для Франкфурта. С одной стороны, война принесла торговому городу тяжелые утраты. Железный занавес сильно затруднял не только внутреннее судоходство по Эльбе, но и торговлю на Балтийском море. С другой стороны, порт и торговля оставалась основой самопонимания города. После того как в результате стремления нацистов к автаркии коммерция была сведена на нет, теперь она снова ожила. В скором времени появились успехи в морской торговле и промышленном развитии. Кроме того, добавился новый важный экономический фактор – издательская индустрия, переместившаяся сюда из Берлина. Традиционно высокая для Гамбурга важность мореплавания и торговли по морю иногда, наверное незаслуженно, затмевали важность тех отраслей промышленности и сферы услуг, которые не были связаны с портом. Судоходные компании и верфи начиная с 1970-х гг. вступили в полосу глубокого кризиса, связанного с переходом к контейнерным перевозкам и со снижением объемов импорта и экспорта. На другие, не связанные с морской торговлей отрасли экономики – такие как авиационная промышленность и индустрия СМИ – обращалось меньше внимания. Хотя они обеспечивают значительную долю внутреннего продукта Гамбурга, кажется, что благосостояние города зависит от порта. Это впечатление подтвердилось после 1989 г., с открытием границ на восток – сначала постепенно, а затем – в связи с быстрым глобальным ростом объемов торговли начиная с середины 1990-х гг. – особенно. Порт процветал. Гамбург остался торговым и портовым городом. В гавани сегодня трудятся 156 000 человек; на втором месте по количеству занятых – учреждения государственного управления и государственные предприятия (110 000 сотрудников), на третьем – авиационная промышленность и индустрия средств массовой информации (70 000 сотрудников) (Sommer 2007: 223). Атмосфера работающего порта используется в качестве фактора, привлекающего арендаторов в новый жилой и офисный район – “Портовый город” (Hafen City), который построен на территории старой, теперь уже не используемой зоны порто-франко. Решение о расширении центра города посредством застройки этой территории было принято в 1997 г. при бургомистре Фошерау (СДПГ). Во времена экономической стагнации, когда многие города в Германии уменьшаются, Гамбург придумал для себя название “растущий город”, призванное служить позитивным подкреплением общего курса развития, настроенного на успех. Таким образом, есть много оснований полагать, что самопонимание города, на протяжении веков связанное в основном с портом, остается стабильным. Мой тезис заключается в том, что это самопонимание и дальше будет задавать направленность политики города. Один из признаков того, что это так, можно увидеть, если мы обратимся к наиболее важной на сегодня проблеме регулирования границы города – углублению Эльбы, которое негативно повлияет на флору и фауну речных берегов и прибрежных отмелей. Даже гамбургские зеленые (GAL), когда-то бывшие партией защитников окружающей среды, во время переговоров с партнерами по правящей коалиции на эту тему смогли прийти к компромиссу с ХДС, поскольку это вмешательство в природу должно будет укрепить позиции Эльбы как судоходной артерии в конкуренции с другими европейскими транспортными путями. Таким образом, и для партии зеленых приоритет имеют порт и его судьба, а не окружающая среда. Гамбург уже отказался от того, чтобы вместе с соседними федеральными землями подавать заявку в ЮНЕСКО на включение прибрежных отмелей Северного моря в список охраняемых объектов всемирного природного наследия.
Политическая культура, благоустройство города и атмосфера
Хотя после войны политическая власть в Гамбурге ради привлечения предприятий в город и пошла им навстречу в вопросах застройки, политика быстрых архитектурных изменений в ущерб прежнему облику города была, тем не менее, прекращена после нескольких конфликтов. Впоследствии стали предприниматься усилия по сохранению традиционного облика города с его церквями, расположенными в центральной части (Schubert, 2000). Эти церкви и вода по сей день определяют образ и атмосферу Гамбурга: гавань – место работы, озеро Внутренний Альстер – “средоточие блеска”[141], вокруг которого группируются роскошные магазины, отели и рестораны, озеро Внешний Альстер – район элегантных жилых домов и внутригородская рекреационная зона. Силуэт с колоколен церкви св. Михаила (“Михель”) – визитная карточка Гамбурга – подкрепляет его самопонимание как портового города с долгой и значительной историей, которое выражается и в его официальном названии “Вольный ганзейский город Гамбург”.
Гамбург и в остальном заботится о том, чтобы прошлое присутствовало в настоящем. 7 мая 1189 г. – дата выдачи грамоты (поддельной), которая закрепляла право на устройство порта и на судоходство, – отмечается как “День рождения порта” с большими затратами общественных средств. Как и прежде, корабли привлекают и местных жителей, и туристов. Когда в Гамбург заходят самые крупные суда – а сегодня это уже плавучие небоскребы, – на короткий срок количество людей в гавани и по берегам Эльбы возрастает на полмиллиона человек. Уже 600 лет Совет Гамбурга (теперь Сенат) организует в день св. Матфея пир, угощая представителей “дружественных Гамбургу держав” – на сегодня таковых 420. (Sommer 2007: 71). Кроме того, влиятельные купеческие семейства XIX в. оставили следы своего пребывания в виде вилл и парков на Эльбе и Альстере, которые и по сей день формируют облик города. Хотя “старинные имена […] теперь уже ничего не значат, все они дали городу его идентичность”. (Jungclaussen 2006: 341). Ценности этой элиты – купеческие добродетели, такие как добропорядочность в делах, экономность при всем богатстве, отказ от роскоши и аристократического стиля жизни, – еще встречаются среди представителей верхних слоев населения или, по крайней мере, не забыты в Гамбурге как часть его мифологии. Благодаря всему этому политическая власть в городе по-прежнему может апеллировать к прочным узам, объединяющим различные слои. Эти узы связаны с локальным традиционным сознанием, которое опирается на связь гамбургской истории, экономики и атмосферы с портом и морской торговлей, а сегодня подкрепляется прежде всего экономическим преуспеванием порта. Ярчайший пример этих объединяющих уз – тянувшийся пять лет спор по поводу строительства Эльбской филармонии в “Портовом городе”. После множества конфликтов и сомнений в городском парламенте единогласно было принято решение о создании этого нового символа Гамбурга – он будет расположен на месте неиспользуемого теперь прибрежного пакгауза А и будет объединять образы культуры и порта.
Решение о строительстве новой филармонии – не только проявление политической культуры, нацеленной на консенсус, и архитектурной связи прошлого (пакгауз) с будущим (филармония), но также результат краудсорсинговой кампании, в ходе которой проект поддержали своими пожертвованиями широкие слои населения.
Подведем итоги. Анализ собственной логики продемонстрировал наличие в Гамбурге неизменного на протяжении веков самопонимания, основанного на гибком регулировании границы, и политической культуры, которая отличается способностью к консенсусу, интегрирует великое прошлое в настоящее и закрепляет эту интеграцию, помимо всего прочего, в архитектуре, как это можно наблюдать на примерах городского силуэта с церквями и нового символа города – Эльбской филармонии. Кроме того, привязанность к воде как месту работы (порт), ко Внутреннему Альстеру и улице Юнгфернштиг как элегантному центру деловой жизни, а также ко Внешнему Альстеру как к эксклюзивному жилому и рекреационному району создает в Гамбурге уникальную для Германии городскую атмосферу, которая дополнительно подчеркивает и усиливает индивидуальность этого города и его самопонимание, связанное с портом. Таким образом, все элементы здесь, кажется, отсылают друг к другу и поддерживают друг друга. В результате гордость гамбуржцев своим городом постоянно воспроизводится и может быть использована в качестве политического ресурса.
Франкфурт: самопонимание, меняющееся поневоле
После бомбардировок и окончания Второй мировой войны большинству германских городов пришлось задуматься о том, на чём им строить свое будущее.
У Франкфурта поначалу были проблемы с самопониманием. С утратой своего прежнего традиционного столичного статуса в 1866 г. город так и не сжился: считалось, что, памятуя о демократической традиции парламента, заседавшего во франкфуртской церкви Св. Павла в 1848 г., и о роли Франкфурта как столицы Германского союза до 1866 г., теперь, после отделения Берлина и Восточной Германии, он может претендовать на то, чтобы стать столицей демократической Западной Германии. Город готовился, в том числе и в архитектурном плане, к принятию новой/старой функции центрального места политических форумов. Это означало бы, что “Франкфурт получит то, что было ему предназначено уже 100 лет назад и чего он с 1866 г. был насильственно лишен”, – сказал бургомистр Кольб в 1947 г. Однако новый федеральный парламент своим решением, принятым 3 ноября 1949 г. (большинством в 200 против 176 голосов), отказал Франкфурту в его притязаниях. Временной столицей Западной Германии вместо него стал Бонн.
Через неделю после этого решения Кольб провозгласил “возвращение города к тому, чем он исконно был – местом торговли, банков и промышленности”. Политика совершила “четкий поворот на 180° […]. Франкфурт сделал поддержку экономического развития главным программным пунктом своей коммунальной политики, как писал бургомистр Вальтер Ляйске” (ср. Rodenstein 2000: 20).
Эти заявления позволяют понять, в какой огромной мере самопонимание Франкфурта опирается на апелляцию к его прошлому. Самопонимание города вытекает из его истории, и его невозможно просто взять из ничего или найти среди развалин. Политике требуется направление и легитимная референтная точка. Франкфурт как промышленный, банковский и торговый город – это явно был второсортный вариант. Первосортным был бы Франкфурт как столица – при нем можно было бы снова обратиться к старой истории города, и была бы эмоциональная референтная точка для мыслей, действий и чувств о городе, которая в материальном смысле исчезла из поля зрения с разрушением старого города в марте 1944 г. В ходе дискуссии о восстановлении после войны фракция, выступавшая за то, чтобы отстроить исторический центр в качестве архитектурного напоминания о прежней застройке, оказалась в меньшинстве.
Благодаря тому, что экономика имела в муниципальной политике Франкфурта высший приоритет, город в скором времени стал успешно конкурировать в борьбе за привлечение фирм из Берлина и Восточной Германии, а также снова сделался банковским центром. После 1949 г. Франкфурт стал важным местом экономических форумов и транспортным узлом благодаря ярмарке, аэропорту, индустрии и множеству рабочих мест, число которых стало быстро расти начиная с 70-х гг. в связи с концентрацией банков, которые тогда вступали в новую фазу глобализации.
Начавшаяся в то же время деиндустриализация не только погубила промышленную элиту, но и привела к переориентированию политики во Франкфурте. Теперь ставка делалась только на развитие города как финансового центра, и до сих пор эта отрасль пользуется приоритетным вниманием политиков; Франкфурт, как никакой другой германский город, зависит от ее благополучия. Доля финансового сектора и недвижимости составляет 48 % от городского внутреннего продукта в расчете на душу населения. В том, что касается регулирования границ, франкфуртские власти предприняли в союзе с федеральным правительством значительные и успешные усилия к тому, чтобы привлечь в свой город Европейский центральный банк. Самопонимание города сегодня определяется главным образом тем, что Франкфурт – это “банковский мегаполис”. Такая ориентация политики ведет к сильной зависимости от финансового сектора: Франкфурт больше выигрывает при благоприятной конъюнктуре и больше теряет в периоды финансовых кризисов, чем те города, которые по-прежнему делают ставку на промышленность.
Это фиксированное на финансах самопонимание города стало сегодня ориентиром и для прежде независимых городских институтов, таких как СМИ и университет: они теперь тоже делают ставку на значение финансовой отрасли, извлекают из этого выгоду, но в то же время укрепляют и стабилизируют власть финансового сектора на местном уровне. Однако сегодня положение франкфуртских банков более чем когда-либо подвержено превратностям глобальной конкуренции. От них же зависят благополучие и беды города. Поэтому, наверное, Франкфурт демонстрирует так мало спокойствия: он пребывает в неустанных поисках себя. Нет такого громкого определения, которое он не использовал бы для самоописания: “мегаполис”, “глобальный город”, “столица фондов”… Нет такого рейтинга, которым он бы не озаботился. Очевидно, что самопонимание города нестабильно, его приходится снова и снова достигать и подтверждать.
Функциональному самопониманию Франкфурта, которое привязано к его экономическому преуспеванию, трудно стать позитивным ориентиром для мышления, действия и чувств жителей. Банками невозможно гордиться или тем более любить их, и они не задают никаких ценностей для населения. Тезис “то, что хорошо для банков, хорошо для всех франкфуртцев” едва ли может служить легитимирующим основанием для политики, обеспечивающей статус города как финансового центра.
То же самое относится и к самопониманию, связанному с аэропортом как крупным европейским транспортным узлом[142]. Скорее, политика легитимирует себя экономическим успехом как таковым, а также открытостью миру и гостеприимством по отношению к приезжим, иностранцам и мигрантам, потому что открытость границы – непременное условие экономического преуспевания.
Таким образом, регулирование границы с окружающим регионом представляет для города одну из основных проблем. Об этом свидетельствуют предпринимавшиеся с 70-х гг. бесчисленные и в основном безуспешные попытки объединить Франкфурт и его окрестности в большое экономическое и планировочное пространство под руководством франкфуртского муниципалитета. При этом большое организационное разнообразие – от децентрализованных институтов до предприятий, таких как, например, сети, создаваемые сегодня аэропортом, – можно рассматривать в качестве попыток координировать различные интересы в регионе в пользу Франкфурта (или собственной компании). Когда в 2008 г. Франкфуртская биржа переехала за границу города, это стало проявлением той дилеммы, перед которой он стоит, и ярким символом неудачи, которую он потерпел в регулировании границы с окружающим регионом, потому что основные усилия города направлены именно на то, чтобы его границы оставались открытыми и чтобы было как можно меньше препятствий для прихода во Франкфурт новых компаний и притока рабочей силы.
Концентрация рабочих мест на душу населения здесь выше, чем в любом другом городе Германии[143]. Франкфурт, как губка, вбирает в себя посетителей ярмарки и маятниковых мигрантов из окрестностей (их около 310 000 при населении около 650 000 чел.): открытость миру – его девиз; и к автомобилям он тоже относится[144].
Можно представить себе, какие структурные ограничения налагает граница, затрудняющая доступ в город, и как они сказываются в мышлении и действиях должностных лиц. Господствующая во Франкфурте идеология, согласно которой открытость миру означает и полную открытость для автомобилей, не осталась без последствий для атмосферы города: движение автотранспорта имеет приоритет и по-прежнему проникает даже в центр города. Еще совсем недавно, в 2007 г., в самом сердце Франкфурта был построен очередной паркинг. Соответственно, здесь мало городских публичных пространств, которые могли бы служить притягательными местами отдыха и встреч для горожан.
Политическая культура, формирование городской среды и атмосфера
После Второй мировой войны между крупными городами развернулось соперничество за привлечение различных фирм и предприятий, и это привело к тому, что повсюду политика была ориентирована на интересы инвесторов. Города, проводящие такую политику, в принципе можно различать по тому, в какой степени они используют для ее реализации те или иные политические средства: ставки налогообложения, налоговые льготы, другие финансовые привилегии, льготные условия строительства, жилищные программы, культуру.
Франкфурт проводил эту политику иначе, нежели Гамбург, и это имело последствия для формирования городской среды и атмосферы. Характерной особенностью Франкфурта было то, что город очень скоро стал руководствоваться архитектурными пожеланиями инвесторов – в особенности их желанием иметь высотные здания, в том числе и в центре (Rodenstein 2000). При этом город с легкостью отказался от того архитектурного наследия, которое еще оставалось после бомбардировки в его исторической центральной части (голоса противников такой политики были проигнорированы). Непрерывная прагматическая смена застройки постепенно привела к появлению нового символа Франкфурта – его силуэта, в котором прежние символы, такие как Имперский собор и церковь Св. Павла, визуально потерялись, в полном соответствии с их понизившейся ролью в самопонимании города. После утраты большого средневекового старого города у Франкфурта возник, как стало видно в долгосрочной перспективе, новый, характерный профиль, который делает его непохожим на все остальные крупные города Германии. Этот профиль – особенность Франкфурта, которая усиливает его самопонимание как города банков.
Эта ориентированная на запросы инвесторов градостроительная политика, допустившая строительство небоскребов, начала определять лицо города и его атмосферу. На тех улицах, где сконцентрированы небоскребы, нет жизни; они скорее выступают шлюзами, по которым транспортные потоки направляются к центру города.
С этой точки центральная часть Франкфурта – довольно суматошное городское пространство, и в нем мало таких мест, которые годились бы для его публичной самопрезентации. Одно из таких мест граждане города под руководством Торгово-промышленной палаты себе отвоевали: это “Старая опера”, восстановленная на общественные пожертвования и наконец открытая в 1981 г. Впрочем, в других районах имеются уютные места с высокой плотностью непосредственной личной коммуникации между людьми.
Однако новый облик города с небоскребами и сопутствующая ему атмосфера не укрепляли и не стабилизировали политическую власть во Франкфурте (правящей партией здесь была СДПГ), а сначала дестабилизировали ее. Преследующая экономические интересы меркантильная деятельность политических акторов вызвала сопротивление граждан, которые выступили против уничтожения последних остатков истории города и внутригородской жилой застройки. Этот внутренний раскол в обществе впервые проявился в борьбе против планов строительства небоскребов в Вестэнде в 60-х и 70-х гг. Франкфурт к тому же пользовался репутацией очень некрасивого и непривлекательного города. После этого в конце 70-х гг. произошла смена политической власти: вместо СДПГ большинство теперь получили христианские демократы. Курс в области формирования городской среды был скорректирован, но в доминировании экономических интересов в политике ничего не изменилось.
Новая констелляция в области политической власти привела к тому, что городская среда стала формироваться по принципу “и то и другое”: в начале 80-х гг. некрасивое лицо города попытались приукрасить, добавляя различные культурные и эстетические элементы. Прийти к единой концепции не смогли, поэтому часть территории уничтоженного исторического центра между собором и Рёмером отстроили в традиционном стиле (восточная сторона ратушной площади Рёмерберг), часть – в стиле постмодерна (художественная галерея Ширн). Эстетический контраст между “исторической” новой застройкой и постмодернистской теперь можно было наблюдать в едином пространственном контексте, окинув его одним взглядом. И город по-прежнему предлагал застройщикам новые участки для возведения небоскребов.
В новом тысячелетии к принципу “и то и другое” в политике неоднократно прибегали для разрешения конфликтов – например, начавшегося в 2006 г. конфликта по поводу застройки участка, который должен был освободиться после запланированного сноса офисного корпуса ратуши между собором и Рёмером. В этом районе бывшего старого города политики опять решили построить “и то и другое”: реконструировать планируется не весь участок (как того желала одна группа граждан), а только семь из 40–50 стоявших там раньше и разбомбленных во время войны старинных домов; остальные новые постройки будут современными, небольшими, а также будет обозначен бывший маршрут императорских коронационных процессий.
Этот конфликт показал, что послевоенная политика быстрого избавления от архитектурного наследия прошлого не проходит бесследно, что сегодня выражается в охватившем все слои населения стремлении к возрождению архитектурной истории города.
Однако спровоцированы были эти требования в первую очередь не воспоминанием об истории города, а безликостью той современной застройки, которая должна была возникнуть на этом месте. Критика в ее адрес была связана с фотографией макета этой части исторического центра, который изготовил в качестве дипломного проекта один инженер. Фотография сначала породила энтузиазм у молодых членов ХДС, а затем вызвала лавину коллективных воспоминаний о старом городе и его истории. Теперь по музеям собирают оставшиеся фрагменты исторической застройки, чтобы снова использовать их для строительства новых “старых” домов.
В настоящее время политика контраста между историческим и современным по принципу “и то и другое” переживает свой пик. Одному франкфуртскому менеджеру проекта удалось получить разрешение на строительство многофункционального комплекса из четырех небоскребов в самом центре города на улице Цайль – помимо всего прочего потому, что он пообещал перед или между этими небоскребами восстановить в усеченном виде исторический дворец семьи Турн-и-Таксис, в котором с 1816 по 1866 гг. заседало Федеральное собрание (Бундестаг). Политика по принципу “и то и другое” порождает такие эстетические контрасты, которые в 1920-е гг. наблюдались между пространственно разделенными центром и периферией. Теперь же позднесредневековый жилой дом, барочный городской дворец и небоскребы стоят вплотную друг к другу.
В том, что во Франкфурте возможно почти всё, одни видят свидетельство дисгармонии, беспорядка и нерешительности, другие же – проявление “либеральности” и “толерантности” Франкфурта. Но можно интерпретировать это и как результат лавирования политических властей между различными интересами жителей. Такое лавирование необходимо, потому что во Франкфурте нет связующих все население единых уз, благодаря которым в демократическом городе можно снимать некоторые противоречия и превращать их в общий интерес и в консенсус. Политика по принципу “и то и другое” не только приводит к тому, что можно увидеть рядом несовместимые вещи. Она еще и задает атмосферу, и порождает особое, наэлектризованное ощущение жизни, которое в центральных точках города характеризуется такими противоречиями, которые на короткое время вызывают напряжение и не оставляют наблюдателя равнодушным. Но при этом едва ли возникает то, что видео-художник Билл Виола называет “образами, обладающими способностью к выживанию”. Такие образы “питают тело и душу в течение столетий или даже тысячелетий […]. После того, как мы их поглощаем, эти образы надолго остаются внутри нас, тихо и незримо, но при этом они влияют на нас так, что мы этого не замечаем” (Viola 2004: 265).
Старое и новое во Франкфурте нивелируют эффект друг друга. В этом есть определенный вызов, но это не успокаивает. Облик города здесь не способен сыграть ту роль, которую ему удается играть в Гамбурге благодаря Альстеру и Эльбе, т. е. демонстрировать одновременно и мир труда, и другой мир – освобождающий от будничных дел, просторный и представительный. Этот другой мир люди во Франкфурте ищут и находят у себя возле дома – в жилых районах и за городом, в небольших городах и деревнях. Этих людей не хватает в центре по вечерам и по ночам, они не обогащают городскую жизнь.
Разница между дневной и ночной численностью населения во Франкфурте огромна; на ярмарку и в аэропорт люди приезжают ненадолго и тут же снова уезжают; в город каждый год переселяются около 45000 новых жителей и 45000 его покидают; коренные франкфуртцы составляют всего 35 % населения: в таких условиях трудно сложиться новым традициям и такому самопониманию, которое бы заставляло людей гордиться своим городом. Дело не только в том, что основной характеристикой Франкфурта и одной из важных составляющих его процветания является мобильность, но и в том, что по мере складывания все более негативного имиджа банков представление города о самом себе все больше связывается с экономическим успехом как таковым.
Эстетические контрасты позволяют каждому найти что-то для себя. Они являются результатом тех противоречий, которые неизбежны в городе, обязанном процветать. Поэтому можно сказать, что принудительная постоянная трансформация самопонимания порождает противоречия и раскол среди населения. Этим объясняется тот факт, что у Франкфурта не сложилось устойчивого и эмоционально окрашенного самопонимания: ему не хватало (по сравнению с Гамбургом) связи с такой историей, которая могла бы быть позитивно окрашена, и не хватало уз, которые объединяли бы различные группы населения. Позволит ли Франкфурту архитектурное напоминание о более славных временах обрести некое более устойчивое самопонимание, сможет ли он, даже будучи вынужденным непрерывно модернизироваться, все-таки интегрировать свою историю в самопонимание, – покажет будущее.
Наследие прошлого во Франкфурте проявляется в апелляции к его самопониманию как делового города и транспортного узла. Для политики это означает, что надо заниматься поддержкой промышленности и банков и развивать город как транспортный хаб. При этом самопонимание остается привязано к экономическим успехам и должно трансформироваться в соответствии с ними. Когда промышленность из города ушла, внимание сосредоточилось на прибыльных, но и рискованных финансовых услугах, и теперь самопонимание города зависит от глобальной судьбы банков, и в силу нестабильности этой сферы практически не может консолидироваться, укрепиться и обрести положительную эмоциональную окраску. Самопонимание города – как его силуэт: его сияние направлено наружу, а внутри оно обладает стабилизирующим и укрепляющим это самопонимание эффектом только для части населения. Раскол населения на богатых и бедных, который начался в 70-х гг., и скудость общественных средств в городском бюджете побудили охотно меценатствующую старую и новую буржуазию во Франкфурте, равно как и в Гамбурге, и в других местах, активно жертвовать на благо своих городов. В рядах этой новой общественной власти во Франкфурте формируется новое отношение к городу: его корни – в благодарности за приобретенное здесь собственное богатство и в приверженности к этому сообществу. Пожертвования, спонсорство и фонды, как кажется, показали себя хорошими способами повышения статуса во франкфуртском “обществе”. Тут имеется и возможность вписать себя в долгую историю городских благотворительных фондов. Надо полагать, это оказывает укрепляющее действие на отношения власти и на самопонимание этого небольшого города, потому что в самоназвании “столица фондов” экономический успех поворачивается к общественности своей красивой моральной стороной и одновременно легитимирует самопонимание Франкфурта как преуспевающего в экономическом отношении города.
Правда, только состоятельные круги пребывают в таких отношениях с городом. То же самое можно сказать и о Гамбурге, где тоже любят меценатствовать, но там к давно существующему и стабильному самопониманию добавляются еще и узы, связывающие верхи и низы, – общая гордость историей Гамбурга.
В то время как самопонимание Гамбурга после Второй мировой войны представляет собой продолжение его истории, самопонимание Франкфурта оказалось втянуто в постоянно убыстряющийся процесс перемен, который объясняется изменениями в экономическом развитии.
7. Резюме
Результаты исследования показывают, что с помощью разрабатываемой здесь рамки для анализа городов как центров власти, сталкивающихся с проблемами регулирования границ, можно при сравнении городов обнаружить их особенности и из структурных условий политического и экономического характера вывести самопонимание города, его политическую культуру, формирование городской среды и атмосферу. Таким способом можно нарисовать образ города, характерный для него на протяжении длительного периода и позволяющий увидеть вытекающие из него последствия для нынешней структуры города, для деятельности политических и экономических акторов, для градостроительного планирования и дизайна, а также для создаваемой всем этим атмосферы. Однако во многих местах взаимосвязи лишь намечены, они представляют собой гипотезы, требующие проверки.
Анализ собственной логики при сравнении Гамбурга и Франкфурта показал различия в развитии этих двух городов начиная от исходных условий и вплоть до современности.
Эти различия касались того, как специфическими констелляциями власти создается город, как регулируются его границы и какие имеются механизмы воспроизводства отношений власти; из таких механизмов здесь были рассмотрены самопонимание города, политическая культура, архитектурный облик и связанная с ним атмосфера.
Развитие Гамбурга опиралось на консенсусную модель, обеспечивавшую возможность гибкого регулирования границ, благодаря чему он смог до сегодняшнего дня сохранить свое самопонимание как относительно автономный город с долгой и непрерывной историей. Политическая культура, которая может легитимировать существующие условия путем апелляции к этой истории и к гордости широких слоев населения своим городом, и атмосфера города связаны друг с другом механизмом положительной обратной связи, они подтверждают и усиливают друг друга.
Индивидуальность Гамбурга, вырисовывающаяся в результате этого социологического анализа, заключается, как мне кажется, в стабильности самопонимания при гибком регулировании границы в интересах экономического и политического развития.
Индивидуальность же Франкфурта заключается, наоборот, в постоянной трансформации самопонимания – в первую очередь потому, что качестве ресурса для воспроизводства города не может быть использована его история. Во Франкфурте отношения власти на протяжении веков определяла модель доминирования, которая привела город к неспособности регулировать собственную границу, к потере автономии. С одной стороны, это обеспечило ему новое самопонимание, для которого главную роль играли промышленность и функция транспортного узла, но с другой – благодаря этому история становилась все менее пригодной в качестве ресурса для политики. После Второй мировой войны функциональное самопонимание Франкфурта изменилось: из города промышленности, банков и торговли он превратился в город банков, а сегодня даже скорее в город экономического успеха как такового. Задаваемое этим направление политики оказывает – с точки зрения механизма воспроизводства города – скорее эффект отрицательной обратной связи; иными словами, оно не усиливает политику, а корректирует ее посредством сопротивления. Это сопротивление потребовало, помимо всего прочего, связанного с архитектурной традицией воспоминания об истории. Поскольку экономические факторы принуждают Франкфурт к трансформациям, достаточно мала вероятность того, что в будущем он сможет интегрировать собственную историю в свой образ и использовать ее как ресурс для формирования более устойчивого самопонимания. Это не соответствовало бы индивидуальности этого города, для которой характерны трансформации, противоречия и контрасты.
Литература
Abu-Lughod, Janet (1999), New York, Chicago, Los Angeles, Minneapolis.
Bender, Wilhelm (2004), Mit Zielstrebigkeit und Scharm // Köper, Carmen-Renate/Reichert, Klaus u.a. (Hg.), Für Frankfurt leben. Begegnungen – Erfahrungen – Perspektiven, Frankfurt am Main, S. 92–97.
Berking, Helmuth/Löw, Martina (2005), Wenn New York nicht Wanne-Eickel ist… Über Städte als Wissensobjekte der Soziologie // dies. (Hg.), Die Wirklichkeit der Städte, Baden-Baden, S. 9 – 22.
Böhme, Helmut (1968), Frankfurt und Hamburg. Des Deutschen Reiches Silber – und Goldloch und die Allerenglischste Stadt des Kontinents, Frankfurt am Main.
Bothe, Friedrich (1913), Die Geschichte der Stadt Frankfurt am Main, Frankfurt am Main.
Braudel, Fernand (1990), Sozialgeschichte des 15. – 18. Jahrhunderts, 1. Bd., Der Alltag, München [рус. изд.: Бродель, Фернан (1986), Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. В трех томах. Том 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное, Москва. – Прим. пер.].
Dollinger, Philippe (1966), Die Hanse, Stuttgart.
Durth, Werner/Gutschow, Niels (1988), Träume in Trümmern. Planungen zum Wiederaufbau zerstörter Städte im Westen Deutschlands 1940–1950, Bd. II: Die Städte, Braunschweig/Wiesbaden.
Ellwein, Thomas/Zoll, Ralf (1993), Die Wertheimstudie, Nachdruck von 1972, Leverkusen.
Evans, Richard J. (1990), Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830–1910, Reinbek bei Hamburg
Forstmann, Wilfried (1991), Frankfurt am Main in Wilhelminischer Zeit 1866–1918 // Frankfurter Historische Kommission (Hg.), Frankfurt am Main. Die Geschichte der Stadt in neun Beiträgen, Sigmaringen, S. 349–422.
Giddens, Anthony (1988), Die Konstitution der Gesellschaft, Frankfurt am Main/New York [рус. изд.: Гидденс, Энтони (2003), Устроение общества: Очерк теории структурации, Москва. – Прим. пер.].
– (1995) A Contemporary Critique of Historical Materialism, 2nd ed., Houndsmills/Basinstoke/London.
Glock, Birgit (2006), Stadtpolitik in schrumpfenden Städten. Duisburg und Leipzig im Vergleich, Wiesbaden.
Hansert, Andreas (2000), Patriziat im alten Frankfurt // ders. u.a., Aus auffrichtiger Lieb vor Frankfurt. Patriziat im alten Frankfurt, Frankfurt am Main, S. 13–31.
Hasse, Jürgen (2008), Die Stadt als Raum der Atmosphären. Zur Differenzierung von Atmosphären und Stimmungen // Die Alte Stadt, Heft 2, S. 103–116.
Hoffmann, Gabriele (2001), Das Haus an der Elbchaussee. Die Geschichte einer Reederfamilie, München/Zürich.
Jungclaussen, John F. (2006), Risse in weißen Fassaden. Der Verfall des hanseatischen Bürgeradels, München.
Jahns, Sigrid (1991), Frankfurt im Zeitalter der Reformation (um 1500–1555) // Frankfurter Historische Kommission (Hg.), Frankfurt am Main. Die Geschichte der Stadt in neun Beiträgen, Sigmaringen, S. 151–204.
Klötzer, Wolfgang (1991), Frankfurt am Main von der Französischen Revolution bis zur preußischen Okkupation 1789–1866 // Frankfurter Historische Kommission (Hg.), Frankfurt am Main. Die Geschichte der Stadt in neun Beiträgen, Sigmaringen, S. 303–348.
Kokoska, Tanja/Leppert, Georg (2007), Autofahrer sollen Straßen bezahlen // Frankfurter Rundschau, 25.04.2007, S. 23.
Löw, Martina (2001), Raumsoziologie, Franbkfurt am Main.
Meyers Konversations-Lexikon (1887), Artikel “Hamburg”, 4. Aufl., 8. Bd., Leipzig, S. 38–47.
Moraw, Peter (1994), Cities and Citizenry as Factors of State Formation in the Roman German Empire of the Late Middle Ages // Tilly, Charles/Blockmans, Wim P. (Eds.), Cities and the Rise of States in Europe, ad.1000 to 1800, Boulder/San Francisco/Oxford, p. 100–127.
Pott, Andreas (2007), Orte des Tourismus. Eine raum – und gesellschaftstheoretische Untersuchung, Bielefeld.
Rebentisch, Dieter (1991), Frankfurt am Main in der Weimarer Republik und im Dritten Reich 1918–1945 // Frankfurter Historische Kommission (Hg.), Frankfurt am Main. Die Geschichte der Stadt in neun Beiträgen, Sigmaringen, S. 423–519.
Rodenstein, Marianne (2000), Von der Hochhausseuche zur Skyline als Markenzeichen – die steile Karriere der Hochhäuser in Frankfurt am Main // dies. (Hg.), Hochhäuser in Deutschland. Zukunft oder Ruin der Städte?, Stuttgart/Berlin/Köln, S. 15–70.
– (2002), Vom “Gassesitzen”, “Spazierengucken” und der Geselligkeit: Modernisierung des städtischen Raums und Wandel des Geschlechterverhältnisses im Frankfurt des 18. Jahrhunderts // Engel, Gisela/Kern, Ursula u.a. (Hg.), Frauen in der Stadt. Frankfurt im 18. Jahrhundert, Königstein/Taunus, S. 15–46.
– (2005), Globalisierung und ihre visuelle Repräsentation in europäischen Städten durch Hochhäuser // Faßler, Manfred/Terkowsky, Claudius (Hg.), Urban Fictions. Die Zukunft des Städtischen, München, S. 83 – 100.
Schilling, Heinz/Peter Klös (2005) (Hg.), Stadt ohne Eigenschaften. Frankfurt. Einsichten von außen, Frankfurt am Main.
Schubert, Dirk (2000), Hochhäuser in Hamburg – (noch) kein Thema? Geschichte, Gegenwart und Zukunft eines ambivalenten Verhältnisses // Rodenstein, Marianne (Hg.), Hochhäuser in Deutschland. Zukunft oder Ruin der Städte?, Stuttgart/Berlin/Köln, S. 231–254.
Sommer, Theo (2007), Hamburg. Portrait einer Weltstadt, 3. Aufl., Hamburg.
Stadt Frankfurt am Main (2005), Frankfurt am Main im Städtevergleich // Frankfurter Statistik aktuell, Nr. 14.
Viola, Bill (2004), Das Bild in mir – Videokunst offenbart die Welt des Verborgenen // Maar, Christa/Burda, Hubert (Hg.), Iconic Turn. Die neue Macht der Bilder, Köln, S. 260–282.
Weber, Max (1964), Wirtschaft und Gesellschaft, 2. Halbband, Köln/Berlin.
“Город” – плавающий термин Юрген Хассе
Вопрос о теоретическом аспекте понятия “город” как самостоятельном объекте исследования сразу ведет к следующему вопросу: как можно сократить дистанцию между понятием и реальностью таким образом, чтобы стали видны взаимные влияния между сильными и слабыми сторонами языковых обозначений реальности? Каждое понятие, которое занимает центральное парадигматическое место в самопонимании некой дисциплины, в результате своей внутренней дифференциации образует семантическую тень, и находящиеся в этой тени потенциальные значения оказываются коммуникативно “выведенными из оборота”. Понятия “по большей части относятся не к наличествующему, а к отсутствующему, удаленному, прошлому или будущему” (Blumenberg 2007: 33). Поэтому вопрос о том, как понятийно обусловлено конституирование некоего объекта исследований, указывает не столько на то, что понятия вообще создают дистанцию: важнее разобраться с потенциалом невысказанных предпосылок в употреблении программных понятий для открытия какой-то одной перспективы, направляющей исследование. В этом смысле любой термин таит в своей безмолвной тени потенциальную проблему, которая коренится в вопросе (чаще всего не высказываемом), является ли что-то тем, чем оно представляется нашему взору в свете специализированных понятий. Эту проблему я буду обсуждать на примере понятия города (см. илл. 1).
1. Замедлить дискурс и поразмыслить
Когда в процессе исследования в качестве его имманентной составляющей мы задаемся вопросом о том, каков изучаемый нами объект, это приводит нас в интеллектуально плодотворную точку, где собственное производство знания прерывается. Такая приостановка ранит нашу мысль – в продуктивном смысле, потому что больше не дает считать само собой разумеющимися вещи, которые прежде с помощью конвенций дискурсивной культуры были защищены от вопросов, грозящих им разрушением. Эта приостановка открывает для нас то, что Хайдеггер назвал “местом мышления”. Благодаря ей мы встречаемся с тем, о чем стоит мыслить, “что само по себе накапливает у себя великое богатство того, что достойно мышления” (Heidegger 1951/52: 59 [рус. изд.: Хайдеггер 2007: 105 – прим. пер.]). В “место мышления” можно добраться, только если совершить “прыжок”, а не придерживаться традиционной терминологической гигиены.
Илл. 1: Когда не видно людей, возникает вопрос: город ли это?
Фото: Юрген Хассе
Апоретическая остановка, в частности, принудительным образом связана с такими понятиями, которые (несмотря на дистанцию, отделяющую их от реальности) “получили пробоину”, натолкнувшись на собственную контингентность. Это происходит, когда понятие – такое как “город” – в качестве “инструмента возможности” скорее бьет мимо “острой, то есть телесной и близкой к телу действительности” (Blumenberg 2007: 75), нежели выявляет что-то в общем смысле верное в этой действительности. Достаточно взглянуть на историю географической урбанистики, чтобы сразу обнаружить то, что можно было бы показать и на примере других дисциплин, а именно – в какой мере диагностированная реальность (не говоря уже о действительности) представляет собой продукт понятий, концептов, направленности теоретического внимания, одним словом – взаимодействия возможностей и ограничений видения.
2. Понятие города как нечеткое обозначение
Понятие “город” нечетко. Если бы это было не так, оно не могло бы интегрировать в себя тот избыток возможных значений, который гарантирует эффект неожиданности. Следовательно, это скорее понятие для поиска, нежели для идентификации. В центральной нервной системе терминологической структуры оно, конечно, представляет собой важную категорию; но служить основой для стабильных, надежных различений оно способно лишь в ограниченной мере. Это понятие сопровождается “эфирным шумом” и когда его используют, и когда его воспринимают.
Образ человека и понятие города
Использование этого понятия, с точки зрения теории науки, опирается на социологическую онтологию, в соответствии с которой элементарные строительные материалы социальной реальности – это субстанция и акциденция, т. е. тело с символическими свойствами. Это мышление позволяет объяснять город и как родину, и как пространство конфликта, и как место ведения бизнеса или как пространство культуры. Методологический индивидуализм питает идеалистическую фикцию пространства, чьи телесно-материальные структуры порядка создаются исключительно действующими акторами. Хотя новая теоретическая чувствительность к человеческому телу (сp. Schroer 2005 и Gugutzer 2004) и обусловливает некоторый сдвиг в сторону мышления, ориентирующегося на “живое тело”, но все же нельзя не заметить, что она опирается на такой образ человека, в котором односторонне акцентирована его материальность.[145] Для того чтобы пространство как тело и тело как пространство теоретически могли оставаться консистентными конструктами, Маркус Шрёр в своей реконструкции философских понятий пространства, тематически подогнанной под эпистемологическую структуру социологии пространств, последовательно оставляет за рамками рассмотрения тех авторов, которые могли бы помешать такому способу мышления: Карлфрида фон Дюркгейма, Эрвина Штрауса и особенно Германа Шмитца. Правда, упоминается Бернхард Вальденфельс, но не его феноменология живого тела (ср. Schroer 2005 и Gugutzer 2004).
Эти метатеоретические шоры предохраняют социологию от рассмотрения того, что в городе есть живого – того, что в виталистическом смысле можно было бы найти помимо простых телесно-материальных механизмов и машинизмов: в биографически личных и общих (“идеологически” отформатированных в ходе образования общества) ощущениях, в соответствии с которыми жизнь в городе не только осуществляется “телом среди тел”, по рационально разработанному плану, но и действительно проживается. Шоры теории действия ставят жизнь в пространстве города на чисто рационалистическую почву. То, что кто-то делает или не делает, считается имеющим умопостигаемые основания, а следовательно, и поддающимся оправданию задним числом. Люди действуют по причинам, о которых могут предоставить информацию (см. Giddens 1988: 55f. [рус. изд.: Гидденс 2003: 57 – прим. пер.]). Человек есть “мозгомашина” из плоти и костей, как дом из стали и бетона.
Акторы не воспринимают города в жизненном опыте: они их делают. Вещи для них – материалы, которые можно передвигать, обдумывать и символически кодировать. Втиснутый в рамки такого мышления (вымышленный) “тип человека” является принципиально иным, нежели тот, которого имел в виду градостроитель Ханс Бёш, который говорил о “живом теле города” (Boesch 2001: 48). Его мысль не была заранее подвержена теоретически предвзятым ожиданиям: знание об открытой для событий структуре течения человеческой жизни повысило чувствительность этой мысли в отношении также и тех способов бытия, в которых не только “большой мозг” задает направление, но и патическое[146] со-бытие в окружениях и ситуациях оказывает важное влияние на человеческие поступки. В отличие от этого, господствующее в социологии понятие деятельности и адаптированный к нему образ человека редукционистски навязывают людям определенные компетенции: что значит “действовать”, в дискурсах четко обозначено всею властью деклараций и конвенций. Вернуться в хайдеггеровское мышление можно только выпрыгнув за пределы квазидогматических учений и привычных мыслительных конструкций.
Рюдигер Биттнер предпринимает атаку на редукционизм, неотъемлемо присущий методологическому индивидуализму, указывая на способности, имеющиеся у животных. Зверей тоже можно считать действующими субъектами: “Действующими по рациональным основаниям являются животные, которые передвигаются в этом мире по запаху. Мир неподвластен их контролю. Они полностью во власти того, с чем столкнутся” (Bittner 2005: 198). Биттнер, с одной стороны, рассматривает человека как действующее существо, но, с другой стороны, не видит повода рассматривать действие как чистое выражение разумности, а предпочитает, скорее, говорить о человеке как о существе витальном и обладающем живым телом. Такое понятие действия предполагает, что свой мир – по крайней мере в сфере повседневной жизни – человек контролирует не полностью. Пространство города, столь плотно заполненное суггестиями, апеллирующими к чувствам, возможно, (в отличие от родной сельской идиллии) побуждает индивидов к конкретным поступкам или отказу от них не только посредством рациональных предложений действия, но и посредством чувственных впечатлений и событий. Это “затемненное” в теории действия представление о социальном бытии субъекта (включая ту ее часть, которая касается теории структурации) напоминает о теориях общества и субъекта, которые ныне все больше предаются забвению, – достаточно назвать критику культурной индустрии Адорно и Хоркхаймера, одномерность человека у Герберта Маркузе или труды Зигмунда Фрейда по теории культуры. Любая социальная теория всегда “социальна” в той мере, в какой она в научном мейнстриме (духе времени) играет различительную роль[147].
Даже там, где понятие города не кладут в основу научного дискурса, а скорее “подбирают” его на дискурсивных обочинах в рамках слепых рецептивных практик понимания, объяснительная сила этого понятия невелика. Термин “город” плавает в диффузных обещаниях, колышется в прозрачных ассоциациях, теряется в описаниях или растворяется в нарративе на обочинах скрытых или даже спрятанных историй. Эта плавающая основа предопределяет эфирно-значащую составляющую данного термина на ее пути к восхождению в ранг метафоры. Метафоры не значат ничего точного в смысле однозначного описания. Их сила и задача – скорее в том, чтобы сводить воедино многообразное, чтобы собирать неупорядоченное и множественное в ситуационно понятное, чтобы передавать силу языкового впечатления. Метафора – это мета – и мегасимвол, это нарисованный языком коллаж, его родина – эстетические области жизненного мира и литературы. Вакантные места в означающем ядре понятия занимает метафора. Она действует как губка, которая поглощает плавающий смысл – при условии семантической совместимости в широком смысле. Из-за своих недостатков в объяснении индивидуального и особенного метафора, если она проникает в научные дискурсы, ведет к кризису опыта. А там она может производить такие же эффекты, как в жизненном мире, где, будучи облагорожена и превращена в миф, она снова становится полезной (ср. в этом смысле Blumenberg 2007: 75) для того, чтобы из потустороннего мира реальности компенсировать недостатки надеждами, обещаниями и суггестиями. Там, где понятие “город” в качестве научного термина натыкается на хребет метафоры и выползает на обочину мифа, оно пропадает в качестве еще пригодного для абстракции инструментария, объясняющего “город”[148].
3. Поиск онтологии города
Ниже будет оспариваться тезис, что все, к чему применимо понятие города, можно в лингвистическо-конструктивистском смысле “читать”. В этом втором понятийном приближении я следую скрытой онтологии города, которая если не устраняется, то все же заслоняется понятием города, основанным на теории действия и конструктивизме. С позиции участия в городской жизни заметна не столько материальность города, сколько создающее и изменяющее его действие, а еще более – то “живое тело города”, которое Ханс Бёш (ср. Boesch 2001) – не без метафор и скрытых отсылок – противопоставляет рационалистическому и функционалистски настроенному мышлению наук о пространстве. То, что такое мышление, ориентированное на живое тело, не может подчиниться метафоре “физического тела”, понятно в силу несовместимости теорем. Социологическое мышление в категориях “физического тела” – такое сильное сужение профессионального взгляда, что способно к отчуждению даже личного самовосприятия. В результате возникает впечатление, что индивиды – ученые из плоти и крови – не обязаны уделять хотя бы самого малейшего внимания даже тому, в каком положении пребывают их собственные живые тела и чувства.
Понятия, которые не приходят из мира упорядоченных (асептических) терминологических систем, а затвердевают в процессе патического участия в проживаемой жизни, не “спрашивают” о своих шансах на успех в измеренном поле дискурсивно (и лишь ограниченно) возможного. Понятия города, которые методологически охватывают впечатления от проживаемого и переживаемого городского пространства, можно рассматривать как мосты, которые при благоприятных обстоятельствах заставляют нас делать те “прыжки”, которые, по Хайдеггеру, приводят к тому, чтобы задуматься о том, что требует обдумывания. В буквальном смысле именно выражения переводят путем синестезий чувственное переживание города в обдумывание города и городского. Выражения, которые описывают ситуации витального переживания, не следуют языковым рутинам, терминологически признанным так называемым “сообществом” той или иной дисциплины и выглаженным в аэродинамической трубе мейнстрима.
При погружении в осмысление проживаемого города создается перспектива, в которой объект урбанистики появляется как бы “изнутри”. Точка зрения личной затронутости заставляет обращать внимание на связку, которая в новой феноменологии Германа Шмитца называется внутренне диффузной, “хаотично многообразной целостностью”. Такая внутренняя диффузность возникает из-за личной затронутости – ситуации, в которой больше связано вместе, чем разделено. Научно разделенные пути приближения к объекту “город” представляют собой акт двойной абстракции. Происходит разделение между субъектом здесь и (живыми и мертвыми) физическими телами в физическом пространстве города, а также символическими шифрами в социальном пространстве города там. Однако научная абстракция есть не только (положительный) акт, направленный на повышение различимости с помощью конструирования категорий; она также означает отрицание действительностей, которые находятся в прямой связи с реальностью категориально воспринимаемого и научно анализируемого города. В смысле отношений “фигура-фон” господствующие в социально-экономической географии последних десяти лет парадигмы во имя методологического индивидуализма очерчивают жирными линиями такую герметическую фигуру, что глаз мейнстрима уже почти не различает оттенков фона.
С парадигматической точки зрения феноменологии, нагруженные значениями городские феномены не являются чувственными стимулами, которые в результате образования нейронных цепочек можно реляционно соединять в констелляции фиктивных образований и присвоить им имя “город”. Теперь связующей нитью выступают чувства, вдоль интенциональной линии которых значения образуют те узлы, к которым в ситуациях крепится индивидуальное.
Экскурс: забытое знание
Понимание города как проживаемого пространства всегда имеет две стороны. Одна работает с логикой объектов, а другая – с логикой индивидуального и коллективно-субъективного переживания города. Отнесение к миру реконструкции поддающихся объективации структур, положений, отношений, материальных свойств и культурных значений образует центр социологической методологии, адекватной нынешнему времени. Комплементарное изучение отношений людей (в городском космосе) с собой и с миром – как патических, так и касающихся их расположения – в настоящее время играет весьма скромную роль, и выполняет эту задачу прежде всего феноменология. В общественных науках особенно конструктивизм сузил внимание так, что в него попадают только когнитивные акты создания мира и отнесения к миру. В рамках такого подхода считается, что эпистемологически релевантные объекты – в том числе пространства – методологически доступны для “прочтения” или декодирования средствами семиотики. Сосредоточение внимания на индивидуально или социально созданном достигается ценой того, что другие вещи этот подход не замечает или игнорирует: чтобы убедиться в этом, достаточно одного взгляда на теории познания, пользовавшиеся большим авторитетом в гуманитарных науках лет сто назад[149].
Даже феноменологический дискурс современности не замечает философа Рихарда Мюллера-Фрайенфельса, создавшего в 1920-е гг. философию индивидуальности, в эпистемологическом центре которой – теория иррационализма. Мюллер-Фрайенфельс развивает теории “вчувствования” – прежде всего те, которые разработали Иоганнес Фолькельт (см. Volkelt 1905) и Теодор Липпс (см. Lipps 1903f), – и тем самым ставит эпистемологическую “силу” в центр своей теории, которая отправляется от чувственных ощущений, целостных впечатлений и связанной с ними интуитивной способности человеческого восприятия. То, что Мюллер-Фрайенфельс называет “иррациональным” (в отличие от рациональных операций познания), отличается от современного понимания иррационализма тем, что это иррациональное не считается неполноценной и в дальнейшем требующей рационализации ступенью, предшествующей когнитивному познанию, а рассматривается как антропологическое условие любого рационального (в конечном счете) познания. Мюллер-Фрайенфельс стремится создать антиредукционистскую эпистемологию – такую, какая сегодня представлена, в частности, Германом Шмитцем, – для того чтобы “по достоинству оценить значение не одного лишь рационального мышления, а и всех прочих возможностей познания тоже и найти идеал познания не в их подавлении, а в их гармоничном сотрудничестве с ratio” (Müller-Freienfels 1922: 4).
Приводя релевантный для урбанистики пример исследования пространств, Мюллер-Фрайенфельс конкретизирует то, что рационализм обычно опускает: он называет это “прочувствованной пространственностью”. Она онтологически отличается от объектного характера вещно заполненного пространства тем, что имеет характер состояния (ibid.: 210). Наряду с объектно-логическими структурами того или иного пространства, взгляд падает на “что-то”, что мы чувствуем в пространстве по эту сторону “абстрактной интуиции” (ibid.: 210). В привязанной к объекту эпистемологической позиции сциентизма вещи стоят в “своем” мире. Правда, такое познание носит характер конструкции, который, как правило, (уже хотя бы в силу осведомленности о принципиальной зависимости циркулирующего знания от социальных практик его создания) считается “ненадежной” конституирующей величиной науки. В отличие от этого, самоотнесение каждого познающего субъекта, вытекающее из факта его нахождения в переживаемом мире, недостаточно связано с процессом приобретения знания (независимо от того, идет ли речь об индивиде, занимающемся исследованиями или “всего лишь” живущем просто так, – ср. илл. 2); исключением является феноменология.
Илл. 2: Жизнь и переживание человека между отнесением к миру и самоотнесением
Источник: Юрген Хассе / графика: У. – Ф. Парайк
Ход жизни, считает Мюллер-Фрайенфельс, направляют два течения: иррациональный поток становления и поток, который упорядочивает и генерализирует иррациональное (ср. Müller-Freienfels 1921: 87). Его рассуждения не оставляют сомнений в том, что творческие силы питаются не “универсальным”, а “иррационально индивидуальным” (ibid.). Таким образом, ratio в конечном счете есть лишь производная функция, которая заключается в том, чтобы “уже начавшийся иррационально процесс обдуманно продлевать и расширять” (Müller-Freienfels 1922: 96). Отсюда делается последовательный вывод, что “жизнь” (или “индивидуальность”) должна быть признана в качестве отдельной формы мышления (ср. Müller-Freienfels 1921: 207). Наряду с рациональностью интеллектуального мышления Мюллер-Фрайенфельс видит иррациональность мышления эмоционального, психологии которого философ Генрих Майер (ср. Maier 1908) уже посвятил систематически построенное исследование объемом более 800 страниц. Задача разума на этом фоне – синтез различных форм мышления, к которым относится и интуиция (ср. Müller-Freienfels 1922: 5).
В наше время Вольфганг Вельш, следуя за Жаном-Франсуа Лиотаром (ср. Lyotard 1982 [рус. изд.: Лиотар 1998 – прим. пер.]), рассматривает “разум” как трансверсальную способность к синтезу различных рациональностей (ср. Welsch 1987: 295ff.). Мюллер-Фрайенфельс идет в этом пункте – впрочем, не особенно подробно его рассматривая – гораздо дальше: с его точки зрения, задача разума не исчерпывается синтезом рациональностей: “И только в результате взаимодействия между индивидуальным становлением и стремлением к рационализации можно понять явления жизни” (Müller-Freienfels 1921: 87). Однако вопрос о возможном различии между концепциями трансверсальности разума придется оставить открытым в том смысле, что теоретически иррациональное – в центре которого находятся чувства – можно было бы также обосновать как особую форму рациональности. Чувства в своей “работе” и коммуникации с ratio тоже следуют собственным правилам, которые Генрих Майер систематически изложил в основных чертах (ср. Maier 1908)[150].
Когда Мюллер-Фрайенфельс критически замечает, что, “по крайней мере, обо всех умах, прошедших школу рациональной логики, можно сказать, что они не оценивают иррациональность мира по достоинству” (Müller-Freienfels 1921: 207), то эта мысль содержит в себе открытую критику науки. Ведь методологически обеспеченные правила, предписывающие ученому ограничивать свое внимание тем, что поддается рациональному анализу (так называемая “объективность”), производят не только определенные продукты познания: прежде всего, они представляют собой власть дисциплины, в силу которой те, кто собирается “под ее знаменами”, подвергаются давлению этих правил и должны приспосабливаться к ним. Только тогда и там, где это (само-)дисциплинирование срабатывает, исследователь начинает исключать из рассмотрения собственное Я, причем это исключение методологически и парадигматически “обеспечено”, “объективировано” и рационализировано, а потому является структурным. Оно имеет тяжелые эпистемологические последствия. В рамках изготовления этого методологического многоступенчатого очистного сооружения создается набор фильтров, через который проваливаются все те моменты человеческого бытия, которые могут быть заподозрены в иррациональности и, следовательно, низводятся в ранг впечатлений – считающихся с точки зрения теории науки столь же малозначительными, как и впечатления низших органов чувств. Мюллер-Фрайенфельс говорит в связи с этим о “фиктивной рационализации”, которая заключается в том, что “просто не обращает внимания на все иррациональное, а к людям вообще относится так, как если бы они были постоянными и равными величинами. В кругу индивидуальностей она преувеличивает все рациональное, а иррациональное оставляет в стороне как несущественное” (ibid.: 116). Жюль Мишле в XIX в. нарушил правила “своей” дисциплины (истории): он вступил со своими научными объектами еще и в эмоциональные отношения, а о возникавших при этом реляционных ощущениях начал писать, находясь на языковой и терминологической территории науки. За это ему пришлось пережить гонения и дисциплинирование со стороны своей “дисциплины” (ср. Michelet 1861 [рус. изд.: Мишле 1861 – прим. пер.]).
Ограничение научного внимания рациональным или тем, что еще можно втиснуть в нормативные рамки рационального, и сегодня отнюдь не преодолено. По сравнению с методологически и парадигматически более гетерогенной социологией, эти метатеоретические шоры гораздо заметнее в социально-экономической географии, где научно-теоретический мейнстрим любое проявление жизни, которое не удается интерпретировать как целерациональное действие (ср. Hasse 2006), рассматривает как его побочный эффект, т. е. как отходы человеческой деятельности. Однако и в социологии большие дискурсивные потоки характеризуются доминированием такой экологии, которая покровительствует тому, что можно препарировать традиционными сциентистскими средствами (см. выше). Вопрос о фокусировке и расфокусировке научных систем анализа, включая языковые модели абстрактной репрезентации, сводится в конечном счете к различию в определениях того, что вообще следует считать “знанием”, представляющим научный интерес.
Похоже, что в настоящее время стрелка на пути науки не переведена окончательно ни в сторону сужения, ни в сторону большего плюрализма подходов. В области образовательной политики редукционистское понятие знания (напрямую связанное с перестройкой образовательных учреждений в машины для профессиональной подготовки) усиливает то прагматическое понимание знания, которое довольствуется высказыванием суждений и стремится прежде всего обслуживать запросы “рынка”. С другой стороны, начинается критическое редактирование основных методов научного мышления и системного приобретения знания. Карен Глой (см. Gloy 2007) и Гернот Бёме (см. прежде всего Böhme 1987: 17–21) обращаются к “старым” формам мышления гуманитарных наук, чтобы выяснить, какую роль они могли бы сыграть в анализе сегодняшних общественных условий.
Критическое редактирование скорее скрытых, нежели эксплицитных мыслительных предпосылок урбанистики могло бы привести к переопределению важнейших для исследований объектов внимания. В результате интеграции вопросов, касающихся патической стороны городского человека, центральное место в исследовательских программах урбанистов должны были бы занять совершенно новые темы, которые сейчас изучаются в лучшем случае в экстра-дисциплинарных нишах защищенного междисциплинарного пространства. Открыть (или открыть заново) витальность городской жизни еще только предстоит, а если бы это произошло, то была бы по-новому задана и та рамка, в которой “город” мог бы заново конституироваться эпистемологически и методологически. Ниже предлагается связанная с подобным интересом попытка сделать феноменологическое понятие “ситуации” применимым для нужд урбанистики.
4. Город – “проживаемое пространство”
Все, что урбанисты называют “городом”, происходит в ситуациях “витальной жизни” (ср. Hasse 2007: 36–47). Соответствующей теоретической чувствительностью обладают – в отличие от мейнстрима социологии – различные течения в философии жизни, и особенно феноменология. Суть расширения перспективы за счет феноменологии, однако, не заключается в том, чтобы на место научных теорий поставить произвольность историй повседневной жизни. Внимание к чувствам тоже является и останется “инструментом” в руках науки постольку, поскольку в определенном смысле это теоретический взгляд сквозь чувства других (как правило) людей. Одним из вариантов эпистемологически прочной основы для анализа может служить ситуационный подход Германа Шмитца: его потенциальная мощь заключается в том, что он непосредственно тематизирует в урбанистике чувства, связанные с пространством. Шмитц различает ситуации субъекта и ситуации объекта. Разница заключается в точке зрения, с которой можно говорить о переживании. Ситуация субъекта предполагает затронутость, ситуация объекта – дистанцию. Таким образом, говорить о переживании из чувства затронутости можно только от своего собственного имени. Для урбанистики это означает, что она может качественными методами собирать эмпирический материал о “проживаемом пространстве” города (Карлфрид фон Дюркгейм[151]) и точно так же – с дистанции научной интроспекции – сделать это переживание объектом исследования (на основе высказываний субъекта о ситуациях переживания города в состоянии затронутости).
“Города вообще” не существует, как не существует “человека вообще” или “высокогорья вообще”. Впрочем, осмысленно говорить о “городе” можно только на номотетическом уровне. Попытка рассматривать город как ситуацию должна была бы отправляться от переживаний индивидов, с тем чтобы увидеть таким образом уровень конституирования города, характеризующийся патическим участием, и апоретически сломать всякое догматическое мышление, прямолинейно следующее дисциплинарным теориям. Феноменологическая перспектива так же несовместима с каким бы то ни было дуализмом души и тела, как и с традиционным редукционизмом теории действия. Она направляет наш взгляд на способ бытия города, благодаря чему становится понятным атмосферное и в этом смысле эмоциональное пространство как нечто хаотически многообразно взаимосвязанное, а не составленное из частей по принципу констелляции (ср. Großheim 2004: 51–61). “Городское”, скорее всего, в значительной степени есть продукт символических шифров жизни в больших городах, но в конечном итоге понятным оно становится только тогда, когда символические коды городской жизни соединяются в мысли с соответствующими им чувствами. В этом отношении Зиммель в своей работе о “духовной жизни жителей большого города” уже предвосхищал тот бум ограничения человека духом и мозгом, который наблюдается 100 лет спустя (ср. Зиммель 1903: 119–133 [рус. изд.: Зиммель 2002 – прим. пер.]).
Большие города слишком велики для того, чтобы методологически можно было их понимать как мегаситуации. Между тем, в анализе “городских пространств” на различных уровнях масштаба можно различать “городские ситуации” и “ситуации города”, обнажая таким образом способы переживания, в которых можно наблюдать во взаимосвязи то, чего в картине, изучаемой с позиций теории действия, нет вовсе.
Систематически разработанная феноменологическая терминология, которую ввел Шмитц, обеспечивает возможность четкого различения в хаотически многообразных ситуациях. Как пишет Шмитц, “ситуации […] – основные обиталища, источники и партнеры всего и всякого поведения людей и животных” (Schmitz 2003: 91). Значения в этой схеме встречаются на трех уровнях: на уровне “фактов (нечто существует в принципе и определенным образом), программ (нечто должно существовать или должно было бы существовать) и проблем (существует ли это нечто)” (ibid.: 89). Факты, программы (и часто, но не всегда – проблемы) конституируют ситуацию. Тем, что в определенной (городской) местности нечто существует, нечто, возможно, должно быть иначе и во многих отношениях неясно, существует ли это нечто-то, задается рамка для научного анализа и обеспечиваются категории для описания проживаемых и переживаемых пространств.
Социально-теоретическое возражение выдвигается против любой феноменологии города тогда, когда она начинает утверждать, что является единственным исчерпывающим анализом. Так и любая методологическая фиксация на переживаниях субъектов неизбежно привела бы к той же односторонности, которая практикуется теорией действия, только как бы онтологически “с другой стороны” человека. Город “существует” в том числе – и даже особенно – там, где он не дан в непосредственном чувственном опыте: в денежных потоках, в институциональных структурах, в сетях социальных связей, в воображаемом пересечении которых формируются ресурсы власти. Из своих анестетических зон город, как правило, лишь опосредованно воздействует на “непосредственные” телесные переживания индивидов. С учётом политической экономии чувственных восприятий и чувственности, а также культурной индустрии эмоций срочно требуется последовательное пробуждение интереса социальных наук к “живому” телу, т. е. к жизни человеческой плоти “помимо” перспективы тела физического, к эмоциям “помимо” перспективы умопостигаемого мышления и к перформативному “помимо” перспективы действия, а следовательно – к такому пониманию действий, которое обходится без иллюзии герметичного самообладания. Живое физическое тело невозможно без “плотского” измерения, и не бывает человека, который не переживал бы своих эмоциональных состояний в ситуациях по эту сторону нейронных потоков и не оценивал бы ситуации таким “иррациональным” путем, чтобы в конце концов опять рационально предпринимать в них те или иные шаги.
5. Город как ситуация
Чтобы показать полезность для социальных наук введенного Германом Шмитцем понятия ситуации, я в общих чертах расскажу, как можно применять его в урбанистике. Шмитц вводит понятие “ситуации” на элементарном уровне эпистемологии (ср. Schmitz 1994), чтобы привлечь внимание к тому факту, что в основе всех онтологий лежит глубинный слой значений, которые действуют на субъективном и на объективном уровнях.
“Соответственно, то, как человек обращается с отдельными вещами и темами, всегда определяется отношением к значениям, которые лежат в основе, в хаотическом многообразии единичного” (Schmitz 2003: 91). В этом мышлении вещи и темы содержатся целостно – в “хаотическом многообразии”. Понятие многообразия лишь в очень ограниченной степени родственно “разнообразию”, которое еще можно было бы себе представить в виде некоего обозримого порядка. Понятие многообразия скорее указывает на “нерешенность вопроса о тождестве и разнице” (Schmitz 1994: 68). Это значит, что многообразная значимость в своей интенциональной зоне переменчива.
Шмитц пишет, что “ситуации […] – основные обиталища, источники и партнеры всего и всякого поведения людей и животных” (Schmitz 2003: 91). Значения в этой схеме встречаются на трех уровнях: на уровне “фактов (нечто существует в принципе и определенным образом), программ (нечто должно существовать или должно было бы существовать) и проблем (существует ли это нечто)” (ibid.: 89).
Факты, программы (и часто, но не всегда – проблемы) конституируют ситуацию. Раз существует не один факт, не одна программа и не только одна проблема, которые в каждом конкретном случае могут быть идентифицированы с тем или иным городом, то эпистемологически ни один город в мире не рассматривается как одна ситуация. Каждый город представляет собой переменчивое, перепутанное нагромождение разнообразных ситуаций. Следовательно, то, что в перепутанном нагромождении города как “мегаситуации” тем или иным (в том числе сомнительным) образом существует, никогда не выражает себя в каком-то одном, поддающемся единственной идентификации смысле, но всегда лишь в способах смотреть на этот город, который уже в момент его восприятия (неважно какого – чувственно-интуитивного или теоретико-интенционального) существует не как “весь” город, а как пространственный фрагмент, находящийся в фокусе той или иной темы (этническое разнообразие района, проблемы с жильем, конфликтующие способы использования парка, проблематика неутилизованных отходов и т. п.). В тот момент, когда мы обращаем внимание на нечто, касающееся города, относящееся к нему, находящееся в нем, оно, со своим специфическим для каждой данной ситуации характером, не является перед нами целиком, со всеми интегральными значимыми аспектами. Способы, которыми значения разделены и связаны между собой, слишком дифференцированы и многообразны. Шмитц говорит в таких случаях о сегментированных ситуациях (в отличие от импрессивных ситуаций, см. ibid.: 91f.). Впрочем, могут быть случаи восприятия, когда ограниченные формы городского целого значимы, – например, когда турист с расстояния переживает силуэт города. Но в подобных случаях речь идет о таком целом, которое может воображаемо существовать в качестве фиктивного единства лишь благодаря большой пространственной и патической дистанции. Однако такой взгляд на иконологический “город вообще” абстрагируется от всего, что составляет город как проживаемый космос.
В эпистемологической перспективе ситуационного подхода “реальность” многомиллионного мегаполиса всегда распадается на множественные действительности. Вследствие этого сингулярно определяемый город как объект научного исследования конструирует онтологию, которую следует рассматривать в качестве Другого по отношению к тому, что составляет город как хаотичную систему совместного со-бытия в пространстве. Витальность и активность жизни не дают повода для долговечных определений города, а скорее побуждают к тому, чтобы понимать город как множество коннотаций, связанных с ситуациями. Города – это меняющиеся пространства. Их конститутивные эссенции текучи и летучи. В некоем наивном смысле можно в лучшем случае только архитектурные технические инфраструктуры, в силу их устойчивости, рассматривать как более или менее долговечные, длящиеся во времени “слои” города, как овеществление городской жизни в физическом пространстве. Но и эти слои городских архитектур, и другие материальные субстраты конституируют “хаосмос” (ср. Schabert 1995: 130–140): он может рассматриваться в качестве внутренне диффузной эмульсии-носителя, из которой, помимо всего прочего, образуются, подобно “испарениям”, атмосферы города. Вся материальность города как культурное наследие общественно пульсирующей жизни в конечном счете служит раскрытию города как поля новых возможностей (от вариантов действий до суггестий переживания).
Когда Ле Корбюзье в 1930-е гг. говорил, что не может “пройти мимо неоновых реклам на Бродвее” (цитируется в Boyer, 1998: 48–59), то причиной тому была не материальность ламп, надписей и красочных световых эффектов на стенах домов, а атмосферная действительность суггестивно и патически “увлекающего” моря огней, которая завораживала его в силу своего специфического ситуационного характера. На стороне объекта ситуация конституируется специфическим явлением мира огней (который находится на Бродвее); на стороне субъекта она конституируется будоражащим чувственным переживанием экстазов и “попаданием” имплантированных культурных смыслов в эмоциональное расположение субъекта. Повсюду, куда досягает праздничный свет города зрелищ, море огней на Бродвее образует свой – пусть и не просторный – мир, который скрепляется воедино особым нагромождением значений. В мегапространстве “целого” города это всего лишь одна из граней – ситуация, сцепленная с другими ситуациями.
Трущобы как ситуация мегаполиса
На примере бурно растущих, сверхурбанизованных латиноамериканских мегаполисов очень четко видно, что город имеет характер ситуации. В то время как европейский город поддерживает традицию демократического участия своих граждан в управлении и осуществляет активную социальную политику, не допускающую их впадания в крайнюю нужду (ср. Böhme 2000: 49–99), разрастающийся стремительно и без всякого плана мегаполис Латинской Америки, Азии и Африки не связан никакими обещаниями справедливости. Поэтому с тех пор, как началось ускорение глобализации, в этих городах разрыв между крайней нищетой и граничащим с неприличием богатством увеличивается все больше и больше. Если смотреть на расколотый город, сильно дистанцировавшись от субъективного переживания роскошествующего богатства или экзистенциальной бедности, то можно его понять с точки зрения систематически осуществляемых синтезов богатства и бедности – с точки зрения аморальных механизмов выигрыша и проигрыша. Между тем, такому структуралистскому взгляду на экономически разваливающийся город понятие ситуации будет не очень полезно, потому что в области системного анализа потоков капиталов, товаров и власти социология и политическая экономия располагают инструментами, эпистемологически более удобными, чем феноменология. А вот в области анализа субъективных вовлеченностей горожан в городские события феноменологическое понятие ситуации, наоборот, сулит возможность увидеть многое.
При этом уже материальная сторона трущоб как среды обитания беднейших из бедных представляется с точки зрения объективных фактов звеном в целой цепи других программ и проблем, конституирующих ситуации. В трущобах материалами для жилищного строительства служат не стекло, сталь и высококачественные пластмассы, а пластиковый мусор, отходы древесины и куски бетона – строительного мусора со строек, идущих по краям более благополучных кварталов. Учитывая эти столь разные оболочки жилой среды, становится очевидно, что уже сами стройматериалы своим внешним видом конституируют атмосферы, которые с точки зрения этой обреченности на бедность представляются лежащими в совершенно иных ареалах значений, нежели при “эмпатически” участливом взгляде проходящих мимо туристов, при контролирующем взгляде административных блюстителей порядка или при ориентированном на всеобщее благо активном подходе социальных работников. Но и в самой верхней части общества внешний вид вещей тоже конституирует атмосферы – в других местах “того же самого” города. В то время как хижины из рифленого железа, картона и пластикового мусора подобно средствам коммуникации “транслируют” определенную атмосферу и являются своего рода “знаками” ужасающей бедности, вещи из роскошных квартир означают большое богатство, которое проявляется в атмосфере экономически возвышенного[152]. Поддающиеся в каждом данном случае фактической конкретизации на основе объективируемых показателей жизненные обстоятельства очерчивают ситуационную рамку, внутри которой конституируется субъективность. Эта рамка одновременно влечет за собой целый ряд других опциональных ситуаций (преступность vs. политическая карьера).
Наряду с отношениями, которые в качестве фактов (cp. Schmitz 2005: 45) задают предельные параметры обладания деньгами и вещами, прежде всего именно программы и проблемы являются, с одной стороны, выражением объективных и субъективных фактов, а с другой – оказывают обратное воздействие на эти конкретные факты. То, чего люди хотят, собрано в программы. То, чего они боятся, – это выражение проблем, которые (при определенных обстоятельствах) могут быть преодолены с помощью программ. Это относится не только к жителям города, а в принципе точно так же и к вершителям его судеб – административным и политическим элитам. Поступки или отказы от поступков, осуществляемые “большими” акторами, тоже следуют ситуативным рамочным условиям, только эти условия лежат в совершенно иных ландшафтах значений, нежели те, которым следуют жители. В результате главными оказываются различия между программами и проблемами тех индивидов, чьи жизненные практики подчиняются правилам их жизненных миров, и тех, кто должны и хотят “функционировать” в местах соприкосновения систем.
Так, например, та же самая трущоба, которую ее жители переживают как экзистенциально удушающую нужду, являет собой для градостроителя, который действует или бездействует по заказу политических элит, совершенно иную ситуацию, чем для страдающего от своей жизненной ситуации обитателя трущоб. С точки зрения полиции, следящей за порядком, трущоба практически никак не ассоциируется со страданием от жизни в нищете: она скорее символ позора “города”, который необходимо изжить политическими средствами. Таким образом, объективный факт “трущобы” рассматривается с точки зрения города и расчетов власть имущих тоже в свете проблем и программ, которые радикально абстрагированы от настоящей жизни обитателей трущоб. В полицейском взгляде нищета и страдание переворачиваются со своей живой телесной стороны на оборотную сторону, сторону искажающей объективации: это противоположное значение символической муниципальной политики, в которой бедность надо не патически разделять, а интерпретировать как позорное пятно культурно-политической несостоятельности города. Так, на крупных международных конференциях по проблемам мегаполисов уже давно то и дело говорят о том, что для очищения публичного облика города хорошо было бы снести трущобы с лица земли (ср. Davis 2007: 111). Если снос “незаконных” поселений является выражением политической программы и в то же время жестом власти, то в подобной деятельности выражается не один лишь системный аспект. Социология, в которой господствует парадигма конструктивизма и теории действия, не замечает того обстоятельства, что в долгосрочной перспективе эти акторы со своими поступками и отказами от поступков только тогда могут убедительно выглядеть личностями в собственных глазах (“развернутое присутствие”), когда они могут амортизировать тяжесть своих поступков с помощью системы значений, основания которых они разделяют в том числе и эмоционально! Если верно то, что в бюрократическом и системном видении вершителей судеб города он также сводится к абстрактным и функционалистским структурам и процессам, то столь же верно и то, что за фасадом административного участия в жизни города существует аспект патического участия, даже если его точки отсчета лежат – по сравнению с миром обитателей трущоб – в совсем других ареалах значений (отождествление с практиками авторитарных властей).
С точки зрения антропологической эстетики, чувственные отношения к пространству города конституируют онтологическую сторону ситуаций, которая непосредственно привязана к экзистенциальному и конкретному образу трущобы. Лишь в действительности переживания и в жизненном мире своих обитателей физическое пространство трущобы конституирует ситуацию бедности, которая может быть пережита не в абстрактных шифрах, а только в конкретных ситуациях, т. е. в проявлениях акустического, обонятельного и визуального пространства, где объекты мира повседневной жизни одновременно символически представляются свидетельствами неравного распределения благ и прав. По сравнению с этим мир тех, кто вершит судьбы города (т. е. акторов, действующих от имени власть имущих, которые сами делают это действие возможным только посредством определения его рамочных условий), – это мир ситуаций, лишенных всего чувственного[153]. Для них трущоба невыносима не потому, что в ней нельзя вести жизнь, достойную человека, а потому, что она – символическое позорное пятно, изъян в глобальной конкуренции глобальных городов. Значения, направляющие поступки администраторов и других правящих элит в одну сторону, коренятся не в витальном переживании города, а в абстрактном размышлении и контроле над городом. Трущоба в общей жизненной ситуации людей, вершащих судьбы города, невыносима не потому, что в ней нет чистой питьевой воды, преступность не дает спать и трудно защитить от грабежа свое более чем скромное имущество, и не потому, что зрелище нищенского прозябания этически ощущается как непереносимое. Трущоба невыносима потому, что те, кто воспринимает ее лишь с рационалистической дистанции и знает только некие внешние факты о ней, политически расценивают ее как символический ущерб имиджу города.
В одном городе царит борьба между городами. Ее участниками являются ситуативные города, которые возникают в результате того, что жизнь людей различна – в материальном и в ощущаемом пространстве города. Там, где урбанистика ударяется в абстракции и изолируется от жизни людей в плюральной городской культуре, она когнитивно отчуждает себя от своего объекта изучения. При такой изоляции в конечном счете невозможно получать такие результаты исследований, которые рассказывали бы что-то значимое об индивидуально проживаемой жизни в городах. Всякая чувственная изоляция от мира изучаемых объектов приводит к последующему отчуждению, потому что жители городов учатся в конце концов не обращать внимания на самих себя и на свою жизнь в пространстве города и конституировать себя абстрактно.
Города не только подвержены длительной и в принципе непрекращающейся культурно-исторической трансформации своего физического пространства. С изменением субстратов “городского” они начинают иначе переживаться, а также меняются и сами способы их переживания. Скрипты значений, которые работают как сценарии управления судьбами города, городской жизни и переживания города, можно понять в конечном счете только с точки зрения проживаемого синтеза смысла и значения, чувственности и осмысления.
Литература
Bittner, Rüdiger (2005), Aus Gründen handeln, Berlin/New York.
Blumenberg, Hans (2007), Theorie der Unbegrifflichkeit, Frankfurt am Main.
Boesch, Hans (2001), Die sinnliche Stadt. Essays zur modernen Urbanistik, Zürich.
Böhme, Gernot (1987), Die Schwierigkeit, das Andere zu denken – oder das Problem des Irrationellen // Kimmerle, Heinz (Hg.), Das Andere und das Denken der Verschiedenheit, Amsterdam, S. 17–21.
Böhme, Hartmut (2000), Thesen zur “europäischen Stadt” aus historischer Sicht // Hassenpflug, Dieter (Hg.), Die europäische Stadt – Mythos und Wirklichkeit, Münster, u.a, S. 49–99.
Boyer, M. Christine (1998), Times Square tot oder lebendig? // Daidalos 68, H. Juni 1998, S. 48–59.
Davis, Mike (2007), Planet der Slums, Hamburg [перевод одной из глав этой книги на русский язык см.: Майк Дэвис (2008), Планета трущоб // Логос, 2008, № 3, с. 108–129. – Прим. ред.].
Giddens, Antnony (1988), Die Konstitution der Gesellschaft, Frankfurt am Main, (orig. 1984, The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration, Oxford/Cambridge [рус. изд.: Гидденс, Энтони (2003), Устроение общества: Очерк теории структурации. Москва. – Прим. пер.]).
Gloy, Karen (2007), Von der Weisheit zur Wissenschaft. Eine Genealogie und Typologie der Wissensformen, Freiburg/München.
Großheim, Michael (2004), Zur Phänomenologie der Wahrnehmung jenseits von Projektionismus und Konstellationismus // Denzer, Vera/Hasse, Jürgen/Kleefeld, Klaus-Dieter/Recker, Udo (Hg.), Kulturlandschaft. Wahrnehmung – Inventarisation – Regionale Beispiele. Fundberichte aus Hessen, Beiheft 4, (hg. v. Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Archäologie und Paläontologie) Wiesbaden, S. 51–61.
Gugutzer, Robert (2004), Soziologie des Körpers, Bielefeld.
Hasse, Jürgen (2006), Der Mensch ist (k)ein Akteur – Zur Überwindung szientistischer Scheuklappen in der Konstruktion eines idealistischen Menschenbildes // Wolkenkuckucksheim. Internationale Zeitschrift für Theorie und Wissenschaft der Architektur, Jg. 10, Heft 2, (s. auch 3/103), http://www – 1.tu-cottbus.de/BTU/Fak2/TheoArch/wolke/deu/Themen/themen052.htm#5.
– (2007), Erfahrung durchs Erlebnis? Erlebnis-Architektur im selbst – und weltbezogenen Denken // Janson Alban/Jäkel, Angelika (Hg.), Mit verbundenen Augen durch ein wohlgebautes Haus. Zur szenischen Kapazität von Architektur, Frankfurt am Main, S. 36–47.
Heidegger, Martin (1951/52), Was heißt Denken?, Tübingen 1997 [рус. изд.: Хайдеггер, Мартин (2007), Что зовется мышлением?, Москва. – Прим. пер.].
Lipps, Theodor (1903), Ästhetik // Grundlegung der Ästhetik, Band 1, Leipzig/Hamburg 1914.
Lyotard, Jean-Francois (1982), Das postmoderne Wissen, Wien 1986 [рус. изд.: Лиотар, Жан-Франсуа (1998), Состояние постмодерна, СПб. – Прим. пер.].
Maier, Heinrich (1908), Psychologie des emotionalen Denkens, Tübingen.
Michelet, Jules (1861), Das Meer, deutsche Übersetzung, Wintermeyer, Rolf (Hg.), Frankfurt am Main/New York/Paris 1987 [рус. изд.: Мишле, Жюль (1861), Море, СПб. – Прим. пер.].
Müller-Freienfels, Richard (1921), Philosophie der Individualität, Leipzig.
– (1922), Irrationalismus, Leipzig.
Otto, Gunther (1990), Ästhetische Rationalität // Hamburger Beiträge zur Erziehungswissenschaft, Heft 1/1990, Hamburg, S. 37–52.
Schabert, Tilo (1995), Inszenierung der Metropolis. Der “Chaosmos” städtischer Architektur // Universitas, Jg. 50, Nr. 584, S. 130–140.
Schmitz, Hermann (1994), Neue Grundlagen der Erkenntnistheorie, Bonn.
– (2003), Was ist Neue Phänomenologie? // LYNKEUS. Studien zur Neuen Phänomenologie, Bd. 8, Rostock.
– (2005), Situationen und Konstellationen. Wider die Ideologie totaler Vernetzung, Freiburg/München.
Schroer, Markus (2006), Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raums, Frankfurt am Main.
– (2005) (Hg.), Soziologie des Körpers, Frankfurt am Main.
Simmel, Georg (1903), Die Großstädte und das Geistesleben // Lichtblau, Klaus (1998) (Hg.), Georg Simmel. Soziologische Ästhetik, Bodenheim, S. 119–133 [рус. изд.: Зиммель, Георг (2002), Большие города и духовная жизнь // Логос, 2002, № 3(34), с. 1 – 12. – Прим. пер.].
Volkelt, Johannes (1905), “Grundlegung der Ästhetik” Erster Band // System der Ästhetik, Werk in drei Bänden, München.
Welsch, Wolfgang (1987), Unsere Postmoderne Moderne, Weinheim.
Авторы
Хельмут Беркинг – профессор социологии Дармштадтского технического университета.
Франц Бократ – профессор спортивной педагогики Дармштадтского технического университета.
Петра Геринг – профессор философии Дармштадтского технического университета.
Юрген Хассе – профессор географии Франкфуртского университета имени Гёте.
Герд Хельд – приват-доцент Института градостроительства и регионального планирования Берлинского технического университета.
Седрик Янович – сотрудник Института социально-экономических исследований, Франкфурт-на-Майне.
Рольф Линднер – профессор этнологии Европы Берлинского университета имени Гумбольдта.
Мартина Лёв – профессор социологии Дармштадтского технического университета.
Ульф Маттизен – внештатный профессор этнологии Европы Берлинского университета имени Гумбольдта.
Марианне Роденштайн – профессор социологии Франкфуртского университета имени Гёте.
Карстен Циммерман – научный сотрудник Дармштадтского технического университета.
Примечания
1
Немецкое научно-исследовательское общество (нем. Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) – центральный орган содействия, прежде всего финансового, научным исследованиям в Германии; основано в 1951 г. – Прим. ред.
(обратно)2
“Новая городская социология” (англ. New Urban Sociology) – направление в социологии городов, сформировавшееся в 1970-е и 1980-е годы. Представители этого направления, такие как Марк Готдинер, Рэй Хатчисон и Майкл Т. Райан, предложили новые подходы и теоретические перспективы для анализа различных процессов и феноменов современной городской жизни. В частности, они концентрировали свое внимание на роли экономических факторов, и, прежде всего, рынка недвижимости и интересов крупных финансовых игроков в развитии городов, а также на влиянии этих факторов на процессы пространственной и социальной сегрегации в мегаполисах. См. Gottdiener, Mark et al. (2010), The New Urban Sociology: Fourth Edition, Westview Press. – Прим. ред.
(обратно)3
Последнее лишь условно можно отнести к Чикагской школе, которая, как известно, начала занятия социологией именно как социологией города. Вместе с тем в работах Роберта Парка тоже просматривается тенденция к тому, чтобы описывать большой город как “часть вместо целого”, где под целым подразумевается современное общество (Lindner 2004: 127). Когда мы говорим, что Георг Зиммель описывал большой город как “раннюю форму современного общества” (Häußermann/Kemper 2005: 27), то подобная интерпретация тоже регистрирует смещение проблематики с города на общество, но в ней нет никакого удивления по этому поводу. Главный аргумент, согласно которому большой город как особую социальную форму исторически можно было противопоставить “деревне”, не объясняет эту замену “города” “обществом”, которая имела столь важные последствия для истории науки и формирования исследовательских стратегий.
(обратно)4
Интересные и многообещающие для холистически ориентированного дизайна исследования рамочные категории можно заимствовать у несколько позабытой в современных дискуссиях теории гештальта. О гештальте и восприятии гештальта “городского” см. Lindner 2006.
(обратно)5
“Повседневность”, “жизненный мир”, “контекстное знание”, “биографизация”, “история снизу” – вот лишь некоторые из ключевых слов, давших повод Ульфу Маттизену говорить о подлинном “буме доксы” с конца 80-х гг. прошлого века. См. его важную для понимания этой проблематики статью (Matthiesen 1997), направленную на анализ интерпретативных паттернов в контексте объективной герменевтики, а также глубокие возражения, которые с этой позиции были высказаны им против концепции габитуса Пьера Бурдье, построенной на классовой теории спецификации (Matthiesen 1989).
(обратно)6
Концепциям спатиализации, относящимся к феноменологической школе, посвящена обобщающая работа Waldenfels 2007. Непрекращающийся спор по поводу пространственных измерений “социальной среды” см. в Grathoff 1989; Matthiesen 1998; Keim 1998; 2003; Somm 2005.
(обратно)7
Здесь находит свое “обоснование в предмете” критика больших городов. Однако и оптимизм воспоминаний, и нормативное перерисовывание реальности, проявляющиеся в идеальном образе “европейского города”, указывают на деструктивный потенциал этой новой формы образования общества.
(обратно)8
Здесь и далее авторы употребляют понятие «блазированность» (нем. Blasiertheit) в том значении, в котором оно употреблено в классической работе Г. Зиммеля «Большие города и духовная жизнь»: притупленность чувств и высокомерное равнодушие, свойственное человеку, пресыщенному впечатлениями. – Прим. пер.
(обратно)9
См. Музиль, Роберт (1994), Человек без свойств, Москва. – Прим. ред.
(обратно)10
У Бурдье встречаются многочисленные высказывания по темам, касающимся социологии города, регионов и жилища, но они не разработаны до степени превращения их в самостоятельные социологические дисциплины. Ср. ниже § 2.
(обратно)11
Критику так называемого “волюнтаризма антропологических фикций” (курсив Бурдье) см. Bourdieu 1993: 87 [Бурдье 2001: 90].
(обратно)12
Бурдье там же объясняет разницу между объективистскими объяснениями и практическим опытом на примере разницы между картой как моделью всех возможных путей и чувством пространства, укорененным в теле. Эту мысль можно в заостренной форме резюмировать сказанными ранее словами Коржибского (Korzybski 1973: 750f.): “Карта – это не территория”, или “слова – это не те вещи, которые они репрезентируют”.
(обратно)13
Ср. Bourdieu 1976.
(обратно)14
Так называется 5 глава в Bourdieu 1993 [Бурдье 2001].
(обратно)15
В другом месте (Bourdieu 1993: 166 [Бурдье 2001: 177]) Бурдье добавляет: “[…] истинная суть практики […] – ее слепота к своей собственной сути”. Если эту мысль превратить в позитивную, то можно было бы добавить, что “истиной практики” остается нетождественное, сопротивляющееся, не исчерпывающееся понятиями.
(обратно)16
Об историческом развитии и значении этих “форм тотализации” см. Foucault 1974: 82 – 113.
(обратно)17
По поводу такого применения этого понятия ср. Bourdieu 1993: 149 [Бурдье 2001: 149]. Там же дается следующее пояснение: “Практика разворачивается во времени и обладает всеми соответствующими характеристиками, такими как необратимость, которая разрушается при синхронизации. Ее временная структура, т. е. ее ритм, темп и особенно направленность, основополагающая и для практического чувства […]” (Bourdieu 1993: 171 [Бурдье 2001: 158]).
(обратно)18
Чтобы пояснить эту мысль Бурдье, Лоик Вакан использует пример из области спорта: “Футбольное поле для футболиста, находящегося в игре, – не “объект”, т. е. не умозрительная целевая точка, допускающая бесконечное разнообразие взглядов с разных углов зрения и утверждающая за собой одинаковую ценность во всех своих внешних трансформациях. Поле пересечено силовыми линиями (“боковыми линиями”, линиями “штрафной площади”), расчленено на сегменты (например, “пустые зоны” между игроками), которые заставляют играть совершенно определенным образом, провоцируют и поддерживают этот определенный способ игры как бы помимо ведома игрока. Поле не дано ему, оно присутствует в качестве имманентной целевой точки его практических интенций; футболист включает его в свое тело и, например, чувствует направление “гола” точно так же непосредственно, как вертикаль и горизонталь собственного тела. […] Каждый маневр, выполняемый игроком, изменяет угол зрения на поле и проводит по нему новые силовые линии, в рамках которых затем, со своей стороны, происходят и осуществляются действия, вновь изменяя феноменальное поле” (Bourdieu/Wacquant 1996: 42–43).
(обратно)19
Намек на соответствующее заглавие работы Альфреда Шюца (Schütz 1974).
(обратно)20
Ср. Bourdieu 2001: 182–188.
(обратно)21
Кстати, это относится не только к знанию Нового времени, которое положило начало продуктивному соединению разума, опирающегося на законы, и опыта, опирающегося на эксперименты, но также (пусть и специфическим образом) к истинному знанию о добре (logos) у Платона, которое обладает практическими формами знания и навыками, например ремесла или военного искусства, и претендует на универсальную значимость. Ср. Heinrich 1986: 164.
(обратно)22
Bourdieu 1993: 127 [Бурдье 2001: 134].
(обратно)23
“Социальная реальность существует, так сказать, дважды – в вещах и в головах, в полях и в габитусах, внутри и вне акторов” (Bourdieu/Wacquant 1996: 161).
(обратно)24
Бурдье (Bourdieu 1994: 150) приписывает габитусу “порождающий потенциал”, всегда остающийся неопределенным, и полагает, что и социальные поля обладают собственными логиками, или специфическими собственными закономерностями, несводимыми к правилам и моделям упорядочивания, действующим в других социальных полях. Ср. Bourdieu 1998b: 148–151.
(обратно)25
Об этих “эффектах места” в городском пространстве см. также Bourdieu 1997. Для форм сегрегации по месту проживания типично то, что в районах с высоким качеством жилья обитают представители высших социальных слоев, а в районах с более низким качеством – низших. Нарастающее влияние капитала – культурного (образование, культурные компетенции), социального (включенность в социальные структуры и в сети отношений) и символического (престиж, репутация) – приводит, однако, к тому, что эта традиционная схема начинает меняться, так как в особенности представители средних слоев, стремящихся к социальному росту, открывают для себя так называемые “городские негативные пространства” и с их помощью отстаивают перед лицом экономических факторов распределения свои специфические интересы, связанные с капиталом, и ожидания, связанные с обозначением различий. См. об этом также Bourdieu 1983.
(обратно)26
Об этом многое можно почерпнуть в работах Pinçon/ Pinçon – Charlot 2004 о Париже.
(обратно)27
Необходимо напомнить, что чикагская школа городской социологии разработала свои “Предложения по изучению человеческого поведения в городской среде” (такой подзаголовок имеет работа “Большой город” Парка и Берджесса – Park/Burgess 1984) именно для изучения “города”, который Роберт Парк охарактеризовал как “среду обитания цивилизованного человека” (ibid.: 2). И в свете этой традиции сегодня становится ясно, что образ города никоим образом не исчерпывается суммой “привычек и обычаев людей, населяющих его” (ibid.: 4).
(обратно)28
Bourdieu/Wacquant 1996: 139. В отличие от слова acteur, французское понятие agent более однозначно указывает на социальную переплетенность: оно, во всяком случае, не означает “биологических индивидов, действующих лиц или субъектов в экзистенциалистском смысле или в смысле философии сознания” (ibid.).
(обратно)29
Об этом см. Bourdieu/Wacquant 1996: 139. В другом месте Бурдье пишет: “В высокодифференцированных обществах социальный космос состоит из совокупности сравнительно автономных микрокосмов, эти пространства объективных отношений, эти места специфической логики и необходимости, не сводимые к тем, которые действуют для других полей” (ibid.: 127).
(обратно)30
Обзор немецко – и англоязычной литературы, в которой рассматривается концепция габитуса и поля с точки зрения городской и человеческой географии, можно найти в Dirksmeier 2007: 75.
(обратно)31
См. также соответствующие обзоры литературы в Dangschat 2007: 35, 38.
(обратно)32
В конце разговора о тех преимуществах, которыми якобы обладает дифференцированная концепция “трех М” (Dangschat 2007: 40), различие между структурой, габитусом и практикой переводится в область “виртуального эссенциализма” (Bourdieu 1976: 142), где модель реальности уже не отличается от реальности модели. По этому поводу следует указать на критическое замечание Бурдье (Bourdieu 1976: 157) в адрес лингвистического и этнологического структурализма: “Объективизм, конечно, создает теорию практики, понимаемой как реализация, однако лишь в качестве отрицательного побочного продукта или, если хотите, в качестве сразу откладываемого в сторону побочного продукта, возникающего при построении систем объективных отношений”. В этом смысле модель “трех М” бьет мимо того, на объяснение чего она претендует, поскольку изначально предполагается система объективных связей, которая уже не может быть объяснена разницей габитусов и форм практики, ибо логика практики уже, как кажется, растворяется в логике модели.
(обратно)33
Точно так же, как в новой системной теории тоже говорят о “теории системы-среды”, чтобы обозначить единство разницы между системой и окружающей средой, здесь используется выражение “концепция габитуса-поля”, чтобы подчеркнуть неизбежную, с точки зрения Бурдье, операциональную взаимосвязь этих двух терминов. Под словом “операциональная” здесь подразумевается, что конкретное значение габитуса и поля в каждом случае может меняться, так как оба понятия “были образованы для систематического эмпирического применения” и должны получать специфическое значение применительно к тому или иному объекту исследования. См. Bourdieu/Wacquant 1996: 125 (курсив в оригинале).
(обратно)34
Bourdieu/Wacquant 1996: 127. См. прим. 20 выше.
(обратно)35
Если мыслить в логике моделей, то вместо концепции микро-, мезо – и макроуровней лучше было бы построить более подвижную конструкцию, в которой – как в подвесной игрушке “мобиле” – один импульс приводит в движение всю совокупность элементов. Так, пожалуй, скорее были бы выполнены “требования к динамической теории” (Dangschat 2007: 40).
(обратно)36
Так интерпретирует “формулу воспроизводства структуры-габитуса-практики” Дангшат (Dangschat 2007: 38).
(обратно)37
Cр. характеристику города, данную Робертом Парком (Park 1984: 1): это “состояние ума, набор обычаев и традиций, а также организованных установок и чувств, которые заложены в эти обычаи и передаются посредством этих традиций”.
(обратно)38
Так, например, города считают “быстрыми”, “задумчиво-мечтательными”, “неприветливыми”, “открытыми” или “неподатливыми”. Как показано в исследовании Geipel 1987, в обыденном сознании при описании городов могут фигурировать и такие качества, как “банальный”, “высокомерный”, “светский”, “сдержанный” и т. д.
(обратно)39
К таковым Ли (Lee 1997: 135) относит прежде всего так называемые “внутренние факты”, т. е. “физическую географию города, его климат, демографический состав его населения (соотношения классов, этнический и расовый состав, поло-возрастной состав жителей и т. д.), состояние и типы промышленной и торговой деятельности, характер гражданского, правового и политического режимов, которые в настоящее время действуют или были недавно введены в городе”. Кроме того, автор учитывает “внешние факты […], вытекающие из региональных, общегосударственных, международных и глобальных причин, с которыми городу приходится справляться (правительственное финансирование, характер современного капитала, характер современной наемной рабочей силы, и т. д.)”.
(обратно)40
По поводу данного предположения (см. схему в Lee 1997: 134) следует отметить, что в случае когерентных и стабильных структур габитуса радикальные трансформации скорее маловероятны. К городам, наверное, в особой степени относится упомянутый Бурдье (Bourdieu 1993: 116) в контексте разговора о гомогенизации габитусов эффект “гистерезиса”, который ввиду некоторой инерции, прежде всего телесной, не дает происходить произвольным изменениям и перенастройкам при изменяющихся условиях. В городах долговечные материальные ландшафты и институционально закрепленные социальные структуры обеспечивают определенную стабильность: это видно, например, по тому, что их разрушение чаще всего воспринимается как кризис. Как тело со времен античности реагировало на соответствующие переходные феномены и кризисы в городском пространстве и при этом порождало новые габитусы, наглядно показывает Сеннет (Sennett 1997).
(обратно)41
Lindner 2003: 52 (со ссылкой на Molotch 1998). О притязании культурных ценностей на легитимность в силовом поле культурного производства см., в частности, Bourdieu 1994.
(обратно)42
Показательно, что это – понятие, определенное и юридически защищенное Парижской торгово-промышленной палатой. “Haute couture” Линднер (Lindner 2003: 50) приводит в качестве примера, “целого вместо части”: “Париж представляется городом высшего света не в последнюю очередь потому, что это обитель и “haute couture”, и “haute philosophie”; в нем есть не только высокая мода, но и высокая литература, и высокая философия”.
(обратно)43
Связь с полем, согласно Бурдье, может быть различной по своему охвату, т. е., например, в образовательной системе она может включать в себя все элитные университеты, гуманитарные дисциплины, медицинские факультеты или институты исследований спорта в стране.
(обратно)44
О соотношении “актуализированных” и “объективных отношений между позициями” см. также Bourdieu/Wacquant 1996: 144.
(обратно)45
Там же (Matthiesen 2005: 11) Маттизен добавляет: “Разумеется, мы полностью осознаем опасности, связанные с понятиями “большого субъекта””. На фоне уже неоднократно упоминавшейся соотносительности габитуса и поля это опасение можно как минимум смягчить. Возможно, для того, чтобы избавиться от подобных опасений, надо было бы вместо понятия “антропологии города” (Lindner 2005; Lindner/Moser 2006: 7) в будущем, следуя примеру Бурдье и Вакана (Bourdieu/Wacquant 1996), использовать скорее термин “рефлексивная антропология города”
(обратно)46
См. об этом обзор “Levels of Interactional Dynamics: Options and Conflict” (Matthiesen 2005: 9).
(обратно)47
К этим формам знания относятся, в частности: “1. Знание повседневной жизни (имплицитное/эксплицитное)”; “2. Экспертное/профессиональное знание”, “3. Знание продуктов”; “4. Знание об управлении/менеджменте/руководстве”; “5. Институциональное/рыночное знание”; “6. Знание социальной среды”; “7. Локальное знание”; “8. Рефлексивное знание”. См. Matthiesen 2005: 5.
(обратно)48
Ср. предпринимаемые в гештальт-теории усилия с целью преодолеть отдельные противоречия и конфликты ради гештальт-фактора “хорошего гештальта” – например, Köhler 1968.
(обратно)49
Термин “ничейное пространство”, или “не-место” (фр. non-lieu), был предложен французским антропологом Марком Оже для обозначения мест кратковременного и анонимного пребывания, своего рода “транзитных зон” вроде торговых центров, автобанов, вокзалов, аэропортов, гостиниц и т. п., в которых отсутствуют привычные антропологические характеристики “места”. См. Augé, Marc (1992), Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris. – Прим. ред.
(обратно)50
См. Maar, Burda 2004; Huber 2004; Fassler 2001; о структурных границах деспатиализации см. также Daniela Ahrens 2001.
(обратно)51
В работах, написанных после “Информационной эпохи”, Кастельс пытался с большей или меньшей степенью убедительности вновь интегрировать аналитический автоматизм поляризации своего учения о двух мирах. Делает он это с помощью понятия культуры, о которой раньше у него систематически речи почти не велось. А теперь всё же “культура осмысленной, интерактивной коммуникации, осуществляемой мультимодальным интерфейсом между пространством потоков и пространством мест” должна свести всё воедино (Castells 2002: 382). Но, поскольку парадигматического сдвига от “информации” к “знанию” у Кастельса не происходит, именно эта стратегия использования понятий оказывается не очень убедительной. Это проседание, вызванное сложной теоретической ситуацией, в которую попал автор.
(обратно)52
Подробно говорить об этом здесь, конечно, нет возможности.
(обратно)53
Разумеется, тут же возникают и критические дискуссии по поводу операционализации этих данных.
(обратно)54
В качестве реакции на это теперь различают “medium-high-tech” и “medium-low-tech”.
(обратно)55
Обо всем комплексе процессов развития знания, пространства и управления см. Matthiesen 2004, особенно “Введение” и раздел, посвященный социальной среде знания. В статьях содержатся отсылки к литературе по этому вновь структурирующемуся тематическому полю. О динамике конфликтов в основанных на знании процессах развития см. Matthiesen 2005: 13ff. О концепции коэволюции см. Matthiesen/Mahnken 2009.
(обратно)56
Новые пространственные процессы усиления неравенства привели к возникновению в ФРГ Консультативного совета по пространственной регламентации. Он предлагает ввести особую категорию территорий: “обширные территории опустошения”. Это предложение свидетельствует о возросшем осознании релевантности новых процессов вымирания городов и регионов, но, пожалуй, не об осознании характера их культурно-социально-экономической структурированности. О наиболее интересных практических предложениях в этой сфере см. выпущенный под редакцией Филиппа Освальта объемный двухтомный компендиум “Исчезающие города”, особенно второй том – “Концепции практических решений” (Oswalt 2005).
(обратно)57
О функции “пионеров пространства” и их знаний в оттесняемых на периферию городских регионах см. Matthiesen 2004b.
(обратно)58
Здесь нет возможности подробно разбирать методологическую сторону этой аналитической цели, в особенности такие разработанные Чарльзом Пирсом способы построения заключений, как качественная индукция и абдукция. См. Kelle 1997: 147ff., а также последние работы Йо Райхертца, например, Reichertz 2003.
(обратно)59
Клаус Воверайт (Klaus Wowereit), представитель Социально-Демократической Партии Германии (SPD), был правящим бургомистром Берлина с 2001 по 2014 год. Автор ставшей крылатой фразой характеристики Берлина “Arm, aber sexy”. – Прим. ред.
(обратно)60
Это выражение неокантианец Виндельбанд использовал для характеристики естественных наук (Windelband 1894). На него ссылается и Макс Вебер (Weber 1922; 3. Aufl. 1966). Виндельбанд подчеркивает отличие этих дисциплин от исторических, или гуманитарных, которые работают “идиографически”. В их противостоянии он усматривал типичный для своего времени конфликт. Дихотомию “дух vs. природа” я никоим образом не собираюсь вынимать из нафталина – мне важна только та методологическая роль, которую играет “общество”, или “социальное”, когда речь заходит о “городе”.
(обратно)61
Здесь и далее я использую исключительно вымышленные высказывания.
(обратно)62
Такое положение дел выглядит странным, тем более что в нормативном плане всё обстоит совсем иначе, ведь о “политике” (а это форма, которая подразумевает и город) философия, естественно, размышляет постоянно. Тема “мир”, возможно, тоже отсылает к городу (ср. Gehring 2007), но это предположение носит уже спекулятивный характер.
(обратно)63
См. статью Х. Беркинга в этом сборнике.
(обратно)64
См. статьи Р.Линднера и Ф.Бократа (особенно – в отношении подхода П.Бурдье) в этом сборнике.
(обратно)65
Эта всеохватная интеграция отдельных перспектив часто подчеркивается также в регионалистике и в пространственном планировании как признак, отличающий их от других дисциплин.
(обратно)66
Это же относится и к использованию понятия “пространство”. Пространство – например, как “пространство социальных позиций” (Bourdieu 1987 [рус. изд.: Бурдье 2004 – прим. пер.]) – это зачастую лишь метафора многомерности, которая в принципе может включать в себя бесконечное количество измерений. При этой мыслительной операции мы лишаем “пространство” всякой определенности и всякой ограниченности (трехмерность, протяженность, вытеснение). Реальная абстракция “пространство”, которая основывается на условиях нашего земного существования, превращается в таком случае в пустую абстракцию “множественности”. Использование слова “пространство”, ныне очень модное, здесь, по сути, не добавляет ничего осмысленного к тому, что уже сказано словом “многомерный”. Поэтому с научной точки зрения разумнее так и писать в этих случаях: “многомерный”. В этом пункте критику в адрес напускной важности разговоров о “пространстве” вполне можно понять (ср. Hard 1993).
(обратно)67
Вместе с тем остался практически без внимания и тот факт, что выражение “социально обусловленный” тоже можно понимать в детерминистском смысле. Герхард Хард (Hard 1988) показал на примере объяснения количества самоубийств, какие параллели существуют между детерминизмом аргументации, апеллирующей к природным факторам (“Суицид и погода”), и детерминизмом аргументации, апеллирующей к факторам социальным (“Суицид и общество” – в классическом виде у Дюркгейма).
(обратно)68
В Германии критическая теория с ее инструменталистским понятием труда внесла очень значительный вклад в это низведение “мира” до статуса неподвижной или, в крайнем случае, реагирующей, способной лишь на ответные действия природы (ср. Adorno/Horkheimer 1969 [рус. изд.: Адорно/Хоркхаймер 1997 – прим. пер.]; Habermas 1969).
(обратно)69
В экологических кризисах природа тоже представляется как сторона константная и реагирующая на экологические грехи человека. Для нынешнего социолого-экологического дискурса характерна курьезно непоследовательная мыслительная фигура: с одной стороны, во имя сохранения глобально-климатического статус-кво разрабатываются детально прописанные социально-экономические прогнозы и нормативные концепции, а с другой стороны, в то же время в социальной теории моделируются постмодерные, не подчиняющиеся никаким правилам властные игры.
(обратно)70
Бёкенфёрде пишет: “Либеральное, секуляризованное государство живет благодаря предпосылкам, которые оно само не способно гарантировать. Это великий риск, на который оно пошло ради свободы. С одной стороны, как либеральное государство, оно может существовать только в том случае, если свобода, которую оно предоставляет своим гражданам, регулируется изнутри, моральной субстанцией индивида и гомогенностью общества. С другой стороны, государство не может пытаться гарантировать эти внутренние регулирующие силы само, т. е. средствами юридического принуждения и властного повеления, без того чтобы отказаться при этом от своей либеральности и – на секуляризованном уровне – возвратиться к той претензии на тотальность, уход от которой стал некогда выходом из религиозных гражданских войн”.
(обратно)71
Речь не идет и о различении социальных подсистем в смысле системной теории Никласа Лумана.
(обратно)72
Обращение к социальности даже еще одномернее, чем классические положения философии государства Монтескье (“О духе законов” – Montesquieu 1992 [рус. изд.: Монтескье 1955 – прим. пер.]) или Токвиля (“Демократия в Америке” – Tocqueville 1994 [рус. изд.: Токвиль 2000 – прим. пер.]).
(обратно)73
Например, к представлению, будто необходимая гомогенность общества как-то страдает от нарастающего неравенства.
(обратно)74
Например, к релятивистскому представлению, будто экономикой и политикой движут непрекращающиеся акты власти, попеременно направленные в противоположные стороны.
(обратно)75
По сути, именно на этом механизме поддержания различий построена концепция “тонких различий” Пьера Бурдье. Его критика в адрес этого механизма по сути представляет собой завуалированное обращение к механизму подобия и равенства в социальной области (Bourdieu 1987 [рус. изд.: Бурдье 2004 – прим. пер.]).
(обратно)76
В этом, на мой взгляд, заключается и порок “общественного понятия пространства”, предложенного Дитером Лепле (Läpple 1991).
(обратно)77
При этом еще большой вопрос, является ли уязвимым местом политики именно перемещение между независимыми единицами и акторами – или скорее “оторванность от реальности” тех решений, которые нацелены на обеспечение всеобщего блага. В последнем случае включение городской плотности в политические процессы имело бы совсем иную задачу, нежели в рыночных процессах: это задача обеспечения связи с реальностью.
(обратно)78
Зиммель не спрашивает, как определенная духовная жизнь конструирует город: его взгляд направлен в противоположную сторону. Однако в заглавии осторожно поставлен союз “и” между большим городом и духовной жизнью (нежесткая связь), а не говорится о “духовной жизни большого города” (что означало бы радикальное подведение одной категории под другую).
(обратно)79
Число больших городов (т. е. с населением более 100 000 жителей) в Германии выросло с 8 в 1871 г. до 48 в 1910 г.
(обратно)80
Примерами могут служить работы Radkau J. Das Zeitalter der Nervosität (Radkau 1998) и Asendorf C. Nerven und Elektrizität (Asendorf 1999).
(обратно)81
Слова Фрейда о “трех великих оскорблениях человечества”, которыми он намекал на произошедшее в течение Нового времени вытеснение человека с центральной позиции, были сказаны именно тогда.
(обратно)82
“Развитие современной культуры характеризуется перевесом того, что можно было бы назвать объективным духом, над духом субъективным” (Simmel 1984: 202 [Зиммель 2002: 11])
(обратно)83
Зиммель пишет: “Психологическая основа, на которой выступает индивидуальность большого города, – это повышенная нервность жизни, происходящая от быстрой и непрерывной смены внешних и внутренних впечатлений” (Simmel 1984: 192 [Зиммель 2002: 1]).
(обратно)84
Зиммель говорит о “неожиданно сбегающихся ощущениях” и о “резком отграничении” в пределах того, что человеку приходится охватывать одним взглядом. Х.П. Бардт впоследствии назвал анонимную обстановку трамвая парадигматической для большого города (Bahrdt 1969).
(обратно)85
Это еще характерно для типичных встреч в локальном пространстве, в пространстве малого города, где люди могут “рассказать друг другу всю свою жизнь” и где еще не произошло разделение локальной социальной среды и анонимного пространства.
(обратно)86
Поэтому с такой позиции большой город и не может перейти в разряд тех “предпосылок” государства, о необходимости которых говорит Бёкенфёрде.
(обратно)87
“Теория центральных мест” Вальтера Кристаллера (Christaller 1968) вплотную подходит к этой репрезентативной логике города: в ней города делятся на центры высшего, среднего и низшего порядка. Таким образом формируются классы городов, которые при посредстве “центральных благ” или “дисперсных благ” образуют разные уровни пространственного резюмирования. Размеры улицы или качество постройки здания расскажут нам – совершенно независимо от конкретного направления этой улицы или архитектурного стиля этого здания – что-то о ранге, который данный город занимает в иерархии городов. Кроме того, они расскажут нам и что-то о состоянии резюмированной действительности (о процветании и кризисе, о войне и мире и т. д.).
(обратно)88
Когда мы идем по некоему ландшафту, мы не только чувственно проживаем его, но и измеряем, причем не в соотношении с нами, с другими людьми или с иными живыми существами, а в соотношении с общими условиями мира. Только благодаря такому соотнесению мы можем определить, насколько высоки горы и насколько трудно будет на них взбираться.
(обратно)89
То же самое можно сказать о качестве используемых строительных материалов: оно не просто отражает то, что пространственно ближе и потому естественно используется, а связано с качеством материалов очень многих и широко разбросанных локальных данностей и маркирует определенную дистанцию по отношению к ним. Это может проявляться в использовании особо редкого или особо долговечного материала. Так, даже патина, которой покрывает постройку время (или которую время неспособно наложить благодаря устойчивости хороших материалов) становится репрезентацией ранга этой постройки.
(обратно)90
Территория образуется всегда посредством относительной гомогенности. Она выполняет репрезентирующую функцию за счет исключения крайних чуждых вариантов – в этом можно убедиться, заглянув в коллективные трудовые договоры или государственные образовательные нормативы. А в большом городе люди часто строят свою жизнь не по нормам той страны, в которой расположен этот город (Held 1998, 2005a).
(обратно)91
Пространства перехода между внешним и внутренним (например, палисадники между домом и улицей) называют “дважды кодированными” и таким образом получают критерии удачности или неудачности архитектурно-пространственного устройства города (ср. Sieverts 2007).
(обратно)92
В немецком издании книга названа “Die Ordnung der Dinge”, т. е. “Порядок вещей”. Автор указывает в примечании на это отличие от оригинала. – Прим. пер.
(обратно)93
Фуко пишет во “Введении”: “Мне хотелось узнать, не определяются ли индивиды, которые ответственны за научный дискурс, в своей ситуации, своей функции, своих перцептивных способностях и практических возможностях теми условиями, которые над ними господствуют и их подчиняют себе”. И далее: “Но если есть путь, который я отвергаю, то это тот […], который признает за наблюдаемым субъектом абсолютный приоритет, приписывает деятельности основополагающую роль, а свою собственную позицию делает источником всякой историчности” (Foucault 1974: 15 [В русском издании эти пассажи отсутствуют. – Прим. пер.]). В той области, которую изучает Фуко, не находится ничего такого, на чем можно было бы серьезно обосновать теорию, в центре которой стоит актор.
(обратно)94
Райнер Келлер в своем обзоре исследований дискурса пишет о том, как критика невнимания Фуко к акторам усилилась “[…] не в последнюю очередь в контексте студенческих волнений 1968 года, когда разгорелся ожесточенный спор о том, кто вышел на улицы – структуры или люди” (Keller 2004: 17).
(обратно)95
Понятие системы вводится здесь не в том смысле, в котором его используют в какой-то конкретной теории систем: здесь оно в самом общем смысле обозначает порядок, который отличается нежесткостью связей и “ограничивается минимумом”. Этот пункт важен, потому что система – это не совокупность всех явлений в их тотальности. “Целое” может быть и всего лишь какой-то одной выбранной стороной. Это тоже называется “дифференциацией”, как показал Георг Зиммель (Simmel 1983a: 68).
(обратно)96
Исследования французской Школы “Анналов” по истории ментальностей продемонстрировали изменения (и константы) в базовых духовных диспозициях, которые невозможно объяснить действиями акторов: наоборот, они оказывают на акторов определяющее воздействие.
(обратно)97
Историк Фернан Бродель указал на другие ритмы времени (la longue durée – “время большой длительности”) и на то, что в связи с ними возможность “продуцирования” исторических феноменов гораздо меньше по сравнению с феноменами социологическими (Braudel 1992). Поразительно, что подобная работа о “Большом просторе”, т. е. о соотношении географии и социологии, не написана (или не получила известности).
(обратно)98
Представляется более осмысленным исходить из существования различных уровней силы репрезентации, нежели объявлять одно “реальным”, а другое “отображенным”.
(обратно)99
Подозрение, что социальная включенность означает массивную интимизацию господства и замыкание в тесных перспективах, стояло у истоков книги Ханны Арендт “Vita activa” (1981) и “Тирании интимности” Ричарда Сеннета (Sennett 1983). В обеих уже намечается “городское” или “социальное” в качестве альтернативы данному порядку.
(обратно)100
Не случайно также и то, что современная социологическая урбанистика все больше отходит от рассмотрения города как целого и городского всеобщего, переключившись на изучение отдельных, специфических подчиненных единиц города (внутренней и внешней “субгородской” среды). Всеобщие (и нормативные) масштабы при этом заимствуются из образов общества, отличающихся определенными постулатами равенства (всё становится всё более и более “неравным” и “расколотым”). Никто уже даже и помыслить не может, что неравенства как раз и представляют собой типичное проявление репрезентационной природы современного большого города; они не изобретаются и не создаются в нем, а происходят от условий мира и в городе, может быть, становятся даже более переносимыми.
(обратно)101
Часы как “машина времени” хорошо выражают этот двоякий характер, возникающий из фикции и ограничения: они должны абсолютно негибко и неумолимо отражать “ход” и быть неподвластными воле и сознанию акторов. Часы не “производят” время; повлиять можно только на распределение времени. Узкое техническое понятие инструмента, предназначенного для определенной цели, к часам не применимо. Они относятся к лежащему за пределами этого понятия кругу различных техник, которые трансформируют условия и включают в себя инструментально-целевую технику. Сюда же можно отнести эссе Поппера “Часы и облака” (опубликовано в книге “Объективное познание” 1973 г.). Интересно было бы также, наверное, сравнить “часы и книги” – они, каждые по-своему, являются переводом “облаков”.
(обратно)102
Увлекательной задачей было бы испытать этот подход, подразумевающий различные формации пространственно-временной масштабности (как параллель дискурсивным формациям у Фуко) в такой традиционной исследовательской области, как “город в истории идей”.
(обратно)103
Работа Фернана Броделя по истории “материальной цивилизации” получила в немецком переводе очень неудачное, вводящее в заблуждение название “Социальная история” (Braudel 1985 [рус. изд.: Бродель 1986, 1988, 1992 – прим. пер.]).
(обратно)104
Во всех этих вариантах “окультуривания” главное в том, что собственная логика объекта не устанавливается совершенно заново, а только переводится в новую формацию. Для этого процесса нам нужно адекватное понятие “конструкции”. Поразительно, что понятие “конструирования”, ставшее столь модным в социологии, практически не уточнено. Разбирать эту проблематику в рамках данной статьи невозможно, но об одном важнейшем моменте надо сказать: это определение субъективных и объективных составляющих процесса конструирования. Все время имплицитно предполагается, что весь этот процесс осуществляют акторы, но доказательств этому никогда не приводится. Тут оказывается по-прежнему полезным введенное Зиммелем различение “субъективной и объективной культуры”. Он иллюстрировал его, приводя в пример скульптуру и садоводство: при создании скульптуры из куска камня субъект – художник – почти полностью автономен в своем творчестве; при выращивании плодовых деревьев условия (почва, климат, порода и т. д.) играют гораздо более важную роль, они исходно задают структуру процесса. Актор в гораздо большей степени вынужден приспосабливаться к уже существующей схеме (Simmel 1983b). Без теории конструирования анализ собственной логики города невозможен.
(обратно)105
В хозяйственной жизни деление на пространственно ограниченные рыночные ареалы ставит пределы влиянию на рынок со стороны наиболее выгодных местоположений и дает возможность пользоваться сравнительными преимуществами в издержках за счет внешней торговли даже тем экономическим ареалам, которые характеризуются в целом менее благоприятным местоположением (модель Рикардо).
(обратно)106
Деньги, как представляется, сочетают в себе элементы знаковой и пространственно-временной систем: они – и знак, и воплощение ценности.
(обратно)107
“Популизм”, о котором столько говорят, на самом деле зачастую есть проблема “короткого замыкания”, встречающегося в таких жизненных мирах, которые пространственно-временные репрезентации перестали просвещать и принуждать к открытости миру.
(обратно)108
В романе Кормака Маккарти “Дорога” есть глубокая фраза: “Ему никогда бы не пришло в голову, что ценность самого незначительного предмета предполагала будущий мир […], что пространство, которое занимали эти предметы, уже само по себе было ожиданием” (McCarthy 2007: 138 [рус. изд.: Маккарти 2008 – прим. пер.]).
(обратно)109
Токвиль продемонстрировал это на примере сравнения между моралью капитана судна в открытом море и моралью поединка, характерной для аристократии (Tocqueville 1994 [рус. изд.: Токвиль 2000 – прим. пер.]).
(обратно)110
См. работу Макса Вебера. Правда, она тоже несет на себе следы примата социальности. Тенденция к секуляризации описывается в ней как “стальной панцирь”, который скорее стесняет, чем открывает.
(обратно)111
Мишель Фуко в 1974 г. применительно к сфере знания показал, как в конце XVIII в. в самых разных дискурсах и областях главенствующей фигурой стал человек. Это в дальнейшем привело к появлению и выходу на ключевые позиции социологии и психологии как новых метанаук. В этой работе Фуко релятивирует и ставит под вопрос центральную позицию человека и гуманитарных наук (Foucault 1974: 367ff. [рус. изд.: Фуко 1977 – прим. пер.]).
(обратно)112
Не случайно сегодня в социологической урбанистике всё больше выходит на первый план изучение мелких фрагментов городского пространства, а о “всеобщем” большого города разговор идет лишь изредка.
(обратно)113
Линде писал: “Поскольку в практике планирования пространств речь идет конкретно и только о том, чтобы расположить вещи (рабочие места, жилища, дороги, прочие коммуникации и т. д.) в каком-то маленьком или большом ареале, то такая социология, которая довольствуется рассмотрением вещей как опредмеченного, мертвого субстрата общественных отношений и в лучшем случае учитывает их в качестве данных об окружающей среде, когда строит свои интеракционистские системы, с необходимостью должна будет признать свою некомпетентность.
(обратно)114
Здесь в качестве примеров можно назвать имена Г. Зиммеля, Л. Вирта, В. Беньямина, З. Гидиона, Х. П. Барта, Дж. Джекобс и Р. Сеннета.
(обратно)115
См. статьи Mayer, Häußermann, Wollmann, Heinelt в сборнике Wollmann/Heinelt 1991, а также Hesse 1986; Nassmacher/Nassmacher 1999.
(обратно)116
Здесь мы не будем вдаваться в дискуссию о том, является ли это желательным или даже необходимым в соответствии с теорией государства, или же наоборот, требование равноценных условий жизни диктует необходимость сильного, уравновешивающего и контролирующего воздействия со стороны федеральных и в первую очередь земельных властей (Nassmacher/Nassmacher 1999: 66–67).
(обратно)117
Ср. исследования отдельно взятых городов – Le Galès 2001; Silva/Syrett 2006. Поскольку подобные работы по определению описывают исторически уникальные процессы, ссылаться на них для обоснования тезиса о несходстве отдельных случаев – значит навлекать на себя обвинения в тавтологии. Но если поместить case studies в контекст теории, то они могут не просто воспроизводить тезис о существовании собственной логики, а дать гораздо больше (см. Yin 1994).
(обратно)118
Речь идет о последипломном и профессиональном образовании.
(обратно)119
Исследование охватывало, помимо североитальянских городов Турина и Милана, также Флоренцию и Неаполь (cp. Spada/Paqui 2007).
(обратно)120
Операционализируется это через количество интеракций (плотность) и гетерогенность акторов (сложность).
(обратно)121
В понимании Ханса-Георга Велинга, порядки знания образуют “контекст социально признанных, дискурсивно и культурно стабилизированных иерархий знания и разграничений (между фактами и ценностями, экспертами и обывателями, “объективным знанием и субъективным мнением” и т. д.), а также специфичные для каждого случая практики производства знания и его когнитивной и нормативной оценки” (Wehling 2004: 65).
(обратно)122
“Уже в 1934 г. Африка была для меня всего лишь фантомом, а Африка 1980 г. тем более ускользает от моего взгляда” (Leiris 1985: 6).
(обратно)123
Роберт Мальтус в 1798 г. сформулировал свой “универсальный закон населения”, сохранивший влияние и по сей день. Согласно ему, рост числа людей на Земле неизбежно приведет к тому, что их невозможно будет обеспечить пищей. Эта взаимосвязь, считал Мальтус, носит неумолимый и закономерный характер, определяемый разницей между темпами роста – населения, с одной стороны, и производства продуктов питания, с другой: в то время как первое увеличивается экспоненциально, второе может расти только линейно (ср. Malthus 1826).
(обратно)124
Повсеместно распространившееся понятие “трущоб” (slum) создает впечатление, будто речь идет о каком-то четко очерченном феномене. На самом же деле нет никакой ясности относительно того, в каких случаях городской район должен считаться “трущобами”, а в каких нет. “Официальное” определение, данное ООН, гласит: “Трущобы есть жилой массив с высокой плотностью застройки, отличающийся тем, что жители его лишены достойного жилья и основных услуг. Трущобы часто рассматриваются властями как неотъемлемая или равная часть города” (ROAA UN-Habitat 2005: 8).
(обратно)125
Одним из исключений в этом смысле являются, несомненно, труды Анри Лефевра (обзор см. в Schmid 2005).
(обратно)126
Излагаемая ниже идея возникла у меня в результате разговора с Хельмутом Беркингом и Мартиной Лёв.
(обратно)127
“В ходе анализа я так часто разделяла кусочки, что в итоге, кажется, как-то потеряла самую их суть – то, что я всегда называю уникальными “личностями” городов. Поэтому я не могу закончить книгу, пока не соберу все части снова вместе, чтобы продемонстрировать, как различаются городские ландшафты и привычки, потому что пьесы, разыгрывающиеся на подмостках городов, идут уже много лет” (ibid.: 423). Чтобы сформулировать квинтэссенцию каждого города, автор передает слово журналисту.
(обратно)128
Макс Вебер определил город как синтез трех аспектов: в политико-административном смысле – через наличие территории, в экономическом смысле – через наличие рынка, в политическом смысле – через наличие городской общины и, соответственно, бюргерства, т. е. сословия свободных горожан (Weber 1964: 923ff.)
(обратно)129
Исключением стало исследование Вертхайма, проведенное Томасом Эльвайном и Ральфом Цолем (Ellwein/Zoll 1972), которые ориентировались на образец американских исследований структуры власти в сообществах.
(обратно)130
Книга Хельмута Бёме о Франкфурте и Гамбурге – пример сочетания перспектив исторической синхронии и диахронии в сравнении городов. Будучи историком, Бёме сопоставлял Франкфурт и Гамбург на протяжении всего периода от их основания до середины XIX в., анализируя взаимосвязи между органами городской власти, органами представительства горожан и экономической конъюнктурой. Здесь я буду неоднократно обращаться к этой книге как к источнику.
(обратно)131
“Всякий раз, когда нужно решить какие-либо вопросы, сложные и важные для вышеуказанного города и сообщества граждан Гамбурга, – будь то вещи, имеющие коренное значение для правовых отношений города и общины его граждан, или что-то, связанное с правами или политическими отношениями, или еще что-нибудь, столь же весомое, – то для того, чтобы решение подобных проблем было легитимно и долговечно, необходимо, чтобы бургомистры и члены совета открыто запрашивали по этому поводу совет и согласие глав ремесленных цехов и коммуны граждан города и чтобы они решали вопросы на основе этих их рекомендаций и их согласия” (по Böhme 1968: прим. 32 и сл.).
(обратно)132
Cо временем богатые иммигранты получили возможность путем брака входить в аристократические семьи, становиться в результате так называемыми “гражданами по жене” и впоследствии членами совета, однако серьезно изменить ситуацию с организационным представительством своих коммерческих интересов они не могли (Böhme 1968: 48, 103).
(обратно)133
В начале XVII в., а затем в начале XVIII в. после волнений во Франкфурте по приказу императора учреждались гражданские коллегии, которые должны были контролировать Совет, но им это так и не удавалось. (Böhme 1968: 48, 103).
(обратно)134
Этой группе купцов-оптовиков и банкиров удавалось с помощью личного влияния, которым они пользовались в органах политической власти, добиться сохранения курса на свободную торговлю, который был им выгоден, хотя Франкфуртская ярмарка и пришла в полный упадок с созданием Таможенного союза. Июльская революция 1830 г. наконец произвела впечатление на Сенат, и теперь он прислушался к той группе (розничным торговцам в Торговой палате и др.), которая выступала за присоединение Франкфурта к Таможенному союзу. В 1836 г. город в него вступил, и одним из важных мотивов был при этом страх внутренних беспорядков. Ярмарка восстановилась, однако теперь в ней преобладал ассортимент товаров национальной, а не международной торговли. Оптовикам же пришлось специализироваться. Если раньше каждый из них был банкиром, перевозчиком и торговым посредником в одном лице, то теперь наступила специализация, которая способствовала дальнейшему расколу экономических интересов в городе.
(обратно)135
Совсем в иную сторону были направлены в последующий период усилия нацистского бургомистра Кребса: он старался добиться того, чтобы Гитлер присвоил Франкфурту звание “Город немецкого ремесла”, которое могло относиться к его историческому центру.
(обратно)136
Подробнее об этом см. в Durth/Gutschow 1988: Bd. 2.
(обратно)137
Эта ситуация не изменилась и при обсуждении новой конституции, после того как с приходом французов кончилась власть императоров. В Гамбурге – в отличие от Франкфурта – было решено сохранить прежнюю политическую систему.
(обратно)138
Женщины по закону от 11 июля 1864 г. лишились права гражданства, которым они обладали на протяжении веков и которое позволяло каждому бюргеру, платившему налоги, участвовать в выборах в гражданское собрание. (Hoffmann 2001: 267).
(обратно)139
Этот вывод сделан на основании десяти интервью по данной теме с представителями старинных гамбургских и франкфуртских семей.
(обратно)140
При нацистах должность второго бургомистра занимал Вильгельм Амзинк Бурхард-Мотц (1933–1945). В 1945–1946 гг. британцы сделали временно исполняющим обязанности первого бургомистра опять-таки представителя одной из этих старых сенаторских семей – предпринимателя Рудольфа Петерсена, брата Карла Петерсена. В 1953–1957 гг. первым бургомистром был Карл Зифекинг (Evans 1990: 696ff.). В Торговой палате старинные купеческие семьи и во второй половине XX в. по-прежнему были представлены очень мощно.
(обратно)141
Meyers Konversations-Lexikon (1887), статья “Гамбург”, S. 39.
(обратно)142
Для сегодняшнего самопонимания Франкфурта его статус транспортного узла – на втором месте по важности. “Аэропорт-Сити”, в котором работают в настоящее время 62500 сотрудников и 470 компаний (Bender 2004: 94), является крупнейшим работодателем в городе. Поддержка аэропорта наряду с поддержкой банков всегда была одним из приоритетов в политике городских властей. Аэропорт разросся в целый город, и хотя его не видно из Франкфурта, он всё больше напоминает о себе шумом низко пролетающих самолетов.
(обратно)143
В 2003 г. здесь на 1000 жителей приходилось 918 работающих. На втором месте был Дюссельдорф (795), за ним Штутгарт (775) и Мюнхен (743). Гамбург – на восьмом месте: 594 работающих на 1000 жителей (Frankfurter Statistik aktuell. 2005. № 14).
(обратно)144
О том, в какой степени границы города определяют сознание политиков, можно судить, например, по одному высказыванию руководителя Департамента транспорта и окружающей среды (Партия Зеленых). Когда во Франкфурте в качестве возможного способа адаптации к Европейскому регламенту поддержания чистоты воздуха обсуждалось введение платы за въезд автомобилей в центр, этот политик заявил, что ввиду особых местных условий введение здесь такой платы, как в Лондоне, исключено, “если Франкфурт хочет выглядеть городом, открытым миру” (Kokoska/ Leppert 2007).
(обратно)145
Это проявляется, например, в забавнейшем откате к традиционной онтологии, когда утверждается, будто не бывает физического тела, независимого от дискурса, как если бы физическое тело – в отличие от живого – обладало хотя бы зачаточной способностью отвечать на культурно означивающие воздействия (cp. Schroer ibid.: 32).
(обратно)146
Под “патическим” в данной статье понимается непосредственно аффективный аспект отношения к окружающему миру. – Прим. ред.
(обратно)147
Интерференции между социологическими модами на тот или иной образ человека и политико-экономическими фазовыми скачками можно продемонстрировать, сравнивая парадигматические течения в науке и экономике переломных 70-х гг. и сегодня. На смену социологическим парадигмам, покоящимся на политических и этических основаниях, все больше и больше приходят нормативные притязания, которые должны доказать свою функциональность в экономическом мире.
(обратно)148
Это не означает, что похожее, как метафора, на губку понятие города в жизненном мире, культуре и политике не могло бы из-за этой открытости выполнять никаких важных поисковых функций в создании образа города как формы жизни.
(обратно)149
Релевантные для этой проблематики труды выходили в нескольких изданиях (например, цитируемые здесь работы Рихарда Мюллера-Фрайенфельса, Иоганнеса Фолькельта или Теодора Липпса – см. ниже).
(обратно)150
В пользу рациональности эстетики, несущие структуры которой связаны с иррациональным, творческим и эмоциональным, высказывается и арт-педагог Гюнтер Отто (ср. Otto 1990: 37–52).
(обратно)151
Подробнее о концепции “проживаемого пространства”, предложенной немецким психологом и психотерапевтом Карлфридом фон Дюркгеймом, см. Karl Friedrich von Dürckheim, Untersuchungen zum gelebten Raum, Frankfurt am Main 2005. – Прим. ред.
(обратно)152
О ситуации трущоб в многомиллионных мегаполисах на периферии богатства см. также Davis 2007.
(обратно)153
Критику градостроительного планирования, лишенного чувственной составляющей, см. у Boesch 2001.
(обратно)




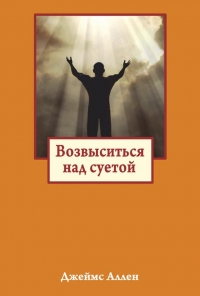


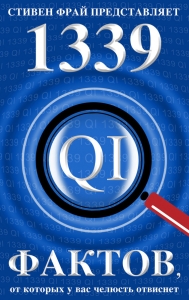
Комментарии к книге «Собственная логика городов. Новые подходы в урбанистике», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев