Марсело Глейзер Остров знаний. Пределы досягаемости большой науки
Эндрю, Эрику, Тали, Люциану и Габриэль
Marcelo Gleiser
THE ISLAND OF KNOWLEDGE
The Limits of Science and the Search for Meaning
© 2014 by Marcelo Gleiser
© Перевод на русский язык ООО Издательство «Питер», 2017
© Издание на русском языке, ООО Издательство «Питер», 2017
© Серия «Pop Science», 2017
Пролог
То, что я вижу в природе, является великолепной структурой, которую мы можем постигать лишь поверхностно, и подобное обстоятельство должно наполнить думающего человека чувством «смирения». Это есть искреннее религиозное чувство, которое не имеет ничего общего с мистицизмом.
Альберт ЭйнштейнМы должны помнить, что то, что мы наблюдаем, – это не сама природа, а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему способу постановки вопросов.
Вернер ГейзенбергКак много мы знаем о мире? Можем ли мы сказать, что знаем всё? Или же существуют какие-то фундаментальные ограничения, дальше которых наука продвинуться не в состоянии? Если это так, то до какой степени мы можем понять природу физической реальности? В этой книге мы задаем подобные вопросы, получаем на них неожиданные ответы и исследуем наше понимание Вселенной и самих себя.
То, что мы видим в окружающем мире, – это лишь капля в огромном океане. Даже когда мы пользуемся для этого телескопами, микроскопами и другими исследовательскими инструментами, многое остается скрытым от наших глаз. Любой инструмент, как и наши собственные органы чувств, имеет диапазон действия. Поскольку большая часть Природы не входит в этот диапазон, мы судим о реальности лишь по той ее крошечной доли, которую можем измерить и проанализировать. Таким образом, наука как повествовательное описание того, что мы видим и что, по нашим предположениям, может существовать в мире, раскрывает лишь часть общей картины, а значит, по определению ограниченна. Но что же насчет тех загадок, на которые у нас пока нет ответов? Основываясь на своих прошлых успехах, мы уверены, что со временем часть неизвестного станет известным и будет включена в наш научный опыт. Однако в этой книге я попытаюсь доказать, что некоторые тайны так и останутся неразгаданными. Неизвестность неизбежна, даже если на некоторые вопросы со временем находятся ответы. Мы стремимся к знаниям и хотим получать их как можно больше, но нам следует понять, что мы всегда будем окружены загадками.
Подобный взгляд не является антинаучным или пораженческим. И я совершенно точно не предлагаю вам подчиниться религиозному мракобесию. Наоборот, именно эти игры в загадки, именно это стремление выйти за границы известного питают наши творческие порывы и заставляют нас узнавать новое.
Карта того, что мы называем реальностью, – это постоянно изменяющаяся мозаика идей. Мы рассмотрим ее в контексте западной мысли и отследим, как с течением времени менялся наш научный взгляд на мир. Эта книга разделена на три независимые, но дополняющие друг друга части. В каждую из них я включил разнообразные научные и философские концепции, чтобы показать вам, как перемены в сознании и мышлении влияли на наши поиски знаний и смыслов. В первой части мы поговорим о Вселенной, ее происхождении и физической природе, а также о том, как наши постоянно увеличивающиеся знания о космосе формировали наше понимание самих себя, пространства, времени и энергии. Вторая часть посвящена природе материи и материальной составляющей нашего мира – от размышлений древних алхимиков до современных квантовых теорий. Мы узнаем, что они говорят нам о сущности физической реальности и о нашей роли в ее определении. В третьей части мы погрузимся в мир разума, компьютеров и математики и обратим особое внимание на то, как все эти факторы связаны с ограниченностью наших знаний и характером нашей реальности. Вы увидите, что неполнота знания и ограниченность нашей научной картины мира делают поиск смыслов еще интереснее, сочетаясь с нашими устремлениями и несовершенством человеческой природы.
Пока я пишу эти строки, миллионы нейронов в моем мозгу танцуют свой загадочный танец, мысли облекаются в слова, а слова оказываются напечатанными на моем ноутбуке благодаря точнейшей координации мышц моих глаз и рук. Что-то управляет всеми этими действиями, и это что-то мы обозначаем общим словом «сознание». Кроме того, прямо сейчас я нахожусь на высоте 30 тысяч футов – лечу со съемок документального фильма в Лос-Анджелесе. Моя книга посвящена известной нам Вселенной и блестящим открытиям современной науки, в частности астрономии и космологии. Я вижу белые облака внизу и голубое небо над ними, слышу гул двигателей самолета и то, как мой сосед притопывает ногой в такт музыке из своего iPod.
Как учит когнитивная нейробиология, за восприятие мира вокруг отвечают разные участки моего мозга. То, что я называю реальностью, представляет собой совокупность бесконечного количества стимулов, собранных пятью моими органами чувств и перенесенных из внешнего мира в мой головной мозг с помощью нервной системы. Восприятие, то есть осознание своего существования в данном месте в данный момент времени, – это результат сочетания огромного количества химических веществ, проходящих через мириады синаптических соединений между моими нейронами. Я, как и любой из вас, представляю собой независимую электрохимическую сеть, действующую благодаря соединению биологических клеток. И при этом каждый из нас – это нечто гораздо большее. Я – это я, а вы – это вы, и мы отличаемся друг от друга, несмотря на то что сделаны из одного материала. Современная наука отказалась от устаревшего картезианского противопоставления материи и духа в пользу строгого материализма. Личность – это пьеса, которая разыгрывается в нашем мозгу, а мозг – это совокупность взаимосвязанных нейронов, через которые постоянно проходят электрические импульсы, как в гирлянде на рождественской елке.
Мы плохо понимаем, как именно этот танец нейронов приводит нас к осознанию самих себя. Каждый день мы занимаемся своими делами в полной уверенности, что имеем объективный взгляд на окружающую реальность. Я знаю, что я – не вы и не кресло, в котором я сижу. Я могу уйти и от вас, и от этого кресла, но не от собственного тела (если, конечно, я не нахожусь в состоянии транса). Мы также знаем, что наше восприятие реальности, на основании которого мы осознаем себя, крайне ограниченно. Наши органы чувств воспринимают лишь крошечную долю из того, что происходит вокруг. Мы слепы и глухи к огромным объемам информации, которая не была важна нашим предкам для выживания в опасных условиях. Например, каждую секунду наше тело пронизывают триллионы нейтрино, испускаемых из самого сердца Солнца; различные электромагнитные волны (микроволны, радиоволны, инфракрасные и ультрафиолетовые волны) переносят информацию, которую не видят наши глаза; наши уши не улавливают звуки, не входящие в их диапазон восприятия; мы не замечаем частички пыли и бактерий. Как говорил Лис Маленькому Принцу в сказке Антуана де Сент-Экзюпери, «самого главного глазами не увидишь».
Некоторые приборы и инструменты расширяют границы видимого нами мира, включая в него очень далекие и очень маленькие объекты. Они позволяют нам увидеть крошечные бактерии, электромагнитное излучение, субатомные частицы и взрывы звезд, находящихся в миллиардах световых лет от нас. Высокотехнологичные устройства помогают врачам видеть опухоли в наших мозгу и легких, а геологам – находить подземные месторождения нефти. Тем не менее любая технология наблюдения или измерения имеет ограниченные точность или охват. Весы показывают значения массы предмета с точностью до половины своего минимального деления. Если каждая засечка на весах обозначает одну унцию, то вам не удастся определить вес предмета с точностью больше половины унции. Абсолютно точных измерений не существует. Каждое измеренное значение указывается в существующих для него границах точности и с учетом «планки погрешностей», то есть масштаба допустимых ошибок. Точные измерения – это просто измерения с меньшей планкой погрешностей или высоким уровнем достоверности. Идеальные безошибочные измерения попросту невозможны.
Рассмотрим более сложный пример, чем весы, – ускоритель частиц. Такие приборы предназначены для изучения состава материи, для поиска самых маленьких элементов, из которых строится все сущее в мире.[1] В ускорителях частиц активно используется знаменитая формула Эйнштейна Е = mc2. Они превращают энергию движения быстрых частиц в новые кусочки материи. Для этого используется довольно жесткий способ – сталкивание частиц, движущихся практически со световой скоростью. Как еще ученые могли бы рассмотреть, к примеру, что находится внутри протона? В отличие от человеческих органов протоны нельзя разрезать. Вот почему ученые сталкивают протоны друг с другом на больших скоростях, а затем исследуют обломки. Если бы у нас не было острых ножей и мы хотели бы изучить содержимое апельсина, мы могли бы воспользоваться тем же способом – разгонять фрукты до высокой скорости, сталкивать друг с другом и изучать разлетающиеся в стороны мякоть, сок и семена. При этом чем выше была бы скорость апельсинов, тем более ценными стали бы результаты эксперимента. Например, после одного столкновения мы узнали бы, что внутри апельсинов есть семена. Еще несколько столкновений на больших скоростях – и семена бы раскололись. В этом и состоит весь принцип: чем выше энергия столкновения, тем глубже мы можем заглянуть внутрь материи.[2]
За последние полвека мощность ускорителей частиц существенно выросла. Радиоактивные частицы, которые Эрнест Резерфорд использовал в 1911 году для изучения строения атомного ядра, имели в миллион раз меньше энергии, чем те, которые сегодня применяются в Большом адронном коллайдере, гигантском ускорителе частиц, построенном в Женеве, Швейцария. Соответственно, современные физики могут гораздо глубже заглянуть в природу материи и увидеть вещи, которые даже не снились Резерфорду, например элементарные частицы, весящие в сотню раз больше протона, – знаменитые бозоны Хиггса, открытые в июле 2012 года.[3] Если финансирование ускорителей продолжится (я говорю «если», потому что на их обслуживание требуются огромные суммы), можно ожидать, что новые технологии позволят нам изучать еще более высокоэнергетичные процессы и приведут нас к блестящим, а то и революционным результатам.
Однако важно отметить, что технологии ограничивают глубину нашего «проникновения» в физическую реальность. По сути, машины определяют, что именно мы можем измерить, а значит – что именно ученые могут узнать о человечестве и Вселенной. Будучи человеческими изобретениями, машины зависят от нашей фантазии и доступных нам ресурсов. При удачном стечении обстоятельств их точность постоянно повышается, и иногда они могут открыть нам что-то неожиданное. В качестве примера можно привести поразивший Резерфорда факт, что ядро атома занимает лишь небольшую часть его объема, но при этом содержит почти всю его массу. Для Резерфорда и его коллег, работавших в начале ХХ века, мир атомов и субатомных частиц выглядел совершенно по-другому, нежели для нас сейчас. Можно быть совершенно уверенными в том, что через 100 лет наша картина этого мира тоже радикально изменится. Итак, из всего вышесказанного мы можем сделать эмпирический вывод: наука воспринимает только те процессы, энергия которых доступна ей экспериментально.
Но что в таком случае мы можем с уверенностью сказать о характеристиках материи, обладающей в тысячи или миллионы раз большим запасом энергии, чем позволяют измерить наши нынешние инструменты? Теоретики могут сколько угодно рассуждать о них и приводить убедительные, простые и элегантные доказательства своих точек зрения. Но суть эмпирической науки состоит в том, что последнее слово всегда остается за Природой. Фактам нет дела до нашей любви к эстетике и красоте (об этом я подробнее рассказываю в своей книге A Tear at the Edge of Creation). Таким образом, если мы имеем доступ к Природе только через наши инструменты и, если говорить точнее, через наши несовершенные методы исследования, то и наши знания о реальном мире неизбежно будут ограниченны.
Помимо технологических ограничений, которые мы чувствуем, пытаясь познать реальность, существуют еще открытия в физике, математике и точных науках. За последние пару столетий они преподали нам не один урок относительно уклончивости Природы. Как мы увидим ниже, наши знания о мире ограниченны не только из-за несовершенства инструментов, но и из-за того, что у самой Природы (по крайней мере в той степени, в которой ее воспринимают люди) существуют ограничения. Греческий философ Гераклит понял это еще 25 веков назад, когда произнес свою знаменитую фразу «Природа любит прятаться». Бесчисленные успехи и неудачи показали нам, что Природу действительно невозможно обыграть в прятки. Говоря об этом, можно использовать метафору, которой Сэмюэль Джонсон описывал свои затруднения при определении некоторых английских глаголов: «Это словно пытаться нарисовать отражение леса в водах озера во время бури».
В результате, несмотря на постоянный рост наших возможностей, в любой момент времени огромная часть мира вокруг нас остается невидимой или, вернее, незамеченной. Однако такая близорукость дает дополнительные стимулы нашему воображению – мы начинаем воспринимать ограничения не как непреодолимые препятствия, но как брошенные нам вызовы. Как писал прозорливый французский автор Бернар ле Бовье де Фонтенель в 1686 году, «мы хотим знать больше, чем видим».[4] В телескоп, построенный Галилеем в 1609 году, едва можно было разглядеть кольца Сатурна, а сегодня с этой задачей справляются даже игрушечные телескопы. Наши знания о мире – это совокупность того, что мы можем выявить и измерить. Сегодня мы видим больше, чем Галилей в свое время, но и этого недостаточно. Ограничения накладываются не только на измерения, ведь теории и модели, которые описывают неизвестные области физической реальности, также полагаются на текущие знания. Если знаний для подкрепления идей недостаточно, ученые используют критерий совместимости. Любая новая теория, которая распространяется за пределы известного, должна хотя бы в определенной степени основываться на текущих знаниях. Например, общая теория относительности Эйнштейна, описывающая гравитацию как искривления пространства-времени в результате присутствия материи (и энергии), сводится к более старой ньютоновской теории универсального притяжения в пределах слабых гравитационных полей. Нам не нужна теория Эйнштейна, чтобы посадить космический корабль на Юпитер, но при описании черных дыр без нее не обойтись.
Поскольку значительная часть мира остается для нас невидимой или недоступной, мы должны с большим вниманием относиться к понятию реальности. Нам следует определиться, существует ли в принципе такое явление, как высшая реальность (источник всего сущего), и, если да, сможем ли мы когда-либо познать ее во всей ее полноте. Обратите внимание, что я не называю эту высшую реальность Богом, так как, согласно большинству религий, Бог непознаваем. Кроме того, она не является и предметом научных изысканий. Я не провожу параллелей между ней и понятиями трансцендентной реальности, характерными для восточной философии, например состоянием нирваны, которого можно достигнуть путем медитации, Брахманом из индуистского течения веданта или всеобъемлющим Дао. Я рассматриваю лишь физическую реальность, имеющую более конкретный характер, который мы можем познать, применяя научные методы. Нам следует задаться вопросом: является познание основ природы лишь вопросом преодоления наших собственных границ или же наш взгляд на возможности науки слишком наивен?
Существует и еще одна дилемма. Предположим, один человек воспринимает окружающую реальность исключительно через свои органы чувств (как это делает большинство людей), а другой пользуется специальными инструментами. Чей взгляд на мир будет более правильным? Один человек «видит» микроскопические бактерии, далекие галактики и субатомные частицы, скрытые от взгляда другого. Очевидно, что вещи, которые они видят, совершенно различны, и если эти люди начнут воспринимать видимое буквально, то придут к абсолютно разным выводам о мире или, по крайней мере, о природе физической реальности. Кто же из них будет прав?
Разумеется, человек, использующий инструменты, может глубже заглянуть в суть вещей, но вопрос, кто из этих двоих прав, некорректен сам по себе. Очевидно, что главной мотивацией при познании является желание более четко увидеть, из чего состоит мир, и в процессе изучения понять его еще лучше. Де Фонтенель понимал это, когда писал: «Вся философия основывается на двух вещах – любопытстве и плохом зрении».[5] Большая часть всего, что мы делаем, в итоге направлена на преодоление нашей собственной близорукости.
То, что мы считаем реальным, зависит от глубины, на которую мы способны проникнуть в реальность. Даже если существует истинная, высшая природа реальности, мы можем постичь ее лишь настолько, насколько хватает наших знаний. Давайте представим, что когда-нибудь будет разработана блестящая теория, подтвержденная невероятными экспериментами, и что она окажет огромное влияние на наше понимание истинной природы реальности. Даже если мы сможем уловить какие-то признаки данной реальности своими приборами, это приведет нас к единственному выводу – наша теория частично верна. Инструментальная методология, с помощью которой мы познаем мир, не может подтвердить или опровергнуть теоретические утверждения о высшем характере реальности. Итак, еще раз: наше восприятие реальности развивается вместе с инструментами, которые мы используем для познания Природы. Неизвестное постепенно становится известным, и поэтому то, что мы называем реальностью, постоянно меняется. Во времена Колумба считалось, что Земля находится в центре Вселенной, а во времена Ньютона на смену этим представлениям пришла гелиоцентрическая система. Сегодняшняя картина космоса с его миллионами галактик, состоящих из миллиардов звезд, наверняка повергла бы Ньютона в шок. Она удивляла даже Эйнштейна. Версия реальности, которую мы считаем верной в тот или иной момент времени, может быть опровергнута в будущем.
Разумеется, законы ньютоновской механики всегда будут работать в пределах их области действия, и вода всегда будет состоять из атомов водорода и кислорода, по крайней мере, пока у нас не появится другой способ описания физических и химических процессов в атомах. И законы Ньютона, и состав молекулы воды – это элементы нашего объяснения окружающей реальности, действительные в рамках своего диапазона применения и концептуальной структуры. Учитывая, что наши инструменты постоянно развиваются, реальность будущего обязательно будет включать в себя сущности, о которых нам сегодня неизвестно, будь то астрофизические объекты, элементарные частицы или вирусы. Пока технологии развиваются (а у нас нет оснований предполагать, что этот процесс прекратится, пока существует человечество), конца научному поиску не будет. Конечная истина – всего лишь иллюзия.
Давайте представим себе всю накопленную нами информацию об окружающем мире в виде острова, который я называю Островом знаний. Под знаниями я подразумеваю в основном научные и технические знания, хотя на нашем острове могут также разместиться все культурные достижения человечества и произведения искусства. Остров знаний окружен огромным океаном неизведанного, скрывающим бесчисленные множества манящих тайн. Есть ли у нашего океана берега? К этому вопросу мы еще вернемся. Пока достаточно просто вообразить себе, что Остров знаний разрастается по мере того, как мы узнаем больше о мире и о самих себе. Это не всегда происходит равномерно, и известное отделяет от неизвестного лишь зыбкая линия прилива. Кроме того, весь процесс может быть повернут вспять, если в свете новых фактов мы отбросим идеи, ранее казавшиеся приемлемыми.
Рост Острова знаний имеет для нас одно удивительное, но важное последствие. Мы в своей наивности полагаем, что чем больше знаем о мире, тем ближе становимся к конечной точке (одни называют ее теорией всего, а другие – высшей природой реальности). Однако, если развить нашу метафору, можно увидеть, что чем больше становится Остров знаний, тем протяженнее оказывается его береговая линия – граница между известным и непознанным. Новые знания о мире не приближают нас к концу путешествия (само существование которого не больше чем просто предположение), а ставят перед нами новые загадки. Чем больше мы знаем, тем больший объем неизвестного открывается перед нами и тем больше вопросов мы задаем.[6]
Некоторые люди, включая многих моих друзей-ученых, считают такой взгляд на вещи крайне пессимистичным. Меня даже называли пораженцем, но это совсем не так. Я восхищаюсь достижениями человечества, которых мы добились благодаря бесконечному поиску новых знаний. Меня спрашивают: «Если мы никогда не получим окончательный ответ, зачем вообще пытаться? И как понять, прав ты или нет?» Ответы на такие вопросы вы найдете в этой книге. Приступая к изучению природы человеческого знания (то есть наших попыток понять мир и свое место в нем), нужно признать, что наш подход фундаментально ограничен. Это понимание откроет перед нами новые двери, а не закроет их. Оно сделает поиск знаний бесконечным путешествием, вечным романом с неизведанным. Разве может быть что-то более вдохновляющее, чем уверенность в том, что в мире всегда будет что исследовать и что, как бы много мы ни знали, новые открытия неизбежны? Предположить, что у этого пути есть конец и когда-нибудь мы к нему придем, – вот что кажется мне пораженчеством. Перефразируя «Аркадию» Тома Стоппарда, «возвышает нас не цель, а сама необходимость познания».
Новые открытия проливают свет на отдельные участки непознанного, но стоит отойти чуть дальше – и их сияние теряется во мраке. Как и с любой жизненной загадкой, мы можем по-разному обойтись с этим фактом. Наш разум либо будет медленно, но верно продвигаться вглубь неизведанного, либо нет. Если мы выбираем второй вариант, то для борьбы с вечным незнанием нам требуется что-то помимо разума, например вера в альтернативные (в том числе сверхъестественные) объяснения. В итоге нам приходится выбирать между двумя полярными точками зрения – научным подходом и мистицизмом. Этот дуализм очень заметен в наше время. Я же предлагаю третий путь, основанный на понимании наших способов исследования реальности как источника бесконечного вдохновения, не требующего установления конкретной цели и не дающего обещания вечной истины.
По мере развития науки мы будем знать больше. Новые инструменты исследования ставят перед нами новые вопросы – зачастую такие, какие мы ранее даже не могли себе вообразить. Подумайте о развитии астрономии до и после изобретения телескопа (1609) или биологии до или после создания первого микроскопа (1674). Разве можно было представить себе, какую революцию в науке совершат эти приборы? Нестабильность у науки в крови. Для того чтобы двигаться вперед, ей нужно делать ошибки. Теории должны опровергаться, а их ограничения – обнаруживать себя. Чем глубже мы погружаем свои инструменты в ткань реальности, тем чаще обнаруживаем бреши в старых теориях, на обломках которых возникают новые. Если вы верите в то, что у этого процесса есть конец, – вы заблуждаетесь. Научный подход к знаниям ограничен, и ответов на некоторые вопросы мы никогда не получим. Некоторые аспекты окружающего мира обязательно должны оставаться неизвестными. Некоторые, как я покажу ниже, в принципе непознаваемы.
Установление границ научного познания – совсем не то же самое, что мракобесие. Наоборот, это проявление самоанализа, столь необходимого во времена постоянного теоретизирования и научного высокомерия. Описывая ограничения, налагаемые на наши объяснения физической реальности научной методологией, я пытаюсь защитить науку от нападок на ее целостность, а также объяснить, что наука движется вперед благодаря нашему невежеству, а не знаниям. Как отмечает в своей недавней книге Ignorance: How It Drives Science нейрофизиолог из Колумбийского университета Стюарт Файерстейн, все великие предположения в первую очередь представляют собой признания в невежестве. Претензия на обладание истиной – это слишком тяжелая ноша для ученого. Мы узнаем новое на основании того, что можем измерить, а все остальное должно повергать нас в трепет. Важно лишь то, чего мы не знаем.
Наше восприятие реальности основывается на искусственном разделении субъекта и объекта. Эта дилемма вдохновляла и приводила в замешательство многие поколения мыслителей. Вам кажется, что вы знаете, где заканчиваетесь вы сами и начинается внешний мир, но на самом деле это куда более сложный вопрос. В мире нет даже двоих людей с одинаковым взглядом на мир. С другой стороны, наука – это лучший набор инструментов, которым мы располагаем для создания универсального языка, преодолевающего индивидуальные различия. Исследуя наше собственное стремление к покорению неизвестного, мы также откроем для себя способность науки изменять и вдохновлять.
Часть I. Происхождение мира и природа рая
Вначале бог создал землю и посмотрел на нее из своего космического одиночества. И бог сказал: «Создадим живые существа из глины, пусть глина взглянет, что сотворено нами». И бог создал все живые существа, какие до сих пор двигаются по земле, и одно из них было человеком. И только этот ком глины, ставший человеком, умел говорить. И бог наклонился поближе, когда созданный из глины человек привстал, оглянулся и заговорил. Человек подмигнул и вежливо спросил: «А в чем смысл всего этого?»
– Разве у всего должен быть смысл? – спросил бог.
– Конечно, – сказал человек.
– Тогда предоставляю тебе найти этот смысл! – сказал бог и удалился.
Курт Воннегут. Колыбель для кошкиИменно теми вопросами, на которые нет ответа, ограничены людские возможности, очерчены пределы человеческого существования.
Милан Кундера. Невыносимая легкость бытияЧеловек всегда был своей самой раздражающей проблемой.
Рейнгольд Нибур. Природа и судьба человекаГлава 1. Желание верить в которой автор исследует роль веры и экстраполяции в религии и науке
Возможно ли понять мир, не имея веры? Этот вопрос лежит в основе раздвоения науки и религии, определяющей взаимоотношения человека и окружающей реальности. Сравнив мифологические и научные концепции, можно сказать, что религиозные мифы пытаются описать непонятное с помощью непонятного, в то время как наука стремится объяснить непознанное с помощью знаний. Противостояние этих двух подходов усиливается из-за веры в существование двух не соответствующих друг другу реальностей – нашего мира (познаваемого с помощью правильно применяемых научных методов) и мира потустороннего (а значит, недоступного, нематериального, традиционно относимого к области религии).[7]
В мифах неизвестное отражает священную природу божеств, чье существование не ограничено временем и пространством. Историк религии Мирча Элиаде писал об этом так:
Для австралийца, равно как и для китайца, индуиста или европейского крестьянина, мифы являются достоверными, потому что они священны и рассказывают о божественных существах и событиях. Соответственно, пересказывая миф или слушая его, человек вступает в контакт со священным и выходит за пределы привычного состояния, своей «исторической ситуации».[8]
В течение многих веков религиозные мифы позволяли верующим подниматься над своим «мирским состоянием», то есть осознанием того, что каждый человек живет во времени и имеет свою историю, которая неизбежно движется к концу. На более практическом уровне мифические объяснения природных явлений представляли собой донаучные попытки понять то, что находилось вне человеческого контроля, и ответить на вопросы, которые казались вечными. Почему Солнце каждый день движется по небу? Греки считали, что это Аполлон провозит его в своей огненной колеснице. Племя навахо, проживавшее на юго-востоке Америки, верило, что существо по имени Джохонааэи (оригинал: Johonaa’ei) каждый день переносит светило через небо на своей спине. У египтян эта роль отводилась Ра, который вез Солнце с востока на запад на лодке. В строго натуралистическом смысле мотивы, что прячутся за этими мифами, не так уж далеки от научных, – выявить скрытые механизмы, стоящие за природными явлениями. В конце концов, Солнце движется по небу вне зависимости от того, считаем мы ответственными за это богов или физические явления.
По сути, и ученые, и адепты религий верят в существование необъяснимых причинно-следственных связей, то есть в вещи, происходящие по неизвестным причинам, пускай характер таких причин и различается. В науке эта вера оказывается особенно очевидной, когда теоретики пытаются экстраполировать гипотезу или модель за пределы, установленные на практике (например, заявляют, что законы гравитации одинаковы во всей Вселенной или что теория эволюции путем естественного отбора применима ко всем формам жизни, включая инопланетные). Такие экстраполяции имеют огромное значение для изучения неизведанных территорий. Ученые же чувствуют себя удовлетворенными, так как их теории позволяют описать значительную часть реальности. Немного погрешив против истины, мы можем сказать, что в данном случае вера ученых имеет эмпирическое подтверждение.[9]
К примеру, ньютоновскую теорию всемирного тяготения, описанную в книге III его революционного труда «Математические начала натуральной философии», следовало бы назвать теорией тяготения Солнечной системы, так как за ее пределами никакие испытания еще не были возможны к концу XVII века. Тем не менее Ньютон назвал третью книгу «Начал» «О системе мира», предположив, что его описание гравитационного притяжения как силы, пропорциональной массе двух тел и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними, применимо ко всей Вселенной. Это подтверждается его собственными словами из книги III:
Наконец, как опытами, так и астрономическими наблюдениями устанавливается, что все тела по соседству с Землей тяготеют к Земле, и притом пропорционально количеству материи каждого из них; так, Луна тяготеет к Земле пропорционально своей массе, и взаимно наши моря тяготеют к Луне; подобно этому и тяготение комет к Солнцу. На основании этого правила надо утверждать, что все тела тяготеют друг к другу.[10]
Ньютон проявляет хитрость и не говорит о причинах возникновения гравитации («я не изобретаю гипотез»), но предполагает, что они воздействуют на все тела, имеющие массу. «Для нас достаточно того, что притяжение существует, действует в соответствии с законами, которые были нами объяснены, и отвечает за все движения небесных тел и наших морей», – пишет Ньютон в «Общем поучении», своего рода заключении к «Началам». Он не понимал, почему объекты, обладающие массой, притягиваются друг к другу, но знал, как именно они это делают. «Математические начала натуральной философии» отвечали на вопрос «Как?», а не «Почему?».
Позднее, 10 декабря 1692 года, в письме к теологу из Кембриджа Ричарду Бентли Ньютон использовал свои рассуждения о природе силы притяжения, чтобы подкрепить свою идею о бесконечности Вселенной. Эта мысль стала поворотной точкой для всей космологии. Бентли задавался вопросом: если гравитация подчиняется одним и тем же законам во всей (конечной) Вселенной, почему же вся материя в итоге не окажется сжатой в комок в ее центре. Ньютон соглашался, что все было бы именно так, если бы Вселенная имела границы. Однако, писал он, «если бы материя была равномерно распределена по бесконечному пространству, она бы никогда не слилась в единую массу. Часть ее образовала бы одну массу, часть – другую, и в итоге бесконечное количество масс оказалось бы расположено на огромных расстояниях друг от друга в пространстве, не имеющем конца». Ньютон настолько верил в универсальную природу гравитации, что мог с уверенностью рассуждать о бесконечности всего космоса.
Через несколько веков после него Эйнштейн сделал примерно то же самое. Он окончательно сформулировал свою общую теорию относительности в 1915 году. Для этого ему пришлось пойти на шаг дальше Ньютона и объяснить гравитацию искривлением пространства рядом с массивным объектом (на самом деле время тоже искривляется, но об этом мы поговорим позже). Чем больше масса объекта, тем больше пространства искривляется вокруг него, как батут по-разному прогибается под людьми с разным весом. Для объяснения того, как притягиваются друг к другу массивные объекты, больше не требовалось выдумывать загадочных сил, действующих на расстоянии. В искривленном пространстве траектории не могут быть прямыми. Разумеется, Эйнштейн не объяснял, почему масса оказывает такое воздействие на геометрию пространства. Я подозреваю, что, если бы его спросили об этом, он ответил бы, как Ньютон: «Я не изобретаю гипотез». Его теория прекрасно работала, объясняя те вещи, которые ставили в тупик ньютоновскую физику. И эффективность данной теории подтверждалась наблюдениями за динамикой объектов в Солнечной системе. Этого было достаточно.
В 1917 году, меньше чем через два года после публикации своей теории, Эйнштейн написал любопытную работу «Вопросы космологии и общая теория относительности». Как и Ньютон, Эйнштейн экстраполировал свою теорию за пределы Солнечной системы, в которой она подтверждалась экспериментально, – на всю Вселенную. В данной работе Эйнштейн рассуждает о форме космоса и, как истинный платоник, придает ему самую совершенную форму – форму шара. Для удобства, а также в связи с отсутствием наблюдений, подтверждающих противоположную точку зрения, он также делает Вселенную статичной. Его уравнения дают ему желаемый результат, но при этом преподносят небольшой сюрприз. Эйнштейн отказывается признавать Вселенную бесконечной и, чтобы избежать коллапса всей материи в одной центральной точке (о котором Бентли писал Ньютону), вводит так называемую универсальную постоянную. Это новый элемент его уравнений, описывающих искривление пространства. Эйнштейн обращает внимание, что при достаточно небольшом значении такая постоянная будет совместима «с эмпирическими фактами, полученными на основании наблюдений за Солнечной системой». Эта константа, которая, по словам Эйнштейна, «не основывалась на наших фактических знаниях о гравитации», сегодня называется космологической постоянной и, вполне возможно, действительно играет ключевую роль в динамике космоса, пускай и не такую, которую приписывал ей Эйнштейн. Эйнштейну нужно было убедиться, что его статистическая шарообразная Вселенная не сколлапсирует. Демонстрируя полную уверенность в своей теории, он не только экстраполировал свои расчеты с Солнечной системы на всю Вселенную, но и учел в своем описании космоса результаты непонятных ему колебаний, удерживавших небесный свод на своем месте.
Для того чтобы покинуть пределы известного, Ньютону и Эйнштейну приходилось идти на интеллектуальные риски, делать предположения на основании интуиции и личных убеждений. Они пошли на это, зная, что их теории наверняка являются неверными и неполными, и это показывает, насколько два величайших ученых всех времен верили в силу творческого процесса. В той или иной степени каждый человек, занимающийся наукой, делает то же самое.
Глава 2. За пределами времени и пространства в которой мы рассмотрим, как разные религии объясняют происхождение мира
Давайте вернемся на 10 тысяч лет в прошлое, к моменту зарождения первой великой цивилизации между реками Тигр и Евфрат (сейчас там находится Ирак). Обожествление природы было попыткой контролировать неконтролируемое. Наводнения, засухи, землетрясения, извержения вулканов, цунами (то есть все то, что и сегодня называется в англоязычных страховых полисах act of God – «стихийное явление», «действие непреодолимой силы») считались действиями разозленных богов, которых следовало умилостивить. Для этого необходимо было разработать язык общения между человечеством и божествами, своего рода мост между людьми и силами Природы. Таким языком стали ритуальные практики и мифические сказания. Угрозы выживанию человечества исходили отовсюду: из глубин Земли, с ее поверхности и с небес, а значит, и боги должны были быть вездесущими. Религия родилась из нужды и почитания. Вполне вероятно, что любое мыслящее существо с широкими, но ограниченными возможностями должно на каком-то этапе предположить, что есть и другие существа, обладающие большими силами, например боги или инопланетяне. Альтернатива (то есть объяснение природных катаклизмов волей случая) была слишком страшной, ведь она означала бы принятие беспомощности и полного одиночества человечества перед лицом неизвестного. Для того чтобы хоть как-то контролировать свою судьбу, людям необходимо было верить.
Но страх был не единственным (хотя, видимо, главным) движущим фактором веры. Жизнь людей не состояла из сплошных неудач. Случалось и что-то хорошее – богатый урожай, удачная охота, благоприятная погода или спокойное море. Природа не только забирала, но и многое давала, не только убивала людей, но и поддерживала в них жизнь. Некоторые явления, отражавшие дуалистичный характер Природы, могли быть регулярными и безопасными (например, смена дня и ночи или времен года, фазы Луны или приливы и отливы), а некоторые – внезапными и пугающими (солнечные затмения, кометы, лавины и лесные пожары). Неудивительно, что регулярность ассоциировалась (и продолжает ассоциироваться) с добром, а нерегулярность – со злом. Природные явления приобрели моральный аспект, который, в связи с обожествлением Природы, напрямую отражал капризы богов.
Древние культуры по всему миру возводили монументы и храмы для фиксирования и прославления регулярных природных явлений. В качестве примера можно рассмотреть английский Стоунхендж, который использовался как место захоронения. Скорее всего, эта функция была связана с тем, что каждый год в день летнего солнцестояния Солнце всходит ровно над его Пяточным камнем. Таким образом, создается связь между периодическим возвращением Солнца и циклом жизни и смерти человека. Даже если механизмы движения светил были неизвестны и у строителей Стоунхенджа не было желания узнавать их, они все равно внимательно фиксировались и измерялись. К примеру, три тысячи лет назад в Вавилоне уже существовала развитая астрономическая система, отраженная в эпосе о сотворении мира «Энума Элиш» («Когда наверху»). Вавилоняне составляли подробные таблицы движения планет и Луны по небу и отмечали все наблюдаемые циклы. К примеру, в табличку Аммисадука внесены данные о восходе и заходе Венеры за 21 год.
Повторения успокаивают. Если Природа задает ритм, нам ничего не остается, как следовать ему. Цикличность времен обещает нам перерождение, устанавливает глубокую связь между человеком и космосом. Неудивительно, что миф о многократном перерождении есть во множестве культур. Что может быть лучше, чем верить: мы из раза в раз возвращаемся в этот мир, а смерть – не конец, а новое начало?
У меня пятеро детей, и, глядя на них, я вижу, как им сложно примириться с конечностью бытия. Когда я пишу эти строки, моему сыну Луциану шесть лет, и тема смерти интересует его уже два года. Смерть кажется ему абсурдом, а время – бесконечным. Каждому родителю доводилось услышать вопрос «Что происходит, когда люди умирают?», и каждый затруднялся дать на него ответ. Луциан уверен, что все мы возвращаемся, но сомневается – теми же, кем были, или другими. Конечно же, ему хочется вернуться таким же, какой он есть, с теми же родителями, братьями и сестрами и прожить свою жизнь дважды, а еще лучше – бесконечное количество раз. Что может быть безопаснее, чем отсутствие потерь? Мне больно говорить ему, что с нами происходит то же самое, что и с муравьем, которого он нечаянно давит ногой. Разумеется, Луциану не нравится такой ответ: «Откуда ты знаешь, папа?» «Я не знаю наверняка, сынок. Одни люди считают, что мы возвращаемся, другие верят, что мы уходим в место, называемое раем, и встречаем там всех, кто умер до нас. Проблема в том, что никто из умерших не может ничего рассказать нам о конце пути», – говорю я. Обычно такой разговор заканчивается крепкими объятиями и многочисленными «я тебя люблю». Может ли быть что-то ужаснее, чем осознание, что я не смогу любить его вечно? И что однажды ему придется столкнуться с моей смертью?
С появлением авраамических религий возникло совершенно новое видение Природы. Вместо постоянных циклов создания и разрушения, жизни и смерти время превратилось в линию с началом и концом. «Профанная история», как ее называет Элиаде, – это все то, что происходит с нами между рождением и смертью. Внезапно ставки становятся гораздо выше, потому что одна жизнь означает единственный шанс на счастье. Христиан и мусульман от этого осознания спасает вера в загробную жизнь. Таким образом, время начинает выглядеть дуалистично: при жизни оно линейно, а после смерти его границы размываются.
Линейное или цикличное, время всегда было мерилом трансформации. Если следовать за ним в будущее, оно приведет к концу, а если в прошлое – к началу. В мифах люди всегда сталкиваются с изменениями, которые приносит время, а боги живут вне его, в том месте, где не существует ни старости, ни болезней. Поскольку жизнь порождает жизнь и поколения следуют друг за другом, то, продвинувшись во времени назад достаточно глубоко, можно обнаружить первую жизнь – первый живой организм, будь то бактерия, человек или животное. И здесь возникает ключевой вопрос: как появилась первая жизнь, если до нее не существовало ничего живого? Мифы в большинстве своем дают четкий ответ: боги сотворили этот мир, а затем населили его жизнью. Только то, что существует вне времени, может создать что-то, подвластное его законам. Некоторые мифы о сотворении мира, в частности предания новозеландских маори, рассказывают о том, что первый акт творения мог произойти и без вмешательства богов, но в большинстве из них говорится о возникновении самого времени одновременно с появлением мира. Блаженный Августин пишет об этом в своей «Исповеди» (книга 11, глава 13): «А так как делатель всякого времени – Ты, то, если до сотворения неба и земли было какое-то время, то почему можно говорить, что Ты пребывал в бездействии? Это самое время создал Ты, и не могло проходить время, пока Ты не создал времени. Если же раньше неба и земли вовсе не было времени, зачем спрашивать, что Ты делал тогда. Когда не было времени, не было и “тогда”».
Таким образом, происхождение мира и начало времени прочно связаны с природой невидимого божественного мира. Эта связь сохраняется и сейчас, когда появление Вселенной пытаются объяснить современными космологическими моделями, а происхождение звезд и планет изучают астрофизики. Как я уже писал в своей книге «Танцующая Вселенная», понятия цикличного и линейного времени заново возникают в современной космологии. Еще более удивительно то, что важнейшая характеристика древних мифов о сотворении – глубокая связь между человеком и космосом – также присуща современной астрономической мысли. Эта связь повторно возникла в ней лишь после долгого перерыва, спустя годы после главных открытий Коперника. В течение этого периода наше собственное существование казалось нам чем-то вторичным по сравнению с великолепием Вселенной. Когда Коперник, Иоганн Кеплер и Галилео Галилей в XVI–XVII веках показали, что Земля не является центром творения, мы утратили свой особый статус и превратились всего лишь в обитателей одного из бесчисленного множества миров. Но 400 лет спустя мы занялись поиском жизни во Вселенной и выяснили, что планеты, похожие на Землю, встречаются крайне редко. Жизнь и, что еще важнее, уникальность человечества снова приобрели космическое значение. Мы важны потому, что уникальны. Множество шагов, которые мы сделали от неживых молекул к живой клетке, а затем от нее – к сложным многоклеточным организмам, будет непросто повторить. Кроме того, многие детали этого процесса зависели от истории нашей планеты. Однако даже при нынешнем отсутствии доказательств мы не можем быть окончательно уверенными в том, что во Вселенной больше нет разумной жизни. Может быть, это так, а может быть, и нет. С уверенностью можно лишь сказать, что если разумные инопланетяне существуют, то они живут очень далеко от нас и встречаются крайне редко (конечно, есть вероятность, что они просто очень хорошо умеют прятаться, но об этом мы поговорим ближе к концу книги). Итак, мы одиноки во Вселенной и должны научиться с этим жить.
Желание понять свое происхождение и свое место во Вселенной – одно из определяющих свойств человека. Древнейшие космологические мифы задают практически те же вопросы, что и современные ученые, рассматривающие гипотезы квантового создания Вселенной «из ничего» или множественности вселенных. Эти вопросы и ответы на них различаются по многим пунктам, кроме мотивации – понять, откуда мы пришли и какова наша космическая роль (если она вообще существует). Для создателей мифов ответы на эти вечные вопросы находились в области священного, ведь только существа вне времени могли создать наш временный мир. Тем, кто не верит в мифические объяснения, остается лишь тщательно проверять наши рациональные объяснения мира и определять, насколько далеко они могут зайти в описании реальности, а значит, и в ответе на вечные вопросы творения.
Глава 3. Быть или стать? Вот в чем вопрос в которой мы знакомимся с первыми философами античной Греции и их представлениями о сути реальности
Значительные перемены в человеческом сознании произошли между VI и V веками до н. э. в Древней Греции. Несмотря на то что важные новые идеи о социальной и духовной сторонах человеческой жизни появлялись в разных регионах планеты (в Китае их авторами были Конфуций и Лао-Цзы, а в Индии – Сиддхартха Гаутама, или Будда), именно Греция стала колыбелью западной философии – новой формы понимания, основанной на вопросах и аргументах, созданных для изучения фундаментальной природы бытия и познания. Первых греческих философов интересовали не мифы о сотворении мира и священные знания, построенные на божественном откровении. Досократики (так называют философов, живших ранее Сократа) пытались познать реальность с помощью логики и гипотез. Этот переход к вере в силу разума, способного ответить на ключевые вопросы существования, полностью изменил взаимоотношения между человеком и непознанным. Теперь человек не просто пассивно надеялся на судьбу и сверхъестественное вмешательство, а активно подходил к знаниям и личной свободе.
Первую группу досократиков, ионийцев, занимала материальная составляющая окружающего мира. Они задавались вопросом: «Из чего сделано все сущее?» Его значимость показывает тот факт, что на этот вопрос до сих пор пытается ответить современная физика частиц. Мы постоянно даем на него все новые и новые ответы, которые, в свою очередь, изменяют наши методы исследования. Представители ионийской школы предлагали разные варианты ответа, но все их объединяла одна фундаментальная характеристика – вера в «единство сущего», то есть в то, что материальная составляющая реальности заключена в едином объекте или веществе. Эта концепция централизованного единства резко контрастировала с пантеистической мифологией, в которой разные боги отвечали за различные природные явления. Для ионийцев все, что человек видел вокруг себя, являлось проявлением единого материального начала, переживающего различные физические трансформации.
Фалес, которого не кто иной, как Аристотель, считал первым философом, заявлял, что «основой всех вещей является вода, ведь из воды выходит все сущее и в воду превращается».[11] Эта цитата из труда византийского врача Аэция Амидского является типичным примером мировоззрения, приписываемого Фалесу. К сожалению, ни одна из его работ не сохранилась, и для того, чтобы разобраться в его идеях, нам приходится полагаться на промежуточные источники. Читая литературу на эту тему, можно понять, что Фалес полагал воду источником всего и подчеркивал ее роль как дарительницы жизни. Для него вода символизировала постоянно изменяющуюся Природу, находящуюся в вечном движении даже под маской спокойствия. Чтобы объяснить источник этого движения, Фалес вводит понятие силы, чем-то схожей с душой. «Некоторые также утверждают, что душа разлита во всем; быть может, исходя из этого, и Фалес думал, что все полно богов», – писал Аристотель в своем трактате «О душе».[12] Однако эти боги не были антропоморфными, как в древних мифах, а обозначали необъяснимые силы, стоящие за изменениями физической реальности. Фалес и ионийцы проповедовали философию становления, постоянной трансформации, происходящей из единого материального источника. Все выходит из него, и в него все возвращается.
Удивительно, что первые западные философы жили в мире, привыкшем объяснять различные явления действиями многочисленных богов, но при этом искали единого объяснения реальности, абсолютный принцип существования. Они явно стремились к созданию общей теории Природы, античной «теории всего». Историк идей Исайя Берлин назвал эту сохранившуюся до наших дней веру в единство ионийским заблуждением и заявил, что она не имеет смысла: «Предложение, которое начинается со слов “Все состоит из…”, или “Все является…”, или “Ничего не…”, если только оно не является эмпирическим… не говорит ни о чем, ведь заявление, которое нельзя опровергнуть или в котором нельзя усомниться, не несет никакой информации».[13] Иными словами, авторитетные всеобъемлющие заявления, которые нельзя сравнить друг с другом и измерить, неинформативны. Это не рассуждения, а постулаты веры. Я расскажу об этом более подробно чуть позже, когда мы будем говорить о поисках всеобъемлющих объяснений в науке. А сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на протонаучные идеи наследника Фалеса Анаксимандра Милетского, которого по праву считают первым философом науки за описание Природы в терминах механики.
Анаксимандр не верил в существование конкретного материального вещества, объединяющего все сущее, и предполагал, что все происходит из некой древней среды, «безграничного» (apeiron). «Из этого вышло все, и все в это вернется. Вот почему бесконечные системы мироустройства то возникают, то растворяются в том, откуда они появились», – пишет Аэций, резюмируя идеи Анаксимандра.[14] Безграничное – это нечто, что не было создано и что нельзя разрушить, это первичный материальный принцип, существующий в вечности и безграничном пространстве космоса.
Анаксимандр видел мир как цепочку событий, вызываемых естественными причинами.[15] Согласно многим источникам, в своем утраченном трактате «О природе», который считается первым известным текстом по натуральной философии, Анаксимандр пытался объяснить различные явления – от молнии (возникающей при движении воздуха в облаках) до происхождения человека (который, как и вся жизнь, сначала зародился в море, а затем вышел на сушу). Дэниэл У. Грэм писал: «Сколь многому бы мы ни научились от Фалеса, Анаксимандр был настоящим революционером. Организовав свои идеи в единую космологическую теорию и записав ее на папирусе, он создал основу для рассмотрения Природы как автономного царства со своими базовыми элементами и законами взаимодействия. Насколько можно судить, он был основателем натуральной философии».[16]
Анаксимандр не верил, что Аполлон каждый день перевозит Солнце по небу на своей колеснице. Вместо этого он предполагал, что Солнце – это отверстие в огненном колесе, вращающемся вокруг Земли. Какой бы простой эта идея ни казалась нам сегодня, ее историческую важность трудно переоценить. Это была первая механическая модель неба, попытка объяснить наблюдаемое движение небесных объектов причинно-следственной связью без вмешательства божественных сил. Такой же механистической и фантастической была идея Анаксимандра о происхождении космоса. Плутарх пишет в своих «Моралиях»: «[Анаксимандр] говорит, что горячая и холодная части [безграничного] разделились в начале создания миропорядка, и огненная сфера выросла вокруг воздуха, как кора вокруг ствола дерева. Затем эта сфера разделилась и сформировала отдельные круги – Солнце, Луну и звезды».[17] Итак, не только Солнце, но и Луна и звезды оказались отверстиями в огненных колесах, вращающихся вокруг Земли. Космос превратился в упорядоченный механизм, подчиняющийся законам причины и следствия.
Идеи Анаксимандра, равно как и все представления досократиков и последующих греческих философов, основывались исключительно на интуиции и силе аргументации, а значит, никак не были связаны с понятием экспериментального подтверждения. Тем не менее они полны потрясающей интеллектуальной смелости и воображения. Греки были далеко не первыми, кто задался вопросом о происхождении космоса или природе реальности. Но в отличие от своих предшественников они дали людям новую систему существования, в которой свобода задавать подобные вопросы являлась неотъемлемым правом человека и единственным путем к интеллектуальной независимости и личному счастью.[18] Лукреций писал в своей знаменитой поэме «О природе вещей» (50 год до н. э.), посвященной философии атомистов-досократиков Левкиппа и Демокрита:
Значит, изгнать этот страх из души и потемки рассеять Должны не солнца лучи и не света сиянье дневного, Но природа сама своим видом и внутренним строем. За основание тут мы берем положенье такое: Из ничего не творится ничто по божественной воле. И оттого только страх всех смертных объемлет, что много Видят явлений они на земле и на небе нередко, Коих причины никак усмотреть и понять не умеют И полагают, что все это божьим веленьем творится. Если же будем мы знать, что ничто не способно возникнуть Из ничего, то тогда мы гораздо яснее увидим Наших заданий предмет: и откуда являются вещи, И каким образом все происходит без помощи свыше.[19]Эти строки можно считать самым ярким произведением в защиту атеизма, когда-либо написанным в истории человечества.
Четкое разделение между верой и рациональным подходом к пониманию мира, за которое ратовал Лукреций, не было широко распространено в античном мире. Наоборот, для многих досократиков, а также, очевидно, для живших после них Платона и Аристотеля между этими двумя аспектами существовала связь. Вселенная имела смысл только в присутствии божества. Из всех досократических школ наиболее активно эту идею поддерживали пифагорейцы – секта мистиков, полагавших, что суть Природы зашифрована в комбинациях (сочетаниях) цифр. Центр пифагорейства располагался на юге Италии, то есть географически был удален от западной Турции – места действия ионийцев. Пифагорейцы верили, что путь к просвещению лежит через понимание математики и геометрии – инструментов, которые Божественный Архитектор использовал для строительства всего космоса.
Согласно трудам Филолая Кротонского, выдающегося последователя Пифагора, жившего около 470 – после 400 года до н. э., сердцем космоса являлись не Земля и не Солнце, но «центральный огонь» – дворец Зевса. Это смещение Земли с центральных позиций, произошедшее задолго до Коперника, обосновывалось теологическими аргументами – ведь только Бог мог занимать подобное место посреди творения. Как писал Аристотель в своем труде «О небе», «большинство считает, что [Земля] находится в центре <…>. Италийские же философы, известные как пифагорейцы, держатся противоположного взгляда: в центре, утверждают они, находится огонь, а Земля – одна из звезд – движется по кругу вокруг центра, вызывая смену дня и ночи».[20] Эта выдающаяся идея могла иметь влияние на более поздних мыслителей, также не ставивших Землю в центр Вселенной, к примеру на Аристарха Самосского, жившего в 280 году до н. э., или на знаменитого ученого XVI века Николая Коперника. Коперник сам пишет об этом в своей работе «О вращении небесных сфер»:
Сначала нашел я у Цицерона, что Гикет высказывал мнение о движении Земли, затем я встретил у Плутарха, что этого взгляда держались и некоторые другие. Чтобы это было всем ясно, я решил привести здесь слова Плутарха: «Другие считают Землю неподвижной, но пифагореец Филолай считал, что она вращается вокруг центрального огня по косому кругу, как Солнце и Луна». Побуждаемый этим, я тоже начал размышлять относительно подвижности Земли.[21]
Итак, корни так называемого коперниковского вращения уходят куда глубже в прошлое, чем мы предполагали.
Большинство из нас знакомо с теоремой Пифагора о трех сторонах треугольника еще со школы. Доказательство теоремы приписывают легендарному мудрецу Пифагору, но существует вероятность, что это открытие совершил кто-то из его учеников, просто вся слава досталась учителю. Как бы там ни было, Пифагор точно открыл явление, которое можно назвать первым математическим законом Природы – соотношение между музыкальным звуком и длиной струны, которая его издает. Он понял, что звуки, кажущиеся нам гармоничными, производятся струнами, длины которых соотносятся как первые четыре целых числа (1, 2, 3 и 4). Именно эти числа составляли священную тетраду (tetractys) пифагорейцев, «источник и корень постоянно изменяющейся Природы», как писал о ней позднее Секст Эмпирик. К примеру, если длина струны равна L, то в два раза более короткая струна (L/2) будет давать звук на октаву выше; струна длиной, равной двум третьим первоначальной (2L/3) – на квинту, а при (3L/4) – на кварту выше. То, что кажется нам гармоничным, открывает доступ к нашей душе, поэтому Пифагор и его последователи полагали, что обнаружили мост, соединяющий внешний мир и его восприятие через органы чувств. Этот мост был построен на математических зависимостях, из чего пифагорейцы делали вывод: чтобы познать мир, его нужно описать в терминах математики. Более того, раз гармоничное означает прекрасное, то и красоту мира можно выразить математически. Таким образом зарождается новая эстетика, в которой математические законы приравниваются к красоте, а красота – к истине.
Помимо выделения роли математики в описании окружающего мира и наших взаимодействий с ним, пифагорейцы также внесли большой вклад в космологию. Они не просто переместили Землю из центра Вселенной на периферию, заменив ее «центральным огнем». Экстраполировав музыкальную гармонию на небесные сферы, пифагорейцы заключили, что расстояния между планетами соотносятся между собой так же, как расстояния между нотами в гамме. Двигаясь по небу, планеты играли «музыку сфер», которую, по легенде, мог слышать только сам Пифагор. Мировое устройство (от чувственного удовольствия от музыки до расстояния между планетами) представляло собой строгие и гармоничные пропорции. Красота творения была математической по своей сути, и можно ли было представить себе более высокую цель, чем познание ее законов?
Перед тем как перейти к Платону и его ученику Аристотелю, давайте кратко резюмируем то, что мы уже знаем. С одной стороны, у нас есть ионийцы, заявляющие, что суть Природы состоит в трансформации и что все сущее представляет собой воплощение единого материального основания. С другой стороны, пифагорейцы полагают, что ключом ко всем природным тайнам и к нашему восприятию реальности является математика. Более того, существуют и другие точки зрения. Парменид и элеаты, также жившие в Италии, противостояли ионийцам и заявляли, что изменения не могут быть сутью вещей и что основа реальности, или «сущее», должна оставаться неизменной. Элеаты полагали, что все перемены – это иллюзии, погрешности, вызываемые в восприятии реальности из-за недостатков наших органов чувств. Они одними из первых на Западе подняли вопрос природы реальности и того, как мы ее воспринимаем. Является ли сутью реальности то, что мы видим, – перемены, которые фиксируют наши органы чувств? Или же основа всего сущего скрыта в области абстракций, воспринимаемой только силой нашей мысли?
Для того чтобы воспринимать изменения, мы должны их чувствовать. Но что, если наши органы чувств передают нам лишь неполную картину сущего? Как нам постичь то, что существует на самом деле? Если следовать логике рассуждений Парменида, то как бы мы вообще пришли к мысли о неизменном сущем? Если что-то не меняется, мы становимся невосприимчивыми к нему, как к низким звукам, которые не слышит наше ухо. А если эта неизменная реальность существует в каком-то другом, более утонченном измерении, как мы можем ее понять или исследовать? Итак, ионийцы обвиняли элеатов в пустом абстрагировании, а элеаты считали ионийцев дураками из-за веры в то, чему верить нельзя. Пифагорейцы же игнорировали и тех и других, продолжая верить в способность математики описать гармонию и красоту окружающего мира.
Разнообразие досократических идей и мнений поражает. Первые западные философы расширяли границы известного во всех направлениях, увеличивая территорию рационального мышления. Идеи о природе реальности вступали в конфликты и сталкивались друг с другом еще 25 веков назад. Какими бы богатыми и сложными они ни были, в их основе лежал вопрос, который мы все еще задаем себе сегодня и который является центральной темой этой книги. До какой степени мы можем понять реальность? Остров знаний продолжал разрастаться, а на берегах Океана неведомого открывалось все больше возможностей.
Глава 4. Чему может научить сон Платона в которой мы узнаем, как Платон и Аристотель отвечали на вопрос Первопричины и относились к границам человеческого знания
И Парменид, и пифагорейцы оказали огромное влияние на Платона, жившего между 428 и 348 годами до н. э. В каком-то смысле Платон объединил их модели мышления. Как и Парменид, он презирал чувственный опыт как источник информации о мире, но при этом, как и Пифагор, считал геометрические понятия мостом между человеческим разумом и миром чистой мысли, в котором и была скрыта вечно ускользающая от человечества истина. Платон жил в эпоху политической нестабильности – в 404 году до н. э. Спарта победила Афины в Пелопоннесской войне, поэтому неизменные истины виделись ему путем к стабильности и мудрости.
Мышление Платона наиболее ярко проявляется в его знаменитой метафоре пещеры, которую он впервые приводит в «Государстве». Эта аллегория также считается одним из первых прямых рассуждений о природе реальности. Представьте себе группу людей, скованных одной цепью в пещере. Они находятся здесь с рождения и не в состоянии ее покинуть. Все, что они могут, – это смотреть на стену пещеры перед собой. Они не знают ничего о мире вокруг себя или за пределами пещеры, и их реальность состоит лишь в тенях, пляшущих на стене. Им неизвестно, что за их спинами горит огонь, к которому ведет узкая тропинка, и что между ними и огнем находится небольшая стена. Другие люди могут пройти по тропинке и поставить на стену статуэтку или любой другой предмет. Скованные люди видят тени таких предметов на стене перед собой и принимают их за реальность. Неспособность повернуться и осознать свое положение мешает им увидеть правду. Их мир – это мир фальшивых иллюзий.
Платон предполагал, что, даже если бы с закованных людей были сняты цепи и они могли бы подойти к костру и статуям, боль и временная слепота от яркого пламени оказались бы настолько сильны, что люди быстро вернулись бы на свое прежнее место. Они бы предпочли верить в истинность теней на стене, а не в открывшуюся им ослепительную правду. У знаний есть цена, и не каждый согласен ее заплатить. Познание требует терпения и храбрости, ведь оно может привести к неприятной смене точки зрения. Платон утверждал, что, если бы закованных людей вытащили из пещеры на солнце, то есть еще ближе к истине, они умоляли бы вернуть их к теням на стене.
Платон сравнивает движение закованных людей к солнцу с «поднятием души в области ума», то есть с просвещением в буквальном смысле слова. Он также говорит, что истина (производное от того, что он называет «базовой Формой Блага») ускользает от нас, так как мы прикованы к нашему чувственному восприятию реальности. Однако, когда мы оказываемся готовыми увидеть ее (настолько, насколько это вообще возможно), это неизбежно толкает нас к новым знаниям:
Итак, вот что мне видится: в том, что познаваемо, идея Блага – это предел, и она с трудом различима, но стоит только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она – причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она сама – владычица, от которой зависят истина и познание, и на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни.[22]
В «Государстве» Платон описывает, как следует управлять справедливым и равным обществом и какой человек может стать его правителем. Он предлагал на это место «короля-философа», кого-то, кто проник в абстрактную реальность чистых форм, постоянно имеет перед глазами «Форму Блага» и питается от бесконечного и неисчерпаемого источника мудрости, которую она дает.
Формы Платона часто становятся предметами споров и недопонимания. К счастью, нам не нужно углубляться в детали. Достаточно считать Формы неким идеальным чертежом, базовыми идеями, стоящими за предметами или чувствами. Например, Форма стула содержит в себе все возможные стулья, а любой стул является лишь тенью истинной Формы. Формы – это универсальное содержание того, что потенциально может существовать, но сами они при этом не существуют ни во времени, ни в пространстве. Из-за нашей ограниченности мы можем лишь туманно представлять себе, из чего они состоят, так как все попытки познать их через воспринимаемую нами реальность выглядят неуклюжими. Таким образом, идея круга, которая возникает в нашем мозгу, когда мы думаем о круге, и является единственным настоящим кругом, а рисунки или иные формы ее представления никогда не могут быть идеальными, а значит, и реальными.
В «Тимее» Платон экстраполирует эти идеи на космологию. Вселенная, по его словам, – это результат работы божественного существа, Демиурга, который использует Формы как чертежи своего творения. Космос сферичен, а все движения в нем единообразны и идут по кругу, так как «такая система наиболее приемлема для сознания и разума». Платон описывает эстетику космоса, в которой наиболее идеальные и симметричные формы являются единственно возможными для небесных тел и траекторий их движения. Сознание задает путь, по которому движется материя. Мир происходит из идеи, и его физическая структура должна отражать ее суть. Такой подход к строению космоса называется телеологическим и предполагает, что Вселенная имеет собственную цель или отражает замысел Творца. Он напрямую противоречит теории атомистов о космической бессмысленности, которая отрицает всякие намерения и заранее заложенные смыслы и утверждает, что все сущее происходит благодаря случайным движениям и сочетаниям в Пустоте. Лукреций писал об этом в своей поэме «О природе вещей»:
Если к тому ж этот мир природою создан и если Сами собою вещей семена в столкновеньях случайных, Всячески втуне, вотще, понапрасну сходяся друг с другом, Слились затем наконец в сочетанья такие, что сразу Всяких великих вещей постоянно рождают зачатки: Моря, земли и небес и племени тварей живущих.[23]Большинство философских споров о природе Вселенной от Платона до наших дней противопоставляют две гипотезы: существование Мультивселенной, крошечной частью которой является наш мир, и вероятность того, что наше существование имеет некую космическую цель. Эта дихотомия возникла еще в античные времена.
С научной точки зрения основная проблема телеологических теорий состоит в том, что мы не можем доказать или опровергнуть их правоту. Научный метод основывается на эмпирическом подтверждении, а научная гипотеза должна быть фальсифицируемой (то есть ученые должны быть способны доказать ее неправоту). Если мы не можем этого сделать (или, скорее, пока, ведь каждая гипотеза рано или поздно опровергается), мы считаем ее верной.[24] Поэтому, если кто-то заявляет, что у Вселенной есть цель, мы должны сначала определить эту цель и убедиться в ее существовании. Популярный претендент на такое доказательство – аргумент о существовании разумной жизни: «Вселенная имеет очевидное стремление к созданию сознания». Но Вселенная-Творец почти ничем не отличается от Бога-Творца, она просто превращает сверхъестественную телеологию в телеологию сверхъестественного. Вселенная, обладающая научно доказанными намерениями, – это современный ответ на давление, которое испытывали многие поколения ученых. Она дает цели научную достоверность. Образ Вселенной, которая сознательно порождает разумных существ, отражает наше вечное желание быть не просто особыми существами, но особыми творениями.
Но какой бы привлекательной ни казалась идея существования вселенской цели, она ставит перед нами серьезные вопросы. Каким образом мы можем проверить эту цель? Если мы не получим однозначного ее описания, то такая натуралистическая телеология станет областью непознанного. Если в мире существует вселенская цель и она нам неизвестна, откуда нам знать, что она вообще есть? Мы остаемся в неведении в любом случае, и все, что мы можем сделать, – это поверить в нее или нет, так же как Платон верил в своего Демиурга, но не мог доказать его существование.
Ученик Платона Аристотель придерживался совершенно других целей. Он был во многом прагматиком и поэтому создал для объяснения природных процессов сложную цепочку (или, скорее, башню) взаимосвязанных рациональных аргументов. Эта вертикальная структура в будущем показалась весьма удобной церкви, которая присвоила взгляд Аристотеля на устройство космоса. Аристотель заявлял, что четыре базовых элемента – земля, вода, огонь и воздух – имеют естественную иерархию и располагаются в ней снизу вверх именно в такой последовательности. Вот почему предмет, созданный из любого элемента, а затем перемещенный в другую среду, стремится занять в ней свое предписанное иерархией место: пузырек воздуха в воде поднимается вверх, а камень падает на дно. Аристотель отказывался от идей Платона о Формах и Демиурге, считая их абстракциями, и искал телеологические принципы внутри самих предметов, в их «сути», которой он считал изменения, присущие всем живым существам.
При этом Аристотель продолжал верить в божественное присутствие в мире. Несмотря на то что он считал Вселенную вечной и никем не созданной, он вводит понятие отдельного божества, отвечающего за движение небесных светил – «недвижимых двигателей». Задачей таких нематериальных божественных сущностей было направлять движения небесных объектов, не двигаясь при этом самим, не совершая никаких материальных действий и не подвергаясь им. Управление движением светил осуществлялось таинственным образом, через «вдохновение или желание». Космос Аристотеля был похож на луковицу, состоящую из множества слоев (небесных сфер), в центре которых находилась неподвижная Земля, а на периферии – звезды. Соответственно, «недвижимые двигатели» имели свою иерархию, и тот, что находился ближе всего к краю, назывался перводвигателем. Его задачей было управлять Вселенной снаружи, заводить весь механизм космоса для запуска цепочки причин и следствий.[25]
Перводвигатель и подчиненная ему цепочка «недвижимых двигателей» были необходимы Аристотелю для ответа на два фундаментальных вопроса, с которыми сталкивается человек в попытке объяснить Природу: как предметы переходят из состояния покоя в состояние движения и как это движение сохраняется? Что еще могло вечно поддерживать работу огромной космической машины? Аристотелю не было известно понятие инерции, естественного стремления тела оставаться в состоянии движения, если внешние силы не принудят его к изменению такого состояния. До открытия инерции оставалось еще 18 столетий.
Космос Аристотеля был вечным, что делало его теорию гораздо проще любых других представлений, в которых космос появился в определенный момент времени, – от библейских текстов до современной космологии Большого взрыва. Как мы уже отмечали выше, если у Вселенной есть начало, то этому требуется логическое объяснение. Почему Вселенная вообще существует? Что вызвало ее появление? Религии отвечают на этот вопрос, постулируя существование Божественной Первопричины, на которую не распространяются физические законы. Но объяснить возникновение физической Вселенной с точки зрения науки – это крайне сложная задача, которая все еще преследует современную космологию, даже несмотря на то, что многие верят в квантовую механику как в универсальное объяснение (как мы увидим ниже, это не только плохо с философской точки зрения, но и ошибочно с научной). Заявление о том, что мы знаем все о происхождении Вселенной, не просто неверно – оно искажает общественное понимание науки. Нравится нам это или нет, у каждого острова есть границы, и Остров знаний не исключение.
Но вернемся к Аристотелю. Как мы увидели, он вывел философию из пещеры Платона, устранив различия между миром абстрактных форм и областью чувственного восприятия. Согласно Аристотелю, любые изменения на Земле и вокруг нее объясняются взаимодействием четырех базовых веществ. Поднявшись в небеса, мы перейдем в область небесных сфер, которые ответственны за движение Луны и пяти планет по круглым орбитам (до открытия Урана в 1781 году человечеству были известны лишь Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн). Все небесные объекты состояли из пятого вещества, идеального и вечного эфира, не подвластного никаким изменениям. Космос Аристотеля имел дуалистичную природу, ведь он устанавливал различия между Землей, миром обычной материи, и идеальным эфиром, недоступным ни для чего материального. Более того, в нем еще оставалось место для телеологии, воплощенной в нематериальных, но активных «недвижимых двигателях», на которые впоследствии сделала ставку христианская теология.
В течение нескольких последующих столетий было разработано несколько моделей для объяснения неравномерного движения небесных объектов вокруг Земли в Аристотелевом космосе. Еще со времен шумеров было известно, что планеты порой ведут себя странно. Если понаблюдать за движением Марса по небу в течение нескольких месяцев, можно заметить, что иногда он поворачивает назад, как если бы он не был уверен, что выбрал правильный путь. Для древнегреческих астрономов, считавших Землю центром космоса, это «ретроградное» движение было настоящей головной болью. Согласно Симпликию Киликийскому, философу VI века и комментатору Аристотеля, Платон потребовал от своих учеников объяснить такую траекторию движения Марса, используя лишь циркулярные орбиты и равные скорости. Эту задачу он назвал спасением факта (хотя обычно ученые как раз занимаются спасением собственных теорий от изменений под влиянием фактов). Симпликий так объяснял задачу Платона: «Это блестящая проблема для астрономов: доказать, с учетом полученных гипотез, что все предметы в космосе движутся по кругу и что кажущиеся несоответствия… порождаются не чем иным, как нашим восприятием, и не имеют отношения к реальности».[26]
На данном примере мы видим, как прочное научное убеждение может одновременно подстегивать мышление и останавливать его, заставляя воображение создавать множество возможных сценариев в рамках строгих ограничений. Несмотря на то что идеи Платона почти две тысячи лет вели астрономию по неверному пути, благодаря им было создано множество сложнейших теорий о движении небесных объектов. Самой известной из них является модель эпициклов Птолемея, предложенная около 150 года н. э. и просуществовавшая (с небольшими изменениями, введенными исламскими астрономами) до конца XVI века.
Вкратце, эпицикл – это малый цикл, являющийся частью большего (деферента). Представьте себе, что Земля – это центр большого цикла. У этого большого цикла имеется эпицикл, и по нему движется Луна. По мере вращения большого цикла эпицикл вращается вместе с ним. Если, помимо этого, эпицикл может вращаться и самостоятельно, то мы получаем сочетание двух круговых движений. Перемещаясь по созданному ими петлеобразному пути, космические тела могут демонстрировать обратное или нестандартное движение. Теперь давайте повторим ту же процедуру для всех известных планет и Солнца. Каждый из этих объектов имеет собственный эпицикл, входящий в деферент. В итоге вся конструкция выглядит как ряд концентрических кругов, в центре которых находится Земля. Если правильно соотнести размеры деферентов и эпициклов, можно получить как раз такие ретроградные движения, которые уже известны астрономам по результатам наблюдений.
Птолемей быстро осознал, что эта конструкция была слишком простой, чтобы оказаться верной. Будучи в состоянии предсказывать положение небесных тел на долгое время вперед, он доработал свою модель, добавив в нее дополнительный фактор. Вместо того чтобы вращаться вокруг центра деферента, как кабинки колеса обозрения, эпициклы движутся вокруг экванта – воображаемой точки, слегка смещенной в сторону. После этой модификации модель Птолемея стала невероятно точным инструментом для предсказания положения планет. Ее точность была примерно равна полной Луне, то есть погрешность Птолемеевых измерений не могла быть больше места, занимаемого на небе полной Луной.
Ни Птолемей, ни большинство его последователей из исламских стран никогда не верили в реальность эпициклов. Для них это были лишь расчетные инструменты, позволявшие предсказать положение различных небесных тел. Моисей Маймонид, средневековый последователь Аристотеля еврейского происхождения, упоминает это в своем труде сразу же после опровержения физической природы эпициклов: «Все это никак не касается астронома. Его цель – не сказать нам, как на самом деле располагаются сферы, но предложить астрономическую систему, в которой движение небесных тел могло бы быть равномерным и циркулярным и соответствовало бы тому, что мы воспринимаем зрением, независимо от того, таково ли положение сфер на самом деле».[27] Иными словами, несмотря на то что размышление о движении небесных сфер могло приблизить человечество к Богу, астрономию интересовала не природа вещей, а описание движения небесных объектов, «воспринимаемых зрением», то есть наблюдаемых. Итак, существуют вещи, которые могут быть поняты (воспринимаемые через органы чувств), и вещи, которые находятся за пределами понимания (и восприятия). Маймонид признает, что истинная природа небес сокрыта от человека:
Ибо невозможно человеку подняться до высот, с которых он сможет делать заключения о небесах, находящихся слишком далеко от нас и слишком высоких как по местоположению, так и по статусу. Даже если мы можем делать на их основании общие выводы, например, о существовании Двигателя, знания о таких материях не могут быть достигнуты человеческим умом. Изнурять свое сознание понятиями, которые недоступны ему или неподвластны его инструментам, – это врожденный дефект характера или соблазн.
Разумеется, со времени Маймонида мы узнали много нового о природе небес. Тем не менее нельзя отбрасывать его слова как бессмысленные или пораженческие. Сам характер человеческих исследований предполагает, что каждая эпоха сталкивается с собственным неизвестным. Вопрос лишь в том, остается это неизвестное с нами навсегда или с течением времени с ним можно справиться. Иными словами, на все ли вопросы существуют ответы?
Пускай эпициклы были лишь плодом воображения, но хрустальные сферы, несущие на себе небесные тела, считались вполне реальными. Кажется, ни одна другая идея в истории астрономии не продержалась так долго. Первое упоминание хрустальных («подобных льду») сфер в космосе приписывают ученику Анаксимандра Анаксимену, еще одному пресократику-ионийцу из Милета. Согласно Аэцию, «Анаксимен утверждал, что звезды вбиты, как гвозди, в подобную льду поверхность, и таким образом формируется их структура».[28] Некоторые историки приписывают идею вращающихся колец, двигающих небесные тела вокруг Земли, Эмпедоклу. Как бы там ни было, очевидно, что во времена Платона вращающиеся сферы стали основным образом космической механики. Особенно четко это проявлялось в модели взаимосвязанных сфер, созданной его учеником Евдоксом Книдским. Даже Коперник 18 веков спустя был уверен, что планеты переносятся по своим орбитам с помощью хрустальных сфер, а его революционный труд, в котором он предположил, что в центре космоса находится не Земля, а Солнце, назывался «О вращении небесных сфер». Разумеется, без этого образа трудно было бы объяснить движение космических тел. Единственную идею, сходную с понятием гравитации, высказывал Аристотель, когда делил космос на две «области» с разными физическими законами. Для того чтобы контролировать движения всех небесных тел, ему требовалось ни много ни мало 59 сфер. Коперник понимал, что эта задача требует решения, но не знал, как к ней подойти.
Сделав Солнце центром Вселенной, Коперник вызывал огромный космический катаклизм, подорвав устои аристотелевского мировоззрения, существовавшего почти два тысячелетия. Новый порядок вещей требовал объяснения, новой науки, которую Коперник не мог ему предоставить. Согласно физике Аристотеля, Земля являлась точкой притяжения для всех движений материи, причиной того, почему подброшенные предметы падали вниз. Небесные сферы переносили Луну, Солнце, планеты и звезды по равномерным круговым (или как минимум эпициркулярным) орбитам. Если Земля – это всего лишь одна из планет, почему любой подброшенный предмет падает на нее? Кроме того, согласно Аристотелю, Солнце и все прочие небесные тела состояли из пятого вещества, эфира, совершенно отличного от четырех земных стихий. Эфир был вечным и непреложным. В небесах никогда ничего не изменялось. Даже астероиды и кометы считались атмосферными или «метеорологическими» явлениями.[29] Как же Земля, не состоящая из эфира, могла быть равной другим планетам? Как физика могла объяснить эту путаницу?
Кроме того, вопросы имелись и у теологов. Новое расположение планет означало нарушение природной вертикальности аристотелевского космоса, которую церковь приняла с большим энтузиазмом. Именно эта вертикальность заставляла людей с благоговейным страхом смотреть снизу вверх на небо – обитель Бога и святых. Кроме того, если Земля вращается вокруг Солнца, то и ад не находится в самом центре всего Сущего, а движется по небу вместе с нашей планетой. Неудивительно, что одним из первых обличителей Коперника был Мартин Лютер: «Рассказывают о новом астрологе, который хочет доказать, будто Земля движется и оборачивается вокруг себя, а не небо… Этот дурак хочет перевернуть все искусство астрономии».[30]
Но Коперник вовсе не хотел революции. Он хотел «спасения факта», как и Платон, и поэтому создал модель космоса, основанную на красоте и симметрии и подчиняющуюся законам равномерного кругового движения. Коперник презирал идею Птолемея об экванте, так как она нарушала всю стройность небесной механики. Коперник был человеком Возрождения, учился в Италии всего за несколько лет до того, как Микеланджело закончил роспись Сикстинской капеллы, и потому верил, что гелиоцентрический космос задавал гармонию, новую космическую эстетику, отсутствующую в древней геоцентрической системе. В своем видении мира он отдавал дань уважения Филолаю и пифагорейским представлениям о центральном огне как основе Вселенной и источнике всего света. Модель Коперника была идеей Платона, облаченной в ценности Ренессанса, – космосом, построенным на красоте и симметрии с небольшой добавкой новых астрономических наблюдений. Разумеется, Копернику принадлежала лишь малая часть из них. Основные используемые им данные были получены Птолемеем и его последователями из исламских стран.
Ключевое различие между Коперником и его предшественниками состояло в представлении о реальности идей. Для Коперника гелиоцентрический космос был не просто инструментом расчета, но истинной формой организации мира. Астрономия не просто занималась описанием космоса, но и отражала физическую реальность, воспринимаемую человеческим сознанием. Внезапно ставки оказались гораздо выше, чем раньше.
Но труд Коперника стал лишь первой ласточкой новой эпохи в науке – в основном благодаря Галилею и Кеплеру. Для них обоих переломные моменты наступили с получением новых эмпирических данных. Жизнь Галилея и будущее всей астрономии изменились в тот момент, когда он впервые взял в руки телескоп, а революционная физическая астрономия Кеплера была бы невозможна, не окажись в его распоряжении результатов исследований Тихо Браге.
Глава 5. Преобразующая сила нового инструмента для наблюдений в которой описывается, как три выдающихся ученых мужа изменили наши представления о мире с помощью новых инструментов и своей творческой мысли
Первый телескоп был сделан в Голландии и попал в руки Галилея только в 1608 году. Предшественник ученого Тихо Браге в течение последних трех десятилетий XVI века тщательно фиксировал движение планет по небу. Браге был достаточно состоятелен, а кроме того, имел поддержку короля Дании Фредерика II, который в 1576 году подарил ему остров Вен «со всеми арендаторами и слугами короны, проживающими на нем, и с правом взимания аренды и иных пошлин… до конца жизни или до тех пор, пока он имеет желание продолжать свои studia mathematices».[31] Благодаря этому Браге удалось создать коллекцию измерительных приборов, равной которой мир еще не видел. Во времена до изобретения телескопа астрономические измерения производились исключительно невооруженным глазом с использованием квадрантов, секстантов, астролябий и иных инструментов, позволявших определять местоположение и отслеживать движение небесных тел. По сути, астрономы проводили угловые измерения небесного свода – воображаемой сферы, на которой были закреплены звезды.
Если посмотреть на небо в ясную ночь, можно увидеть множество звезд (до нескольких тысяч). Расстояние между ними кажется нам неизменным, как если бы они действительно были прибиты к темному небесному своду. С течением ночи звездное небо медленно движется с востока на запад. Из-за этой кажущейся относительной неподвижности звезд древние наблюдатели различали на небосклоне фигуры (созвездия) и придавали им разные значения. Несмотря на то что в различных мифологиях одно и то же созвездие могло иметь разные значения, стремление к поиску смыслов в звездах является общим для всех человеческих культур. В реальности же наши органы чувств нас подводят. Во-первых, звезды не статичны – некоторые из них движутся со скоростью много тысяч километров в секунду. Во-вторых, они не располагаются на одном и том же двухмерном небосводе, а находятся на разных расстояниях от Земли и, следовательно, распределены в трехмерном пространстве. Небосвод – это стена из платоновской пещеры, иллюзия, возникающая вследствие нашего ограниченного восприятия реальности (хотя в данном случае, вероятно, за нашими спинами никто не стоит). Эта иллюзия объясняется огромными расстояниями, отделяющими нас от звезд. Когда мы видим с земли пролетающий над нами самолет, нам кажется, что он движется медленнее, чем на самом деле. Точно так же и звезды, находящиеся в нескольких световых годах (или сотнях световых лет) от нас, выглядят статичными.[32]
Фотографии с длинной экспозицией, сделанные в Северном полушарии, показывают, что звездное небо вращается вокруг одной неподвижной точки – Полярной звезды. На самом деле, движется не небо, а Земля, а Полярная звезда (на сегодняшний день) находится прямо над ее полюсом. В течение следующих нескольких тысяч лет она постепенно сместится из этого положения из-за «предварения равноденствий» – колебаний земной оси.
Предположение о том, что Земля вращается вокруг своей оси, казалось людям настолько необычным, что этот факт ускользал от внимания наблюдателей многие тысячи лет. Если бы мы сказали последователю Аристотеля, что в течение 24 часов именно Земля, а не небеса над ней, делает полный оборот, он бы спросил, почему в таком случае облака и птицы остаются на месте, а подброшенные камни не зависают в воздухе. Нас поддержали бы лишь некоторые греческие мыслители вроде Экфанта и Гераклида, а до Коперника и его теории вращения Земли оставалось бы еще две тысячи лет.
Для того чтобы измерять положение звезд относительно друг друга и отслеживать движущиеся по небу планеты, астрономы делят небесный свод на два полушария, разделенные экватором. В зените (высшей точке) Северного полушария находится Полярная звезда. Положение относительно экватора небесного свода называется склонением (и соответствует долготе на поверхности Земли). Соответственно, склонение Полярной звезды составляет +90°. По аналогии с наземной долготой, которая отсчитывается от выбранной произвольным образом нулевой точки в Гринвиче (Англия), на небесном своде существует прямое восхождение. Прямое восхождение принято отсчитывать от точки весеннего равноденствия, когда Солнце пересекает небесный экватор в начале весны.[33] Ситуацию немного усложняет то, что вместо углов (как в случае с широтой, долготой и склонением) прямое восхождение измеряется в часах, минутах и секундах. Для соединения двух угловых единиц астрономы используют вращение Земли. Поскольку Земля проходит 360º (полный круг) за 24 часа, значит, за один час она проходит 360º/24 = 15º, за минуту – 15º/60 = 0,25º (15 угловых минут, или 15'), а за секунду – 15 /60 = 15' (15 угловых секунд). Таким образом, прямое восхождение с угловым положением 15º относительно нулевой точки равняется одному часу. Например, чтобы найти звезду Бетельгейзе в созвездии Ориона на небесном своде, нужно использовать следующие координаты: 5 часов 52 минуты 0 секунд к востоку от точки весеннего равноденствия (прямое восхождение) и 7º 24 к северу от небесного экватора (склонение).
Но вернемся к Тихо Браге. Его огромные, построенные на заказ инструменты позволяли ему измерять позиции планет с невероятной точностью – восемь угловых минут от градуса.[34] Браге также знал, что для лучшего понимания планетарных орбит требовалась не только точность, но и регулярность. Чем больше данных у него имелось, тем лучше он мог отследить движение планет по небу. А потом, 11 ноября 1572 года, возвращаясь домой из своей алхимической лаборатории, Браге увидел новую звезду в созвездии Кассиопеи. Загадочная гостья была такой яркой, что ее можно было рассмотреть даже днем. Физика Аристотеля отрицала возможность появления новых светил, ведь небеса были незыблемы и все изменения могли происходить лишь в подлунной сфере. Любые новые объекты на звездном небе считались лишь атмосферными явлениями, предметом изучения метеорологии. Вооруженный своими инструментами, Браге тщательно измерял новое небесное тело, пока в марте 1574 года оно не скрылось из виду. Его выводы были революционными: во-первых, новая звезда находилась дальше от Земли, чем Луна, во-вторых, она не была кометой, так как у нее не было хвоста и она не двигалась по небу. Наблюдения Браге впервые бросили вызов установкам Аристотеля. Чтобы заявить, что определенный порядок вещей неверен и грядут перемены, требуется недюжинная интеллектуальная смелость. Современность подхода Браге проявлялась в высочайшей точности его измерений и в понимании, что теории, не подкрепленные фактами, сродни пустым раковинам – их приятно держать в руках, но у них отсутствует живое начало, raison d’etre.
Сегодня мы знаем, что Браге наблюдал взрыв сверхновой. То, что он посчитал рождением новой звезды на небе, на самом деле было смертью старой. Великолепный инструментарий и усердие Тихо Браге позволяли ему видеть мир точнее, чем это делал кто-либо из его предшественников. Тем не менее, как часто случалось в истории науки (и часто упоминается в этой книге), его видение было ограничено имеющимися у него возможностями. Обвиняя тех, кто сомневался в нем, он в сердцах восклицал: «О глупцы! О слепцы, глядящие на небо!» Эту фразу можно отнести к каждому из нас.
Но небеса как будто сами подталкивали науку вперед. В 1577 году еще одна яркая вспышка среди звезд подбросила дров в медленно разгорающийся костер борьбы с аристотелевскими догматами. Речь идет о Великой комете 1577 года, которую видели по всей Западной Европе и которая была зафиксирована многими астрономами. Браге увидел ее 13 ноября перед закатом, возвращаясь с рыбалки, и следил за ее движением 74 дня. Сравнив свои данные с данными пражского коллеги, Браге заключил, что расстояние от кометы до Земли в три раза превышало расстояние между нашей планетой и Луной. Он также отметил, что, хотя Луна для пражского астронома находилась в другом месте, нежели для него, местоположение кометы в обоих наблюдениях оставалось неизменным. Эта техника носит название параллакс и является крайне эффективной для определения расстояния между удаленными объектами.[35] Другие астрономы также подтвердили наблюдения Браге, еще сильнее пошатнув установку Аристотеля о неподвижности небесных сфер.
Учитывая, что Браге делал свои открытия всего через 30 лет после публикации книги Коперника в 1543 году, было бы логично предположить, что он с радостью принял гелиоцентрическую модель. Увы, это было не так. По определенным физическим и теологическим мотивам он отказался ее поддерживать и вместо этого предложил странную гибридную модель с двумя центрами. Земля продолжала быть неподвижным центром всего сущего, Солнце и Луна вращались вокруг нее, а все остальные планеты – вокруг Солнца. Создавая эту запутанную структуру, Браге полагался одновременно и на библейские догматы, и на свою незыблемую веру в силу наблюдений. Он тщательно регистрировал и сравнивал положения звезд в разные времена года, чтобы получить хотя бы малейшее доказательство движения Земли (при этом применялась та же техника параллакса, что и при наблюдении за Великой кометой 1577 года), но не обнаружил ничего, что искал. Если бы Земля двигалась вокруг Солнца, то в разное время года звезды, расположенные к ней ближе, оказывались бы в разных положениях относительно более далеких. Браге не нашел желаемых доказательств, потому что звездный параллакс невозможно увидеть невооруженным глазом, пусть даже с самыми точными измерительными инструментами. Как и все остальные его современники, он смотрел на небо и был слеп, хоть и видел дальше остальных. Кроме того, Браге не мог представить себе новую физику, которая объяснила бы модель Вселенной с Солнцем в центре. Несмотря на то что его собственные наблюдения указывали на неправоту Аристотеля, разделявшего реальность на две отдельные области, Браге не был готов сделать еще один шаг вперед и поверить, что перед ним лежали законы абсолютно новой физики, ждущие, пока их откроют.
Тем не менее у него хватило смелости отойти от идеи существования хрустальных сфер, так как в его модели космоса они неизбежно сталкивались бы между собой. Он предположил, что, если бы сферы существовали, кометы пролетали бы сквозь них, как пули сквозь стекло, оставляя за собой след из осколков, хотя собранные им данные были недостаточно точными для того, чтобы доказать это. Избавившись от священных небесных сфер, Браге столкнулся с проблемой. Как объяснить движение светил по небу, если движущих их сфер на самом деле не существует? Будучи совершенно уверенным в своих наблюдениях, Браге считал, что планеты просто движутся в пустом пространстве, но при этом не мог объяснить их вращение, которое сам же и измерял с такой точностью. Ему нужен был архитектор, человек с достаточным воображением и знаниями в математике, готовый доказать, что его модель правильно описывает положение вещей. Ему нужен был Иоганн Кеплер.
В истории науки найдется немного персонажей, столь же интересных, как этот блестящий, храбрейший и крайне неуравновешенный немецкий астроном, который в самые мрачные моменты своей жизни считал себя самым слабым и безвольным человеком, будучи в реальности гигантом мысли и героем борьбы за свободу вероисповедания. Испытав немало жизненных трагедий, перенеся ужасное детство и множество эмоциональных потрясений в личной жизни, пережив жестокую конфронтацию между католиками и лютеранами в Центральной Европе в первых десятилетиях XVII века, Кеплер обратил свой взгляд к небесам, надеясь найти в них тот порядок, которого ему так не хватало на Земле.[36]
Кеплер стал ассистентом Браге в начале 1600-х годов. К тому моменту состоятельный астроном уже вышел из фавора датской короны и стал придворным математиком Рудольфа II, правителя Священной Римской империи, трон которого находился в Праге. Браге не мог отказаться от привычных ему блеска и роскоши и потому построил в замке Бенатки, примерно в 40 милях от столицы, сложную астрономическую обсерваторию, полную дорогих инструментов и многочисленных ассистентов.
С самого начала Браге и Кеплер преследовали разные цели. Первому нужна была теоретическая помощь для обоснования странной геоцентрической модели, которая, как он полагал, соответствовала не только его собственным наблюдениям, но и Священному Писанию. Второй же, будучи преданным последователем Коперника, хотел использовать данные Браге, чтобы раз и навсегда доказать истинность гелиоцентрической структуры космоса. Несмотря на то что они проработали вместе всего полтора года, это было эпическое столкновение. Браге не соглашался предоставить результаты своего многолетнего упорного труда немецкому последователю Коперника, Кеплеру же не терпелось начать собственную работу. После многочисленных споров Браге наконец дал Кеплеру доступ к своим записям о движении Марса. Это был хитрый ход, ведь Браге знал, что Марс движется по крайне странной орбите, порой делая резкие скачки в сторону от привычного круга.[37] Задачей Кеплера было объяснить траекторию Марса с помощью циркулярных движений, используя собранные Браге данные.
Кеплер надеялся, что эта работа займет у него лишь пару недель, а в итоге закончил ее через девять лет. В 1609 году он с гордостью опубликовал свою «Новую астрономию», в которой заявил, что Марс движется не по круговой, а по эллиптической орбите. Это было неожиданное решение, противоречащее тысячелетним представлениям астрономов, но Кеплер ни на шаг не отступал от наблюдений Браге. После нескольких лет экспериментов с кругами и эллипсами Кеплер применил идею Птолемея об экванте к Солнцу, немного сместив его из центра всех планетарных орбит. Этот подход сработал почти идеально, вот только два наблюдаемых параметра отличались от расчетов на основании его модели на восемь угловых минут, то есть на 8 / 60 одного градуса. Большинство людей просто проигнорировали бы эти несоответствия и посчитали бы такую модель максимально точным приближением к истинному положению вещей (так оно и было). Но неуемный Кеплер знал, что может лучше использовать драгоценную информацию, оказавшуюся в его руках.
Итак, Кеплер продолжил попытки и через какое-то время пришел к теории эллипса. Это был уже второй случай – в первый раз он отказался от идеи эллиптических орбит. Иногда ответ находится прямо у нас перед глазами, но мы не готовы его принять. Итак, звезды сошлись идеально. В руках Кеплера точнейшие данные Браге, собранные с помощью лучших инструментов, могли совершить революцию в науке. В истории науки вряд ли можно найти много примеров, столь же ярко иллюстрирующих силу точных данных как катализатора масштабных изменений в наших представлениях о мире. История Браге и Кеплера показывает нам, что наблюдатель и теоретик могут создать практически всесильный союз, пускай и не всегда столь блестящий. Перефразируя знаменитое высказывание Эйнштейна о науке и религии, «информация без теории хрома, а теория без информации слепа».
Но Кеплер не остановился на достигнутом. Для того чтобы по-настоящему изменить науку, ему недостаточно было обосновать астрономию Коперника данными, полученными от Браге. Требовалось создать новую физику для ее объяснения. Полное название книги Кеплера звучало так: «Новая астрономия, причинно обоснованная, или Физика неба, изложенная в исследованиях движения звезды Марс по наблюдениям достопочтенного Тихо Браге». Причинно обоснованная астрономия или физика неба. Кеплер не просто описывал астрономические явления, как все его предшественники, но пытался объяснить движения светил с помощью физики, будучи уверенным в том, что они подчиняются законам причины и следствия. Это была настоящая революция – первая попытка в истории астрономии объяснить траектории планет воздействием физических сил. Кеплер предположил, что Солнце и планеты имеют магнитную природу и взаимодействуют друг с другом с помощью притяжения. На эту идею его вдохновил труд Уильяма Гилберта, придворного врача Елизаветы I, в котором автор описывал Землю как гигантский естественный магнит. Кеплер заключил, что если Земля является магнитом, то им должно быть и Солнце. А два магнита притягиваются друг к другу даже на расстоянии, как и происходит с Солнцем и планетами. В письме от 1605 года он писал: «Моя цель – показать, что небеса представляют собой не божественный организм, но скорее часовой механизм… поскольку почти все из огромного количества движений объясняются единственно простейшей магнитной силой». Революционные идеи Кеплера о физических причинах движения планет стали основанием для ньютоновской теории гравитации, созданной позднее, в XVII столетии.
Перед тем как перейти от Кеплера к другим темам, я бы хотел обратить внимание еще на один очень важный пассаж из названия его книги – «физика неба, основанная на наблюдениях». Несмотря на то что пространные рассуждения о космосе порой заводили его слишком далеко, Кеплер понимал, что информация – это главный судья между Природой и теориями, которые мы создаем, чтобы ее объяснить. Сегодня это кажется нам очевидным, но во времена Кеплера все было совсем не так. Кеплер был человеком переходного периода, провозвестником нового. Но к этому моменту он уже был не одинок. Вдали от него, в Италии, на сцену мировой науки готовился выйти еще один последователь Коперника.
В 1610 году, всего через год после выхода «Новой астрономии» Кеплера, Галилео Галилей опубликовал свою работу Siderius Nuncius, название которой обычно переводят как «Звездный вестник». Этой небольшой книгой Галилей изменил представление человечества о Вселенной. А помог ему в этом новый мощный инструмент для наблюдения за небом – телескоп. Благодаря ему Галилей смог увидеть новый космос, полный сложности и красоты, далекой от идеализированной Аристотелевой симметрии вечных и неизменных эфирных сфер. Инструменты Браге позволяли ему измерять небесные явления с беспрецедентной точностью. Точно так же и телескоп Галилея давал ему возможность видеть дальше и точнее, чем кто-либо из его предшественников. Как это часто случается в истории науки, новый измерительный прибор открыл людям неожиданные аспекты физической реальности. Остров знаний увеличивается неравномерно, новые участки суши поднимаются из воды и изменяют старые границы, порой до неузнаваемости.
Несмотря на то что новости об изобретении телескопа появились уже в октябре 1608 года, когда голландский мастер Иоанн Липперсгей подал заявку на регистрацию соответствующего патента (она была отклонена), свой первый телескоп Галилей создал сам. Друг Галилея, дипломат, подарил ему образчик труда Липперсгея, и Галилей осознал потенциал этого прибора. Он начал вытачивать линзы самостоятельно и к июлю 1609 года собрал телескоп с трехкратным увеличением. Вскоре после этого, в августе того же года, он представил перед венецианским сенатом инструмент, приближающий наблюдаемые объекты в восемь раз. Это позволило ему закрепить свое место в Падуанском университете и потребовать увеличения жалованья в два раза. В октябре он уже смотрел на небо через телескоп с 20-кратным увеличением. Галилей не был одинок в своих трудах. Сегодня мы знаем, что в августе 1609 года Томас Хэрриот из Англии уже использовал устройство с шестикратным увеличением для наблюдения за Луной, хотя результаты его работы так и не были опубликованы.[38] Итак, телескоп обязан своей славой Галилею и его уверенности в том, что в его руках находится инструмент новой астрономии, если не нового мирового порядка.
О Галилее и его злоключениях по вине католической церкви написано очень много. Я и сам поднимал эту тему в своей книге «Танцующая Вселенная». Поэтому сейчас я постараюсь сфокусироваться на влиянии его открытий и на его роли в создании эмпирического метода, который впоследствии станет основой современной науки.
В «Звездном вестнике» (несомненно, в этой роли Галилей видел самого себя) он описывает три главных открытия, сделанных с помощью его телескопа и полностью противоречащих Аристотелевым взглядам на космос. Во-первых, поверхность Луны не является ровной – на ней имеются горы и кратеры и она больше похожа на Землю, чем на идеальную сферу из чистого эфира. Во-вторых, направив свой телескоп на Плеяды и созвездие Ориона, Галилей увидел в десять раз больше звезд, чем невооруженным глазом. Это заставило его предположить, что Млечный Путь и другие туманности являются не облачными формированиями, а бесчисленными множествами звезд. Наконец, у Юпитера обнаружилось четыре спутника, которые Галилей тут же окрестил «светилами Медичи» в стремлении получить поддержку великого герцога Тосканского Козимо II. Эти открытия, а также многие последующие наблюдения (например, фазы Венеры и пятна на Солнце) убедили Галилео, что Коперник был прав, а Аристотель – нет.[39] Даже несмотря на то что они не в полной мере доказывали теорию Коперника (и при необходимости легко вписывались в модель Браге), как, к примеру, звездный параллакс, Галилей решил заявить всему миру и церкви о том, что пришло время перемен. Это в конце концов и навлекло на него гнев инквизиции.
Несмотря на всю свою новизну и революционность, работы Галилея в области астрономии все равно несли на себе печать консерватизма. Например, он так и не поверил в существование Кеплеровых эллиптических орбит. Вместо этого он предложил странный закон круговой инерции, основанный на идеях оксфордского ученого XIV века Жана Буридана. С помощью этого закона он пытался объяснить вращение планет вокруг Солнца, а впоследствии экстраполировал его и на линейную инерцию: «Тело, движущееся по ровной поверхности, будет продолжать движение в том же направлении с постоянной скоростью, если не подвергнется внешнему воздействию» (представьте себе, как человек на коньках скользит по гладкому льду замерзшего озера). Позднее Ньютон превратит эту формулировку в свой первый закон движения, введя в нее понятие силы: «Тело сохраняет постоянную скорость, если на него не воздействует чистая неуравновешенная сила». Кстати, слово «инерция» впервые встречается в Epitome Astronomiae Copernicanae Кеплера – труде в трех томах, напечатанном между 1618 и 1621 годами. В этом шедевре ранней астрономической науки Кеплер применяет свою идею эллиптических орбит ко всем планетам, а также успешно доказывает правильность своих математических формул с помощью данных, полученных от Браге. Согласно Кеплеру, инерция представляет собой сопротивление тела стартовому импульсу, выводящему его из состояния покоя.
Тем не менее и для Галилея, и для Кеплера космос оставался закрытой структурой, ограниченной сферой звезд. Идея бесконечности Вселенной вселяла в Кеплера отвращение: «Даже сами мысли об этом полны скрытого ужаса, возникающего в попытках представить себе столь полное отрицание любых границ и центров, что любое определение местоположения становится бессмысленным».[40]
Кеплер верил, что космос, созданный Богом, должен быть симметричным и геометрически упорядоченным, а не бесконечным и бесформенным. Он даже сравнивал его со Святой Троицей: Солнце, находящееся в центре, представляло Бога-Отца, сфера звезд на периферии – Сына, а пространство между ними, наполненное солнечным (Божественным) светом, – Святой Дух. Чтобы подкрепить свое теологическое объяснение, он заявлял, что идея бесконечной Вселенной противоречит данным астрономических наблюдений, и приводил в качестве примера сверхновую 1604 года (так называемую Кеплерову сверхновую, последнюю, наблюдавшуюся невооруженным глазом). Защитники теории бесконечного космоса утверждали, что новая звезда стала заметна, приблизившись к Земле из космических глубин, а затем снова исчезла из виду, когда расстояние увеличилось. Кеплер отрицал эту идею, говоря, что звезды не могут двигаться. Кроме того, он считал, что бесконечный космос был бы однородным и выглядел бы одинаково в любой точке, в то время как наблюдения за созвездиями показывали, что это не так.
Вполне возможно, что и Кеплер, и в особенности Галилей просто не забывали об ужасной судьбе Джордано Бруно, закончившего жизнь на костре инквизиции, пускай его обвинение и казнь стали результатом скорее его борьбы с религиозными догматами, чем трудов в области астрономии. К примеру, Бруно утверждал, что Христос был не сыном Бога, а просто ловким волшебником, и что Святой Дух – это душа всего мира. Тем не менее он верил в бесконечность Вселенной и в то, что каждая звезда представляет собой солнце, вокруг которого вращаются другие планеты (подумать только, как он был прав!), населенные мыслящими существами. Эта теория также противоречила представлениям о Земле как о центре творения и людях как любимых детях Создателя.
Итак, Галилей и Кеплер подготовили сцену к выходу еще одного человека, готового изменить реальность, – Исаака Ньютона. Он не только точно сформулировал закон всемирного тяготения, применимый ко всем объектам во Вселенной, но и разбил небесный свод, показав, что за ним скрывается бесконечный космос. Ни одному человеку до него не удавалось настолько увеличить наш Остров знаний – и лишь немногим это удастся после.
Глава 6. Разбить небесный свод в которой мы узнаем больше о гении Исаака Ньютона и поймем, почему его физика стала маяком человеческой мысли во тьме непознанного
Галилей умер в 1642 году – в год рождения Ньютона. Великий итальянец не ограничивался в своей работе только астрономией. Он потрясал основы Аристотелевой физики и на Земле, показывая, к удивлению многочисленных читателей и ярости святых отцов, что внешность действительно бывает обманчива. Самое блестящее открытие Галилея касается природы тяготения. Даже сегодня, когда я читаю лекции, посвященные этой теме, и показываю, насколько неверными могут быть наши интуитивные представления, я вижу удивление и зачастую даже неверие на лице своих студентов. Как писал Аристотель и как подсказывают нам органы чувств, все объекты в мире стремятся к своему «месту в природе». «Места в природе» организованы в соответствии с иерархией четырех стихий. Они располагаются вертикально снизу вверх в такой последовательности: земля, вода, огонь и воздух. Это кажется совершенно логичным, ведь мы знаем, что, если подбросить камень в воздух (или бросить его в огонь или воду), он упадет вниз, а если разжечь костер, то языки пламени будут стремиться вверх. Из этого эксперимента можно сделать вывод, что чем тяжелее предмет, тем быстрее он упадет. Соответственно, гравитация должна каким-то образом учитывать состав предмета. Почему бы и нет, если перо действительно падает на землю куда медленнее булыжника?
Проведя ряд потрясающих экспериментов, Галилей доказал, что ни Аристотель, ни наша интуиция не правы. Все предметы, вне зависимости от их веса, формы или состава, падают вниз с одной и той же скоростью. Различия могут объясняться лишь сопротивлением воздуха или разницей во времени броска. Если точнее, можно сказать, что все предметы, вне зависимости от их массы, в вакууме падают с одинаковой скоростью (хотя для того, чтобы объяснить разницу между весом и массой, необходимо было дождаться прихода Ньютона). Галилей описал кинематические характеристики свободного падения, измерив его скорость для различных объектов. Для осуществления таких измерений он придумал блестящий эксперимент – наблюдение за шарами, скатывающимися по наклонной поверхности. При этом он мог варьировать угол наклона, контролируя тем самым их скорость и рассчитывая время движения шара даже в отсутствие часов (которые к тому моменту еще не изобрели). Для измерения времени он использовал собственный пульс, музыку (так как все люди известны своей способностью чувствовать ритм) и даже воду, капающую в ведро. Чтобы убедиться, что в гроб Аристотеля загнано уже достаточно гвоздей, Галилей провел еще два опыта. В рамках одного из них, самого известного, он сбросил деревянный и свинцовый шары с верхушки Пизанской башни. Несмотря на разницу в весе, оба шара коснулись земли практически одновременно.[41]
Еще один эксперимент с падением предметов был проведен ранее, в 1602 году, во время мессы в Пизанском соборе, когда внимание Галилея привлек прислуживающий в алтаре мальчик, зажигавший свечи на большой люстре. Галилей заметил, что после того, как мальчик отпускал люстру, она некоторое время раскачивалась вперед и назад. К его удивлению, даже при уменьшении амплитуды время между полными колебаниями (период осцилляции) оставалось примерно одинаковым (на самом деле это верно лишь для колебаний с небольшой амплитудой). Позднее Галилей доказал, что время колебаний не зависело от массы объекта: при старте из одного и того же положения (то есть под одним и тем же углом к перпендикуляру) и легкие и тяжелые предметы колебались с одинаковой скоростью. Для колебаний с небольшой амплитудой время определяется лишь длиной подвеса и местным значением силы притяжения (которое в экспериментах Галилея оставалось неизменным).
Учитывая, что движение маятника представляет собой, по сути, контролируемое падение, тот факт, что маятники с разным весом имели равное время колебания, соответствовал данным эксперимента с шарами, движущимися по наклонной плоскости или сброшенными с Пизанской башни. Итак, свободное падение – это демократичное явление, ведь в нем все массы равны. Различия, которые мы будем наблюдать, если одновременно сбросим с высоты 10 футов перо и кадиллак, объясняются исключительно сопротивлением воздуха. В конце своей прогулки по Луне командир корабля «Аполло-15» Дэвид Скотт одновременно выпустил из рук перо и молоток, чтобы провести опыт Галилея в вакууме. Видео, снятое во время этого эксперимента, поражает воображение и кажется совершенной магией, хотя и не должно удивлять тех, кому известно об открытиях Галилея.[42] Единственное волшебство здесь заключается в отсутствии всякого волшебства.
Пока Кеплер формулировал первые математические законы, описывающие орбиты небесных тел, Галилей работал над выведением законов, регулирующих движения более близких к Земле объектов. Природа стала подвластной рациональному объяснению через математические формулы и собранные данные. И Кеплер, и Галилей сумели сформулировать то, что мы сегодня называем эмпирическими законами природы, после проведения экспериментов и тщательного анализа данных. Помимо всего прочего, их история учит нас, что для открытия математических законов Природы крайне важна экспериментальная точность (подумайте о Кеплере с его отклонением 8 угловых минут и о Галилее с его замерами времени при свободном падении). Естественным наукам необходимы методы, включающие в себя как математические уравнения, так и точные приборы. Одно значение измерений – это всего лишь число, но вот ряд значений может указывать на тенденцию. Задача ученого – понять смысл этой тенденции, изучить вероятные закономерности и выразить их в терминах математических законов, применимых к аналогичным системам. Законы Кеплера работают для всех объектов, движущихся по орбитам, будь то в Солнечной или иной звездной системе (если только гравитация в ней не слишком сильна), а результаты экспериментов Галилея со свободным падением применимы для всех (постоянных) гравитационных полей.
Ньютон стал для науки великим объединителем, связав физику Земли с законами небес. Своим законом всемирного тяготения он показал, что и закон Галилея о свободном падении, и закон Кеплера о движении планет по сути являются одним и тем же. Ньютон приблизил небеса к Земле и ко всему человечеству и позволил человеческому уму проникнуть в их тайны. Если эмпирические законы его предшественников рассказывали о закономерностях процессов на Земле и над ней, то его закон описывал общий космический порядок в масштабе, доселе недоступном мыслителям. Будучи увлеченным алхимиком, Ньютон, должно быть, очень радовался, когда ему удалось найти практическое воплощение знаменитого выражения из «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста, главного кодекса алхимии: «То, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху».[43] Для Ньютона математические принципы натурфилософии, алхимический поиск единства духа и материи и роль Бога как Создателя и хранителя мирового порядка были прочно связаны между собой.
Движения всех деталей космического механизма, будь то дальние планеты или падающее яблоко, подчиняются ряду правил, выраженных в одном уравнении. Неудивительно, что Ньютона превозносят как создателя современной науки, как воплощение силы разума, позволяющей познать мир вокруг.
Но многие забывают, что Ньютон не был типичным одиноким теоретиком, погруженным в поиски математических законов природы в своем кабинете в Кембридже. Он и правда был отшельником и отрицал любые прямые социальные контакты или обмен знаниями, чему существует множество документальных доказательств и что не раз отражалось в его биографиях. Гораздо меньше широкой публике известно о том, что Ньютон был старательным экспериментатором, проведшим много часов за изучением свойств света и алхимическими опытами в поисках тайных знаний. К этому мы еще вернемся чуть позже.
В оптике Ньютон занимался исследованиями природы видимого света, в частности, он определил, что тот состоит из напластования бесконечного количества цветов, находящихся в радуге между красным и фиолетовым. Более того, Ньютон изобрел новый тип телескопа, рефлектор, гораздо более мощный, чем рефракторный телескоп Галилея, дававший изображения с гораздо большим разрешением и не имевший цветовых искажений (так называемых аберраций). Благодаря рефлекторному телескопу, в котором использовалось зеркало, собирающее свет и фокусирующее его в глазах наблюдателя, Ньютон стал знаменитым еще до открытия законов механики и всемирного тяготения. К 1669 году он уже был назначен вторым Лукасовским профессором математики в Кембриджском университете. Эта должность была создана в 1663 году и существует до сих пор. С 1979 года ее занимал Стивен Хокинг, а после его ухода на пенсию место перешло к Майклу Грину – известному ученому, занимающемуся теорией струн.
В декабре 1671 года первый Лукасовский профессор Исаак Барроу, восхищавшийся работами Ньютона, отвез его рефлекторный телескоп в Лондон, чтобы продемонстрировать членам Королевского общества – знаменитого сообщества ученых, ставившего своей целью познание законов Природы. Еще через месяц Ньютон вступил в общество, тем самым закрепив за собой место среди элиты британской науки. Однако вместе со славой к нему пришла известность, а с известностью – профессиональная зависть и интеллектуальная конфронтация. Ньютону совсем не хотелось играть в эти игры, по крайней мере поначалу. Только после публикации в 1687 году «Начал», его труда, в котором были представлены законы механики и всемирного тяготения, и признания в качестве одного из величайших ученых всех времен Ньютон осмелился вернуться в общество.
Что касается алхимических работ Ньютона, то их он по большей части держал при себе, делясь лишь с избранными коллегами, например с одним из первых химиков Робертом Бойлем (кстати говоря, так же ревностно он охранял и свои теологические труды). Тем не менее ньютоновская новая теория мира распространялась на все области знаний быстрее лесного пожара, и Ньютон уже не мог это контролировать. Разумеется, теория, объясняющая динамику небесных тел воздействием невидимых сил не могла не вызвать интереса у теологов, тем более что эти силы, судя по всему, управляли всеми процессами в космосе – от падения самой крошечной песчинки до движения планет и комет. Могли ли верующие люди увидеть за силой гравитации что-то иное, кроме воли Творца? Как объяснял Ньютон кембриджскому теологу Ричарду Бентли, только бесконечный космос мог являться отражением безграничной Божественной силы творения. Если Бог присутствует во всем космосе, значит, космос не имеет конца. В «Общем поучении» к «Началам» Ньютон пишет, что Бог и Вселенная суть одно и то же: «[Бог] существует всегда и присутствует везде и, будучи вечным и всеобъемлющим, представляет собой время и пространство».[44]
Новая теория гравитации Ньютона разбила небесный свод и показала, что простирающийся за ним космос безграничен. Вселенная предстала перед людьми во всей своей бесконечной и грозной красоте. Это был космос тысячи солнц, «находящихся на неисчислимых расстояниях друг от друга», в котором Земля оказалась лишь крошечной точкой в пустоте, не имеющей центра, лишь хрупким убежищем для человечества. Через несколько десятков лет после публикации революционных идей Ньютона французский математик и философ Блез Паскаль, вторя Кеплеру, описал экзистенциальный ужас, охватывающий его при мысли о безграничности мира: «Вечная тишина этого бесконечного пространства пугает меня». Если точнее, его мысль звучала так:
Когда я размышляю о мимолетности моего существования, погруженного в вечность, которая была до меня и пребудет после, о ничтожности пространства, не только занимаемого, но и видимого мною, растворенного в безмерной бесконечности пространств, мне неведомых и не ведающих обо мне, я трепещу от страха и недоуменно вопрошаю себя: почему я здесь, а не там, потому что нет причины мне быть здесь, а не там, нет причины быть сейчас, а не потом или прежде. Кто определил мою судьбу? Чей приказ, чей промысел предназначил мне это время и место?[45]
И сегодня, сталкиваясь с новыми научными открытиями, постоянно подтверждающими бесконечность времени и пространства, многие испытывают тот же ужас, что и Паскаль. Великого философа поддерживала в борьбе с его страхом христианская вера. Но как еще, если не с помощью религии, мы можем понять истинный смысл нашего мимолетного существования в этом мире?
Глава 7. Наука как грандиозное описание Природы в которой автор рассуждает о том, что наука – это человеческий конструкт, действующий в установленных рамках, но открытый для изменений
Ньютон, Галилей и Кеплер, равно как и многие после них, находили смысл существования в познании законов Природы. Если мир и его законы действительно были созданы Богом, то поиск этих законов и постижение Божественного плана – обязанность каждого верующего. Понимание задумки Творца было высочайшей целью человеческого разума, вооруженного математикой, интуицией и точными данными. Даже сегодня верующие ученые точно так же объясняют, как в их жизни сочетаются наука и религия: чем больше они узнают о Природе, тем сильнее восхищаются результатами Божественного труда. Но даже среди тех, кто не причисляет себя ни к одной религии, распространено представление о природном единстве.
Теперь мы знаем, как Галилей, Кеплер и Ньютон изменили правила игры в свое время, как наука стала больше полагаться на инструменты и приборы и как в эффективности этих устройств отражались ограниченные возможности человека при познании мира. Природные закономерности выражались в математических законах, разработанных на основании внимательных наблюдений за физическими явлениями. С каждым открытием Остров знаний разрастался, но и береговая линия непознанного становилась длиннее. У ученых появлялись новые вопросы, на которые они не могли дать ответ.
Тем не менее начало было положено, и настолько эффективно, что к 1827 году, через 100 лет после смерти Ньютона, научное знание полностью изменилось. Такие понятия, как энергия и законы ее сохранения, электрический ток и магнетизм, были признаны частью природного повествования. На небеса направлялись все более и более мощные телескопы, и физика расширяла свое присутствие. После открытия Урана Уильямом Гершелем в 1781 году число известных человечеству планет достигло семи, новые кометы пересекали небеса, двигаясь по своим огненным орбитам, туманности виделись наблюдателям уже не как бесформенные облака, но как объекты, наполненные невероятной игрой света и цвета. Космос оказался куда более ярким и живым, чем можно было предположить. Древние ионийцы с их представлениями о постоянно меняющейся Вселенной внезапно снова вышли на передний план. Разумеется, нельзя было забывать и о противоположных идеях идеальной неизменности космоса. Для того чтобы понять природу космоса, наука должна была уравновесить понятия симметрии, красоты и сохранения энергии с представлениями об изменениях, распаде и перерождении.
По мере накопления знаний о мире увеличивался и объем непознанного. Приборы, предназначенные для улучшения человеческого зрения, открывали перед наблюдателями неожиданные богатства на всех уровнях, от крошечного до галактического. Если та или иная теория достаточно успешна, она может предсказать существование новых природных объектов и характеристик. Но предвидеть все, чего мы еще не знаем, невозможно. Новые инструменты не только расширяют наше видение мира, но и показывают, сколького мы еще не знаем и не можем предсказать, причем зачастую это происходит весьма впечатляюще. В качестве примера можно привести голландцев Захария Янсена и Антони ван Левенгука, совершивших революцию в микромире и создавших микроскоп примерно в то же время, когда Галилей впервые направил свой телескоп на звезды. В частности, Левенгук исследовал налет, снятый с его собственных зубов, и обнаружил в нем бактерии, открыв, таким образом, целый новый мир микроорганизмов.
Открытие этих крошечных форм жизни сразу же породило лавину вопросов. Насколько маленьким может быть живой организм? В чем разница между живой и неживой материей? Откуда вообще произошла жизнь? У важнейших вопросов макромира, вроде границ Вселенной и возраста нашего мира, нашлись эквиваленты и в микромире. Какова минимальная частица материи? Какова продолжительность ее жизни? Что есть смерть – Божественная установка или природное явление? Возможность того, что неживая материя когда-то превратилась в живую без какого бы то ни было посредничества Творца, пугала многих верующих. Здесь уместно вспомнить четвертое письмо Ньютона к Ричарду Бентли, в котором он отвечает на вопрос теолога о природе гравитации:
Невозможно представить, чтобы неодушевленная грубая материя без посредства чего-нибудь еще нематериального могла действовать и оказывать влияние на другую материю без взаимного соприкосновения с ней… То, что тяготение должно быть врожденным, внутренне присущим материи и существенным для нее…представляется мне столь вопиющей нелепостью, что, по моему убеждению, ни один человек, способный со знанием дела судить о философских материях, не впадет в нее.[46]
Ньютон настаивал на том, что гравитация не может иметь материального объяснения, так как инертная материя остается инертной. В самой материи имелось что-то непостижимое, запускавшее силы притяжения. Возможно, Ньютон объяснял это вмешательством Бога, хотя в своем ответе Бентли по этому поводу он весьма осторожен (если не сказать противоречив): «Тяготение должно вызываться неким агентом, постоянно действующим по определенным законам; материален этот агент или нематериален, я предоставляю судить читателям».
После Ньютона поведение материальных объектов начали объяснять с помощью сил. Именно они определяют то, как мы познаем мир вокруг нас через наши органы чувств и их искусственные продолжения – приборы. В «экспериментальной философии» не осталось места для метафизики. Говоря словами Ньютона, «то, что не проистекает из фактов, не имеет места».[47]
Это высказывание и по сей день остается кредо науки. Онтологическое описание физического мира через силы, влияющие на материальные объекты, не содержит никаких объяснений о природе таких сил или причинах их существования. Массы притягиваются друг к другу с силой, которая обратно пропорциональна расстояниям между ними. Притяжение (или отторжение) заряженных тел происходит по аналогичному принципу. Такие формулы позволяют физикам описывать поведение масс и зарядов в различных ситуациях. При этом мы не знаем, что представляют собой электрический заряд или масса и почему некоторые базовые единицы материи, например электроны или кварки, обладают и тем и другим. Масса или заряд – это характеристики материальных объектов, которые мы познаем с помощью приборов и опытов и используем для классификации их типов и физических свойств. Масса и заряд не существуют сами по себе. Они лишь часть информационной картины, которую люди создают для описания мира вокруг себя. Пятьсот лет назад этих понятий еще не существовало, а через 500 лет их могут заменить другие концепции. Иными словами, если во Вселенной существуют другие разумные существа, они, несомненно, пытаются объяснить наблюдаемые ими физические явления. Но считать, что они используют при этом те же концепции, что и мы, то есть что придуманные нами описания отражают какую-то вселенскую истину, – это глупость и антропоцентризм.
Наше понимание материальных объектов и взаимодействий между ними резко изменилось в ХХ веке с распространением нового описательного инструмента – понятия поля, породившего новую онтологию. Частицы материи стали представляться как локализованные флуктуации в полях, сгустки энергии, появляющиеся из базового поля и исчезающие в нем же. Несмотря на то что после введения полей как инструмента для объяснения фундаментальной физической реальности наше понимание материи и взаимодействий между объектами существенно улучшилось, поля все равно следует рассматривать как всего лишь один из уровней описания, а не как окончательное объяснение того, почему массы и заряды ведут себя так, как мы наблюдаем. Наверняка мы можем сказать лишь то, что на нашем текущем уровне понимания массы и заряды представляют собой измеримые характеристики возбуждения полей на уровне частиц. То, что это объяснение успешно, не значит, что в будущем мы не найдем ничего лучше. Более того, учитывая скорость развития научных знаний, это почти наверняка произойдет. Точно так же, как современные представления об электроне отличаются от представлений вековой давности, концепции будущего будут отличаться от сегодняшних.[48]
Но давайте вернемся в XIX век. Двести лет назад ньютоновская наука потрясла основы человеческого знания и изменила наши представления о мире. Девятнадцатый век породил ученых, выдающихся не только своим блестящим воображением, но и потрясающей работоспособностью и экспериментальным мастерством. В 1865 году Джеймс Клерк Максвелл объединил десятки на первый взгляд разрозненных электрических и магнитных явлений, введя понятие колебаний магнитного поля. В 1886 году Генрих Герц подтвердил предположение Максвелла о том, что такие колебания распространяются в пространстве, перенося энергию и импульс. Позже он также доказал, что электромагнитные волны движутся со скоростью света (как и предсказывал Максвелл). Объединившись, теория и опыт оказались непобедимыми. Чтобы избавиться от ассоциаций с философами прошлого, натурфилософию стали называть наукой. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «ученый» вошло в обиход в 1863 году.
Ученый – это человек, который ищет знания о физическом мире, используя специальную методику. Научный метод предполагает выдвижение гипотезы с ее последующим экспериментальным подтверждением. У ученого имеется четкая цель: описать природное явление, используя для этого рациональные аргументы, основанные на воспроизводимых экспериментах и единообразии. Рассуждения допустимы только в той степени, в которой они ведут к возникновению доказуемых прогнозов. Итак, между старой натурфилософией и новой наукой возникла четкая граница, и пересекать ее ученым предлагалось на свой страх и риск (впрочем, желающих оказалось немного). Большинство физиков-исследователей занимаются изучением твердой материи, ее элементарных частиц, жидкостей, плазмы и небесных тел, от планет и звезд до галактик и их расположения в космосе. Однако с ростом наших знаний о Вселенной в ХХ и XXI веках ученые (по крайней мере те, кого интересуют космологические и фундаментальные проблемы) все чаще сталкиваются с вопросами метафизического характера, которые угрожают разрушить неприступную стену между наукой и философией. К сожалению, в большинстве случаев встречи этих двух областей человеческого знания сопряжены с невнимательностью и концептуальной неосторожностью, что лишь больше усложняет дело. Когда известные космологи делают заявления вроде «философия не имеет смысла» или «квантовая космология доказывает, что в Боге нет необходимости», они лишь ухудшают ситуацию. Для того чтобы понять, как мы оказались в такой ситуации и как она демонстрирует нам ограниченность наших знаний, нужно сначала кратко описать современную космологию – от теории Большого взрыва до концепции множественности вселенных.
Глава 8. Пластичность пространства в которой рассказывается об общей и специальной теории относительности Эйнштейна и об их влиянии на наше понимание пространства и времени
Седьмого ноября 1919 года лондонская газета Times вышла с сенсационным заголовком: «Революция в науке. Новая теория Вселенной. Ньютон повержен». Еще через три дня эстафету подхватила New York Times: «Искаженный свет в небесах. Ученые взбудоражены результатами наблюдений за солнечным затмением. Триумф теории Эйнштейна. Звезды не то, чем кажутся, но волноваться не о чем». Эти публикации быстро превратили Эйнштейна в знаменитость. В них говорилось о том, как две команды астрономов подтвердили правильность его блестящей общей теории относительности после наблюдения за солнечным затмением на западном берегу Африки и в городе Собрал в северо-восточной Бразилии.
Эйнштейн предлагал новое видение природы гравитации. Он описывал ее не как загадочное ньютоновское «воздействие на расстоянии», а как эффект, возникающий в результате искривления пространства вокруг массивных объектов. Пространство эластично, а степень его искривления зависит от концентрации массы в том или ином регионе. Небольшие объекты слабо деформируют пространство вокруг себя, а большие вызывают более сильные изменения. Поэтому деформация вокруг человеческого тела незаметна (хотя она и существует), а вот деформация вокруг Солнца гораздо более выражена. В ходе опыта с затмением проводились измерения света дальних звезд в момент, когда они проходили рядом с Солнцем. Звезды были выбраны таким образом, чтобы Солнце находилось на пути между ними и Землей для их света. Затмение на время скрыло солнечный свет, позволив астрономам увидеть дальние звезды и сравнить их положение на небе с тем, которое наблюдалось при отсутствии Солнца как помехи. Если пространство вокруг Солнца действительно искривлено, то звездный свет отклонился бы от своего первоначального маршрута и звезды стали бы видны в других местах. Эйнштейн использовал свою теорию, чтобы рассчитать видимые глазу различия в положении звезд, возникающие в присутствии Солнца. Результаты эксперимента нельзя было назвать полностью ясными, но и их было достаточно для подтверждения его теории.
Уравнения, включенные в общую теорию относительности, можно использовать для расчета искривления пространства вокруг любого массивного объекта, а не только Солнца. По мере движения от далекого источника свет отклоняется то в ту, то в другую сторону, реагируя на пространственные неровности.
Еще в одном эксперименте Эйнштейн использовал искривление пространства для объяснения хорошо известных ученым аномалий в орбите Меркурия, перед которыми оказался бессилен закон всемирного тяготения Ньютона. Успех теории был закреплен, и очень скоро ее начали считать величайшим достижением человеческой мысли в истории.
Но на присутствие материи реагирует не только пространство, но и время. В своей специальной теории относительности, созданной в 1905 году, то есть за десять лет до выведения более общей версии, Эйнштейн показал, что время и пространство нельзя рассматривать как абсолютные величины, как было принято со времен Эйнштейна. Кроме того, нельзя и разделять их, так как они формируют единое целое – пространственно-временной континуум, в котором время играет роль четвертого измерения. Соответственно, присутствие материи (или энергии в целом) искривляет и пространство, и время (или лучше сказать «пространство-время»).
Идея пространственно-временного континуума проще, чем кажется на первый взгляд. Представьте, что вы видите у себя в комнате муху и через пять секунд убиваете ее. Когда вы заметили муху впервые, она находилась в определенной точке в пространстве, а время на «мушиных часах» составляло 0 секунд. Когда вы ее прихлопнули, местоположение мухи в пространстве изменилось и прошло 5 секунд. Для того чтобы точно указать, где и когда погибла муха, вам нужно знать точку в пространстве и момент во времени. Для того чтобы связать время с расстоянием, оно умножается на скорость. Эйнштейн выбрал для этого скорость света, которую считал самой высокой в природе. Скорость света в вакууме составляет 186 282 мили в час и обычно обозначается буквой с (от латинского celeritas – «скорость»; тот же корень используется, например, в слове acceleration – «ускорение»). За время, необходимое нам на то, чтобы моргнуть, луч света успевает семь с половиной раз обойти вокруг Земли. Если умножить значение времени (t) на скорость света, мы получим ct, а к этому значению уже можно применять единицы расстояния. Точка в четырехмерном пространстве имеет координаты ct,x, y и z, где x, y и z задают ее местоположение в трех измерениях (с севера на юг, с запада на восток и сверху вниз). Последовательность точек в пространстве-времени может рассказать нам целую историю – например, как двигалась муха между моментами, когда вы ее заметили и убили. Эта история, или путь в четырехмерном пространстве, называется мировой линией.
Для того чтобы аргументировать свою теорию, Эйнштейн весьма умно сфокусировал ее на наблюдателе, то есть на человеке (или инструменте), замеряющем расстояния и временные интервалы. Он постулировал, что два наблюдателя, движущиеся относительно друг друга, получат разные результаты таких измерений. В своей специальной теории Эйнштейн рассматривал лишь относительное движение с постоянной скоростью, в общей же теории учитывалось и ускорение. Теория предлагала способ согласования несоответствующих измерений, полученных двумя такими наблюдателями. Несоответствия обычно являются минимальными и определяются относительной скоростью движения между наблюдателями (v) и скоростью света (с), то есть выражаются как v/c. Различия становятся существенными только в том случае, если скорости наблюдателей приближаются к скорости света. Тем не менее они все же существуют и представляют собой еще один уровень искажений в нашем восприятии мира. Движущиеся объекты кажутся короче по направлению движения, а движущиеся часы идут более медленно. Например, объект, движущийся со скоростью, равной 60 % от скорости света, будет выглядеть на 20 % короче, а часы, движущиеся с той же скоростью, окажутся на 20 % медленнее. Когда относительная скорость движения между двумя наблюдателями достигнет скорости света, время остановится, а объект исчезнет.
В реальности подобная странная ситуация никогда не происходит, так как относительное движение имеет и еще один эффект – возрастание массы по мере увеличения скорости. Пока движущийся объект стремится к скорости света, его масса бесконечно увеличивается. Поскольку для разгона объекта с постоянно растущей массой требуется все больше энергии, а к моменту, когда масса объекта приближается к бесконечной, такой разгон и вовсе становится невозможен, специальная теория Эйнштейна говорит нам, что ни один объект, обладающий массой, не может разогнаться до скорости света. Это доступно лишь чему-то без массы, например самому свету. Кроме того, по непонятным причинам свет всегда движется в определенной среде (например, в вакууме, воздухе или воде) с постоянной скоростью относительно любого наблюдателя, какую бы скорость (ниже с) он ни развивал. Для отбивающего в бейсболе мяч летит медленнее, если подавать его против ветра, и быстрее, если ветер дует в направлении подачи. Если питчер во время броска бежит в направлении отбивающего, мяч будет лететь еще быстрее, так как скорости складываются. Однако скорость света совершенно не зависит от движения его источника – это абсолютная природная величина, не подвластная никаким изменениям. На самом деле теория относительности – это теория абсолютов, неизменных вещей в Природе, таких как законы физики и скорость света.[49]
Специальная теория относительности позволяет различным наблюдателям самостоятельно давать объяснения тому, как действует Природа, при условии, что скорость света всегда неизменна и является самой высокой скоростью передачи сигналов (и, соответственно, информации). В мире ньютоновской физики время и пространство были абсолютны, а значит, была возможна любая скорость. Предположив, что абсолютным лимитом является лишь скорость света, Эйнштейн опроверг эту теорию. Если вспомнить платоновскую аллегорию пещеры, то теория Ньютона окажется тенью на стене, видимой для существ, которые не подозревают о постоянстве скорости света и потому считают ее единственно верным описанием реальности. Разумеется, мы действительно живем в этой пещере, так как наше зрение не может делать поправку на скорость света. Специальная теория относительности – это еще одна проекция на стену пещеры, исправленная впоследствии общей теорией, в рамках которой учитывалось ускорение движения наблюдателей. После общей теории относительности Эйнштейна наше представление о мире снова изменилось и мы снова немного продвинулись к свету. У платоновской пещеры много стен. Возможно, это даже несколько пещер, расположенных одна в другой, как матрешки. Двигаясь от стены к стене, мы понимаем, что по мере расширения наших знаний о мире перед нами будут появляться все новые и новые уровни описания реальности. Все, что мы видим, – это тени на стенах. Платон мечтал о пещере, из которой есть выход к свету чистого знания, но кажется разумным предположить, что никакое знание не может быть чистым или окончательным.
Как что-то может существовать без массы? Свет – это, пожалуй, одна из величайших загадок. Даже Эйнштейн, один из ключевых исследователей его физической природы, часто признавался, как его поражают потрясающие свойства света. Мы не знаем, почему свет может распространяться как волна в вакууме, в то время как другим волнам (например, звуковым или водным) для этого требуется физическая среда. Мы не знаем, почему свет движется именно с такой скоростью и почему ничто в Природе не может его обогнать. Все, что мы можем сказать, – это что пока мы не имеем оснований посмотреть на свет по-другому. Если в уравнение добавляются свойства света, становятся возможными невероятные вещи: уменьшение расстояний, замедление времени, увеличение массы… Удивительно, но все они были подтверждены многочисленными экспериментами. GPS в вашем фитнес-браслете или автомобиле работает так точно потому, что при его создании учитывались поправки общей и специальной теории относительности к ньютоновской теории. Они изменили наше представление о пространстве, времени и материи – о Вселенной в целом. И именно Эйнштейн сделал первый шаг.
Глава 9. Беспокойная Вселенная из которой вы узнаете о расширении Вселенной, сингулярности и начале времени
«Если пространство пластично, – рассуждал Эйнштейн, – и если оно реагирует на количество материи, то, если бы я знал, сколько материи имеется во всем космосе и как она распределена, я мог бы использовать свои уравнения, чтобы рассчитать форму Вселенной». Как мы уже отмечали, Эйнштейн сделал гигантский шаг вперед, когда всего через год после публикации своей общей теории относительности экстраполировал ее на весь космос. Точно так же когда-то поступил и Ньютон со своим законом всемирного тяготения. Эйнштейн вывел свою новую теорию из-за пределов Солнечной системы, где она уже была испытана, и распространил на всю Вселенную, будучи уверенным, что в ней действуют одни и те же физические принципы. Он предположил, что космос является сферическим и статичным, а затем продолжил упрощение. Поскольку точных данных о распределении материи в космосе получить невозможно, Эйнштейн логично предположил, что в среднем в достаточно больших объемах пространства материя распределена одинаково.[50] Такое приближение работает только для по-настоящему огромных пространств, включающих в себя миллионы галактик и простирающихся на множество световых лет. Математически это означает, что плотность материи, то есть ее количество в объеме, является примерно постоянной величиной. В больших объемах содержится больше материи в той же пропорции. Уравнения Эйнштейна определяли геометрию пространства на основании распределения материи, а значит, геометрия должна была отражать эту однородность, выражая ее в простейшей из возможных форм – в сфере. Эйнштейну удалось рассчитать «радиус» этого сферического космоса, а чтобы сделать свою модель стабильной, он добавил в нее странную константу, которую мы сегодня называем космологической постоянной. На этом он прекратил работу, будучи уверенным, что его теория (с некоторыми поправками и коррективами) может ответить на один из старейших вопросов в истории: «Какую форму имеет космос?»
В 1929 году, всего через 12 лет после публикации работы Эйнштейна, ставшей первым трудом по современной космологии, все резко изменилось. Американский астроном Эдвин Хаббл опубликовал результаты своих наблюдений за дальними галактиками, указывающие на то, что они удаляются от Млечного Пути со скоростями, пропорциональными расстоянию до них. Иными словами, галактика, находящаяся в два раза дальше от нашей, чем ее соседка, двигалась в два раза быстрее. В распоряжении Хаббла имелся самый большой телескоп того времени, рефлектор диаметром 100 дюймов, установленный на горе Маунт-Вилсон в Калифорнии.[51] С его помощью он мог видеть дальше и точнее, чем кто-либо до него. Примерно за десять лет до этого Весто Слайфер писал о том, что свет далеких галактик имеет тенденцию отклоняться в красную часть спектра сильнее, чем более близких. Сегодня данное явление известно как красное смещение. Что оно могло означать? Ответ на этот вопрос был получен австрийским физиком Кристианом Доплером еще в XIX веке. Любая волна растягивается по мере смещения ее источника (или наблюдателя). Мы знаем это из экспериментов со звуковыми волнами. Например, по мере того, как машина скорой помощи с включенной сиреной подъезжает ближе к нам, высота звука постепенно повышается, а когда она удаляется от нас, звук становится ниже. Доплер предположил существование этого эффекта в 1842 году, а в 1845 году подтвердил его с помощью эксперимента с участием поезда и нескольких музыкантов, дующих в рога.[52] «Эффект Доплера» распространяется и на световые волны, но здесь вместо высоты звука варьируется частота (при этом у синего цвета она выше, чем у красного). Итак, когда астрономы говорят о красном смещении, они имеют в виду растяжение световых волн в результате удаления источника. Синее смещение, наоборот, означает, что источник (или наблюдатель) приближается. Благодаря Доплеру рождается потрясающая связь между повседневным и космическим: теперь каждый раз, заслышав на улице сирену скорой помощи, вы можете думать о миллиардах галактик, разбегающихся в небесах.
Итак, в очередной раз мощный новый инструмент изменил наш взгляд на Вселенную. Еще до Эдвина Хаббла некоторые теоретики размышляли о том, что она может не быть статичной, что, вполне вероятно, она изменяется со временем. Первым подобную мысль высказал голландский ученый Виллем де Ситтер, критиковавший кажущуюся необоснованной идею Эйнштейна о статичном космосе: «Все экстраполяции неточны… Перед нами лишь фотоснимок мира, и мы не можем и не должны утверждать…что мир навсегда останется таким же, как и в момент съемки».[53] Пытаясь понять поведение материи в бесконечной Вселенной, де Ситтер в 1917 году предложил другую модель, которая предполагала почти полное отсутствие в космосе материи. Единственным вкладом Эйнштейна в эту концепцию пространства-времени был сам придуманный им термин «пространство-время». С помощью уравнений де Ситтер продемонстрировал, что любой материальный объект должен двигаться со все возрастающим ускорением. Еще через несколько лет русский метеоролог Александр Фридман, приверженец теории Эйнштейна, математически доказал, что ни одно из уравнений общей теории относительности не указывало на обязательную статичность Вселенной. Наоборот, с течением времени она могла расширяться или сжиматься, как воздушный шарик. В таком случае плотность материи также изменялась бы со временем – уменьшаясь при расширении и увеличиваясь при сжатии (представьте себе, что вы переставляете мебель из маленькой комнаты в большой зал или, наоборот, из гостиной в чулан и как от этого меняется количество свободного пространства). Открытый Хабблом закон линейного расширения (указывающий на то, что скорость расхождения далеких галактик пропорциональна расстоянию до них) подтвердил правоту Фридмана. Незачем было делать космос статичным, а тем более вводить для этого искусственные постоянные.[54]
Концепция расширяющейся Вселенной часто вводит людей в замешательство. Большинство наивно (и неверно) представляет расширение чем-то вроде взрыва бомбы, а галактики – осколками, разлетающимися к краям космоса. Почему эта картина неверна? Потому, что она предполагает, что космос остается неизменным, а галактики движутся по нему, хотя на самом деле происходит совершенно противоположный процесс – пространство расширяется и тащит за собой галактики, как течение реки – мелкие щепки. Это космическое движение даже называют потоком Хаббла. Разумеется, гравитационное притяжение, возникающее между галактиками или их группами (галактическими кластерами), может вызывать отклонения от потока, называемые пекулярными движениями. Например, наша ближайшая галактическая соседка, Андромеда, движется по направлению столкновения с Млечным Путем. Моделирование и данные, полученные с помощью телескопа «Хаббл», указывают на то, что это произойдет примерно через четыре миллиарда лет.[55]
Открытие Хаббла и его подтверждение подняли представления о пластичности пространства до новых высот. Наблюдая за локальными отклонениями вблизи звезд, мы можем видеть, что теория Эйнштейна верно предсказывает растяжение пространства как реакцию на содержащуюся в нем материю (по крайней мере в наблюдаемой Вселенной, так как ни о чем ином мы не можем говорить с определенностью). Но все становится гораздо интереснее, когда мы задумываемся, что было до расширения, то есть когда заглядываем в прошлое. Если сейчас космос растет, значит, в прошлом галактики находились ближе друг к другу. Чем дальше мы проникаем в прошлое в нашем мысленном эксперименте, тем меньше становится расстояние между ними. Так происходит до тех пор, пока все они не оказываются сжатыми в одной точке. Но как это возможно? Как все сущее может уместиться в одной точке в пространстве? Все еще больше усложняется, когда мы понимаем, что точка – это всего лишь математическая концепция, не существующая в реальном мире. Как же тогда объяснить происходящее? Теория Хаббла описывает космос, существование которого началось в определенный момент в прошлом. Эта точка начала называется сингулярностью.
В 1960-х годах физики Стивен Хокинг и Роджер Пенроуз доказали, что, принимая во внимание разумные предположения о характеристиках материи, любая расширяющаяся вселенная должна иметь в своем прошлом сингулярность. Но вот в чем состоит затруднение: так как при движении назад во времени объем космоса постоянно уменьшается, а вся материя постепенно сжимается в одну точку, плотность этой точки постоянно растет. Представьте себе забитый людьми вагон метро, который сначала уменьшили до размера консервной банки, потом – горошины, затем – атома и т. д. Очевидно, что плотность материи станет при этом бесконечно высокой, а пространство вокруг нее окажется бесконечно искривленным. Время остановится, так как сингулярность достигается при t = 0 (начало времени). Но ни одна физическая теория не может безнаказанно оперировать бесконечными величинами. Значит, что-то должно быть не так.
Когда математики сталкиваются с сингулярностью (например, при делении любого числа на ноль), они, так сказать, изучают ее границы, чтобы найти выход из нее. К примеру, вместо деления на ноль можно использовать деление на бесконечно малое число. Возможно, существует путь, при котором можно избежать сингулярности, но все равно попасть в нужную точку (то есть обойти ее, как вы объезжаете яму на дороге). В физике наличие сингулярности – это серьезный звоночек, показывающий, что теория, которую вы используете, скорее всего, неверна. В ней чего-то не хватает, и это что-то обычно включает в себя новую физику. Например, использование законов Ньютона для объяснения того, как ведут себя тела на скоростях, близких к световым, ведет к появлению ошибок – неверных теней на стене платоновской пещеры. Сегодня мы знаем, что для получения ответов нужно применять специальную теорию относительности Эйнштейна. То же касается и сильной гравитации: ньютоновские законы хороши для описания достаточно слабого гравитационного притяжения, но требуют корректирования рядом с массивными объектами (например, Солнцем).
Ни одна теория не является полной или окончательной. Новые значения требуют новых формул, а те, в свою очередь, – новых экспериментальных подтверждений, зависящих от доступных технологий. В поисках предсказанных эффектов для тестирования своих теорий ученые частенько сталкиваются с чем-то неожиданным, толкающим их назад к расчетам и, вполне возможно, к новым знаниям. Большинство физиков, участвовавших в поисках бозона Хиггса и работавших на Большом адронном коллайдере в Швейцарии, с гораздо большей радостью обнаружили бы частицу, не соответствующую предсказаниям Стандартной модели физики частиц. Неожиданности ведут к изменениям.
Космическая сингулярность указывает на необходимость в новой физике, выходящей за пределы, которые устанавливает общая теория относительности Эйнштейна. Поскольку в самом начале времен расстояния были крайне небольшими, такая новая физика должна объяснить, как пространство, время и материя действуют на коротких дистанциях. Физика макромира сталкивается с микромиром. Мы вступаем в царство «квантовой гравитации», в котором общая теория относительности сочетается с квантовой физикой (физикой атомов и субатомных компонентов). Происходит невероятный скачок – исследования Вселенной и ее истории приводят нас к мельчайшим единицам материи. Насколько нам известно сегодня, макро – и микромир накрепко связаны между собой. Ученые не смогут понять происхождение Вселенной до тех пор, пока не узнают, как квантовая физика влияет на геометрию пространства-времени. Но перед тем, как мы перейдем к этому вопросу, давайте рассмотрим некоторые из фундаментальных последствий влияния современной космологии на границы наших знаний. Начнем с конечности скорости света и понятия «сейчас».
Глава 10. Нет никакого «сейчас» из которой мы узнаем, что понятие «сейчас» – это ошибка восприятия
Что происходит, когда мы что-то видим? К примеру, вот эту книгу, которую вы сейчас читаете. Оставим в стороне весь процесс обработки визуальной информации мозгом и сфокусируемся на времени ее передачи. Для еще большего упрощения мы будем рассматривать лишь классическое распространение света без учета того, как он поглощается и излучается атомами. В вашей комнате светло, потому что у вас открыто окно, или включена лампа, или и то и другое. Так или иначе, поток света попадает на поверхность книги, частично поглощается ею, а частично отражается в различных направлениях. Бумага и чернила, с помощью которых на ней напечатан текст, поглощают и излучают свет по-разному, и эти различия воплощаются в отраженном свете. Затем часть этого отраженного света попадает от книги в ваши глаза, и благодаря невероятной способности мозга декодировать сенсорную информацию вы видите слова на странице.
Вам кажется, что весь этот процесс происходит в одно мгновение. Вы можете сказать: «Я читаю это слово прямо сейчас». Но в реальности это не так. Поскольку свет движется с конечной скоростью, ему требуется время для того, чтобы отразиться от страницы вам в глаза. Когда вы читаете слово, на самом деле вы видите, как оно выглядело в определенный момент в прошлом. Если быть точным, то, при условии, что вы держите книгу в одном футе от лица, время движения света от нее до ваших глаз составит одну наносекунду, или одну миллиардную долю секунды.[56] То же самое происходит с каждым предметом, который вы видите, и с каждым человеком, с которым ведете разговор. Оглядитесь вокруг. Вам кажется, что вы видите все предметы одновременно («сейчас»), вне зависимости от расстояний, на которых они находятся. Но в реальности это не так, потому что отражающемуся от них свету требуется разное время, чтобы достигнуть ваших глаз. Мозг интегрирует различные источники визуальной информации, и, так как различия во времени движения света гораздо меньше, чем может различить ваш глаз и обработать ваш мозг, вы не видите разницы. Настоящее, то есть совокупность всей входящей информации от органов чувств, которую мы получаем в данный момент, – это всего лишь убедительная иллюзия.
Как бы быстро нервные импульсы ни двигались по волокнам нервной ткани, их скорость все равно меньше скорости света. Средняя скорость нервного импульса составляет 60 футов в секунду, хотя это значение может варьироваться в зависимости от человека и типа нерва. Итак, нервный импульс проходит один фут за 16 миллисекунд (тысячных долей секунды). Для сравнения, свет за это время покрывает дистанцию 2980 миль – это примерно как от Нью-Йорка до Сан-Диего.
Давайте проведем мысленный эксперимент, иллюстрирующий влияние этих временных различий. Представьте себе, что у нас есть два источника света, которые одновременно включаются каждую секунду. Один из них установлен в 10 ярдах от наблюдателя, а другой постепенно удаляется от него по прямой. Теперь представьте, как они медленно расходятся в пространстве, все еще включаясь одновременно каждую секунду. Наблюдатель начнет замечать разницу во времени включения, когда расстояние между ними превысит 2980 миль. Поскольку наше зрение не позволяет нам видеть так далеко, наше восприятие одновременности кажется нам очень надежным даже для больших расстояний. Для того чтобы проверить эту теорию, можно провести альтернативный и более реалистичный опыт – настроить источники света так, чтобы они включались с небольшой задержкой во времени, и проверить, когда наблюдатель заметит разницу. Если мои расчеты верны, это произойдет, когда временной интервал превысит 20 миллисекунд. Данный промежуток времени – граница человеческого восприятия одновременности визуальных явлений.
Все эти аргументы приводят нас к поразительному выводу: настоящее существует, потому что наш мозг размывает реальность. Иными словами, гипотетический мозг, обладающий способностью к невероятно быстрому визуальному восприятию, заметил бы, что два источника света не синхронизированы, гораздо раньше. Для такого мозга слово «сейчас» означало бы куда меньший промежуток времени, чем для нас. Итак, помимо описанной Эйнштейном относительности одновременности для одного или нескольких движущихся наблюдателей существует еще и относительность одновременности на когнитивном уровне, возникающая в результате субъективного восприятия одновременности (момента «сейчас») человеком или, если говорить в общем, любым мозгом или аппаратом, способным распознавать свет.[57]
Каждый человек – это остров восприятия. Глядя на океан, мы видим горизонт – линию, разделяющую небо и воду, дальше которой наш взгляд проникнуть не в силах. Точно так же наши горизонты восприятия представляют собой все явления, которые наш мозг считает происходящими одновременно, даже если на самом деле это не так. Горизонт восприятия очерчивает границы нашего настоящего. Для того чтобы описать область настоящего, я использую скорость света, самую высокую скорость в Природе. Если бы мы ориентировались по скорости звука, которая составляет всего 1126 футов в секунду в сухом воздухе при температуре 68 градусов по Фаренгейту, наша область настоящего была бы куда меньше. Вспомните, как две молнии, ударяющие на разном расстоянии от вас, выглядят одинаково, но звучат по-разному.
Резюмируя: скорость света велика, но конечна, поэтому для того, чтобы попасть к нам в мозг, информации от любого объекта требуется время, пускай и совсем незначительное. Мы никогда не видим вещи такими, какими они являются прямо сейчас. Мозгу требуется время для обработки информации, поэтому он не разделяет (и не может расставить в хронологической последовательности) два события, происходящие с небольшой временной задержкой. Если мы видим несколько событий, происходящих прямо сейчас, это всего лишь иллюзия, вызванная нашим размытым восприятием. Не существует двух людей с одинаковым мозгом, поэтому каждый из нас имеет собственный лимит восприятия времени и собственную область настоящего. Любой мозг, будь он биологическим или механическим (например, светочувствительный детектор), обрабатывает информацию с разной скоростью и по-своему видит настоящее. Соответственно, наши восприятия реальности различаются. На основании недавних нейрокогнитивных экспериментов можно предположить, что среднее значение человеческого восприятия времени составляет порядка 10 миллисекунд. Расстояние, которое за это время проходит свет (несколько тысяч миль), составляет примерный радиус области настоящего для каждого человека.
«Сейчас» – это не только когнитивная иллюзия, но и математический трюк, связанный с тем, что мы определяем пространство и время с помощью количественных характеристик. Соответственно, восприятие настоящего как прослойки между прошлым и будущим, – это не что иное, как удобная ложь. Если настоящее представляет собой период времени, не имеющий длительности, оно не может существовать. Реальны лишь память о недавнем прошлом и ожидания от ближайшего будущего. Мы связываем прошлое и будущее с помощью концептуального понятия настоящего, или «сейчас». Но на самом деле все, чем мы располагаем, – это накопленная память о прошлом (хранящаяся в биологических системах или на различных устройствах) и ожидания от будущего.
Понятие времени неразрывно связано с изменениями, а течение времени – это всего лишь инструмент для их отслеживания. Когда мы видим, как что-то движется в пространстве, мы можем наблюдать изменение его положения с течением времени. Допустим, перед нами мяч. Двигаясь, он описывает в пространстве кривую, то есть воображаемую последовательность точек между стартовым положением А и финишным положением В. Мы можем определить, в какой точке между А и В находится мяч, расположив все его передвижения в хронологическом порядке; ноль секунд – мяч отрывается от ноги футболиста, то есть покидает точку А, одна секунда – мяч попадает в верхний левый угол ворот, то есть в точку В. Кривая между А и В показывает положение мяча в промежуточные периоды времени между нулем и одной секундой. Однако мяч никогда не занимает одну-единственную точку в пространстве, а время невозможно измерить с абсолютной точностью (самые точные часы имеют погрешность в одну миллиардную секунды, а время в них измеряется на основании перехода электронов в атомах). Рассуждая математически, мы отбрасываем все эти уточнения и рассчитываем, как позиция мяча изменяется в каждый момент времени, в который нам известно его положение. Разумеется, это всего лишь приближение, пускай и очень хорошее.
Мы представляем время в виде последовательности единиц, каждая из которых имеет порядковый номер. В нашем примере с футбольным мячом время охватывает промежуток с нуля до одной секунды. Но сколько единиц времени умещается между ними? С математической точки зрения их количество бесконечно, как и количество чисел между нулем и единицей. Любой временной интервал делится на более мелкие: десятые, сотые, тысячные доли секунды и т. д. Но даже самые точные часы имеют погрешность. Пусть мы представляем себе время последовательно, но измеряется оно в дискретных единицах. Соответственно, понятие «сейчас», временной интервал, не имеющий длительности, – это всего лишь математическая условность, не имеющая никакого отношения к реальности временных измерений и тем более нашего восприятия времени. Я еще вернусь к этой теме и к тому, почему она важна для нашего представления о реальности, когда мы перейдем к теме квантовой физики – области знаний, в которой нет ничего непрерывного.
Глава 11. Космическая слепота в которой мы рассмотрим концепцию космических горизонтов и выясним, как они ограничивают наши знания о Вселенной
По мере приближения к современной космологии становится все интереснее и интереснее. Сочетание Вселенной, имеющей ограниченный возраст (ведь время возникло в момент Большого взрыва), и конечности скорости света создает непреодолимый барьер для нашего познания космоса. Данный барьер совершенно не похож на те, которые мы видели до этого, потому что он не зависит от точности наших измерительных приборов, то есть от нашей «близорукости» в отношении реальности. Это абсолютная граница возможных знаний о физическом мире, о которой даже не подозревали Галилей, Коперник и Ньютон. Пространство Вселенной может быть бесконечным, но мы никогда не узнаем этого наверняка. Мы живем в информационном пузыре, как рыбки в аквариуме. За этим пузырем тоже что-то есть, мы можем делать выводы об этом, исходя из тех неясных образов, что мы видим через его стенки, но нам никогда не узнать наверняка, что за ними скрывается. Три века назад де Фонтенель уже понимал, что агония и экстаз научного и философского познания проистекают из желания знать больше, чем мы можем увидеть. Мы тянемся к границе познания, рискуя разбить себе голову о стекло. Так же как и наши предшественники, мы мечтаем освободиться от ограничений и коснуться неведомого. Но теперь это невозможно. То, что находится за установленными границами, останется неизвестным.
Теории относительности Эйнштейна устанавливают довольно жесткие ограничения для тех, кто мечтает путешествовать во времени в прошлое. Специальная теория прямо заявляет, что это невозможно, так как по мере достижения скорости света масса объекта бесконечно возрастает. Однажды, во время традиционного метафизического спора по дороге в школу, мой шестилетний сын Луциан гордо заявил мне: «Папа, только одна штука может двигаться со скоростью света. Это свет!» Что ж, это верно. И ему это удается потому, что у света нет массы. Любая частица материи, даже находящаяся в состоянии покоя, будет иметь энергию, равную ее массе (m), умноженной на квадрат скорости света (с2), что и показал Эйнштейн в своей знаменитой формуле Е = mc2. Но, в отличие от материи, свет никогда не бывает в состоянии покоя. Его энергия зависит от частоты (f), что выражается в до смешного простой формуле E = hf, где h – это постоянная Планка, крошечная природная константа, задающая тон всему квантовому миру. Чем выше частота света, тем больше его энергия. Формула E = hf не описывает поведение света, который мы видим вокруг себя и который представляет собой постоянно отражающиеся от объектов волны. Эта формула скрывает одну из величайших загадок современной науки.
Для того чтобы создать свою формулу энергии света, Эйнштейн предложил теорию, которую он сам считал своей самой революционной идеей. Он заявил, что свет можно одновременно интерпретировать и как волну (как считали большинство ученых в XIX веке), и как частицу. Частицы света называются фотонами, а формула E = hf описывает энергию одного фотона. Потоки света содержат множество фотонов, и их энергия всегда кратна энергии одного – hf. В данном случае можно провести аналогию с деньгами. Сумму любой финансовой сделки, от пары долларов до миллиардов, можно выразить в центах. Разумеется, при больших объемах теряется «квантовость» сделки, то есть ее центовое выражение. Но как каждый цент – это деньги, так и каждый фотон – это свет.[58]
На практике в одном световом потоке могут находиться фотоны с разной длиной волны. К примеру, солнечный свет состоит из всех видимых цветов, от красного до фиолетового, а каждый цвет имеет свою длину волны и свои фотоны. Если продолжить нашу финансовую аналогию, солнечный свет – это клиент, который приходит в обменный пункт с множеством разных валют (цветов спектра), и при этом каждая из них имеет свой вариант цента (фотон с энергией, равной hf).
Большая часть информации о Вселенной поступает к нам в форме электромагнитного излучения. В качестве примера можно привести оптическую астрономию – благородную традиционную технологию, предполагающую сбор фотонов видимого света невооруженным глазом или с помощью телескопа. Сегодня астрономы рассматривают небеса почти во всем электромагнитном спектре, от радио – до гамма-волн. Однако на какой тип света мы бы ни смотрели, его скорость все так же ограничена.[59] Когда вы читаете эту книгу, вы видите страницу такой, какой она была одну миллиардную долю секунды назад. Луна представляется нам такой, какой она была 1,282 секунды назад, так как расстояние от нее до Земли составляет 1,282 световой секунды. Солнце выглядит в наших глазах таким, каким оно было 8,3 минуты назад, ведь расстояние до него – 8,3 световой минуты. Прямо сейчас Солнце может взорваться, и вы еще восемь минут не узнаете об этом.
Путешествуя по Солнечной системе дальше, мы сталкиваемся с трудностью. Планеты движутся вокруг Солнца с разной скоростью, а значит, расстояния между ними и Землей могут значительно изменяться в зависимости от соотношения орбит. Например, расстояние между Землей и Марсом варьируется от 4,15 световой минуты (при максимальном приближении и расположении с одной стороны Солнца) до 20,8 световой минуты (максимальное удаление и Солнце посередине). Если вы не работаете на НАСА и не проектируете полеты космических кораблей, проще всего измерять расстояния в Солнечной системе дистанциями между планетами и Солнцем. Марс находится от него примерно в 12 световых минутах, а Нептун – в 4,16 светового часа. Внезапно восьмиминутная задержка света между Солнцем и Землей кажется просто мелкой погрешностью по сравнению с расстояниями на краю нашей системы. Самым дальним из известных объектов в Солнечной системе является облако Оорта – скопление ледяных шаров, опоясывающее Солнце и планеты на расстоянии один световой год. Именно там находятся остатки газового облака, которое сжалось 4,6 миллиарда лет назад и сформировало Солнце, планеты и их луны.
Все небесные тела внутри этого пузыря диаметром два световых года, включая и нашу планету, имеют общее происхождение. Удаляясь от Солнца, мы попадаем на незнакомую территорию, полную чужих звезд со своими планетами. Их тоже объединяет общее происхождение и история. Эти звездные системы можно сравнить с семьями, где дети имеют одних и тех же родителей (первичное газовое облако), а затем вырастают и идут в жизни своими путями. Ближайшая к Солнцу звездная система находится в созвездии Центавра, которое было известно еще Птолемею во II веке н. э. Это значит, что его можно увидеть на южном небе невооруженным глазом и попытаться разглядеть в нем полуконя-получеловека. В созвездии Центавра находятся ближайшие к Солнцу звезды – тройная звезда под названием альфа Центавра расположена от нашего светила в 4,4 светового года, то есть в 26 триллионах миль. Из трех звезд, составляющих альфу Центавра, ближайшая к нам – это Проксима, свет от Солнца до которой идет 4,24 светового года. Итак, когда мы смотрим на альфу Центавра (и ошибочно считаем, что перед нами одна звезда), мы получаем информацию более чем четырехлетней давности. В этот момент звезд вообще уже может не быть на своих местах. Мы можем лишь предполагать, что они никуда не исчезли, потому что мы знаем, к какому типу они принадлежат и на каком этапе развития находятся. Но прямых доказательств у нас нет и никогда не будет. Ночное небо – это коллекция историй из прошлого.
В Южном полушарии созвездие Центавра с трех сторон граничит со знаменитым Южным Крестом. Я родился в Бразилии, так что для меня на небе нет более важного знака (второе место занимает Орион). Южный Крест находится на нашем флаге (а еще на флаге Австралии, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи и Самоа), символизируя нашу преданность небу и верность нашим звездным корням. Несомненно, Южный Крест подкреплял веру набожных и жадных миссионеров, прибывших в Южную Америку в начале XVI века. Они были убеждены, что крест в небе – это знак Бога, подарившего им эту полную красоты и богатств землю обетованную. Именно поэтому они посчитали себя вправе разграбить ее.
Если мысленно соединить две вертикально расположенные звезды Южного Креста, а затем продолжить линию вниз, она практически точно укажет на Южный полюс мира. Я уже достаточно долго прожил в северных широтах, но каждый раз, возвращаясь в Бразилию, ищу в небе Южный Крест. Только после этого я чувствую, что действительно вернулся к небесам, под которыми находится мой дом. Очень странно думать о том, что звезды, из которых состоит Южный Крест, находятся от нас на разных расстояниях в сотни световых лет. Изображение креста – это всего лишь иллюзия, спроецированная на небесный свод.
Если вы верите в инопланетян и мечтаете о космических путешествиях, я бы хотел вас отрезвить. Даже если бы мы отправили к альфе Центавра свой самый быстрый космический корабль и он сумел бы развить скорость 30 тысяч миль в час, он все равно долетел бы до места назначения только через сотню тысяч лет. Даже если бы нам удалось разработать новую технологию, способную переносить нас в пространстве со скоростью, равной одной десятой скорости света, перелет все равно занял бы 44 года. Так что до тех пор, пока мы не организуем массовую звездную миграцию с участием нескольких поколений или не придумаем совершенно новый способ космических путешествий, новые звездные системы – даже наши ближайшие соседи – нам не светят.
Диаметр нашей Галактики, Млечного Пути, составляет 100 тысяч световых лет. Если зажечь на одном ее краю фонарик, столько времени потребуется фотонам, чтобы достигнуть противоположного края. Иными словами, когда мы изучаем звезды на границе нашей Галактики, мы видим их такими, какими они на самом деле были во времена зарождения нашего вида Homo sapiens sapiens. Если перевести взгляд на галактику Андромеды, то мы увидим свет, испущенный звездами еще в то время, когда первые Homo только расселялись по Африке.
Когда астрономы наблюдают за звездами, они заглядывают в прошлое и собирают свет, зажегшийся миллионы, если не миллиарды лет назад. Это верно и для модели расширяющейся Вселенной, хотя в данном случае все немного сложнее. Если Вселенная статична, то мы видим ее компоненты такими, какие они есть на самом деле. Когда нам известно расстояние до объекта, мы можем рассчитать, насколько давно этот объект испустил свет. Для этого нужно просто разделить расстояние на скорость света. Но расширение Вселенной заставляет галактики и другие источники света двигаться, поэтому излучаемый ими свет может проходить за одно и то же время большие расстояния, чем в статическом космосе. Представьте себе пловца в реке. Если он движется по течению, то за тот же промежуток времени покроет большее расстояние, чем если бы он плавал в бассейне. В расширяющейся Вселенной свет от объекта, находящегося на расстоянии 2,6 миллиарда световых лет от нас, был испущен им 2,4 миллиарда лет назад. Чем дальше разбегаются наблюдаемые объекты, тем больше становится это несоответствие. В тот момент, когда я пишу эти строки, самый дальний из известных космических объектов находится на расстоянии 32,1 миллиарда световых лет от Земли. Свет покинул его 13,2 миллиарда лет назад и прошел в 2,5 раза большее расстояние, чем сумел бы покрыть, если бы Вселенная была статичной. Учитывая, что возраст Вселенной составляет около 13,8 миллиарда лет, свет от этого объекта покинул свой источник всего через 600 лет после Большого взрыва и шел к нам в течение почти всей истории космоса.
Я уверен, что читатели уже поняли, к чему я клоню. В какой-то момент мы упремся в заграждение, в стенку аквариума, в барьер, который мы не сумеем преодолеть. Теоретически таким барьером является сингулярность, точка начала времени. Практически же, по крайней мере в ходе сбора информации от электромагнитного излучения, мы натыкаемся на стену немного раньше. Примерно через 400 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная пережила существенную трансформацию. Чтобы понять почему, представьте себе раннюю Вселенную как бульон, в котором плавают и постоянно сталкиваются между собой элементарные частицы: фотоны, протоны, электроны, нейтроны и легкие атомные ядра.[60] Чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем горячее космос и тем активнее эти частицы взаимодействуют между собой. Если же мы продвинемся во времени вперед, мы убедимся, что Вселенная остывает – по мере ее расширения частицы теряют энергию. Благодаря этому остыванию и потере энергии происходит то, что раньше было невозможно. Электрон и протон соединяются и образуют атом водорода. До этого момента фотоны наполнявшего космос излучения были такими активными, что при любой попытке протона и электрона объединиться сталкивались с ними и мешали формированию прочной связи. Получался эдакий космический любовный треугольник, который распался лишь тогда, когда страсть фотонов угасла и они позволили протонам и электронам соединиться. Так родился самый простой из атомов, а фотоны, освободившись от любовных драм, смогли беспрепятственно продолжить движение по космосу. Этот процесс называется рекомбинацией и обозначает переход от темной к прозрачной Вселенной.[61]
До рекомбинации фотоны были так заняты в своем любовном треугольнике с протонами и электронами, что не могли свободно перемещаться. А если фотон не двигается, мы не можем его заметить. Ранняя Вселенная была непроницаема для электромагнитного излучения любого типа, поэтому пытаться понять, что происходило до рекомбинации, – словно смотреть сквозь густой туман. Однако вскоре после рекомбинации они получили свободу передвижения – в физике этот процесс называется расщеплением материи и излучения. Эти расщепленные фотоны, несущиеся сквозь космос, известны как реликтовое излучение – затухающий свет тех времен, когда формировались первые атомы. В ходе рекомбинации температура излучения составляла около 4000 градусов по Кельвину, или 7200 по Фаренгейту. Вселенная сияла, как флюоресцентная лампа. Вот уж воистину «да будет свет»! После 13,8 миллиарда лет расширения реликтовые фотоны остыли до 2,75 градуса по Кельвину (–454,7 по Фаренгейту). Космос утратил очарование юности, и теперь его глубины погружены в холод и мрак.
Итак, мы видим, как в космологии появляется концепция горизонта. Когда мы стоим на берегу моря, горизонт обозначает границы видимого пространства, но при этом мы знаем, что море продолжается и за ним. Тот же принцип работает и для Вселенной. Существует самая дальняя точка, свет от которой шел к нам 13,8 миллиарда лет, то есть в течение всей жизни Вселенной. Даже если космос продолжается за данной точкой, мы не можем получать сигналов из-за этой стены. Релятивистская космология показывает нам новую границу наших знаний о мире. Физическая Вселенная – это все тот же Остров знаний.
Вероятность развить на обычном космическом корабле скорость, превышающую скорость света, крайне мала. У нас нет оснований полагать, что специальная теория относительности может ошибаться в этом отношении. С другой стороны, как я пытаюсь показать этой книгой, никогда нельзя знать наверняка. Вполне возможно, что наше текущее представление о причинно-следственных связях и хронологии, основанное на скорости света, не является последним словом по данному вопросу. Мы должны строить свои рассуждения на имеющихся у нас научных знаниях, но быть открытыми для неожиданностей. Вера в то, что научное знание неизменно, – это ошибка, которую мы ни в коем случае не должны совершать. Как уже должен был понять читатель из нашего краткого обзора истории астрономических знаний, ни одна научная конструкция не является непоколебимой. Изменения – это единственный путь вперед.
Все, что мы знаем (и можем узнать) о Вселенной, основывается на информации из нашего космического пузыря, царства причинно-следственных связей, ограниченного скоростью света и историей нашей расширяющейся Вселенной. По иронии судьбы над нами все же нависает небесный свод, пускай он ограничивает не пространство, как полагали Аристотель, Коперник или Эйнштейн, но время. Мы не можем увидеть того, что находится за космическим горизонтом, если только нам не будет отправлен оттуда сигнал. Возможно, там происходят совершенно сумасшедшие вещи, например, прямо сейчас розовые слоноподобные дроиды пляшут там самбу на планете Мамба. Но мы этого никогда не узнаем и не сможем узнать.
Сегодня нашим самым ценным источником информации о ранней Вселенной является реликтовое излучение – фотоны, оставшиеся после рекомбинации. Данные спутниковых миссий, таких как Cosmic Microwave Background, Explorer, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe и недавно запущенной космической обсерватории «Планк», совмещенные с информацией, полученной в результате десятков наземных наблюдений, помогли астрономам составить подробную карту раннего космоса. Тот факт, что результаты некоторых измерений реликтового излучения были независимо подтверждены разными телескопическими исследованиями, показывает, что современная космология является серьезной наукой, основанной на фактах и ушедшей далеко вперед от своих первых дней, наполненных исключительно рассуждениями. Гравитационные толчки и пертурбации, которые переживала материя в начале существования космоса, отражены в едва заметных температурных колебаниях фотонов реликтового излучения и потрясающим образом помогают нам понять, как галактики распределяются по небу сегодня.
Что же говорят нам последние измерения космоса? Во-первых, они указывают на то, что космическая геометрия плоская – что-то вроде трехмерной версии столешницы (которая имеет лишь два измерения). Если свет не проходит рядом с массивной звездой или галактикой, он движется по прямой в заданном направлении. Плоскость – это один из трех возможных вариантов. Еще один из них описывает замкнутую геометрию, вроде поверхности сферы, двигаясь по которой в одном и том же направлении можно оказаться в точке старта (не пытайтесь представить себе это в трех измерениях). Наконец, третий вариант – это открытая геометрия, которую можно (весьма приблизительно) описать с помощью такого двухмерного аналога, как кусочек чипсов Pringles, загибающийся одновременно в двух направлениях. Иногда в качестве примера используют седло, которое опускается вниз под ногами всадника, но поднимается вверх на спине у лошади.
Космическая геометрия, форма космоса в самом что ни на есть вселенском масштабе зависит от всего, что существует во Вселенной, и от взаимоотношений между этими объектами или явлениями. За контроль над космосом борются две противоположные тенденции: расширение (за счет того, что в самом начале горячая материя и излучение были сжаты до небольшого объема) и сжатие (за счет действия сил притяжения). Победитель определит судьбу Вселенной: она может либо вечно расширяться, либо, если в ней окажется достаточно материи, начать сокращаться. Большой взрыв вполне может обернуться Большим схлопыванием.
Эти две тенденции определяют геометрию космоса с тех пор, как Эйнштейн показал нам влияние на нее материи. Вселенная с невысокой плотностью материи, в которой силы притяжения недостаточно сильны, будет расширяться вечно и иметь открытую геометрию. Критическое количество энергии в объеме, необходимом для остановки расширения, иногда называют критической плотностью. Она равняется всего 5 атомам водорода на кубический метр пространства. Согласно нашим измерениям, обычная атомная материя составляет лишь 4,8 % от этого количества (то есть 0,2 атома на кубический метр).[62]
Однако, помимо обычной атомной материи, существует другой тип материи, состав которой нам до сих пор неизвестен. Это так называемая темная материя. Почему темная? Потому, что она не излучает свет, то есть не испускает никакого электромагнитного излучения. Мы знаем, что она существует, потому что она заставляет галактики вращаться быстрее. Астрономы также могут измерить то, как темная материя, собираясь вокруг галактик в своеобразную темную вуаль, искажает пространство. Это довольно интересное зрелище. Для того чтобы увидеть его, астрономы обращают внимание на свет, исходящий от очень далеких объектов и проходящий мимо ближайших галактик. Точно так же, как и Солнце, галактики заставляют свет изгибаться. Этот эффект называется гравитационным линзированием, потому что свет при нем искривляется так же, как при попадании в обычную линзу. Если сложить все данные наблюдений и прибавить к ним информацию о реликтовом излучении, окажется, что количество темной материи во Вселенной в шесть раз превышает объем обычной. Соответственно, темная материя добавляет к плотности космоса еще 25,9 % критического значения. Природа темной материи, то есть ее состав, является одной из главных загадок современной космологии и физики частиц. Однако ее мы, вероятно, сможем разгадать, когда у нас появятся более совершенные приборы. Этим она отличается от космического горизонта – предела, за который мы не можем выйти.
Сегодня основными кандидатами на включение в состав темной материи являются частицы, существование которых предсказывают суперсимметричные теории, продолжающие современную физику частиц и вводящие новое понятие природной симметрии. Приставка «супер» в названии суперсимметричных теорий происходит из теории суперструн, которая должна объединить общую теорию относительности с квантовой механикой. По состоянию на зиму 2014 года доказательств суперсимметрии так и не было обнаружено, несмотря на многолетние исследования и активную поддержку многих физиков. Реализована ли суперсимметрия в Природе, на сегодняшний день неясно (и немного сомнительно).
Еще один способ объяснить существование темной материи – это не вводить новую частицу, а постулировать ошибку в общей теории относительности Эйнштейна. Теория заявляет, что изменения в поведении сил гравитации возникают лишь на огромных галактических расстояниях. Тем не менее и в этом случае у нас не имеется доказательств того, что такое объяснение будет работать и соответствовать астрофизическим наблюдениям. Загадочная природа темной материи – это еще одна яркая иллюстрация того, что существуют важные вопросы (вроде существования неизвестного компонента в материальном составе Вселенной), на которые мы не можем ответить из-за ограниченной точности и дальности наших приборов. Мы знаем, что вокруг галактик что-то скапливается, но не можем понять, что именно.
Если сложить вместе общую массу (и энергию) атомной материи, темной материи и излучения (которое не привносит в это уравнение почти ничего), плотность Вселенной с ее открытой геометрией составит всего 30 % от критической. Но это еще не вся история. Если во Вселенной существует космологическая постоянная или что-то подобное, она заставляет космос растягиваться. Вспомните, что Эйнштейн ввел ее, чтобы сделать свою закрытую Вселенную статичной, а затем отказался от этой идеи, узнав об открытии Хабблом закона расширения космоса. Удивительно, однако данные, полученные двумя группами астрономов независимо друг от друга, указывают на то, что что-то похожее на космологическую постоянную не только существует, но и управляет материей в рамках нашего космического горизонта. Результаты измерений были опубликованы в 1998 году и поразили физическое и астрономическое сообщество. Поначалу никто не хотел им верить, но шло время, а данные проходили проверку за проверкой и выдерживали критику. Мощные новые инструменты снова открыли что-то, о чем мы и не подозревали, показав нам, каким странным местом на самом деле является космос. Все эта ситуация очень похожа на историю с темной материей: мы знаем, что там что-то есть, но не можем понять что.
В 2011 году трое лидеров исследовательских групп получили Нобелевскую премию по физике за открытие темной энергии, загадочного явления, действующего как космологическая постоянная и ответственного не только за растяжение пространства, но и за ускорение этого процесса. Что еще более важно, при подсчете доли темной энергии в общей плотности Вселенной получается почти 70 % критической плотности. Сопоставив различные собранные данные, можно прийти к потрясающему выводу: темная энергия не только весит больше всего остального в космосе, но и доводит плотность до критического значения. Это звучит слишком хитро, чтобы быть правдой. Итак, выходит, что плотность космоса практически достигла критического значения. Текущие измерения показывают соответствие общей плотности Вселенной этому значению с точностью до 0,5 %.
На первый взгляд, космос, в котором значение критической плотности достигнуто абсолютно точно, кажется результатом тонкой божественной настройки. Но если задуматься, вселенные, способные породить жизнь, должны соответствовать строгим критериям: их плотность не должна быть ни слишком низкой, иначе они будут расширяться слишком быстро и материя не успеет сгруппироваться в планеты и галактики, ни слишком высокой, иначе они схлопнутся еще до того, как в них появятся первые звезды. Вселенная, в которой может зародиться жизнь, должна быть достаточно старой, чтобы в ней сменилось несколько поколений звезд и чтобы они сумели произвести достаточно тяжелых химических элементов. Эти условия налагают ограничения на потенциальные значения плотности Вселенной и гипотетической космологической постоянной. Оптимальная для жизни Вселенная должна иметь как раз такое критическое значение плотности материи, как в нашем случае. Физик и писатель Пол Дэвис называет наш космос «Вселенной-Златовлаской». Действительно, считать нашу Вселенную идеально подходящей для жизни очень соблазнительно. Однако у меня имеется несколько другое объяснение этих космических совпадений, к которому я скоро вернусь.
Современные измерения настолько точны, что мы можем определить плотность материи и темной энергии с точностью более половины процента. Если в будущем не произойдет никаких потрясений вселенского масштаба и космическое доминирование темной материи не ослабнет, мы можем с уверенностью говорить, что живем в плоской Вселенной, обреченной на вечное расширение с постоянным ускорением. Но если Вселенная продолжит вести себя подобным образом, наших (очень далеких) потомков ждет мрачное будущее. Растягиваясь, пространство утащит за собой большую часть небесных светил, то есть почти все те галактики, которые мы сегодня можем рассмотреть в телескоп. Со временем скорость их разбегания превысит скорость света, и возникнет новый космический горизонт, свет из-за которого мы никогда не увидим.[63] В конце концов, в ночном небе останется лишь наше местное сверхскопление – большая группа галактик, включающая в себя Млечный Путь и Андромеду и связанная силами гравитации. Да и оно будет выглядеть непривычно для нашего глаза. Как уже говорилось выше, через несколько миллиардов лет Млечный Путь и Андромеда могут слиться в одну галактику. Через четыре миллиарда лет Солнце превратится в красный гигант и жизнь на Земле станет невозможна (на самом деле это произойдет гораздо раньше из-за нестабильных выбросов солнечной энергии). Если космологи из далекого будущего не будут иметь доступа к результатам прошлых измерений, их выводы о природе Вселенной будут совершенно отличными от наших. Не видя разбегающихся галактик, они не смогут прийти к заключениям о расширении Вселенной или о Большом взрыве. По иронии судьбы их космос окажется статичным – островок местного сверхскопления, окруженный темной пустотой. Остров знаний будет уменьшаться до тех пор, пока не исчезнет совсем. Через какое-то время редкие звезды, еще способные испускать свет, состарятся и погаснут. Космос погрузится во тьму, и кошмар, когда-то описанный лордом Байроном, станет явью:
Я видел сон… Не все в нем было сном. Погасло солнце светлое, и звезды Скиталися без цели, без лучей В пространстве вечном; льдистая земля Носилась слепо в воздухе безлунном. Час утра наставал и проходил, Но дня не приводил он за собою… И люди – в ужасе беды великой Забыли страсти прежние… Сердца В одну себялюбивую молитву О свете робко сжались – и застыли.[64]К счастью, по последним данным, эти мрачные перспективы ожидают нашу планету лишь в далеком будущем, вероятно через пару триллионов лет. Я рассказываю об этом не для того, чтобы напугать своих читателей, а чтобы дать им пищу для размышлений, ведь подобные прогнозы влияют на имеющуюся у нас сегодня картину космоса. Вселенная, которую мы изучаем, рассказывает нам лишь конечную историю, состоящую из информации, которая может к нам попасть (то есть не ограничена космическим горизонтом), и информации, которую мы можем собрать (доступную для наших технологий). Если несчастные космологи будущего станут основывать свои теории только на том, что они могут измерить, они получат неверную картину мира и никогда не узнают, что их мрачный космос имеет историю, длящуюся уже несколько триллионов лет. Их статический космос будет иллюзией, результатом существования космического горизонта, в рамках которого галактики не разбегаются. Из всей этой истории можно извлечь страшный урок: наши знания о космосе ограничиваются не только естественными лимитами и технологическими причинами. Собранная нами информация может быть обманчивой и приводить к возникновению у нас совершенно неправильного видения мира. Наши измерения не показывают нам всю картину целиком – возможно, всего лишь краешек.
Чтобы не впасть в научный нигилизм, мы должны наслаждаться тем, что мы можем узнать о мире, пускай уверенными можно быть лишь в немногом. Вместо громких заявлений вроде «Мы знаем истинную природу Вселенной» следует говорить: «Вот то, что мы можем заключить о природе Вселенной». Слово «истинный» бессмысленно, если мы так никогда и не узнаем, в чем состоит истина. Но мы все еще в состоянии делать потрясающие выводы, и это тоже ценно. Мы не должны останавливаться. Нужно продолжать стремиться дальше, к тому, что может лежать за нашим космическим горизонтом.
Глава 12. Конечные бесконечности в которой мы рассматриваем понятие бесконечности и его применение в космологии
– Что будет, если сложить две бесконечности? – спросил однажды мой сын Луциан.
– Бесконечность, – стоически ответил я.
– Но как это возможно, чтобы число плюс число равнялось этому же числу? – настаивал Луциан. – Я думал, так может делать только ноль.
Я ответил:
– На самом деле бесконечность – это не число. Это скорее идея.
Луциан закатил глаза и задумался:
– То есть бесконечность – это противоположность нуля, но при этом бесконечность плюс бесконечность равно бесконечность?
– Да.
– Папа, но это странно.
– Именно.
Бесконечность – это то, что не поддается исчислению, хотя математики часто используют термины «счетная и несчетная бесконечность». Да, бесконечности бывают разными. Например, все множество целых чисел (… –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3…) – это счетная бесконечность. Еще один пример – это совокупность рациональных чисел, то есть чисел, имеющих форму p / q (1/2, 3/4, 7/8 и т. д., кроме деления на ноль). Количество объектов в каждом множестве (также называемое его кардинальным числом) обозначают как алеф-0. Алеф – это первая буква еврейского алфавита, которая в каббалистической интерпретации обозначает союз неба и земли (). Значение алеф-0 бесконечно, но это не наибольшая из возможных бесконечностей. Совокупность действительных чисел, включающая в себя все рациональные и иррациональные числа (то есть числа, которые нельзя представить в качестве частей от целого, такие как √ 2, π, е), имеет кардинальное число алеф-1. Значение алеф-1, называемое континуумом, больше алеф-0 и может быть получено путем умножения алеф-0 на себя алеф-0 раз: . Немецкий математик Георг Кантор, создавший все эти концепции и разработавший теорию множеств, выдвинул гипотезу континуума: не существует множества с кардинальным числом, находящимся между алеф-0 и алеф-1. Однако недавние исследования показывают, что гипотеза континуума неразрешима, то есть ее нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Человеческое сознание создает различные бесконечности даже в упорядоченном пространстве абстрактной математики. Но к вопросу неразрешимости мы еще вернемся, а сейчас давайте перенесем понятия счетной и несчетной бесконечности в космос.
Бесконечен ли космос? Расширяется Вселенная в бесконечность или замыкается сама на себя, как поверхность воздушного шарика? Сможем ли мы когда-нибудь узнать ее форму? Существование космического горизонта и тот факт, что мы получаем информацию лишь из пространства, ограниченного скоростью света, устанавливают серьезные границы нашего познания. Когда космологи говорят, что Вселенная плоская, на самом деле они имеют в виду (или по крайней мере должны иметь в виду), что измеримая часть Вселенной является плоской или практически плоской с учетом погрешности измерений. Подобная плоскость космоса предполагает, что на самом деле Вселенная гораздо больше, чем мы можем измерить. Но с нашей позиции мы не в состоянии делать никаких заключений о том, что лежит за пределами нашего информационного пузыря, или об общей форме Вселенной.
Разумеется, мы можем и должны рассуждать о том, что находится за космическим горизонтом, и, возможно, такие рассуждения помогут нам что-то узнать. Иногда вернуться на берег Острова познания может быть полезным. Если вы не житель Древней Месопотамии, где верили, что горизонт является краем мира, то, глядя с берега на океан, вы легко предположите, что он продолжается и за горизонтом. Когда корабль выплывает из-за горизонта, вы не можете видеть его нижнюю часть, так как Земля круглая. Если вы видите на горизонте остров, вы можете отметить его положение относительно горизонта, а затем забраться на высокую гору и увидеть, что океан продолжается и за островом, а значит, не ограничивается горизонтом, который вы видели у подножия горы. Однако даже с вершины самого высокого пика невозможно осмотреть все океаны и континенты нашей планеты или увидеть, что она представляет собой шар, слегка приплюснутый у полюсов. Исторически наше видение планеты определялось тем, как далеко (или высоко) мы могли на ней продвинуться. Затем, объединив усилия математики и астрономии, ученые смогли сделать гигантский шаг вперед. Это подтверждается расчетами окружности Земли, произведенными Эратосфеном примерно в 200 году до н. э., а также наблюдениями за круглой тенью, которую Земля отбрасывает на Луну во время лунного затмения. Можно привести еще множество других примеров, но окончательное подтверждение того, что Земля круглая, мы получили лишь в 1521 году, когда завершилось кругосветное плаванье Фернана Магеллана и Себастьяна Элькано. Если математические расчеты и толкование теней на Луне еще могли вызывать у людей какие-то сомнения (пускай и неверные), то путь, пройденный кораблями Магеллана, был непреложной истиной. К сожалению, когда дело доходит до космического горизонта, кругосветное путешествие исключается.
В данном случае уместно привести двухмерную аналогию. Представьте себе поверхность очень большого шара. На этой поверхности существует галактика, и в ней живут разумные существа. Как и наша Вселенная, эта двухмерная конструкция когда-то пережила Большой взрыв. Так же как и у нас, у существ из этой Вселенной имеется космический горизонт – участок поверхности шара в форме диска. Если шар достаточно велик, а диск слишком мал, существа будут считать свою Вселенную бесконечной, а ее геометрию – плоской. (Если вы мне не верите, возьмите воздушный шарик и нарисуйте на нем круг. Поверхность внутри круга действительно будет казаться вам плоской.) Но этот вывод будет неверным. Да, поверхность видимого им диска действительно плоская, но поверхность всего шара, то есть их Вселенная, конечна. Смогут ли эти существа когда-нибудь узнать правду о форме своей Вселенной, если выход за границы диска им недоступен?
Можем ли мы определить форму Вселенной, если находимся на плоскости, ограниченной космическим горизонтом? Если наша Вселенная – это трехмерная сфера, нам не повезло. Судя по текущим данным, радиус кривизны этой сферы, скорее всего, настолько мал, что мы просто не сможем его измерить. Существует еще одно интересное, хотя и не совсем правдоподобное предположение. Наша Вселенная может иметь сложную форму, которую математики называют нетривиальной топологией. Топология – это направление в геометрии, которое изучает непрерывную деформацию пространств. «Непрерывное» в данном случае означает без разрывов, как, например, растягивание и сгибание куска резины. Такие трансформации называют геоморфизмами. К примеру, цельную сферу можно превратить в эллипсоид, в куб или в грушу – но не в кольцо. Кольцо же, в свою очередь, можно превратить в кружку с ручкой. Соответственно, сложная топология космоса может налагать свой отпечаток на наши измерения. Например, если топология подразумевает сложное соединение (то есть если в ней есть отверстия, как в пончике), свет от дальних объектов может определенным образом проявляться в фоновом излучении. В частности, если Вселенная действительно имеет форму кольца и его радиус невелик по сравнению с нашим космическим горизонтом, свет от дальних галактик может несколько раз описывать круг, создавая множественные одинаковые образы, похожие на отражения в зеркалах, стоящих параллельно друг другу. В принципе, такие отражения, или узоры, можно заметить и проанализировать.
Эта история показывает, как несовершенство наших измерительных приборов позволяет нам заниматься рассуждениями. До тех пор пока мы не удостоверимся, что радиус кривизны нашего космического диска точно равен нулю, у нас всегда останется место для фантазий о других топологиях, отличных от скучного плоского трехмерного космоса. Разумеется, существует вероятность, что однажды мы сумеем засечь зеркальные отражения, которые дадут нам основания предположить, что Вселенная имеет несколько иную форму. Гораздо интереснее будет, если мы так никогда их и не обнаружим. Будет ли это означать, что космос действительно плоский? Поскольку мы не в состоянии измерить что-либо с абсолютной точностью, то, даже если все текущие данные будут указывать на нулевое пространственное искривление в пределах нашего космического горизонта, мы все равно не сможем сказать этого наверняка. В отсутствие сведений о наличии искривления вопрос о форме космоса в принципе не имеет ответа. Сможем ли мы когда-нибудь найти его? Судя по всему, нет, если только у нас не появится новых фактов. Если бы Вселенная действительно имела форму сферы, как писал Эйнштейн, и если бы в далеком будущем эта сфера схлопнулась, наблюдатели этого последнего момента (если бы они существовали) смогли бы увидеть собственные затылки. Затем они бы исчезли, растворились в небытии, зная, что Вселенная все-таки была конечной, и затаив в сердцах (если у них были бы сердца) надежду на новый цикл существования, в котором их энергия нашла бы новый способ превращения в сложные материальные формы (возможно, даже такие, которые смогли бы, в свою очередь, задуматься о значении вечности).
Существует и еще одна надежда – что форма Вселенной будет однозначно определена с помощью фундаментальной теории, объединяющей в себе общую теорию относительности и квантовую механику. Одной из главных проблем современной физики является преодоление трудностей, возникающих при достижении сингулярности, будь то в начале времени, как при Большом взрыве, или в конце жизненного цикла звезды при формировании черной дыры. Мы пытаемся описать оба случая с помощью эйнштейновской общей теории относительности, но при этом прекрасно знаем, что она не работает для крайне малых расстояний и/или большой плотности материи. Что же нам делать? Единственный выход – это создать такую физическую теорию, которая успешно описывала бы микромир и одновременно была бы применима к сильным искривлениям пространства и объектам с высокой плотностью. Для этой цели идеально подходит квантовая теория, так как она устанавливает ограничение для небольших расстояний – горизонт, дальше которого мы не можем видеть микромир. Это ограничение возникает вследствие принципа неопределенности Гейзенберга.
Идея этого принципа, который мы рассмотрим более подробно во второй части книги, состоит в том, что наблюдатель, занимающийся измерением положения объекта с постоянно увеличивающейся точностью, в конце концов наткнется на стену, информация из-за которой будет ему недоступна. Иными словами, квантовая теория предполагает некоторую естественную расплывчатость материи, конечное минимальное значение, меньше которого не бывает. Объект может быть сколь угодно маленьким, но ниже этого значения его размер не опустится. В Природе не существует «точечных» частиц, так как любые материальные структуры в какой-то момент распадаются на квантовую неопределенность и заполняют некоторый объем. В каком-то смысле минимальный объем – это барьер между тем, что мы можем узнать о физической реальности, и тем, что навсегда останется скрытым от наших глаз. Более того, в квантовой физике сама попытка узнать больше, то есть выйти за границы, установленные неопределенностью, не имеет смысла. Предположение о том, что наши возможности познания Вселенной ограниченны, сводило Эйнштейна с ума.
Логично предположить, что этот же подход применим и к космосу, то есть что существует минимальное расстояние в пространстве, меньше которого быть не может. Если развить этот подход, окажется, что пространство не непрерывно, а размыто и что движение из одной точки в другую не может происходить напрямую. Если это так, то сингулярность в принципе невозможна, так как пространство нельзя сжать до нулевого объема. Этого взгляда придерживаются сторонники квантовой теории гравитации, такие как Абэй Аштекар, Ли Смолин, Мартин Божовальд и др. Они предполагают, что границы неопределенности, действующие в квантовой механике и применимые к свету и материальным объектам, можно распространить на пространство и время – концептуальные инструменты, которые мы используем для описания материальных объектов и их движения. Но обоснована ли такая экстраполяция?
Существует и противоположный подход, приверженцы которого утверждают, что нужно не «квантифицировать» космос, а, наоборот, избавиться от самого понятия точечных частиц. Идея проста: если мельчайшая из существующих частиц материи имеет некое пространственное продолжение, то такие частицы невозможно сжать до нулевого объема. Именно это и утверждает квантовая механика. Материальные объекты одновременно представлены как частицами, так и волнами, так как у них имеется пространственное продолжение. Основываясь на этом, теория струн утверждает, что мельчайшими объектами во Вселенной являются не электроны, не кварки, не другие частицы, о существовании которых мы знаем благодаря ускорителям вроде Большого адронного коллайдера, а одномерные линии энергии, которые могут пересекаться и переплетаться различными способами. Форма таких линий, а также тот факт, что они часто формируют закрытые петли, означают, что у этих объектов (струн) есть пространственное продолжение, а значит, их нельзя сжать до нулевого объема. Следовательно, если динамика ранней Вселенной основывалась на суперструнах, они не могли сформировать сингулярность.
Теорию суперструн часто называют теорией всего, имея в виду, что потенциально она предлагает единое объяснение для всех частиц материи (которые представляются как различные виды вибрации базовых струн) и для четырех сил Природы (также описываемых через переносящие их частицы, выраженные в форме вибраций). Я посвятил подробному разбору теории всего и стремлений к всеобщему объединению часть своей книги A Tear at the Edge of Creation и предлагаю всем, кого заинтересовала эта тема, прочесть ее. В ней я обращаю внимание на то, что само понятие окончательного ответа несовместимо с научным методом. Учитывая, что мы можем накапливать научные знания только с помощью измерения естественных процессов, мы по определению не можем быть уверены в том, что знаем о существовании всех сил Природы или частиц. В любой момент может появиться новая технология, которая откроет нам что-то неожиданное и заставит нас пересмотреть свои текущие представления. Представления о всеобъемлющей Божественной Вселенной – это всего лишь романтическая фантазия. В лучшем случае теория суперструн или те идеи, которые придут за ней, смогут объединить все наши знания о частицах и их взаимодействии на момент их возникновения. Но это ни в коем случае не будет последним словом по данному вопросу[65]. Вспомните о космологах далекого будущего, живущих в статичной и темной Вселенной, которую мы рассматривали пару страниц назад. Как бы выглядела их окончательная теория всего? Наверняка она казалась бы им очень убедительной, даже если с нашей точки зрения была бы абсолютно неправильной. Можем ли мы быть уверены, что мы хоть в чем-то лучше, что мы не упускаем из виду большую часть космической картины? Наука умеет обнаруживать то, что существует в пределах досягаемости, но то, чего она обнаружить не может, нельзя и полностью исключать. Это приводит нас к важнейшему вопросу: уникальна ли наша Вселенная? Или есть и другие, сосуществующие с ней в некой бесконечной множественной структуре? Если Мультивселенная реальна, как нам об этом узнать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться, что могло бы дать толчок к такому безудержному росту вселенных. Для этого мы рассмотрим нормальное и метастабильное состояние материи и поговорим о том, как они могли повлиять на космос в его первые годы жизни.
Глава 13. Вниз по склону в которой объясняется понятие энергии ложного вакуума, ее связь со знаменитым бозоном Хиггса и роль в ускорении космического расширения
Общая теория относительности Эйнштейна описывает гравитацию как искривление пространства по причине наличия материи и энергии. Мы не знаем, почему материя (или энергия) искривляет пространство, но можем рассчитать, как это происходит. Блестящая теория Эйнштейна – это очередной уровень описания. Разумеется, в этом описании Эйнштейн отходит от представлений Ньютона о гравитации как о действии на расстоянии, ведь искривленное пространство присутствует здесь и сейчас, а не является сторонним влиянием. Тем не менее причина этого искривления до сих пор неясна. Если бы Эйнштейна спросили, почему материя искривляет пространство, он наверняка ответил бы, что не знает. Его теория базируется на так называемом принципе эквивалентности, говорящем, что масса одинаково реагирует на гравитационное притяжение и на силу инерции. Пока ускорение остается неизменным, наблюдатель (который не может получать информацию извне) не будет в состоянии обнаружить его источник. Как говорил сам Эйнштейн, падающий наблюдатель не чувствует своего веса.[66] Принцип эквивалентности прочно удерживает свои позиции до сегодняшнего дня и проходит все многочисленные проверки.
Будучи самым лучшим описанием гравитации, доступным нам на сегодняшний день, теория Эйнштейна позволяет делать интересные предположения. Базируясь на подтвержденном наблюдениями предположении о том, что материя в больших объемах распределена гомогенно и изотропно (то есть одинаково во всех направлениях, как гласит космологический принцип), теория может делать количественные утверждения относительно геометрии космоса в целом. Для этого космологи представляют материю и излучение в виде гомогенного газа, обладающего энергетической плотностью (то есть массой и/или энергией на единицу объема) и давлением (силой, с которой газ давит на единицу площади, как делаете вы, когда надуваете воздушный шарик). В теории Эйнштейна и плотность, и давление газа влияют на искривление пространства и, соответственно, на динамику космоса.[67] Для обычной материи или излучения энергетическая плотность и давление имеют положительные значения в уравнениях, моделирующих развитие Вселенной. В результате мы получаем Вселенную, которая расширяется со временем, но в которой скорость расширения постепенно снижается. В зависимости от количества материи такая Вселенная может либо схлопнуться, либо продолжить расширение, но со скоростью, медленно приближающейся к нулевой в далеком будущем. Исключением является Вселенная с открытой геометрией, которая просто продолжит расширяться. Но нормальность материи и излучений – это совсем не обязательное явление в физике.
В общей теории относительности под влиянием давления на искривленное пространство-время могут происходить удивительные вещи: некоторые типы материи приобретают загадочные гравитационные свойства.
Для начала вот вам краткий экскурс на физическую кухню. Вода существует в трех состояниях: твердом (лед), жидком и газообразном (пар). Для того чтобы перевести ее из одного состояния в другое, необходимо изменить ее температуру. Чтобы жидкость превратилась в твердое тело, ее нужно поставить в холодильник с температурой ниже точки замерзания, то есть 32 градуса по Фаренгейту (или 0 по Цельсию). Жидкая вода внутри холодильника находится в неестественном состоянии, поэтому она трансформируется – выбрасывает энергию в окружающую среду и медленно превращается в лед. Можно сказать, что внутри холодильника жидкая вода попадает в метастабильное состояние – такое, при котором в ней содержится больше энергии, чем необходимо. Смена метастабильного состояния стабильным называется фазовым переходом.[68] Могут ли другие виды материи совершать фазовый переход? Конечно! Это происходит постоянно при соответствующей температуре (и/или давлении).
Тот же принцип применим и к физике частиц. Частицы материи также могут проходить через различные фазы, в рамках которых меняются их свойства. Например, мы с вами существуем в нормальной фазе материи, в которой электроны весят в две тысячи раз меньше, чем протоны. Материю в этой фазе можно сравнить с водой в состоянии льда. Однако при повышении энергии частицы начинают деформироваться и их массы постепенно уменьшаются до нуля. Представьте себе, что мы могли бы взять кусок такой материи в руки при текущем уровне энергии. Как и жидкая вода в холодильнике, этот кусок не имеющих массы электронов и протонов (или, еще лучше, кварков, составных элементов протонов) оказался бы в метастабильном состоянии. Оно не продлилось бы долго – материя быстро перешла бы в другую, более привычную нам фазу. Несмотря на то что современные ускорители пока не в состоянии создавать такие метастабильные частицы материи без массы, есть все основания полагать, что это будет возможно в будущем. Как когда-то изобретение холодильника, такие технологии требуют времени и фантазии (и еще денег, кучи денег).
Но есть одно место, в котором такой метастабильной материи имеется в избытке, – это ранняя Вселенная. Раньше космос был горячее, а уровни энергии – выше. В течение одной триллионной доли секунды после Большого взрыва температура и плотность Вселенной были достаточными для того, чтобы материя находилась в метастабильном состоянии.[69] И вот что удивительно: метастабильная материя имеет отрицательные значения в уравнениях, описывающих космическое расширение. А общая теория относительности утверждает, что отрицательное давление ускоряет расширение Вселенной, а не замедляет его. Именно эта энергия, скрытая в метастабильной материи, двигает нашу Вселенную вперед. Представьте себе груз, подвешенный на сжатой пружине. Если отпустить груз, накопленная энергия пружины толкнет его вперед. Отрицательное давление делает примерно то же самое с геометрией космоса. Итак, мы приходим к удивительному заключению: ранняя Вселенная могла переживать периоды ускоренного расширения, когда масса находилась в метастабильном состоянии. Этот эффект оказался настолько всеобъемлющим, что метастабильного состояния больше не требуется – космическое ускорение происходит всегда, когда материя не находится в своем нормальном состоянии, то есть при минимальном уровне энергии. В качестве аналогии можно привести мяч на наклонной плоскости. Он будет скатываться по ней до тех пор, пока не найдет стабильную точку, в которой сможет вернуться в состояние покоя. Соответственно, в любой точке на склоне мяч будет находиться в «смещенном» состоянии, а его энергия будет выше, чем у подножия склона. Точно так же и Вселенная, заполненная материей в смещенном состоянии, будет расширяться все быстрее и быстрее до тех пор, пока не «скатится» до минимального уровня энергии.
Внимательный читатель вспомнит, что мы уже обсуждали ускоренное расширение, когда говорили про космологическую постоянную. До тех пор пока материя остается в смещенном состоянии (то есть в любой точке на склоне), она имеет силу космологической постоянной. Основное различие состоит в том, что космическое ускорение, возникающее под влиянием космологической постоянной, имеет неизменное значение (потому-то она и называется постоянной), а для материи ускорение может уменьшаться и увеличиваться в зависимости от того, насколько она отклоняется от нормального состояния. Такое отклонение часто называют энергией ложного вакуума, но мы будем обозначать ее термином «смещенная энергия», так как это избыточная энергия, возникающая при смещении из нормального состояния.[70] Чем выше уровень смещенной энергии, тем быстрее происходит космическое ускорение.
Для полноты картины нам требуется еще один элемент: фактор, запускающий изменения в свойствах частиц и превращающий их из безмассовых при высоком уровне энергии (высоком смещении) в массивные при низком (то есть в нормальном состоянии). Согласно нашим сегодняшним знаниям о физике частиц, выраженным в так называемой стандартной модели, этим фактором является еще одна частица, знаменитый бозон Хиггса. О его открытии в июле 2012 года объявили ученые, работавшие на Большом адронном коллайдере.
Для того чтобы понять, как бозон Хиггса воздействует на другие частицы, можно представить его в качестве своего рода среды, в которой они движутся. Звучит как старый добрый электромагнитный эфир, но это не совсем так. Традиционно эфир представлялся как нечто неизменное и инертное, в то время как бозон Хиггса может изменяться и взаимодействовать с обычной материей. Подобно обычным частицам материи, он также изменяет свои свойства при разных температурах. Современные модели физики частиц используют колебания свойств бозона Хиггса для того, чтобы изменять характеристики частиц материи. Возвращаясь к образу бозона Хиггса как среды (вроде воздуха или меда), нужно сказать, что при высоких температурах эта среда, по сути, прозрачна и материя проходит сквозь нее, не встречая преград. Это его безмассовая фаза. При более низких температурах «среда» сгущается и частицам материи требуется больше усилий, чтобы пройти сквозь нее. Благодаря этой вязкости среды кажется, что масса частиц растет. Вот почему часто говорят, что бозон Хиггса «придает массу» частицам.
Давайте перейдем к тому, почему кварки, электроны и другие частицы, входящие в стандартную модель, обладают разными массами. Дело в том, что они чувствуют присутствие бозонов Хиггса с разной интенсивностью. Чем сильнее чувствительность частицы к нему, тем выше ее масса в нормальной фазе. В математическом выражении стандартной модели эту чувствительность называют интенсивностью, с которой каждая частица взаимодействует с бозоном Хиггса. К примеру, топ-кварк, самый тяжелый из кварков и в целом из известных нам элементарных частиц, имеет массу, в 399 216 раз превосходящую массу электрона. Поэтому мы можем сказать, что он сильнее взаимодействует с бозоном Хиггса. Исключением является фотон, который вообще не вступает во взаимодействие с бозоном и потому не имеет массы.
Вооруженные образом бозона Хиггса как среды, мы можем забыть обо всех частицах, которые взаимодействуют с ним, и просто представить его в роли мяча, катящегося вверх или вниз по склону холма. Чем ближе к вершине, тем дальше бозон от своей нормальной фазы и тем выше его смещенная энергия. Вселенная, наполненная бозонами Хиггса в такой фазе, будет стремительно расширяться. По мере того как бозон скатывается вниз по склону к своему минимальному значению энергии, ускорение уменьшается. Так происходит до тех пор, пока он полностью не остановится.
Итак, этот простой образ мяча, катящегося по склону холма, должен помочь нам понять невероятную концепцию множественной Вселенной. Давайте рассмотрим ее поближе.
Глава 14. Считая вселенные в которой вводится понятие множественности вселенных и объясняются его физические и метафизические последствия
Читатели наверняка заметили, что я делаю различие между понятиями «Вселенная» и «вселенная». Поначалу это кажется всего лишь незначительной деталью. Однако дело в том, что современная космология вполне серьезно рассматривает возможность существования более чем одной вселенной. Вот почему разница в написании все-таки важна. Я использую слово «Вселенная» с заглавной буквы для обозначения нашего видимого космоса и всего, что в нем находится, известно оно нам или нет. Иными словами, термин «Вселенная» обозначает все то, что существует в пределах нашего космического горизонта. Вселенная – это наш дом, построенный из причин и следствий. Как мы уже знаем, рассчитанная на основании измерений плоскость видимого космоса может означать, что наша Вселенная продолжается и за пределами горизонта – все дальше и дальше, вплоть до бесконечности, которая недоступна для измерения нашим приборам. В связи с этим хотелось бы расширить понятие Вселенной на это потенциальное бесконечное пространство. Но я должен строго придерживаться правила «Мы знаем лишь то, что можем измерить». Соответственно, наша Вселенная может быть лишь частью потенциально бесконечной Вселенной. Более того, по соседству с нами могут находиться и другие вселенные – и их может быть много.
Согласно Оксфордскому словарю английского языка, вселенная – это «совокупное обозначение всей существующей материи, пространства, времени, энергии и т. д., в частности, как систематического или упорядоченного целого; все творение, космос». Характеристика «все существующее» тут же усложняет дело. Если под этим подразумевается действительно все то, что существует в реальности, то Оксфордский словарь должен был бы включить в свое определение все другие участки пространства, которые могут существовать, но быть отделены от нас пространственно-временным барьером. В таком случае вселенная будет представляться единым целым, а любой участок пространства, в том числе доступный нам, – ее составной частью. Однако если поискать в словаре понятие «Мультивселенная», можно наткнуться на довольно странное определение: «гипотетическое место или пространство, состоящее из некоторого количества вселенных, одной из которых является наша Вселенная».[71] Итак, если Мультивселенная существует, то наша Вселенная уже не может рассматриваться как совокупность «всей существующей материи, пространства, времени, энергии и т. д.». Наоборот, такое определение можно дать как раз Мультивселенной, а наша Вселенная окажется лишь ее частью, одной из (возможно, бесконечного) множества «островных вселенных», существующих одновременно. Еще больше усложняет дело тот факт, что вселенная, даже будучи частью Мультивселенной, все равно может быть пространственно бесконечной. Бесконечность является частью еще большей бесконечности, как входит в . В современной космологии, как и в математике, могут существовать разные типы бесконечностей.
Перед тем как мы пойдем дальше, позвольте мне объяснить, как такая идея, как совокупность различных вселенных, часть из которых, возможно, бесконечна, вообще может иметь смысл. Для того чтобы это было проще визуализировать, давайте ограничимся двумя измерениями. Представьте себе плоскую столешницу, которая имеет огромную длину и ширину. Если значения ее длины и ширины не ограничены, значит, наша столешница – это плоский бесконечный космос. В этой бесконечной вселенной могут жить крошечные плоские амебообразные существа. Теперь представьте, что у вас есть две столешницы, которые расположены параллельно друг другу, но не соприкасаются. Пускай вторая столешница тоже будет бесконечной, а на ее поверхности тоже будут жить плоские существа (в конце концов, все это происходит у вас в голове). Теперь представьте, что столешницы соединены в одном месте узким туннелем. Теперь у нас имеется два бесконечных пространства с точкой соединения. Существа, живущие в каждом из них, не имеют доступа к туннелю и верят, что их вселенная уникальна и бесконечна, особенно если туннель находится за их космическим горизонтом. Они никогда не узнают, что их вселенные являются элементами гораздо большей структуры – мультивселенной. А вы легко можете себе представить множество столешниц, расположенных одна над другой и соединенных переходами, которые недоступны их обитателям. Продолжайте этот ряд до бесконечности, и у вас в голове возникнет бесконечная двухмерная мультивселенная!
Но она не обязательно должна быть такой простой. Вселенные могут быть искривленными и конечными. Или они могут возникать из «материнской» вселенной, которая бесконечна сама по себе. Или такие «дочерние» вселенные тоже могут быть бесконечными. Представьте себе, что вы выдуваете пузырь из жевательной резинки. Если вы хоть раз пытались это сделать, то знаете, что маленькие пузыри обычно сдуваются, а те, что побольше, продолжают расти (и в итоге лопаются, но этот факт мы пока что игнорируем). Вообразите, что такой пузырь начинает расти в той части плоской вселенной, которая плотно населена амебообразными существами. Кого-то из них затянет внутрь, а кто-то останется снаружи, в ужасе наблюдая, как его друзья исчезают в небытии. Но все прошло удачно, большинство амеб, оказавшихся внутри пузыря, пережили этот катаклизм и начали исследовать новый мир. Сменились поколения, и наконец ученые измерили радиус кривизны пространства и выяснили, что они живут в замкнутом сферическом космосе. Все это время пузырь продолжал расти, поэтому к данному моменту туннель, соединяющий его с материнской вселенной, уже находится за пределами их космического горизонта. Они живут в замкнутой расширяющейся вселенной, не зная о своей связи с плоским бесконечным космосом. Возможно, в их мире существует миф, повествующий о боге, который выдул их вселенную из другой вселенной, населенной богами, которые целыми днями занимаются только тем, что надувают другие пузыри. В это же время существа, оставшиеся в материнской вселенной, наблюдают, как вход в пузырь становится все уже и уже, пока наконец не закрывается вовсе. Вместо него остается лишь шрам на ткани пространства, отмечающий эти давние события. Вселенная-пузырь, возможно, остается соединенной с материнской вселенной чем-то вроде пуповины, но их жители уже изолированы друг от друга.
Может ли что-то подобное происходить на самом деле? Как ни удивительно, да, это теоретически возможно. И вот почему.
Для начала вообразите себе вселенную, наполненную материей Хиггса. Не думайте, что это то же самое, что и бозон Хиггса в стандартной модели. Все теории физики частиц, пытающиеся объяснить физику энергий, не входящих в стандартную модель, обычно включают в себя дополнительную материю, похожую на бозоны. Давайте впредь называть материю Хиггса ее настоящим именем – поле. Понятие поля было введено в XIX веке Майклом Фарадеем и Джеймсом Клерком Максвеллом в рамках их теории электромагнетизма и является ключевым в современной физике. По сути, поле представляет собой пространственное влияние определенного источника. Для того чтобы составить картину температурного поля в комнате, нужно всего лишь измерить температуру в разных ее точках. Такое поле, зависящее исключительно от значения температуры в определенной точке в пространстве, называется скалярным. Еще один тип поля – это скорость потока воды в реке. Если течение не идеально равномерно, то в нем всегда будут существовать отклонения и завихрения. Поле, для которого важно не только значение в определенной точке, но и направление движения в ней, называется векторным. В качестве примера векторного поля можно привести поток ветра, дующего вокруг дома. Хиггсовы поля скалярны, в то время как электромагнитные состоят одновременно из скалярных и векторных полей.
Но вернемся к нашей модели вселенной. Давайте представим, что это заполняющее весь космос Хиггсово поле не достигло своего минимального уровня энергии и смещенная энергия заставляет его разгоняться и расширяться. И здесь возникает важнейший момент, приводящий нас к идее множественности вселенных. Вовсе не обязательно, чтобы вся вселенная была наполнена смещенной энергией скалярного поля. Хватит и небольшого участка. Если его объем будет достаточным, то он будет раздуваться на фоне огромной, потенциально бесконечной вселенной, как воздушный шарик. Точно так же мы выдуваем пузыри из жвачки! Вот только толчок, который заставляет пузырь расти, дает не бог, а смещенная энергия скалярного поля. Насколько большим должен быть такой участок пространства, чтобы расти в геометрической прогрессии? На самом деле хватит и пространства, охваченного космическим горизонтом. Например, при том уровне энергии, который заставил частицы приобретать массу в присутствии бозона Хиггса (и существовал примерно в течение одной триллионной доли секунды после Большого взрыва), достаточно было бы одного миллиметра. И чем ближе к началу времени, тем меньше становится этот участок. Итак, пока мы всего лишь представляем, что этот участок пространства, наполненный скалярным полем, возник в прошлом точно так же, как и наша Вселенная. К вопросу этого возникновения мы еще вернемся.
Таким образом, мы можем представить себе сценарий, при котором пространство космоса похоже на клетчатый плед, в разных клетках которого скалярное поле имеет разные значения, отличные от его минимального уровня энергии. Вообразите, что на каждом из таких участков стоит холм с катящимся по склону мячом и при этом каждый мяч находится на разной высоте. Достаточно большие участки пространства будут расширяться в геометрической прогрессии, а скорость расширения будет зависеть от количества смещенной энергии на участке (чем выше мяч на склоне, тем быстрее расширение). Очень скоро космос превратится в кучу разномастных пузырей, растущих с разной скоростью. Каждый из таких пузырей – это потенциальная вселенная, связанная с материнской вселенной трубкой или туннелем, своеобразной пуповиной, которую чаще называют кротовиной (кротовой норой, червоточиной). Этот сценарий, получивший название хаотической инфляции, был предложен в 1980-х годах американским космологом российского происхождения Андреем Линде, который сейчас работает в Стэнфордском университете. Слово «хаотический» в данном случае обозначает случайное распределение значений скалярного поля на различных участках пространства.
Линде добавил в свою модель потрясающий ход. Квантовая механика учит нас, что ничто в Природе не остается неподвижным. Все вибрирует, пускай эти вибрации и не воспринимаются нами в повседневной жизни. Но для скалярного поля, наполняющего нашу гипотетическую вселенную, эти квантовые колебания очень важны. Чем дальше поле отходит от своего минимального уровня энергии, тем колебания сильнее. Если в уже надувающемся пузыре достаточно большой кусок поля достигнет более высокого уровня энергии, он начнет расти с другой скоростью. В результате он отколется от пузыря и сформирует собственную вселенную, «внучку» оригинальной. Читатель легко может представить себе эту картину: пузыри, постоянно возникающие на поверхности других пузырей и формирующие все новые и новые вселенные с собственной историей. Линде заключил, что вселенная, наполненная скалярным полем с уровнем энергии, смещенным от минимального, в обязательном порядке будет порождать новые вселенные и, таким образом, превратится в постоянно растущую мультивселенную без начала и конца.
В это же время еще один космолог российского происхождения, Александр Виленкин из Университета Тафта, предложил альтернативную теорию, ведущую к аналогичным последствиям. Виленкин рассматривал поля с крайне плоским начальным распределением энергии (если раньше мы использовали аналогию со склоном холма, то эти поля можно сравнить с вершинами горных плато). Если в теории Линде квантовый эффект толкал поле вверх и вниз, то в модели Виленкина поле случайным образом двигалось по плато в различных направлениях. Если участок с таким плато оказывается достаточно большим, он растет по экспоненте, производя множество пузырей. Виленкин назвал свою модель вечной инфляцией, так как он заключил, что в мире всегда будут существовать плато, расположенные достаточно высоко на склоне нашего воображаемого холма и ведущие к разрастанию пространства. В каких-то регионах поле уже достигнет минимального энергетического уровня, и фаза ускоренного роста прекратится (как это случилось с нашей Вселенной), а в каких-то в это же время он только начнется. Виленкин показал, что растущие участки будут возникать чаще, чем замедляющие свое расширение.[72] Итак, двое моих российско-американских коллег (от общения с которыми на совместных встречах я всегда получаю удовольствие) создали запутанные модели бесконечно самовоспроизводящихся вселенных. Пускай каждый участок имеет свое начало и свою историю, сама мультивселенная может существовать вечно. Большой взрыв может оказаться лишь одним из множества разнообразных случаев зарождения вселенных.
Но может ли такая идея, как бы безумно она ни звучала, оказаться чем-то большим, чем просто умозрительным экспериментом? Может ли ее подтвердить физика? Каждая научная гипотеза должна быть экспериментально проверяемой. Для ее подтверждения или опровержения необходимо провести опыты или собрать данные наблюдений. Учитывая, что мы не располагаем никакими свидетельствами того, что живем в мультивселенной (и такие свидетельства, вполне вероятно, вообще невозможно получить), эту теорию следует рассматривать с большой осторожностью, внимательно анализируя все те данные, которые у нас уже имеются и которые мы можем получить в будущем.
Для начала давайте рассмотрим понятие ускоренного космического расширения. Есть ли у нас основания верить в его существование? Конечно! В 1998 году мы получили убедительные доказательства того, что живем в расширяющейся Вселенной, работающей на темной энергии. Это блестящее открытие, о котором нельзя забывать. Оно кажется еще более интересным, если вспомнить, что ускоренное расширение началось всего пять миллиардов лет назад. Иными словами, фазы космического расширения не просто реальны, но имеют начало и, вероятно, конец. Пять миллиардов лет – это точное время формирования нашей Солнечной системы. Иногда эту ситуацию называют проблемой совпадения. Почему расширение космоса началось именно в этот момент, а не раньше и не позже?
Еще одним весомым подтверждением существования периода активного расширения является инфляционная космологическая модель, предложенная в 1981 году американским космологом Аланом Гутом. Это оригинальная модель инфляции космоса, которая впоследствии повлияла на идеи Линде и Виленкина. Гута интересовали некоторые вопросы, на которые не могла ответить стандартная модель Большого взрыва (описывающая появление Вселенной из горячей первобытной смеси материи и излучения 13,8 миллиарда лет назад). Во-первых, почему космос имеет плоскую геометрию? Почему она не является закрытой или открытой? Во-вторых, температура фонового излучения во всей Вселенной одинакова до одной стотысячной доли градуса. Откуда взялась такая тонкая настройка? Размер космического горизонта при расщеплении не позволяет нам верить в ее существование. Для того чтобы иметь сегодня одинаковую температуру, частицы и фотоны в процессе расщепления должны были бы взаимодействовать на огромных расстояниях, превышающих те, которые были допустимы их горизонтом. Во всей Вселенной (как в горячей ванне) температура регулируется за счет столкновения частиц (молекул воды) друг с другом. Чем больше ванна, тем больше времени требуется, чтобы вода в ней нагрелась или охладилась равномерно. Точно так же излучению в расширяющейся Вселенной требуется время на то, чтобы урегулировать ее температуру. И с момента расщепления времени прошло недостаточно. Учитывая это, откуда фотоны по другую сторону неба знают, какую температуру поддерживать?
Гут предположил, что молодая Вселенная пережила краткий период ускоренного расширения, который он назвал инфляцией. Его идея была аналогична приведенной выше метафоре мяча на склоне холма. Хиггсово поле оказывалось в метастабильном состоянии, и до тех пор, пока его состояние не изменялось, Вселенная расширялась в геометрической прогрессии. Андрей Линде и Андреас Альбрехт из Калифорнийского университета в Дейвисе, а также Пол Штейнхардт из Принстона быстро поняли, что в модели Гута существовал недочет, который они назвали элегантным выходом: поле оставалось бы в метастабильном состоянии слишком долго для формирования той Вселенной, которую мы наблюдаем. Независимо друг от друга они скорректировали модель Гута, представив ее энергетический профиль как плоское плато. Именно это натолкнуло Виленкина на его идею вечной инфляции.
Инфляция объясняет, почему Вселенная имеет плоскую форму. Небольшой участок, раздираемый в разные стороны магнитудами разного порядка, будет казаться плоским, даже несмотря на то, что он может быть элементом огромной сферической поверхности. В таком случае наш космический горизонт – это всего лишь небольшая часть гораздо большей Вселенной, недоступной нашим наблюдениям. Инфляция также объясняет, почему значения фонового излучения остаются неизменными во всей Вселенной. Если весь доступный нашему наблюдению космос произошел из одного раздутого участка пространства, логично предположить, что частицы и фотоны в нем будут иметь одинаковые термальные характеристики.
Но инфляция помогает нам сделать еще один шаг вперед. Помните квантовые скачки, из-за которых новые вселенные возникают как грибы после дождя? Те же самые скачки, которые заставляют колебаться поле на различных участках пространства, приводят к возникновению небольших энергетических флуктуаций. Участки расширяющегося космоса можно сравнить с поверхностью озера в ветреную погоду – где-то энергии немного больше, а где-то немного меньше. Благодаря инфляции эти крошечные квантовые неровности раздуваются в участки поля астрономических масштабов. Теперь давайте быстро вернемся в прошлое, в момент расщепления, к началу формирования водорода. Так как гравитация – это сила притяжения, участки с повышенной или пониженной плотностью будут притягивать к себе соответственно больше или меньше материи, заставляя ее концентрироваться в определенных местах, как дождевую воду в лужах. По сути, участки с повышенной плотностью привели к появлению галактик и скоплений галактик во Вселенной. В то время космос был похож на старую грязную дорогу с выбоинами и кочками – вокруг кочек скапливалось меньше материи, а в рытвины попадало больше. Иными словами, инфляция представляет собой механизм для описания зарождения галактик. Так как фотоны тоже попадают в выбоины и трещины дороги, инфляция также предсказывает, что эти несоответствия будут оставлять свои следы в фоновом излучении в форме крошечных температурных флуктуаций (появления более горячих и более холодных точек). Эта пестрая температурная карта была исследована с высокой точностью с помощью спутника Wilkinson Microwave Anisotropy Probe и европейской орбитальной исследовательской станции «Планк». Удивительно, но полученные данные практически совпадают с данными некоторых моделей на основе теории инфляции. Это дает космологам основания полагать, что молодая Вселенная действительно когда-то пережила период ускоренного роста.
Если это так и если наш космический горизонт действительно является практически плоским, Вселенная должна быть куда больше, чем мы можем увидеть, и должна простираться намного дальше наблюдаемой Вселенной. Несмотря на то что исследователи до настоящего времени не делали никаких определенных заявлений относительно существования бесконечностей в Природе, Вселенная наверняка невероятно огромна и, возможно, бесконечна. Соответственно, есть все основания полагать, что в ней могут существовать и другие участки инфляции, на что указывает вечная инфляционная модель.
Ключевым фактором инфляции, разумеется, является скалярное поле. Можем ли мы быть уверены в том, что такое поле существовало на ранних стадиях космической эволюции? Нет, по крайней мере пока. Однако успех стандартной модели физики частиц и недавнее открытие бозона Хиггса подтверждают гипотезу о том, что при высоких уровнях энергии может существовать что-то вроде бозона Хиггса, оказывающее аналогичное влияние на космическое расширение. Скалярные поля используются во многих моделях, созданных для того, чтобы расширить наши текущие знания о физике частиц за пределы стандартной модели. К примеру, довольно перспективна теория суперструн. Даже если вас не привлекают модели, в которых используется суперсимметрия, вы все равно можете быть уверены в том, что новая физика будет иметь дело с более высокими энергиями, чем те, которые мы можем измерить на сегодняшний день, и, вероятно, найдет потенциальных кандидатов (поле или несколько полей) на роль движущей силы инфляции.
Здоровая наука – это сочетание смирения и надежды. Мы должны смириться с размерами нашего незнания, но при этом надеяться, что новые открытия смогут пролить на него немного света. Однако если мы находимся на самой границе познания нового, но не можем получить подтверждающих данных, нашей единственной стратегией остаются обоснованные предположения. Без воображения наука не может двигаться вперед.
Было бы упущением с моей стороны не рассказать о вкладе теории струн в понятие Мультивселенной. Несколько моих коллег, приверженцев этой теории, написали о ней ряд популярных работ, на которые я ссылаюсь в библиографии. Тем читателям, которые хотели бы узнать больше о теории струн, я в первую очередь рекомендую книги Брайана Грина и Леонарда Сасскинда. Для всех остальных же будет достаточно и следующих глав этой книги.[73]
Глава 15. Интерлюдия: прогулка по струнному ландшафту в которой вводится понятие струнного ландшафта и объясняется, что такое антропная мотивация
Для того чтобы теория суперструн имела математический смысл, струны должны существовать более чем в трех измерениях. Это создает для теории определенные затруднения, ведь теперь она должна дополнительно объяснить, почему мы видим всего три из этих измерений. Кроме того, важно знать, сколько их всего. Четыре, пять, двадцать? Теория струн вводит понятие новой симметрии Вселенной – суперсимметрии. Я уже упоминал ее, когда мы обсуждали темную материю, но сейчас настало время поговорить о ней более подробно. Насколько нам известно, в Природе существует два типа частиц – те, из которых состоит материя (электроны, кварки и некоторые другие), и те, которые переносят силы (фотоны для электромагнитных сил, гравитоны для гравитации, менее известные глюоны, удерживающие кварки внутри протонов и нейтронов, и тяжелые частицы Z0, W+ и W—, переносчики слабого ядерного взаимодействия, ответственного за радиоактивный распад). Суперсимметрия означает, что частицы материи могут превращаться в частицы силы и наоборот. В результате, каждая частица имеет своего «суперсимметричного партнера»: у электрона он будет называться селектроном, у любого из кварков – скварком и т. д.
У вас мог возникнуть вопрос: зачем кому-то понадобилось удваивать количество элементарных частиц в Природе? Ответ (и изначальный толчок к введению понятия суперсимметрии в середине 1970-х) состоит в том, что теории суперсимметрии могут объяснить, почему пустое пространство имеет нулевую энергию. Если бы это было не так, если бы в космосе имелась какая-то остаточная энергия, она бы действовала как космологическая постоянная, ускоряющая расширение Вселенной. В середине 1970-х ученые еще не располагали доказательствами существования расширения, поэтому и ввод подобной постоянной был невозможен. Темная энергия была открыта в 1998 году, и до этого момента предполагалось, что космическая постоянная равна нулю. Суперсимметрия предлагалась в качестве объяснения того, почему это так.
Проблема состояла в вакууме (так физики называют состояние отсутствия каких бы то ни было частиц). Вакуум – это пустое пространство и максимальное физическое приближение к понятию «ничто». Но квантовая физика все усложняет. Как вы можете помнить, основное ее положение состоит в том, что все колеблется – положение частицы, ее скорость и энергия. Даже если пустое пространство вообще не имеет энергии, квантовые флуктуации могут периодически подталкивать уровни энергии выше нуля. В регионах с избытком энергии могут периодически возникать частицы, так как в соответствии с уравнением E = mc2 энергия может превращаться в массу. Такие частицы возникают и исчезают, как пузыри на кипящем супе. Если суммировать крошечные квантовые эффекты по всему космосу, мы получим огромную добавку к энергии. Суперсимметрия подавляет такие флуктуации, заставляя энергию пустого пространства исчезнуть. Таким образом, она объясняет, почему космологическая постоянная равна нулю. Но теперь, когда нам известно о темной энергии, мы знаем, что это не так! С 1998 года ученые больше не могли использовать суперсимметрию для объяснения отсутствия вакуумных флуктуаций.
Объяснение небольших значений – это довольно сложная задача в физике. Тем не менее у теории суперсимметрии есть и другие точки приложения. Например, она может объяснить, почему масштаб, с которым частицы получают массы под воздействием бозона Хиггса, намного (почти в 16 раз) меньше, чем масштаб, при котором наблюдаются колебания пространства-времени в результате квантовых эффектов. Кроме того, она может предложить некоторые объяснения темной материи. В связи с этим, несмотря на отсутствие свидетельств ее существования (эксперименты, направленные на поиски предсказанных ей частиц, ничего не выявили), суперсимметрия все еще остается прочно укоренившейся в умах многих физиков.
Но вернемся к струнам. Если совместить их с суперсимметрией, то можно легко установить количество пространственных измерений, в которых могут существовать суперструны. Всего таких измерений девять. В данный момент существует пять возможных теорий струн. Физик-теоретик из Института перспективных исследований Эдвард Виттен показал, что все их можно объединить в одну, если добавить еще одно измерение. Эта новая теория получила название «М-теория».[74]
Итак, если в основе Природы лежат струны, это значит, что еще целых шесть измерений остаются для нас невидимыми. Как такое возможно? Этому достаточно новому для науки вопросу была посвящена моя докторская диссертация и некоторая часть работы в постдокторантуре. В частности, если мы попытаемся совместить теорию суперструн с теорией Большого взрыва, как объяснить, что три измерения разрослись, а остальные шесть остались в своем первоначальном виде? Было предложено множество моделей, большинство из которых содержало в качестве причины силу притяжения между частицами, порождаемыми вибрациями струн. Именно это притяжение и должно было удерживать другие измерения в их изначальном виде. Так как у нас все еще нет единого кандидата на роль теории суперструн, то и ответить на этот вопрос мы не можем. Последние идеи основываются на том, что некоторые измерения слишком малы по сравнению с другими (также недоступными для наблюдения). Другие предполагают, что дополнительные измерения очень велики и пронизывают собой все, а мы живем в пространстве (в бране) между ними, словно на куске тоста, зависшем в воздухе. Лиза Рэнделл, мой друг с ранних лет существования экстрамерной космологии и первая женщина, получившая должность профессора теоретической физики в Гарвардском университете (долго же они ждали), написала книгу о концепции браны, которую она разработала совместно с Раманом Сандрумом в 1999 году.[75]
Я рассказываю вам об этом потому, что теория суперструн также предсказывает существование Мультивселенной, которая в данном случае называется струнным ландшафтом. Струнный ландшафт включает в себя все возможные складки и изгибы шести измерений, которые могут существовать в принципе (представьте себе бесчисленное количество форм, которые вы можете слепить из куска пластилина, да еще и с разным количеством отверстий). Каждая форма экстрамерного пространства обладает в нашей трехмерной реальности разными физическими свойствами. Струнный ландшафт – это пространство, в котором могут существовать все формы шести измерений, так что пройтись по нему вам не удастся. Идея ландшафта привела к возникновению интересного психологического сдвига в отношении к теории струн. Изначально ее главной привлекательной стороной была претензия на роль единственной теории Природы. Ее основное преимущество и красота крылись в уникальности. Ученые надеялись, что после решения фундаментальных уравнений теории они смогут получить единственно возможное решение – нашу Вселенную. Увы, все оказалось совсем не так. Дальнейшие исследования показали, что теория суперструн может давать огромное множество решений (до 10500) в связи с топологическим разнообразием структуры многомерного космоса. Как можно выбрать единственно верное решение из 10500? Что направляло Вселенную к выбранному ей решению – «истинному вакууму»? На сегодняшний день никому не удалось найти убедительный критерий отбора, а в его отсутствие теория струн перестает быть уникальной.
Кроме того, так как каждое возможное объяснение экстрамерного космоса означает новую геометрию четырехмерного пространства, воплощенную в уникальном наборе частиц и взаимодействий между ними, различные колебания ландшафта (струнные пустоты) могут означать совершенно разные вселенные. Чем из них может выделиться наша с ее измеренными значениями основных постоянных и скорости расширения? Может быть, она уникальна тем, что в ней есть живые существа? Начиная с XVII века физическая космология показывает нам, как ничтожна наша роль в общей картине мира. Могут ли суперструны опровергнуть идеи Коперника?
В 2000 году Рафаэль Буссо из Университета Калифорнии в Беркли и Джозеф Полчински из Института теоретической физики имени Кавли при Университете Калифорнии в Санта-Барбаре (где я когда-то работал в качестве постдока) решили совместить струнный ландшафт с теорией вечной инфляции. Они рассуждали так. Различные провалы (или, точнее, углубления) в ландшафте должны чередоваться с быстро расширяющимися участками, что в итоге приведет к их изоляции друг от друга. Иными словами, все струнные пустоты – это отдельные вселенные (а не только наша). Таким образом, Буссо и Полчински избавились от вопроса нашей уникальности. Чтобы еще сильнее приблизить свою идею к модели инфляции, они предположили, что небольшие квантовые колебания могут вызывать незначительные изменения в геометрии дополнительных шести измерений, что, в свою очередь, привело бы к возникновению случайных движений по всему ландшафту. Итак, Мультивселенная в теории струн состоит из изменяющихся реализаций различных струнных пустот, каждая из которых представляет собой отдельную вселенную с собственными частицами и, возможно, даже собственными физическими законами. Последнее предположение высказывается часто, но кажется мне довольно непонятным. Изменения в массах и силе взаимодействия между частицами не ведут к изменению фундаментальных законов Природы, таких как сохранение энергии или электрического заряда.
Теория постоянно расширяющейся струнной мультивселенной постулирует существование множества вселенных, которым неизвестно друг о друге. Впервые в истории науки теоретическая физика дала добро на неизвестное. Такое радикальное отступление от проверенных временем методов экономической науки вызвало удивление множества физиков и появление по меньшей мере такого же количества вопросов. Как мы можем надеяться когда-нибудь найти объяснение своему собственному существованию в этой безумной мешанине постоянно возникающих новых вселенных? Или наука отказалась от этой идеи? Для ответа на эти вопросы многие приверженцы теории струн используют подход, который еще пару лет назад считался проклятием для всей философии уникальности, стоящей за разработкой теории струн. Имя ему антропный принцип, и он гласит, что наша уникальность – это не причина, а следствие.[76]
В 1870-х годах астрофизик Брэндон Картер заявил, что нет ничего удивительного в том, насколько наша Вселенная благоприятна для жизни. В конце концов, только во вселенной, обладающей необходимыми свойствами (читай: значениями масс фундаментальных частиц и силы взаимодействия между ними, а также ряда космологических параметров, указывающих на достаточный возраст космоса и его расширение с подходящей скоростью), могло бы смениться несколько поколений звезд, а значит, у жизни появился бы шанс зародиться. Иными словами, природные константы, такие как сила притяжения или масса электрона, способствуют возникновению жизни. Учитывая тонкость физических процессов, приводящих к возникновению и смерти звезд в расширяющейся вселенной, допустимый диапазон значений этих постоянных не так уж велик. Мы могли бы существовать лишь в нескольких возможных вселенных, в которых природные константы имели бы значения, близкие к измеряемым нами сейчас.
Буссо и Полчински (а за ними и их коллеги) заключили, что антропный принцип – это единственный критерий отбора, по которому наша Вселенная как-то выделяется на огромном струнном ландшафте. Когда в 2003 году к ним присоединился один из создателей теории струн Леонард Сасскинд из Стэнфордского университета, концепция струнного ландшафта стартовала с места в карьер. Антропный принцип указывает на то, что мы можем существовать только в струнной пустоте с небольшим значением космологической постоянной (примерно таким же, которое, судя по всему, обеспечивается темной энергией). Так как все пустоты в ландшафте в принципе реализованы где-то в Мультивселенной, нет ничего удивительного в том, что среди них есть и наша, даже если мы занимаем всего лишь дальний уголок космоса. Уникальности не существует, есть лишь бесконечное количество возможностей, включая самые невероятные. Наша посредственность, на которую указывал еще Коперник, была полностью восстановлена. Разумеется, если бы кто-нибудь сумел найти убедительное подтверждение тому, что наш вакуум чем-то выделяется на струнном ландшафте, антропный принцип был бы забыт уже на следующий день как противоречащий самой сути физики.
Те, кто не верит в пользу антропного принципа (я причисляю и себя к этой группе), утверждают, что он не помогает нам в открытии нового, но всего лишь предлагает ряд допустимых значений для заданных переменных путем подгонки под них уже известных нам данных. Антропный принцип сужает возможный выбор физических параметров на основании свойств известной нам Вселенной, но не дает этому выбору никаких объяснений. Он подстраивается под реальность, а не проливает свет на нее. Чтобы проиллюстрировать это, я скажу вам, что средний рост взрослого американца составляет 1,77 метра. Простая статистика говорит нам, что во время прогулки по улицам города в США шансы встретить мужчину ростом от 1,63 до 1,99 метра составляют 95 %. Именно это и дает нам антропный принцип – ряд значений, основанный на среднем показателе. Но если бы этот средний показатель был нам неизвестен, мы не извлекли бы из антропного принципа ничего полезного. В частности, он не смог бы объяснить нам, почему средний рост американского мужчины именно таков (на самом деле это сложный вопрос, требующий междисциплинарных исследований).[77]
Может ли Мультивселенная с различными значениями различных природных констант возникнуть в контексте вечной инфляции без участия суперструн? В теории да. Мы можем представить себе теорию, содержащую множество скалярных полей, каждое из которых имеет собственный набор постоянных при минимальном уровне энергии (как бозон Хиггса определяет значение масс в низкоэнергетическом вакууме, в котором существуем мы). При такой форме инфляции участок пространства, ограниченный космическим горизонтом, будет содержать несколько скалярных полей с разными историями, разными минимумами энергии и, соответственно, разными наборами констант. Или скалярное поле может быть одно, или их может быть несколько, но с многочисленными возможными минимальными уровнями энергии. На различных участках поля будут сводиться к разным минимальным значениям, приводя к возникновению различных физических констант.
В совокупности все приведенные выше аргументы указывают на то, что множественность вселенных теоретически возможна. Итак, для продолжения рассуждений давайте остановимся на мысли о том, что мы живем в Мультивселенной. Сможем ли мы когда-либо узнать об этом наверняка? Доступна ли Мультивселенная для наблюдений? Иными словами, Мультивселенная – это экспериментально доказуемая научная гипотеза или чисто теоретическая концепция, ведущая к опасному расколу в научном сообществе? И, что самое важное, познаваема ли она?
Глава 16. Можно ли экспериментально доказать существование Мультивселенной в которой мы узнаем, является Мультивселенная полноправной физической теорией или обычной спекуляцией
Когда дело доходит до глобальных идей, физики должны быть беспощадны. За время существования человечества возникало множество разнообразных идей, у которых находились свои последователи. Потом такие идеи (например, существование электромагнитного эфира, флогистона, теплорода или планеты Вулкан) исчезали, вытесненные из сознания людей убедительными доказательствами. Всему виной избыток человеческого воображения и постоянное стремление к новым теориям. В конце концов, если не вы поддержите собственную идею, то кто? Мы хотим знаний, мы стремимся к ним, и мы делаем все, что в наших силах, для создания рациональных объяснений необычных явлений. Мы придумываем разнообразные убедительные доказательства того, почему верна именно наша теория. Разумеется, мы учимся на своих ошибках, но любое неправильное объяснение приближает нас к единственно верному. Если вы не любите ошибаться, не занимайтесь наукой. Остров знаний разрастается хаотично и непредсказуемо. Иногда на месте ровного берега образуются заливы. Воображение – ключевой элемент всех открытий и изобретений, но само по себе оно не работает. Фундаментом для построения любой научной теории является ее экспериментальная доказуемость. Двадцать физиков-теоретиков, запертых в одной комнате, могут придумать вселенную, полностью отличную от той, в которой живем мы.
Теория о множественности вселенных представляет серьезную угрозу для этого modus operandi. Если за пределами нашего космического горизонта существуют иные вселенные, мы никогда не сможем получить от них какой-то знак или отправить им свои сигналы. Даже если они реальны, они находятся в пространстве, совершенно недоступном для нас и наших инструментов. Мы никогда не увидим и не посетим их, а наблюдатели из них не смогут увидеть или посетить нас. Поэтому, строго говоря, существование Мультивселенной никогда не сможет быть подтверждено наверняка. Космолог Джордж Эллис из Университета Кейптауна, ЮАР, активно отстаивает эту позицию: «Все параллельные вселенные лежат за пределами нашего горизонта и вне нашего доступа – ни сейчас, ни в будущем, как бы ни развились наши технологии. Они находятся слишком далеко, чтобы хоть как-то влиять на нашу Вселенную. Вот почему ни одно из заявлений, приводимых теоретиками Мультивселенной, не может быть подтверждено напрямую».[78]
Современные физики лишь немного готовы встать под древнее знамя позитивизма, поднятое выше всех австрийским философом Эрнстом Махом, который в 1900 году заявил, что атомов не существует, потому что их нельзя увидеть (и, к сожалению, придерживался этого подхода до самой своей смерти в 1916 году). Существует множество способов определить, реально что-то или нет, даже если мы не можем увидеть это или потрогать. К примеру, астрофизики делают вывод о существовании массивной черной дыры в центре Млечного Пути на основании движения расположенных рядом с ней звезд, а затем экстраполируют этот вывод на другие галактики. Специалисты по физике частиц действуют сходным образом, рассчитывая свойства частицы на основании следа, который она оставляет на детекторе. Невозможно увидеть электрон, но можно рассмотреть его след в различных устройствах. Мы делаем вывод о существовании частиц по их влиянию на различные приборы. Возможно, «существование» – это слишком сильное слово. Мы создаем идею электрона, чтобы обозначить ею точки и линии, которые мы видим на экранах приборов, используемых для измерения элементарных частиц. Точно так же мы вводим идею темной энергии как экономное объяснение смещенных в сторону красного цвета спектральных сигнатур удаленных объектов.
Итак, вопрос заключается не в том, можем ли мы увидеть соседнюю вселенную напрямую, а в том, существуют ли способы засечь ее присутствие, находясь в пределах нашего космического горизонта. Таким образом мы не докажем существование Мультивселенной, но подтвердим возможность наличия соседних вселенных. Такой эксперимент обеспечил бы значительную поддержку всей теории множественности вселенных, поэтому данная область исследований является очень привлекательной. Очень важно понимать разницу между обнаружением характерных признаков соседних вселенных и доказательств существования полноценной Мультивселенной. На данном этапе часто возникает путаница, поэтому я повторю еще раз: даже если мы, будучи ограниченными нашим космическим горизонтом, сумеем получить убедительные экспериментальные доказательства существования соседних вселенных, это не обязательно будет означать, что Мультивселенная существует. Для некоторых физиков обнаружение существования другой вселенной является достаточным основанием для экстраполяции, такой концептуальный прыжок не подтверждается никакими данными. Пара расположенных по соседству домов не считается страной. Существование Мультивселенной, бесконечна она или нет, остается неизвестным.[79]
Как вы помните из нашего обсуждения космологии Большого взрыва, на данный момент нашим лучшим инструментом для изучения свойств Вселенной является фоновое космическое излучение. Могли ли другие вселенные каким-то образом оставить свой отпечаток на фотонах, движущихся через весь космос в течение последних 13,8 миллиарда лет?
Если бы я писал статью на эту тему, я бы назвал ее «Когда сталкиваются вселенные».[80] Могла ли соседняя вселенная в прошлом столкнуться с нашей? Очевидно, даже если это произошло, столкновение не было очень сильным, иначе ни нас, ни наших рассуждений об этом уже бы не существовало. Но соседние вселенные действительно могут сталкиваться по мере роста и расширения – или, скорее, касаться друг друга, потому что слово «столкновение» звучит слишком жестко. В 2007 году Алан Гут совместно с Алексом Виленкиным и Хауме Гаррига из Барселонского университета предположили, что подобное соприкосновение действительно имело место. Если представить себе два столкнувшихся мыльных пузыря, можно понять, что такое соприкосновение вызовет вибрацию поверхностей вселенных. Затем такая вибрация передастся внутрь пузыря и заставит дрожать все, что находится в нем. Столкновение вызвало бы колебания в космической геометрии обоих вселенских пузырей. Такие колебания шли бы по пространству, как волны по воде, заставляя людей и неживые объекты подниматься и опускаться. Интересно, что такие волны могут быть дискообразными – похожими на круги на поверхности воды. Соответственно, микроволновая карта неба должна отображать кольцевые узоры в том месте, где произошло столкновение.
Некоторые космологи, включая Энтони Агирре из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, Мэтью Клебана из Университета Нью-Йорка и их сотрудников, разработали теоретические сценарии того, какие следы подобных событий в прошлом могли бы дойти до наших дней. К примеру, в фотонах базового излучения могли бы наблюдаться кольцевые колебания температур разных размеров и разной интенсивности в зависимости от характера столкновения. Кроме того, фотоны также могли бы иметь поляризационный рисунок, то есть располагаться на небе в определенной последовательности, как костяшки домино, поставленные вертикально.[81] Первые исследования, проведенные с использованием данных спутника WMAP, не дали положительных результатов, но это не означает, что вопрос можно признавать окончательно решенным. Команда орбитальной станции «Планк» готовит к публикации данные, которые могут содержать сигнатуры, ожидаемые Клебаном и его командой: дискообразные круглые узоры в фоновом излучении с двумя пиками поляризации фотонов, направленными в определенную точку у края диска. Такая сигнатура будет уникальной и станет достаточным подтверждением того, что столкновение вселенных действительно имело место в далеком прошлом, ведь привести другие объяснения ее существованию вряд ли удастся.
Обратите внимание, что даже в этом случае мы не сможем узнать почти ничего о физике, действующей в соседней вселенной, то есть о существующей в ней материи и силах и о том, сходны ли ее законы с нашими (хотя расчеты параметров столкновения строятся на том, что это так по крайней мере в общем смысле). Мы всего лишь увидим призрак альтернативной реальности за пределами нашей Вселенной, манящей, но недоступной, реальной, но непознаваемой. Даже если сценарий струнного ландшафта получит косвенное подтверждение из области физики частиц и, соответственно, еще больше подкрепит гипотезу Мультивселенной, мы никогда не узнаем, сколько вселенных соприкасались с нашей в прошлом, возможно ли подобное событие в будущем и приведет ли оно к нашей гибели (скорее всего, да). Мы будем подобны героям из легенд, которые, пройдя многочисленные испытания, находят темный артефакт, обладающий невероятной разрушительной силой. Открытие соседней вселенной вызовет у нас одновременно триумфальное ликование и первобытный страх. Чтобы развить эту метафору, можно вспомнить, что мы ищем в небе кольцеобразные узоры. На ум сразу же приходят «Кольцо нибелунгов» Рихарда Вагнера и «Кольцо всевластия», принадлежавшее Владыке Саурону в книгах Дж. Р. Р. Толкина.
Несмотря на то что шансы обнаружить подобный узор в фоновом излучении крайне малы, Агирре, Клебан и их коллеги указывают на один важный момент. Существование других вселенных, которое до этого казалось предметом изучения скорее эзотерики, чем физики, сегодня находится в области экспериментально доказуемого. Как это часто случается с экзотическими темами исследований, даже пусть шансы на успех невелики, результат в случае удачи будет настолько важным, что окупит все затраченные усилия. Однако я хотел бы еще раз подчеркнуть, что обнаружение соседней вселенной нельзя будет считать доказательством существования Мультивселенной. В рамках современных физических формулировок гипотеза множественности вселенных, несмотря на всю свою убедительность, не может быть доказана экспериментально. Нельзя автоматически экстраполировать данные о двух (или нескольких) вселенных на их бесконечное количество.
Кроме того, само понятие «бесконечное количество» тоже, в принципе, не доказуемо. Для того чтобы быть уверенными в бесконечности космоса, мы должны получить сигнал с бесконечно далекого расстояния (то же самое верно для бесконечности времени и далекого прошлого). Чтобы знать о вечном расширении Вселенной, мы должны вечно отслеживать это расширение, причем мы не можем знать наверняка, не поступят ли к нам в будущем новые данные, указывающие на то, что расширение остановилось или обратилось вспять. Несмотря на то что понятие бесконечности имеет для нас огромную математическую привлекательность и кажется совершенно естественным, мы никогда не узнаем наверняка, существует ли оно в Природе. В физическом мире бесконечное означает неизвестное. Все, что мы можем, – это рассуждать о его существовании, сидя на берегу своего Острова знаний.
Инфляционная гипотеза и возможное существование Мультивселенной доводят понятие испытуемости в физике до крайности. Мы уже знаем, почему так происходит с понятием Мультивселенной, которое, в строгом смысле, нельзя подтвердить экспериментально. В случае с инфляцией все немного тоньше. Инфляционная космология в своей наиболее независимой от моделей форме делает некоторые предположения, действительность которых была подтверждена. Основные из них – плоскость Вселенной и температурная гомогенность и изотропность фонового излучения. Но нам следует помнить, что на самом деле это вовсе не предположения, проистекающие из инфляционной гипотезы. Наоборот, инфляционная гипотеза была специально создана для того, чтобы найти ответы на вопросы о плоскости Вселенной и космическом горизонте, возникающие в стандартной космологии Большого взрыва. Нет ничего удивительного в том, что она выполняет свою задачу.
Если говорить о по-настоящему новых предположениях, выдвинутых в рамках инфляционной гипотезы, то в первую очередь следует упомянуть предсказанные ею колебания гомогенного фона фотонов в микроволновом излучении. Согласно инфляционной космологии, эти колебания, похожие на крошечные волны на поверхности озера, вызываются квантовыми колебаниями скалярного поля, которое и является причиной инфляции. В процессе инфляции эти небольшие участки растягиваются на огромные расстояния, в конце концов выходящие за пределы космического горизонта. По мере расширения Вселенной некоторые из этих флуктуационных волн возвращаются в область, ограниченную космическим горизонтом, но уже в астрономическом размере. А если где-то есть избыток энергии, гравитация привлечет в это место материю (в основном атомы водорода). Точно так же и фотоны из фонового излучения будут стремиться к этим более насыщенным областям космоса, приобретая при этом энергию (то есть повышая свою температуру). Это движение будет приводить к крошечным температурным колебаниям в фоновом излучении. Через миллионы лет материя, собравшаяся в участках с избыточной энергией, превратится в первые звезды, а затем и галактики. Итак, величайший триумф инфляционной космологии состоит в том, что она описывает механизм появления галактик и объясняет их распределение в пространстве в форме иерархии скоплений, похожей на пену в ванне.[82]
Температурные колебания фотонов фонового излучения, измеренные с помощью современных спутниковых технологий и наземных детекторов, указывают на первобытные колебания материи. Исследовать их – означает открыть окно в первые секунды существования времени. Инфляционная гипотеза удивительным образом соединяет квантовый мир с миром астрономическим. Чем точнее становятся измерения, тем проще исключать неверные модели инфляции. Дополнительным признаком инфляции является спектр флуктуаций в геометрии пространства-времени: если концентрация материи колеблется определенным образом, то на это реагирует и пространство вокруг нее. Инфляция увеличивает масштаб таких пространственных колебаний и создает спектр так называемых гравитационных волн. Они также оставляют свой след в фоновом излучении. По своей природе (но не по сути) этот след похож на поляризационные флуктуации, возникающие в результате гипотетических столкновений с соседними вселенными. Остается надеяться, что орбитальная станция «Планк» сумеет измерить этот спектр поляризации. Если это будет сделано и если будет обнаружена ожидаемая сигнатура, мы сможем быть уверены, что процесс, похожий на инфляцию, действительно имел место на заре существования космоса.[83]
Тем не менее подтвердить существование явления в общем – это одно, а вот проверить экспериментально его точную формулировку – совсем другое. Инфляционная гипотеза все еще оставляет многие вопросы без ответов. Данные помогают сузить круг возможных вариантов, но текущих наблюдений (равно как и тех, которые мы получим в ближайшем будущем) недостаточно для того, чтобы точно определить причину инфляции. Было ли это скалярное поле? Если да, то что за невероятно высокие энергии вызвали его появление? Инфляция также не объясняет важного перехода от стремительного расширения к более медленному, происходящему с нашей Вселенной на протяжении последних пяти миллиардов лет. Вероятно, именно во время этого перехода, ознаменовавшего собой конец периода инфляции, Вселенная разогрелась до высоких температур, а энергия, накопленная в скалярном поле, которое стремилось к своему энергетическому минимуму, в результате своеобразного взрыва была преобразована в другие типы материи, возможно в известные нам электроны и кварки. Многие космологи сегодня называют это взрывное образование частиц истинным Большим взрывом. Несмотря на множество попыток объяснить этот процесс (некоторые предпринимал и я), у нас есть лишь общее представление о том, как проходил данный переход и какие частицы образовались в результате. Главная проблема состоит в том, что мы совершенно ничего не знаем о тех типах материи, которые существовали во времена зарождения Вселенной и соответствовали энергиям, в триллионы раз превышающим те, которых мы можем достичь в лаборатории. Астрономические наблюдения позволяют исключить некоторые космологические теории или ограничить применимость других, но не дают нам точной картины произошедшего. Мы знаем лишь то, что неверно. Эта ситуация наверняка понравилась бы философу Карлу Попперу, который говорил, что подтвердить правоту физической теории в конечном итоге невозможно – мы можем лишь доказать, что она была неправильной.
Все, что мы можем сделать с инфляцией, – это создать рабочую модель, соответствующую всем измеримым параметрам. Но такая модель может оказаться похожа на эпициклы Птолемея – фантастическое нагромождение идей, которое «работает». Возможно, многие даже поверят в ее истинность, но суть ее будет заключаться в резюмировании всего, что мы сегодня знаем о ранней космической истории.
Наша следующая задача состоит в ответе на величайший из физических вопросов – вопрос о происхождении Вселенной. Ни гипотеза об инфляции, ни концепция Мультивселенной не приближают нас к пониманию начала всего. Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо исследовать свойства материи и квантовые законы, которые их определяют. Если Вселенная расширяется с самого начала своего существования, значит, в какой-то момент времени в прошлом она была очень мала – настолько мала, что ее поведением управляли законы квантовой физики. Однако, как мы увидим дальше, эти законы заставляют нас отказаться от некоторых любимых нами представлений о том, что мы называем реальностью, и заменить их гораздо более тонкими и загадочными описаниями квантовой Вселенной и нашего взаимодействия с ней.
В квантовой физике мы сталкиваемся с двумя фундаментальными лимитами знания, о которых нам уже известно, – теми, которые налагает на нас ограниченная точность наших приборов, и теми, которые являются естественными результатами природных процессов. Эти лимиты – непреодолимые барьеры, стоящие между нами и нашими знаниями о природе реальности.
Часть II. От алхимии к квантовой физике: неуловимая природа реальности
На деле мы не знаем ничего, ибо истина скрыта в глубине.
Демокрит, фрагмент 40И почему среди всех ее разнообразных и странных трансмутаций Природа не превращает Тела в Свет и Свет в Тела?
Исаак Ньютон. Оптика (1704)Если рассматривать квантовую теорию как окончательную (в принципе), мы приходим к тому, что более подробное описание не имеет смысла, так как для него не будет существовать никаких законов. Если это так, то физика превращается в науку для торговцев и инженеров, в бессмысленную путаницу.
Альберт Эйнштейн в письме к Эрвину Шрёдингеру от 22 декабря 1950 годаКаждый шаг в изучении природы – это всегда только приближение к истине, вернее, к тому, что мы считаем истиной. Все, что мы узнаем, – это какое-то приближение, ибо мы знаем, что не все еще законы мы знаем. Все изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным или в лучшем случае потребовать исправления.
Ричард Фейнман. Фейнмановские лекции по физикеГлава 17. Все плавает в пустоте в которой мы узнаем о древнегреческой концепции атомизма
Из чего состоит бесчисленное множество вещей в мире с их разнообразными формами, текстурами и цветами? Почему страница книги, горсть песка, огонь или порыв холодного ветра кажутся нам разными на ощупь? Почему вещества изменяются под влиянием различных температур и почему эти изменения различаются в зависимости от вещества? До какой степени мы можем изменять материю, подгоняя ее под свои цели и потребности? Существует ли абсолютная пустота?
Всеми этими вопросами люди задаются уже давно. В первой части данной книги мы познакомились с философами-досократиками, которые первыми задумались о материальной природе космоса. Мы знаем, что Фалес и его последователи из ионийской школы, действовавшие во времена зарождения западной философии, еще в 600 году до н. э. предложили общую теорию Природы, в соответствии с которой все природные объекты считались проявлениями первичной субстанции, вечно изменяющегося воплощения реальности.[84] Для ионийцев сутью реальности было время. Парменид и приверженцы его идей, наоборот, полагали, что природа реальности состоит не в переменчивости, а в стабильности. То, что существует, не может измениться, а изменяясь, превращается в несуществующее. Они говорили, что истина не может быть эфемерной, и полагали вневременность основной реальности. Итак, всего в течение 100 лет философия сумела предложить человечеству два взаимоисключающих подхода к открытию природных секретов – путь существования и путь становления.
Через два века после Фалеса эта дихотомия была блестяще разрешена в работах Левкиппа и его ученика Демокрита. Вместо того чтобы рассматривать бытие и становление как два совершенно разных способа видения реальности, они предложили свое видение реальности как палки о двух концах. Согласно Левкиппу и Демокриту, все сущее состоит из крошечных, невидимых глазу частиц материи. Такую частицу они назвали атомом (в переводе с греческого – «неделимый»).[85] Атомы неизменны, поэтому они – воплощение сущего. Они движутся в пустоте, в среде, абсолютно свободной от материи. Для атомистов и атомы и пустота были одинаково важны при описании Природы. Парменид мог бы ответить им, что пустота нереальна, ведь то, чего не существует, не может быть реальностью. Если вы говорите: «Пустота существует», вы заявляете о ее реальности, а если пустота реальна, она не может быть пустотой.
Если бы атомисты могли поучаствовать в споре с Парменидом, они, скорее всего, просто пожали бы плечами и продолжили настаивать на том, что атомы движутся в пустоте. За счет комбинирования и механических перестановок атомы принимают различные формы, что объясняет разнообразие материальных объектов, видимых нами в Природе. Изменения происходят из-за перемещения неизменных атомов, как в конструкторе «Лего». Бытие и становление соединяются в единое целое, и перед нами возникает еще одна универсальная теория Природы. Несмотря на возможность трансформации и разложения, у всего сущего имеется основа, суть, остающаяся неизменной. Вода, текущая в реке, превращается в облако на небе, а затем снова проливается дождем. Желудь, растущий на дубе, сам становится деревом, на нем появляются другие желуди, и цикл повторяется. Миры разрушаются, и из их праха восстают новые. Движение атомов отражает постоянную переменчивость Природы. Укрепившись в своих представлениях, Демокрит пошел еще дальше и предположил, что наше восприятие мира объясняется влиянием атомов на органы чувств: «Цвет, сладость или горечь – лишь условность, в реальности представляющая собой только атомы в пустоте».[86] В своих многочисленных работах Демокрит предлагает мощный инструмент объяснения, основанный исключительно на материалистическом описании реальности. Тем не менее он был достаточно мудр, чтобы предостеречь читателей от иллюзии окончательности знания: «На деле мы не знаем ничего, ибо истина скрыта в глубине».[87]
В 300 году до н. э. Эпикур с удвоенной энергией обратился к идеям атомизма и уточнил некоторые расплывчатые теории своих предшественников. В частности, он указал на то, что атомы должны всегда быть невидимыми и что из их комбинаций можно собрать огромное количество различных форм (аналогов того, что мы сегодня называем молекулами): «Кроме того, неделимые твердые частицы материи, из которых формируются и на которые распадаются все составные тела, существуют в таком множестве форм, что человеческий ум не может постичь их количество».[88]
Кроме того, Эпикур расширил понятие множества вселенных (kosmoi), которое ввели до него Левкипп и Демокрит, предположив, что они разделены в пространстве четкими границами: «Количество миров, как подобных нашему, так и отличных от него, также бесконечно». Можно возразить, что под kosmoi Эпикур подразумевал другие планеты, но он специально уточняет, что речь идет о вселенных или по крайней мере о том, что мы сегодня знаем как галактики, разделенные пространственными границами: «Мир (kosmos) – это ограниченная часть вселенной, содержащая в себе звезды, и землю, и другие видимые вещи, отрезанная от бесконечности, имеющая законченную форму (круглую, треугольную или иную) и покоящаяся или вращающаяся».[89] Итак, понятие островной вселенной или, возможно, даже Мультивселенной появилось гораздо раньше, чем нам казалось.
Хотя представление об атомах древнегреческих ученых отличалось их от их современного понимания, идея о том, что материя составлена из неделимых блоков, с тех пор остается основной в физике микромира. Несмотря на свой текущий триумф, атомизм знал времена взлетов и падений, а в Средние века на Западе о нем и вовсе почти забыли. Ситуация начала изменяться только в эпоху раннего Ренессанса, когда древние атомистические тексты (в первую очередь поэма «О природе вещей» Лукреция) были вытащены с пыльных полок удаленных европейских монастырей и частных коллекций. Как пишет Стивен Гринблатт в своей блестящей книге The Swerve, мы обязаны возрождением атомизма и материализма в целом бесстрашному охотнику за манускриптами XV века Поджо Браччолини, который обнаружил копию поэмы Лукреция в груде полузабытых свитков в одном немецком монастыре.
Разумеется, существовали и другие люди, которые незаметно поддерживали жизнь в атомистических теориях, пусть и не в форме убедительной древнегреческой традиции, а посредством активной практики. Они пытались заставить материю выдать им свои тайны путем постоянного смешивания и дистилляции веществ. Ни один рассказ о попытках человечества познать Природу не будет полным без истории алхимии и ее огромном влиянии на патриархов современной науки, таких как Роберт Бойль или Исаак Ньютон. В широком смысле алхимия представляет собой мост между старым и новым миром, практическое выражение философских и духовных верований в форме научных экспериментов. Алхимики верили, что очищение материи и духа – это совместный процесс и что то, что вверху, подчиняется тем же правилам, каким подчиняется то, что внизу. Эти принципы вдохновляли лучшие умы своего времени (и вместе с ними множество мошенников) на исследование характера и состава материи и ее многочисленных трансформаций. Каждый современный ученый, который стремится расширить свои познания о фундаментальных свойствах материи и о нашей связи с космосом, идет по пути, проложенному алхимиками много веков назад.
Глава 18. Восхитительная сила и воздействие природы и искусства в которой мы погрузимся в мир алхимии – изучения скрытых сил материи с помощью научных методик и духовных практик
Трансформирующая сила Природы очевидна любому наблюдателю. Нагревание, охлаждение и смешение стихий ведет к формированию новых веществ и очистке уже существующих. Об этом было известно еще жителям Древнего Египта, хотя подобные знания наверняка появились гораздо раньше. Можно ли подчинить себе эти природные силы и использовать их для познания сути предметов и веществ? Вообще, алхимия представляет собой попытку воспроизвести возможности Природы и расширить их с помощью экспериментальных практик. Эти практики включали в себя процедуры, которые позже станут основными элементами химического анализа: дистилляцию, сублимацию, смешивание различных веществ и составов. Такой набор лабораторных технологий алхимики скромно именовали искусством.
Многие ассоциируют алхимию с черной магией и эзотерическими учениями, но их направленность в большинстве случаев не совпадает с ее истинными целями – совершенствованием металлов и человеческого духа. Несмотря на то что восточные, иудейские, мусульманские и христианские алхимики дополняли свой поиск смысла специфическими религиозными постулатами и черпали в них силу для стремления к своим целям, их практики объединяет один общий признак – вера в то, что человек, имея в распоряжении лабораторию, может исследовать природные силы и осуществлять трансформацию материи. Косвенным (а иногда и вполне прямым) результатом обладания такими способностями являлось приравнивание человека к божеству. Умелый алхимик был уже не просто человеком, и даже если он был не равен Богу, то, по крайней мере, ему были ведомы пути Творца. Многие алхимики верили, что «эликсир» – вещество, способное очищать металлы, превращая их в золото, – также продлял жизнь, давал человеку невосприимчивость ко всем болезням и останавливал процесс старения.[90]
У алхимиков не было установленного набора практик, так как их знания различались в зависимости от времени жизни и региона. Тем не менее основным источником изменений всегда был огонь с его способностью к трансформации материи. Если внутренний жар Земли смог превратить материю в отдельные вещества, а их разделить на чистые или почти чистые металлы, то и человек, обладающий достаточным терпением и правильной методикой, мог достичь того же с помощью собственного очага. Потенциально алхимик мог бы зайти еще дальше и завершить работу Природы по трансформации всех металлов в идеальное вещество – золото. Блестящий алхимик, монах ордена францисканцев и натурфилософ XIV века Роджер Бэкон писал: «Кроме того, я говорю, что природа всегда имеет своей целью и беспрестанно стремится достичь совершенства, то есть золота. Но вследствие различных случайностей, мешающих ее работе, происходит разнообразие металлов».[91]
Вскоре после того, как люди приручили огонь для приготовления пищи, обогрева жилищ и отпугивания хищников, они начали замечать и другие, менее очевидные его свойства, например, способность превращать некоторые минералы в металл. Огонь превратился в волшебный инструмент для извлечения чистой эссенции материи и раскрытия секретов, таящихся в ее глубинах.
Уже пять тысяч лет назад жители Ближнего Востока сжигали в кострах куски зеленого минерала малахита для получения меди. От момента ее открытия прошло примерно в два раза больше времени – вероятно, это произошло ненамного позже появления первых сельскохозяйственных поселений. Люди, наблюдавшие за «высвобождением» металла из горящего минерала, должны были воспринимать огонь как спасителя, открывающего ворота темницы для духа породы. Так как медь имеет довольно низкую температуру плавления – 1083 градуса по Цельсию, – ремесленники научились делать из нее чаши, украшения, плуги и другие полезные вещи. Но вот для оружия им требовалось что-то более твердое.
Потребность в военном превосходстве была основной движущей силой в поисках более прочных металлов, способных выдерживать удары и сохранять свою форму при затачивании. Об этом пишет Джаред Даймонд в своей книге «Ружья, микробы и сталь».[92] В те времена, как и сегодня, войны выигрывали те, кто владел наиболее развитыми технологиями. Первым ответом на запросы военной отрасли стала бронза – соединение (сплав) меди и еще более мягкого олова, обычно в пропорции 88 к 12 %, хотя встречались и другие рецепты. Мы не знаем, как была открыта бронза, но, скорее всего, это происходило методом проб и ошибок. Наверняка людям того времени казалось загадкой, как соединение двух мягких металлов может привести к возникновению чего-то гораздо более твердого.[93] К 3000 году до н. э., то есть к началу бронзового века, бронзовые артефакты и оружие встречались уже во многих районах Ближнего Востока. В Китае искусство работы с бронзой достигло невероятных высот, особенно во времена династии Шан (около 1500 года до н. э.). К тому моменту огонь уже был одним из главных союзников людей, инструментом для познания скрытых трансформационных сил Природы.
Опасности этого союза описываются во многих историях, но самой известной из них является греческий миф о Прометее – титане, который сделал людей из глины, а затем подарил им украденный у богов огонь. Разгневавшийся Зевс приказал навечно приковать Прометея к скале. Кроме того, каждый день к нему прилетал орел и клевал его печень. Так как печень бессмертного титана восстанавливалась за ночь, эта пытка продолжалась бесконечно. Должно быть, огонь действительно был важной тайной, раз бедный Прометей был обречен за его похищение на такие муки. Контроль над огнем был привилегией богов, посягательств на которую они не могли простить. Подобный смысл несет и изложенная в Книге Бытия история падения Адама и Евы. Вкусив плода с древа познания добра и зла, они стали смертными и были изгнаны из рая. Детали повествования могут отличаться в зависимости от религии, но суть одна: избыток знаний о скрытых силах Природы может быть опасен.
От бронзы человечество перешло к железу, и бронзовый век сменился железным. Первые образцы железа получались из метеоритов, богатых железом и никелем. Температура плавления железа примерно на 250 градусов выше, чем у меди, но зато и найти его проще. К 1300 году до н. э. выплавкой и ковкой железа занимались в Анатолии (Турция), в Индии, на Балканах и на Кавказе. Чем сложнее становились поиски олова, тем быстрее железо захватывало мир. Вскоре люди научились добавлять к железу немного углерода (обычно менее 2 %) и получать сталь – самый прочный из металлических сплавов.
Создание различных сплавов привело к появлению зачатков научной методики. Для того чтобы получить положительные результаты, требовалось подробно изучить свойства различных металлов и их сочетаний, причем всегда в присутствии огня. Кроме того, люди понимали, что повторяющиеся действия ведут к одинаковым результатам, то есть что Природе присуща регулярность. Пускай никто специально не занимался поиском естественных причин, вызывающих трансформацию материи в горне или при ковке, люди постепенно приходили к пониманию того, что они могут использовать природные силы, чтобы манипулировать материей и обращать ее себе на службу. Подобные знания часто считались священными, а тех, кто ими обладал, наделяли божественным статусом. Алхимия родилась из союза священного и практического, из мечты о том, что познание тайн Природы может приблизить человека к Божественной мудрости.
Из трех основных направлений алхимии – китайского, индийского и западного – нам больше всего известно о последнем. Нет смысла напоминать читателям о захватывающей ранней истории алхимии в Европе. Я бы хотел остановиться лишь на ее связи с корпускулярной теорией и ключевой роли в возникновении современной науки. Главным действующим лицом в этом процессе был Джабир ибн Хайян, придворный алхимик аббасидского халифа Харуна ар-Рашида, проживавший в тогдашнем центре мусульманского мира – Багдаде. Джабир (также известный под латинизированным именем Гебер), судя по всему, первым начал использовать кристаллизацию для очистки веществ, а также выделил несколько кислот: лимонную, винную, уксусную, хлористо-водородную и азотную. Возможно, он даже соединил две последние в «царскую водку», или aqua regia, – крайне агрессивное едкое вещество, которое называется так за свою способность растворять «царские» металлы золото и платину.[94]
Отличительной чертой Джабира было его внимание к деталям и методикам – признак зарождающегося научного подхода. Он писал: «Самое важное в химии – это практическая работа и проведение опытов, ибо тот, кто не работает практически и не проводит опыты, никогда не достигнет даже низшего уровня мастерства».[95] Несмотря на то что его труды, как и работы большинства алхимиков, наполнены запутанным символизмом и мистическими образами (существует даже версия, что английское слово gibberish – «чепуха, белиберда» – происходит от имени Гебер), Джабиру приписывают использование и, возможно, изобретение большей части стандартного оборудования химических лабораторий, например перегонного куба и разнообразных реторт для дистилляции. Его огромный труд, оказавший большое влияние на средневековых алхимиков, включает в себя текст знаменитой Изумрудной скрижали – загадочной и, как считается, древней алхимической книги, авторство которой приписывают легендарному Гермесу Трисмегисту (Гермесу Триждывеличайшему – божеству, сочетающему в себе черты египетского бога мудрости и покровителя наук Тота и греческого бога-посланника Гермеса).
Изумрудная скрижаль имеет значимость не только как главный священный текст алхимии, но и как документ, постулирующий единство космоса в качестве фундаментального алхимического принципа («как на Земле, так и в небесах»). Она состоит из 13 туманных строк, которые, как считается, скрывают в себе все секреты и задачи алхимии. Об огромном влиянии этого документа на науку говорит тот факт, что его перевод был найден в многочисленных алхимических записях Ньютона. В частности, Ньютон перевел вторую строку скрижали так: «То, что снизу, равно тому, что сверху, а то, что сверху, – тому, что снизу, и вместе они чудесным образом составляют единство».[96] Ньютоновская теория гравитации, вводящая одинаковые законы притяжения массы как на Земле, так и в небесах, была практическим выражением этого алхимического принципа (об этом я уже упоминал в первой части книги). Объединение работает в две стороны: небеса становятся ближе к Земле, а Земля – к небесам. Те, кто понимает это, приближаются к божественному сознанию. Недавние работы Бетти Джо Титер Доббс и других историков науки, посвященные жизни и трудам Ньютона, не оставляют сомнений в том, что именно это и было его основной мотивацией.
Как многие из вас знают, главной целью алхимии является превращение «нечистых» металлов в чистейший из них – золото, «металл, который не ржавеет».[97] «Итак, алхимия – это наука, которая учит нас, как создать и составить некое лекарство, называемое “эликсиром”, которое при соприкосновении с металлами или несовершенными телами делает их идеальными во всех отношениях», – писал Роджер Бэкон в своем «Зеркале алхимии». «Философский камень», или эликсир (это слово происходит от арабского al-iksir, «эффективный рецепт»), считался активным катализатором, способным устранить все недостатки и завершить прерванную работу Природы. Согласно Бэкону, который, в свою очередь, следовал инструкциям Джабира, двумя «принципалами» среди металлов были ртуть и сера: «Из чистоты и нечистоты вышеупомянутых принципалов, ртути и серы, рождаются чистые и нечистые металлы, а именно золото, серебро, сталь, свинец, медь и железо».[98] Сера – это загрязнитель, горючий и переменный, а ртуть – очиститель, плотный и постоянный. Большая или меньшая степень чистоты металла зависит от их соотношения.
В некоторых традициях эликсир также мог влиять на самого алхимика. Философский камень очищал не только металлы, но и души, вознося человека над двумя величайшими скорбями – болезнью и смертью. Лабораторная процедура химической очистки требовала терпения, отдачи и постоянного повторения и таким образом очищала и человеческую душу. Только чистые сердцем могли рассчитывать на успех в своих поисках.
Наука – это корпус знаний, полученных в результате методического изучения природных процессов. Если придерживаться этого определения, то мы можем видеть, как алхимики (или мошенники, притворявшиеся ими) пытались использовать науку своего времени для того, чтобы поднять все человечество (или хотя бы самих себя и своих покровителей) над болезнями и бедностью. Врач и алхимик немецко-швейцарского происхождения Парацельс, живший в начале XVI века и ставший основателем токсикологии, служит прекрасным примером связи между оккультными и научными практиками. В алхимии заметна тенденция, которая жива и в современных научных исследованиях: стремление к богатству и избавлению от болезней за счет честного использования природных ресурсов или нечестного манипулирования ими. Одной из задач науки является прекращение человеческого страдания, и корни этой задачи уходят в древние алхимические практики.
Описывая природные трансформации, Аристотель наделял каждую из четырех основных стихий определенными качествами, которыми они могли обмениваться. Земля была сухой и холодной, вода – влажной и холодной, воздух – влажным и теплым, а огонь – сухим и теплым. Изменения материи происходили за счет смешения стихий и их качеств. По словам историка науки Уильяма Р. Ньюмена, Джабир перенес Аристотелевы понятия влажности и сухости на два базовых элемента – серу (сухую) и ртуть (влажную). Соответственно алхимические практики были направлены на изменение соотношений этих качеств, которые проявлялись в различных металлах в разных пропорциях. Когда Псевдо-Гебер написал в XIII веке свой влиятельный труд Summa Perfectionis («Сумма совершенств»), он приписал выделенные Джабиром качества корпускулам серы и ртути, которые могут иметь различные размеры, чистоту и соотношение. В соответствии с греческой атомистической традицией корпускулы считались неизменными и сохраняющими свои свойства в различных химических процессах, а также состоящими из еще более мелких частиц четырех основных стихий. «Соответственно, ртуть и сера сами по себе формируют вторичные частицы большего размера, чем их элементарные составляющие, и эти вторичные частицы благодаря своему прочному строению имеют полупостоянное существование», – отмечал Ньютон в своих заметках к трудам Псевдо-Гебера.[99] Эта картина поразительным образом схожа с современными представлениями о фундаментальных частицах (электронах, протонах и нейтронах), из которых состоят атомы разных элементов (или об атомах, составляющих молекулы).
Подобные идеи, представленные в трудах Псевдо-Гебера, указывают на то, что корпускулярная теория была популярна среди алхимиков. Она повлияла не на кого иного, как на Роберта Бойля, натурфилософа XVII века, который считается родоначальником современной химии и у которого Исаак Ньютон учился алхимии. В то время наука еще не отделилась окончательно от своих прародителей. Механическая философия Бойля, изображавшая материю состоящей из частиц с определенным размером, формой, движением и текстурой, зародилась из средневековой алхимии.
Ньютон надеялся узнать у Бойля секреты алхимии, но тот, судя по всему, рассказал своему ученику не слишком много. Бойлю удалось синтезировать одно из веществ, о котором мечтали алхимики, – так называемую красную землю; она считалась последним этапом работы перед получением философского камня и якобы тоже могла превращать свинец в золото, пускай и не так эффективно. Ньютону удалось получить образец «красной земли» только после смерти Бойля в 1691 году благодаря его душеприказчику, философу-эмпирику (и алхимику) Джону Локку.
Еще одним желанным результатом алхимических опытов была философская ртуть – жидкая форма ртути, способная медленно растворять золото, а значит, являющаяся очередным шагом на пути к заветной цели. Лоуренс Принсип, химик и историк науки из Университета Джонса Хопкинса, после множества неудачных попыток сумел получить философскую ртуть по рецепту Бойля. В лучших алхимических традициях Принсип смешал ее с золотом и поместил в плотно закрытое стеклянное яйцо. Впоследствии он рассказывал научной журналистке Джейн Босвельд, что смесь начала подниматься, «как заквашенное тесто». После этого она стала вязкой, затем жидкой, а после нескольких дней нагревания превратилась в «древовидный фрактал»: «Металлическое дерево, вроде тех, которые шахтеры находят под землей, только состоящее из золота и ртути».[100]
Представление о том, что металлы растут под землей, как ветви деревьев, добавляет к алхимии Ньютона и Бойля органическую составляющую. Лаборатория была координатором, местом, где алхимик мог воспроизвести действия Природы, а если повезет – то и ускорить их с помощью тщательно подобранных методов. Ньютон написал огромный труд по алхимии (больше миллиона слов), но, желая оставить свои открытия в секрете, зашифровал его так, что мы не можем прочесть его до сих пор. Тем не менее некоторые из его алхимических точек зрения (включая органические и атомистические взгляды) проявляются и в его чисто научных работах, например в «Началах» или «Оптике». В частности, в конце третьей книги «Начал» он пишет:
Пары, производимые Солнцем, неподвижными звездами и кометными хвостами, могут от своего тяготения падать в атмосферы планет, здесь сгущаться и превращаться в воду и влажные спирты и затем от медленного нагревания постепенно переходить в соли, в серы, в тинктуры, в ил, в тину, в глину, в песок, в камни, в кораллы и другие земные вещества.[101]
Этот пассаж ярко иллюстрирует веру алхимиков в то, что Природа путем медленного нагревания превращает первичную космическую субстанцию в различные вещества. Тем не менее в предисловии к «Началам» Ньютон пишет о своей вере в атомистический состав материи: «Ибо многое заставляет меня предполагать, что все эти явления обусловливаются некоторыми силами, с которыми частицы тел вследствие причин, покуда неизвестных, или стремятся друг к другу и сцепляются в правильные фигуры, или же взаимно отталкиваются и удаляются друг от друга».[102]
«Многое», заставляющее Ньютона «предполагать», очевидно, было результатом его алхимических экспериментов, а выражение «все эти явления обусловливаются некоторыми силами» указывало на его веру в единство Природы, в которой несколько сил могли объяснить огромный спектр явлений. Наконец, описание притяжения и отталкивания «частиц тел», которые «сцепляются в правильные фигуры» кажется смелой попыткой проникнуть в тайны образования атомов и формирования из них молекул с определенной симметрией.
В «Оптике» Ньютон, что называется, дал себе волю более свободно рассуждать о природе материи и света. При этом интуиция часто приводила его к невероятно точным выводам: «Разве все неподвижные Тела, нагретые выше определенного градуса, не излучают Свет и сияние и разве не является это Излучением, производимым вибрирующими движениями их частиц?»[103] Это абсолютно точное описание того, что происходит, когда нагретое тело испускает электромагнитное излучение (иногда в форме видимого света) в результате внутренней вибрации своей твердой структуры и скачков электронов между атомными орбитами (о чем мы подробно поговорим чуть позже).
Согласно Ньютону, свет тоже состоит из корпускул: «Все Тела состоят из твердых частиц, иначе Жидкости не застывали бы… Даже Лучи Света кажутся твердыми телами… Соответственно, Твердость можно считать Свойством всей чистой Материи».[104] Довольно интересное замечание, особенно если учесть все то, что мы сегодня знаем о свойствах света. Ньютон даже рассуждает о возможном переходе света в материю и наоборот: «И почему среди всех ее разнообразных и странных трансмутаций Природа не превращает Тела в Свет и Свет в Тела?»[105] Именно эта трансформация лежит в основе теории относительности Эйнштейна и воплощена в формуле Е = mc2. Разве это не удивительно?
Глава 19. Загадочная природа тепла в которой мы узнаем о флогистоне и теплороде, странных веществах, введенных для объяснения природы тепла, и о том, как впоследствии эти объяснения были опровергнуты
Начало науки скрыто в ртутном тумане, который клубится над тиглем алхимика, вдохновленного видениями небесного совершенства. Но, совершив резкий поворот к новой эре, наука начала стыдиться своего мистического прошлого. В научных трактатах больше не упоминали Бога, а при описании природных явлений не использовали религиозную терминологию – она уступила место точному механическому стилю, облеченному в строгие одежды математики. Ньютоновская теория природы, описывающая, как большие и малые материальные объекты реагируют на силы притяжения и отталкивания, возникающие между ними, стала путеводной звездой Просвещения. Несмотря на всю свою сложность, мир мог быть методически изучен путем разбиения на мельчайшие частицы, поведение которых определяется суммой воздействующих на них сил. Ньютоновская физика запустила стремительный процесс научного редукционизма.
Изменения продолжали набирать скорость. Если частицы материи удерживались вместе силами, то для преодоления их хватки требовались бо́льшие силы. Как и в алхимии, ключевым элементом в данном случае считалось тепло. При нагревании лед превращался в воду, а вода – в пар. Большинство веществ так или иначе реагировали на тепло: газы расширялись и увеличивались в объеме, твердые вещества (даже самые прочные металлы) таяли и становились жидкими. Уже в 1662 году Роберт Бойль доказал, что давление определенного количества газа при постоянной температуре обратно пропорционально его объему. Иными словами, если поместить газ в сосуд и сжать поршнем, давление газа увеличится настолько же, насколько уменьшится его объем. Три главные макроскопические переменные – давление, объем и температура, – будучи напрямую измеримыми, позволяли проводить количественное изучение газов и их свойств. При сохранении объема газа и повышении температуры давление увеличивалось пропорционально. И наоборот, если давление оставалось постоянным, а температура повышалась, рос объем газа.[106]
Важно отметить, что такая пропорция верна для любого газа. Именно так появляются физические законы: на основании нескольких примеров определяется тенденция, а затем она переносится на целый класс веществ или объектов. Такая генерализация проверяется экспериментально в максимально широком ряде опытов до тех пор, пока не перестанет быть применимой. Например, в случае газов это может случиться при достижении экстремальных условий, ведущем к изменению обстоятельств и самого закона. При очень высоком давлении газы могут принимать жидкую или даже твердую форму. Но очевидно, что такое общее поведение и исключения из него должны определяться составом газа.
Ответ на этот вопрос был обнаружен в начале XVIII века, забыт, повторно найден век спустя, отклонен и наконец через несколько десятков лет снова принят, хотя и не без сомнений. Нужно сказать, что такие отклонения и сомнения не были полностью безосновательными, ведь предлагаемый ответ создавал опасный прецедент. Физическое объяснение свойств газа строилось на предположении о существовании невидимой реальности, недоступной ни нашим органам чувств, ни даже измерительным приборам. Можно ли использовать нечто, что мы не можем увидеть и в существовании чего мы даже не уверены, для объяснения результатов измерений? Если да, то как провести границу между невидимой и недоступной реальностью и фантазиями? Грубо говоря, если мы не можем увидеть ни атомы, ни фей, почему мы считаем, что атомы существуют, а феи – нет?
В 1738 году блестящий голландский математик Даниил Бернулли, действуя в истинном духе атомизма, предположил, что газы состоят из множества крошечных молекул, движущихся случайным образом и периодически сталкивающихся друг с другом без значительной потери энергии в процессе. Основываясь на своей атомистической гипотезе, Бернулли доказал, что давление газа возникает в результате ударов молекул о стенки сосуда. Согласно закону Бойля, если уменьшить объем сосуда с газом вдвое, сохранив при этом неизменную температуру, давление увеличится в два раза. Бернулли объяснял это тем, что при уменьшении объема молекулы имеют меньше простора для движения и потому чаще сталкиваются со стенками. Макроскопическим эффектом таких постоянных столкновений становится увеличение давления газа. Иными словами, Бернулли попытался объяснить макроскопическое свойство газа (давление) с помощью невидимых глазу микроскопических объектов. Значило ли это, что атомизм наконец-то превратился в точную науку?
До 1845 года в этой области не происходило ничего серьезного, но затем британский физик Джон Джеймс Уотерстоун подал в Королевское научное общество заявление о том, что он сумел связать температуру и давление газа с его крошечными молекулярными составляющими. Он доказал, что температура газа пропорциональна квадрату средней скорости его молекул, а давление – плотности молекул, умноженной на квадрат их средней скорости.[107] Это была беспрецедентная попытка связать температуру с движением. Еще более удивительной ее делал тот факт, что речь шла о движении невидимых объектов.
В течение многих столетий ученые пытались познать природу тепла, изобретая хитроумные объяснения и часто путая тепло и горение. Первым таким объяснением был флогистон – магическое вещество, из-за которого предметы могли гореть. Предположение о его существовании высказал немецкий врач и алхимик Иоганн Иоахим Бехер в 1667 году. Он заявлял, что языки пламени появляются, когда горючее вещество испускает флогистон. «Дефлогистированное» вещество, наоборот, будет несгораемым. Сомнения в гипотезе о флогистоне возникли, когда было доказано, что масса металлов увеличивается при сгорании. Это привело к возникновению совершенно диких теорий, например, о том, что флогистон имеет отрицательный вес или что он легче воздуха. Такое часто случается в науке: когда убедительная идея ставится под сомнение, на ее спасение бросаются все силы, пусть такие меры и кажутся отчаянными. Идея флогистона была окончательно отброшена только в 1783 году, когда Антуан Лоран Лавуазье с помощью ряда революционных экспериментов доказал, что для горения требуется газ, имеющий массу (кислород), и что в каждой химической реакции, включая горение, общая масса реактивов остается одинаковой.
Объяснив процесс горения, но все еще не поняв до конца природу тепла, Лавуазье предположил существование нового вещества – теплорода. Согласно его теории, передача тепла от горячего объекта к холодному осуществлялась в форме потока теплорода. Учитывая, что общая масса на входе и на выходе любой реакции остается неизменной, Лавуазье заключил, что теплород не имеет массы, а его общее количество в Природе является константой. За этой теорией последовало множество объяснений разнообразных явлений с участием тепла. Несмотря на кажущуюся логичность, все они были ложными. К примеру, горячий чай якобы остывает, потому что теплород, имеющий более высокую концентрацию в теплом воздухе, медленно оттекает из более теплых областей пространства в более холодные (то есть из горячей жидкости в более прохладный воздух вокруг чашки). Теплород был своего рода эфиром, способным двигаться, не имеющим веса, но удобным для объяснения многих природных явлений.
Первым человеком, поставившим под сомнение гипотезу о теплороде, был граф Румфорд, лоялист из Нью-Гемпшира, по биографии которого можно было бы снять неплохой эпический фильм. После отъезда из Соединенных Штатов он занимал множество должностей, и в том числе был специалистом по артиллерийским боеприпасам в Баварии. В его обязанности входило надзирать за тем, как создаются пушки. Когда в цилиндрической металлической заготовке огромным сверлом проделывалось дуло, для уменьшения жара от трения использовалась вода. Румфорд заметил, что в процессе сверления тепло никогда не оттекало от металла, а вода постоянно кипела. В 1798 году он записал: «Если изолированное тело или система тел может создавать нечто без ограничений, это нечто не является материальной субстанцией».[108] Далее он предположил, что тепло возникает не из-за потока теплорода, но из-за трения между сверлом и металлом. Итак, заключил он, тепло – это производная движения, а не вещество. Несмотря на то что научное сообщество не сразу приняло его идеи, эксперимент Румфорда посеял зерно сомнений. Возможно, тепло действительно было не веществом, а свойством вещества.
Второму и куда более опасному испытанию гипотеза о теплороде подверглась со стороны Джеймса Прескотта Джоуля, который в 1840-х годах провел серию детально проработанных экспериментов, чтобы определить, как механическая работа может приводить к повышению температуры. Джоуль опустил в бочку с водой вращающиеся лопасти, чтобы точно определить количество механической работы, необходимой для того, чтобы поднять температуру воды на 1 градус по Фаренгейту. С помощью полученных результатов он смог объяснить процесс сохранения и передачи энергии, ответственный за нагревание и охлаждение веществ. По мере того как лопасти заставляют воду двигаться, ее молекулы разгоняются и набирают скорость. Увеличение скорости ведет к повышению температуры, как и предполагал Уотерстоун. Джоуль был знаком с работами Джона Херэпэта и Джеймса Уотерстоуна о микроскопической теории газов, а его учителем был сам Джон Дальтон, главный приверженец атомистической теории, который еще в начале XIX века предположил, что химические реакции происходят в результате обмена атомами между веществами. Например, олово могло соединиться с одним или двумя атомами кислорода и массы полученных смесей отражали бы количество кислорода в каждой из них. Дальтон считал, что каждый элемент имеет собственные атомы, которые не распадаются в ходе химических реакций. Кроме того, атомы различных элементов могли связываться друг с другом, образуя комплексы, которые мы сегодня называем молекулами.
В период между зарождением микроскопической теории газов и атомистическим объяснением химических реакций, разработанным Дальтоном, представление о том, что материя имеет корпускулярную структуру, постепенно набирало вес. Взлет и падение флогистона и теплорода в качестве объяснений процесса горения и тепла ярко иллюстрируют процессы, происходящие в науке. По мере того как ученые пытаются объяснить природные явления, они создают все новые и новые гипотезы и готовы яростно их защищать. Так и должно быть, учитывая, что чем более убедительной является идея, тем больше чувств она вызывает у своих создателей и последователей. Однако научные гипотезы должны постоянно подвергаться эмпирической проверке, поэтому они остаются в силе ровно до тех пор, пока не будут опровергнуты или ограничены. Объяснение может казаться достаточным для описания данных («сохранения фактов», как говорил Платон), даже если по сути оно неверно. Эпициклы были совершенно искусственным понятием, но описывали движение небесных светил с достаточной точностью. Флогистон и теплород были далеки от реальной физики, но хорошо объясняли горение и существование тепла. Способность науки добиваться все более и более точных описаний физической реальности основывается на нашем умении проверять верность предположений со все возрастающей точностью. Если движение к большей точности блокируется или прерывается, научный прогресс останавливается. Исследования расширяют границы Острова знаний (а иногда и, наоборот, отодвигают их назад). То, что в океане неведомого вокруг него нет ни одного маяка, чтобы указать нам путь, делает научный поиск одновременно и сложнее, и интереснее. И нет лучшего примера этого поиска, чем изучение света и его туманной природы.
Глава 20. Таинственный свет в которой мы узнаем, как загадочные свойства света стали причиной целых двух научных революций в начале ХХ века
Мы создания света, этого таинственного и странного явления, которое и сегодня остается загадкой для многих из нас.
Свет, который мы получаем от Солнца, представляет собой совокупность множества электромагнитных волн, каждая из которых имеет свою длину. Небольшая видимая часть этого множества, спектр от красного до фиолетового цвета, состоит из волн длиной от 400 до 650 миллиардных долей метра (нанометров). Длина волны – это расстояние между двумя ее последовательно идущими гребнями. Соответственно, когда мы говорим о коротких волнах, мы имеем в виду, что их гребни расположены плотно. В длинных же волнах дистанция между двумя гребнями больше.
По сути, все мы продукты эволюции, происходившей на нашей планете в течение четырех миллиардов лет под ярким солнечным светом. Солнце, поверхность которого имеет температуру около 5500 градусов Цельсия, в соответствии с неформальной классификацией звезд считается желтым карликом и испускает большую часть света в желто-зеленом спектре. На самом деле поверхность Солнца белая, а желтоватый цвет, который мы видим с Земли, объясняется рассеиванием синих частот при прохождении солнечного света через атмосферу. В дневные часы Солнце кажется нам очень ярким, потому что свет отражается от молекул азота и кислорода в воздухе. Этим же объясняется и голубой цвет неба: воздух гораздо эффективнее рассеивает короткие волны, чем длинные, а синий имеет меньшую длину волны, чем красный или желтый. Если посмотреть на небо в сторону от Солнца, мы увидим ту часть солнечного света, которая рассеивается лучше всего, то есть синий и немного белого цвета.[109] Учитывая, что размеры молекул воздуха в тысячи раз меньше стандартной длины волны, можно понять, почему синий цвет рассеивается лучше всего. Желтый и красный цвета с большой длиной волны прокатываются по воздуху, как волны по каменистому берегу, не замечая мелких преград на своем пути. На закате солнечный свет падает на Землю по касательной, и ему требуется больше времени на прохождение через атмосферу. Поэтому большая часть синего цвета рассеивается еще до того, как свет достигнет низкой высоты. В результате мы видим больше красного и оранжевого, чем синего и зеленого. В пасмурные дни капли воды и кристаллики льда, из которых состоят облака, рассеивают все волны, из которых состоит солнечный свет, равномерно, и в результате он приобретает белесый цвет.
Вопреки нашим наивным предположениям, свет, который воспринимают наши глаза, составляет менее половины всего излучения, которое Земля получает от Солнца. Без научных приборов, регистрирующих то, что невидимо для глаз, наши знания о физической реальности были бы крайне ограниченны. Но, даже располагая необходимыми инструментами, мы должны помнить, что их возможности имеют границы, и обзор с нашего Острова знаний обладает своим горизонтом. Чем больше мы видим, тем к большему стремимся.
Видимый свет составляет всего 40 % от всего солнечного излучения, попадающего в верхние слои нашей атмосферы. Оставшаяся часть – это 50 % инфракрасного и 10 % ультрафиолетового излучения. Благодаря защите атмосферы лишь 3 % ультрафиолетовых лучей достигают поверхности планеты, а объем видимого света увеличивается до 44 %. В случае с Солнцем (как и во многих других случаях) то, что мы видим, и то, что мы получаем, – это совсем не одно и то же. Наши органы чувств были сформированы естественным отбором так, чтобы повысить наши шансы на выживание на этой планете. Жители других планет с другим атмосферным составом и большим или меньшим количеством звездного света могли бы развить у себя чувствительность к другим частям электромагнитного спектра. Даже на Земле ночные животные, пещерные и глубоководные существа имеют разные механизмы адаптации (вспомните, например, об эхолокации у летучих мышей и о свечении глубоководных рыб).
Все приведенные выше объяснения стали возможными в результате триумфа физики XIX века – описания света как вибрации электромагнитных полей. Каждый источник электромагнитного излучения можно свести к осциллирующим, или ускоряющимся, электрическим зарядам. В 1861–1862 годах шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл, работавший в лондонском Кингс-колледже (моей альма-матер), доказал существование связи между электричеством и магнетизмом, что позволило ему совершенно по-новому описать взаимодействие материальных объектов. До этого подобные описания строились на понятии сил – например, силы притяжения Ньютона или силы, которую мы прилагаем к педалям велосипеда, когда едем в гору. Вдохновленный идеями Майкла Фарадея, Максвелл предложил свою знаменитую теорию электромагнитного поля. С тех пор именно она применяется в физике для объяснения взаимодействия самых разных объектов, от электронов до звезд. Сила – это производная поля.
Данная концепция стала настолько всеобъемлющей, что применяется уже не только к взаимодействиям между объектами. Мы можем говорить о температурном поле в помещении (то есть о том, как температура меняется от точки к точке) и о поле скорости воды в реке или ветра в атмосфере. Электрический заряд создает вокруг себя электрическое поле, представляющее собой его пространственное проявление. Другой заряд, приближающийся к первому, сможет почувствовать его присутствие на расстоянии, причем чем ближе будет первый заряд, тем выше окажется значение поля. Одинаковые заряды притягиваются, а противоположные отталкиваются. То же самое происходит и с магнитами. Вы можете провести быстрый эксперимент: снимите два магнита с холодильника и попытайтесь соединить их. В какой-то момент они начнут сопротивляться вашим действиям. Судя по всему, пространство вокруг магнитов наполнено чем-то, что заставляет их отталкиваться друг от друга. Это что-то называется магнитным полем. Точно так же и масса вашего тела создает вокруг вас гравитационное поле. Другие массы чувствуют его присутствие и притягиваются к нему с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния до вас.
При колебании электрического заряда поле колеблется вместе с ним. Чтобы понять, как это происходит, представьте себе пробку, болтающуюся на поверхности воды. По воде от нее расходятся двухмерные круги. Колеблющийся заряд точно так же испускает электрические волны, но в трех измерениях. По мере колебания его скорости также возникает магнитное поле, которое начинает колебаться вместе с электрическим. Одно поле цепляется за другое, и оба они постепенно удаляются от заряда. Отличие от кругов на воде только в том, что эти поля направлены перпендикулярно друг другу, как концы креста. Если заряд колеблется вверх и вниз, магнитное поле будет двигаться вправо и влево и волны будут перемещаться в направлении, перпендикулярном кресту (мы говорим об электромагнитных волнах, что они поперечны).[110]
Итак, движущийся заряд создает колеблющиеся электрические и магнитные поля, которые расходятся в пространстве. Максвелл показал, что в вакууме скорость такого их распространения равняется скорости света. Это подтолкнуло его к потрясающему выводу: свет представляет собой электромагнитное излучение, электрические и магнитные поля, распространяющиеся в форме волн. Единственное различие между, например, красным и фиолетовым цветом состоит в том, что длина волны у первого больше, чем у второго. Между короткими и длинными волнами в электромагнитном спектре находятся и другие типы излучения: радиоволны, микроволны, инфракрасные волны, видимое излучение, ультрафиолетовые волны, рентгеновские и гамма-лучи (самые короткие и обладающие наибольшей энергией).
Если свет (как уже упоминалось ранее, этим словом я обозначаю все виды электромагнитного излучения) – это волна, то в чем он распространяется? Другие, более привычные нам волны представляют собой колебания среды: волны могут возникать на поверхности воды, звуковые волны – это изменения давления воздуха, а если взять веревку за один конец и хорошенько встряхнуть, по ней тоже пойдут волнообразные движения. Так в чем же появляются волны света? Это одна из множества связанных с ним загадок. Сегодня мы знаем, что свету не нужна материальная среда для распространения. Он может двигаться в вакууме, и для этого ему нужно всего лишь содействие электрических и магнитных полей. Разумеется, свет может проходить и через материальную среду. Каждый из нас хотя бы раз открывал глаза под водой или смотрел через стекло. В результате движения в среде свет теряет часть своей скорости, так как световые волны заставляют электрические заряды, из которых состоит материальная среда, колебаться вместе с ними.
Для физика XIX века было очевидно, что свет отличается от других волн, так как для движения ему не требуется обычная среда. Тем не менее, по мнению Максвелла, что-то должно было выступать в ее роли. Он потратил много лет на создание все более и более странных механических моделей для объяснения распространения электромагнитных волн в пространстве. Например, он пытался ввести понятие новой среды, люминофорного эфира, предназначенной исключительно для переноса световых волн. За два века до этого Ньютон и голландский ученый Христиан Гюйгенс независимо друг от друга взялись за изучение природы света и пришли к противоположным выводам. Ньютон, преданный последователь атомизма, предположил, что свет состоит из крошечных корпускул, но не смог доказать, что все свойства света соответствуют этому утверждению. С пропусканием и отражением света (в форме прямых лучей) проблем не возникало. Гораздо сложнее было объяснить явления рефракции (изменения в направлении распространения луча при прохождении через разные среды) и дифракции (распределения волн при прохождении через узкую преграду). Гюйгенс, в свою очередь, считал, что свет – это волна, которая движется в среде, подобной эфиру.
Борьба между приверженцами корпускулярной и волновой теории продолжалась до начала XIX века, когда Томас Юнг и Огюстен Жан Френель независимо пришли к концепции света как поперечной волны. В частности, Юнг провел серию экспериментов, включающих в себя дифракцию, и убедительно доказал, что свет является волной. Янг прорезал в листе бумаги прямоугольное отверстие, поместил в него человеческий волос, а затем подсветил его свечой. В своих заметках от 1802 года он пишет: «Когда волос приблизился к краю свечи достаточно близко, чтобы на него падало достаточно света, начали появляться [чередующиеся черные и белые] полосы и легко было заметить, что их ширина была пропорциональна видимой ширине волоса, от которого они отходили».[111] К тому моменту, как Максвелл доказал, что свет представляет собой поперечную электромагнитную волну, корпускулярная теория Ньютона была забыта. Эксперименты показывали, что свет при столкновении с препятствием ведет себя так же, как волны воды, и демонстрирует те же интерференционные узоры.
Однако чем больше внимания уделялось природе света, тем более странным казалось понятие эфира. Как и флогистон и теплород, он казался скорее не физическим, а магическим явлением. Чтобы заполнять собой все пространство, люминофорный эфир должен был быть жидкостью, подобной эфиру Аристотеля. Но при этом он одновременно должен был быть крепче стали (чтобы обеспечивать движение коротких волн) и прозрачнее стекла (иначе мы не могли бы видеть свет далеких звезд). Кроме того, у него не должно было быть ни массы, ни вязкости и он не должен был бы мешать орбитальному движению планет. Тот факт, что большая часть самых светлых научных умов того времени приняла подобную странную концепцию с полной уверенностью, показывает, как сложно отказаться от предубеждений, рожденных опытом. Волна должна была в чем-то распространяться. Ученому XIX века было гораздо проще поверить в эфир, чем предположить, что свет может двигаться в вакууме. Космос снова казался людям наполненным какой-то размытой субстанцией, недоступной для восприятия.
Для того чтобы эфир можно было признать полноправным физическим явлением, его следовало прямо или косвенно обнаружить. Учитывая его сверхъестественные свойства, первый вариант исключался, ведь для того, чтобы что-то можно было обнаружить, это что-то должно взаимодействовать с приборами. А какой детектор сможет засечь нечто неосязаемое и не имеющее вязкости? Итак, требовались косвенные доказательства, и найти их было не так-то просто.
В 1887 году Альберт Михельсон и Эдвард Морли провели блестящий эксперимент, чтобы измерить влияние эфира на распространение света. Они исходили из предположения о том, что если эфир действительно существует, то он представляет собой инертную среду в состоянии абсолютного покоя – что-то вроде воздуха в тихий ясный день. Максвелл доказал, что электромагнитные волны движутся в неподвижном эфире со скоростью света. Но уже со времен Галилея ученым было известно, что скорости измеряются с использованием заданной точки отсчета. Например, если вы стоите у магазина, а мимо вас проезжает машина, вы измеряете ее скорость относительно вашего состояния покоя. Но если вы не стоите, а едете на велосипеде в том же направлении, то скорость машины относительно вас будет меньше. Введение абсолютной системы координат не соответствовало понятию относительности, так как в таком случае все скорости можно было бы измерять относительно эфира. Каким бы радикальным ни казалось это объяснение, альтернатива, то есть движение света в вакууме, выглядела еще хуже.
У Михельсона и Морли возникла хитроумная идея. Раз Земля движется вокруг Солнца, то ей навстречу должен дуть эфирный ветер. То же самое происходит, когда мы едем на велосипеде или в машине даже в самую безветренную погоду. Мы все равно чувствуем движение воздуха себе в лицо. Если пустить луч света в направлении, противоположном направлению эфирного ветра, скорость его движения должна будет замедлиться. И наоборот, луч, направленный по ходу вращения Земли вокруг Солнца, не должен встретить никаких препятствий. Научное сообщество было шокировано, когда Михельсон и Морли провели измерения в двух перпендикулярных направлениях и не обнаружили никакой разницы. Их эксперимент показал, что свет движется с одинаковой скоростью, в какую бы сторону он ни светил. Если эфир и существовал, то свет, очевидно, никак на него не реагировал, что лишало эфир всякого смысла.[112]
Началась паника. Многие пытались придумать правдоподобные объяснения тому, почему эксперимент «провалился». К примеру, ирландский физик Джордж Фицджеральд и голландский ученый Хендрик Антон Лоренц независимо друг от друга предположили, что любой материальный объект, движущийся в направлении, противоположном эфиру, немного сжимается, включая и приборы для наблюдения. Чем быстрее движение, тем сильнее должно было быть сжатие. Если бы теория Фицджеральда и Лоренца была правдой, она бы объяснила, почему эксперимент не выявил никакой разницы: свет замедлился при движении против эфира, но ему пришлось пройти меньшее расстояние из-за уменьшения длины измерительного прибора. Соответственно, опыт Михельсона и Морли не показывал ровно ничего нового.
Хотя некоторых ученых эта теория успокоила, убедить она не смогла никого, потому что возникла на пустом месте. И даже если Фицджеральд и Лоренц были правы, оставался еще один базовый вопрос: почему в противоречие всей ньютоновской физике, в которой законы природы остаются неизменными для любой системы отсчета с постоянной скоростью, электромагнетизму требовалась универсальная система координат? Два кита классической научной картины мира, механика Ньютона и электромагнетизм Максвелла, с трудом соответствовали друг другу. Что-то, очевидно, шло не так. Но ответ уже был близок.
Эйнштейн начал свою знаменитую работу 1905 года о специальной теории относительности с замечания о том, что теории Максвелла требуется абсолютная система отсчета. Затем он отмечает, что в электромагнетизме, как и во всей физике, любое количество наблюдателей, движущихся с постоянной скоростью, должно получать одинаковые результаты наблюдений. Эйнштейн пишет, что «безуспешные попытки определить движение Земли относительно “световой среды” показывают, что электродинамические явления, равно как и механические, не имеют никаких свойств, соответствующих понятию абсолютного покоя».[113] В его революционном труде говорится о том, что пространство сокращается по направлению движения, а ход часов (или в более широком смысле время) замедляется. Итак, идея Фицджеральда и Лоренца не была ошибочна. Неверной была лишь ее интерпретация, предполагающая существование универсальной инертной среды. Эйнштейн избавляется от идеи эфира и объясняет, что электромагнетизм Максвелла полностью согласуется с любой инерциальной системой отсчета (то есть движущейся с постоянной скоростью) до тех пор, пока действует новый постулат, сформулированный им следующим образом: «Свет всегда распространяется в вакууме с определенной скоростью с, которая не зависит от движения источника света».[114]
Итак, вместо эфира как абсолютной (и несуществующей) системы отсчета вводилась другая постоянная – скорость света. Эйнштейн просто заменил одну константу другой! У него не было никаких доказательств своей правоты – он лишь руководствовался принципом о том, что физические законы должны оставаться неизменными в любой инерциальной системе отсчета, то есть что Природа должна проявлять свою фундаментальную симметрию. Какой смысл имела бы наука, если бы каждый наблюдатель руководствовался своими законами и получал отличные от других результаты? Таким образом, Эйнштейн поднял принцип относительности (то есть единообразия законов Природы в инерциальных системах отсчета) до уровня постулата.
Его второй постулат был еще более смелым. Почему свет отличается от всего остального? Почему он всегда движется с одной скоростью? Эйнштейн не знал, почему скорость света неизменно составляет 299 792 453 метра в секунду, но он предположил, что она постоянна, чтобы увязать электромагнетизм с принципом относительности. Постоянство скорости света было ценой, которую он готов был заплатить за восстановление порядка в физике. Отбросив идею эфира, Эйнштейн сделал свет еще более загадочным – волной, способной двигаться в пустоте с постоянной скоростью. И это было лишь начало.
Работа по специальной теории относительности была одним из четырех трудов, которые 26-летний Эйнштейн опубликовал в 1905 году, и первый из них казался ему самым революционным. Статья вышла под ничем не примечательным заголовком «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света». В начале работы Эйнштейн подчеркивает, что теория Максвелла о волновой природе света не соответствует общепринятым представлениям об атомах и электронах как составных элементах материи. Волны имеют продолжительность в пространстве, в то время как атомы дискретны. Затем он выдвигает свою «эвристическую точку зрения»: так же как и любая материя, свет состоит из крошечных частиц, «квантов, энергия которых рассчитывается как [h × f]».[115] В этой формуле h – это постоянная Планка, природная константа, ассоциирующаяся со всеми квантовыми явлениями, а f – частота пучка света. Если свет не монохромен, то есть состоит из волн разной частоты, в нем имеется множество видов таких квантов, по одному для каждого типа волны. Если Эйнштейн был прав, он возродил корпускулярную теорию света. Представьте, как ликовал бы Ньютон!
Эйнштейн был достаточно осторожен в своих заявлениях, поэтому писал, что волновая гипотеза все еще оставалась в силе, до тех пор, пока она не применялась к «возникновению и превращению света».[116] Иными словами, атомистическое и волновое поведение света дополняют друг друга, как две стороны одной медали. В зависимости от изучаемого физического явления свет можно рассматривать и как волну, и как частицу. Точно так же мы рассматриваем воду при комнатной температуре одновременно как жидкость и как взвесь отдельных молекул. То, чем является вода, зависит от контекста. То же самое верно и для света, хотя на самом деле он не частица и не волна.
Цель физики состоит не в том, чтобы наделять характеристики объектов реальности каким бы то ни было окончательным смыслом («вода/свет – это то-то и ничто иное»), а в том, чтобы объяснять результаты экспериментов. Концепции, которые создают ученые, – это инструменты объяснения, искусственные конструкции, придающие значение изменениям. Для физика не так важно, чем что-то является на самом деле. Куда важнее, насколько эффективно его объяснение. На самом деле чем дальше мы углубляемся в квантовый мир, тем меньше смысла остается в понятии бытия как перманентного состояния. Ни один объект здесь не то, чем кажется, и ничто не остается собой надолго. Материя и свет кружатся в танце постоянной трансформации. Эйнштейн со своей эвристической точкой зрения открыл дверь в мир непостоянства, и нет ничего удивительного, что путь ему освещал свет.
Глава 21. Научиться отпускать в которой мы начинаем путешествие по миру квантовой физики и узнаем, как она ограничивает область наших знаний о мире
Всего за десять лет специальная теория относительности Эйнштейна и его гипотеза о квантовой природе света перевернули физику с ног на голову. Из тихих волн, распространяющихся по люминофорному эфиру, свет превратился в величайшую загадку – не только в самое быстрое явление в мире, но и такое, скорость которого не зависит от движения его источника; не просто в волну, а в волну, которая может двигаться в пустоте; в нечто, являющееся одновременно и волной, и частицей и не соответствующее нашим представлениям о том, что эти варианты исключают друг друга. Скорость света не просто самая большая в мире – это граничная скорость, установленный Природой максимум. Никакая информация не может попасть к нам раньше, чем свет. Изучая ближние и дальние уголки Вселенной, физики и астрономы поняли, что свет сам по себе является информацией. Собранные данные о разнообразных типах электромагнитного излучения помогают им изучать объекты, расположенные на большом расстоянии от Земли, и формировать картину нашего мира. Из этой книги мы узнали, как существование граничной скорости приводит к возникновению космического горизонта, информация из-за которого нам недоступна.
Еще более удивителен тот факт, что свет способен двигаться со своей скоростью, потому что он не имеет массы. Крошечные частицы света, которые позже были названы фотонами, представляют собой безмассовые сгустки энергии. Итак, физика утверждает, что что-то может существовать без массы, что объект может быть реальным, не будучи при этом материальным. Все сущее определяет физическую реальность, следовательно, новая физика постулирует, что реальность может быть нематериальной. Энергия более фундаментальна, более важна, чем масса. Для более глубокого понимания Природы требовался новый взгляд на нее. Физики должны были научиться отпускать прошлое.
В своей четвертой публикации, вышедшей в 1905 году и занимавшей всего несколько страниц, Эйнштейн вывел свою знаменитую формулу E = mc2. Он писал: «Если тело испускает энергию L в форме излучения, то его масса изменяется как L/c2».[117] «Соответственно, – заключил Эйнштейн, – масса тела является показателем содержащейся в нем энергии». Итак, говоря об объектах, мы можем ссылаться только на их энергию (энергию в них). Энергия объединяет массу и излучение, потенциально превращая одно в другое. В конце своей работы Эйнштейн предположил: «Существует вероятность, что эту теорию можно успешно проверить на телах, содержание энергии в которых существенно варьируется (например, на радиевых солях)».[118] И он был абсолютно прав! Радиевые соли, о которых говорит Эйнштейн, представляют собой радиоактивные ядра, которые по мере распада испускают либо более мелкие частицы, либо чистое излучение. Как и предсказывал Эйнштейн, излучение распада, состоящее из фотонов гамма-лучей, имеет энергию, прямо пропорциональную массе, утрачиваемой ядром (умноженной на скорость света в квадрате).
За следующие 25 лет в науке произошел настоящий взрыв. Квантовая революция изменила не только наше видение мира, но и жизнь в нем. Запущенные ею процессы идут и сейчас и будут продолжаться еще долгое время. Мы с вами обратим внимание на первый аспект квантовой революции – ее фундаментальный вклад в наше представление о реальности. Второй аспект связан с более прагматичными и технологическими сторонами квантовой физики, обусловливающими возникновение цифровой эры, в которую мы живем сейчас. Эти аспекты связаны между собой, но все же являются независимыми областями. Иногда мы будем упоминать об использовании цифровых технологий при сборе и анализе данных, но эта тема останется для нас вторичной.
Первый фундаментальный урок квантовой физики состоит в том, что практичный взгляд на мир, основанный на нашем чувственном восприятии реальности, то есть то, что мы часто называем классическим мировоззрением, является лишь приближением. Реальность сверху донизу, от большого до малого, строится на квантовой механике. Классические теории, такие как законы движения Ньютона или электромагнетизм Максвелла, работают потому, что квантовые эффекты слишком малы для больших систем и ими можно пренебречь. Люди такие же квантовые создания, как и электроны, но наша квантовая природа слишком размыта – настолько, что в большинстве случаев ее можно не учитывать. То же самое верно для деревьев, машин, лягушек и амеб, хотя чем меньше становится объект, тем сильнее размывается граница между классической и квантовой картиной мира. Урок очевиден: по мере спуска в микромир реальность все больше и больше отличается от той, к которой мы привыкли.
Первой проблемой, требовавшей решения, было строение атома. В 1911 году Эрнест Резерфорд доказал, что атом состоит из очень массивного и плотного ядра, имеющего положительный заряд и окруженного электронами с отрицательным зарядом. Иллюстрируя открытие Резерфорда, атом часто (и неверно) представляют в виде своеобразной Солнечной системы в миниатюре. Проблема в том, что электрические заряды – это не планеты. Электромагнетическая теория Максвелла говорит, что движущиеся с ускорением электрические заряды излучают энергию. Если это действительно так, каким образом электрон может двигаться по орбите вокруг ядра в течение длительного времени, не падая на него? Резерфорд не мог этого объяснить, но в своих результатах он был уверен.
В 1913 году датский физик Нильс Бор предложил ответ, который поначалу казался довольно странным. Возможно, электроны движутся вокруг ядра по устойчивым орбитам, идущим от центра как ступени лестницы. Как нельзя находиться между ступеньками, так и электрон не может оказаться между орбитами. Каждая из них имеет собственный уровень энергии, и чем выше орбита, тем большей энергией она обладает. Если вернуться к аналогии с лестницей, то для того, чтобы подняться на каждую последующую ступеньку, вам придется затратить больше энергии, чем для предыдущей. И наоборот, спуск требует все меньше и меньше энергетических затрат.[119] Бор предположил (не имея на то никаких предварительных оснований), что, когда электрон опускается на самую низкую орбиту (ступеньку лестницы), он не может двигаться дальше. Эта конечная точка называется основным состоянием.
Бор никак не объяснял подобное положение дел. Преимущество его теории состояло в сочетании классического представления о циркулярных орбитах с идеями Планка и Эйнштейна о дискретных (квантовых) энергиях и частицах света для объяснения типов излучения, которое испускают атомы в возбужденном состоянии. Бор предположил, что для перехода на более высокую орбиту электрон должен поглотить входящий фотон, энергия которого примерно равна энергетической разнице между двумя орбитами. Когда мы поднимаемся по лестнице или едем на велосипеде в гору, нам нужна энергия. То же самое верно и для электрона. И наоборот, когда электрон спускается на более низкую орбиту, он испускает фотоны, энергия которых опять-таки равняется разности в энергетических значениях двух орбит. Так как различные атомы имеют разное количество протонов и электронов и, как следствие, разные орбиты (или уровни энергии), каждый из них обладает уникальным спектром излучения – совокупностью всех возможных прыжков, которые электроны могут совершить по мере движения вниз к основному состоянию. Эти спектральные характеристики из-за их уникальности часто сравнивают с отпечатками пальцев. Они являются ключевыми объектами изучения спектроскопии – хлеба насущного астрономии. Вместо того чтобы организовывать полет к далекой звезде или планете, можно исследовать ее свет и спектральные характеристики.
Совершенно очевидно, что теория Бора была гибридом, переходным звеном. Более подробное описание поведения электронов в атомах появилось лишь после Первой мировой войны, когда физики снова смогли вернуться к своей работе. В то время существовали две школы физической мысли, лидерами которых были Эйнштейн и Бор. Эйнштейн верил, что секреты квантовой физики можно постичь путем изучения дуалистичной корпускулярно-волновой природы света. Бор же, в свою очередь, концентрировался на скачках электронов между атомными орбитами.
В 1924 году Луи де Бройль, бывший историк, переключившийся на изучение физики, блестяще доказал, что ступенчатые орбиты электронов в боровской модели атома легко поддаются объяснению, если представить электрон в качестве стоячих волн вокруг ядра, аналогичных тем, что мы видим, когда дергаем веревку, закрепленную с одного конца. В случае с веревкой стоячая волна формируется в результате усиливающей и ослабляющей интерференции между волнами, движущимися по веревке в обе стороны. В электроне стоячие волны формируются аналогичным образом, только электронная волна замыкается сама на себя, как Уроборос – мифический змей, поглощающий собственный хвост. Чем сильнее мы трясем веревку, тем больше пиков волн можем наблюдать. Точно так же чем выше орбита электрона, тем больше пиков у волны.
При большой поддержке Эйнштейна де Бройль смело экстраполировал понятие корпускулярно-волнового дуализма со света на все движущиеся объекты. С волнами теперь ассоциировался не только свет, но и вообще любая материя. Де Бройль также предложил формулу расчета длины волны любой частицы материи массой m, движущейся со скоростью v (так называемой длиной волны де Бройля).[120]
Бейсбольный мяч, движущийся со скоростью 70 километров в час, имеет длину волны де Бройля, равную 22 миллиардным долям триллионной доли триллионной доли сантиметра (2,2 × 10–32 сантиметра). Из-за такого крайне слабого волнения материи мы воспринимаем мяч как твердый объект. Электрон, движущийся с одной десятой скорости света, имеет длину волны, равную примерно половине размера атома водорода (точнее, половине наиболее вероятного расстояния между электроном в основном состоянии и ядром атома). Волновая природа движущегося мяча неважна для понимания его движения, а вот в случае с электроном она крайне релевантна.
Бор, со своей стороны, считал, что любые попытки представить электрон или любой другой квантовый объект в качестве частицы или волны были не так важны, как экспериментально подтверждаемые данные, например энергия атомных орбит и частота и интенсивность излучения, испускаемого атомами. В 1925 году Вернер Гейзенберг, а чуть позже – Макс Борн и Паскуаль Йордан предложили описание поведения атомов, строго соответствующее боровской философии.
Их теория, известная как матричная механика, оттесняла в сторону классические понятия, такие как детерминированное поведение частиц и волн, и фокусировалась на энергии между орбитами и излучении, поглощаемом и испускаемом электронами во время переходов. Матричная механика описывала необычный мир, в котором объекты, не имеющие строгой физической формы, осциллировали между различными состояниями с определенными вероятностями. Частота колебаний определялась разностью энергий между орбитами. Для того чтобы получить этот результат, Гейзенберг создал образ электрона как объекта, «размазанного» в пространстве и, соответственно, не имеющего ни конкретного местоположения, ни скорости (механического момента). Расчеты были сложными, но их результаты подтверждались экспериментально. Странная природа квантового мира потребовала от физиков совершенно нового способа описания физической реальности. В самом сердце материи было спрятано что-то нематериальное, по крайней мере, не являющееся таковым в общепринятом смысле. Атомизм прошел большой путь от Левкиппа, Демокрита, Бойля и Ньютона. Для того чтобы понять самую суть реальности, Природу нужно было открыть заново.
Вот почему, когда Эрвин Шрёдингер опубликовал собственную версию квантовой механики в 1926 году, научное сообщество восприняло ее как огромное достижение. В отличие от абстрактной матричной механики Гейзенберга, Борна и Йордана теория Шрёдингера строилась на волновом уравнении – гораздо более известном и легче трактуемом подходе, соответствующем философии Эйнштейна – де Бройля о дуалистичных частицах и волнах как основе квантового мира. Появилась надежда, что квантовая механика все-таки является детерминистской, то есть может быть сформулирована таким образом, чтобы будущие события напрямую вытекали из прошлых, как в ньютоновской механике, без участия вероятностей. Иными словами, если квантовый мир детерминирован, то, зная положение и скорость частицы в определенный момент времени, а также будучи осведомленными о том, какие силы на нее действуют, мы можем с уверенностью предсказать ее будущее. Восторг научного сообщества еще больше возрос, когда в своей четвертой и последней блестящей работе Шрёдингер доказал равенство своего подхода и теории Гейзенберга, продемонстрировав, что они просто описывали одно и то же явление с двух разных точек зрения. Волновое уравнение Шрёдингера открыло ученым дверь в мир квантовой механики, к физике атомов и молекул. Сегодня оно лежит в основе каждого курса по квантовой механике, в каком бы университете или стране его ни читали.
Энтузиазм, с которым было принято волновое уравнение Шрёдингера, объяснялся надеждой на то, что Бор и Гейзенберг были не правы и что странная природа квантовой физики являлась всего лишь заблуждением, проистекающим из ограниченности наших представлений о Природе. Эйнштейн, Планк, Шрёдингер и де Бройль верили, что за зыбким квантовым миром вероятностей и нестабильности стоит упорядоченная и полностью детерминированная реальность. Вот почему в письме Максу Борну от 4 декабря 1926 года Эйнштейн написал свои знаменитые строки: «Квантовая механика достойна всяческого уважения. Но внутренний голос говорит мне, что это еще не окончательное решение. Теория дает много, но не приближает нас к раскрытию тайн Старого Господина. В любом случае, я уверен, что Он не играет в кости».[121] Вот почему на пятой Сольвеевской конференции в октябре 1927 года Бор посоветовал Эйнштейну: «Прекратите указывать Богу, что делать».
Но надежды Эйнштейна и других так называемых научных реалистов не оправдались. В 1927 году Гейзенберг доказал, что неопределенность является основой квантовой физики, в частности, в том, что касается позиции объекта и его механического момента (или скорости, по крайней мере, для движения на скоростях меньше скорости света). Даже лучшие инструменты не могли определить положение и скорость частицы с достаточно высокой точностью. Иными словами, мы не можем однозначно сказать, где частица находится и с какой скоростью движется, а ведь именно эти данные являются условиями для детерминистического определения ее поведения в будущем. Для света с его корпускулярно-волновым дуализмом это был вполне ожидаемый результат. Если нечто не является ни волной, ни частицей, но чем-то промежуточным (или совершенно иным), его положение и скорость выявить трудно. И чем меньше объект, тем с большими затруднениями мы сталкиваемся, что соответствует понятию длины волны де Бройля. Мы можем с достаточной точностью установить, что бейсбольный мяч имеет определенное положение в пространстве и скорость, но проделать то же самое с электронами или другими мелкими частицами невозможно.
Возможно, самым загадочным аспектом теории Гейзенберга является тот факт, что неопределенность, присущая квантовой физике, не является технологической проблемой, возникающей из-за ограниченной точности измерительных приборов. Квантовая неопределенность – это фундаментальное выражение того, как природные объекты взаимодействуют на малых дистанциях. Это характеристика мира, отличного от нашего. Мы не можем устранить его с помощью более совершенных технологий. Наоборот, так как измерения означают вмешательство, то чем больше мы стараемся, тем сильнее влияем на то, что пытаемся измерить, и тем быстрее оно от нас ускользает. Квантовый мир находится в постоянном движении, как школьная комната, полная первоклашек. Как бы мы ни старались, мы не сможем заставить его остановиться. Как писал австрийский физик Антон Цайлингер в своей книге Dance of the Photons, «многие века мы пытались проникнуть все глубже и глубже в поисках причин и объяснений, и внезапно, когда мы зашли слишком далеко, до поведения отдельных частиц и квантов, мы поняли, что поиск причин завершен. Причин не существует. Мне кажется, что эта фундаментальная недетерминированность еще не до конца осознана человечеством».[122]
Глава 22. Сказка об отважном антропологе в которой аллегорически объясняется роль наблюдателя в квантовой физике и то, как измерения влияют на измеряемое
Эта сказка поможет нам понять, как акт наблюдения влияет на его объект. Жил-был однажды отважный антрополог, который провел много лет в поисках затерянного племени в дебрях Амазонки. Об этом племени он узнал из случайного упоминания в письме малоизвестного португальского исследователя, написанном несколько столетий назад. Точное местонахождение племени в письме не указывалось, а сам исследователь пропал без следа. Коллеги потешались над нашим ученым, но отважный антрополог (допустим, его звали Вернером) не оставлял своих поисков. Он был уверен, что в джунглях Амазонки должны были проживать неизвестные племена – если даже не те, что упоминались в письме, так другие. «Если не искать, никогда не найдешь», – говорил Вернер своим сомневающимся коллегам.
После многих ошибок, поворотов не туда и долгих месяцев, проведенных в самых дальних уголках на северо-востоке амазонской сельвы, Вернер наконец наткнулся на небольшую прогалину в роще тропических деревьев. В ней, почти невидимая глазу, была спрятана деревня из 20 хижин. Несколько голых детей бегали по ней, пиная ногами какой-то круглый плод. Вернер улыбнулся: «Даже здесь играют в футбол». Понимая, что местные жители быстро его заметят, он огляделся в поисках укрытия. Наконец Вернер забрался на росшее неподалеку дерево, расстелил свой спальный мешок на широкой ветке и убедился, что рядом с ним не притаилась анаконда или еще какой-нибудь неприятный сосед – с него было достаточно и назойливых мошек. Пищи и воды ему должно было хватить на три дня.
Вернер достал бинокль и блокнот и начал свои наблюдения. Как и в других племенах, женщины проводили большую часть времени в деревне за плетением корзин, уходом за огородами и воспитанием детей. Мужчины и мальчики делали оружие и занимались охотой и рыболовством. Вся деревня действовала как единый организм, в котором каждый был чем-то занят. Люди постоянно сновали туда-сюда. Старейшина и его жена сидели в тени самой большой хижины и молча наблюдали за работой. «Вполне возможно, что все эти люди – одна семья или клан», – подумал Вернер. Он с восторгом осознал, что никто до него не наблюдал за жизнью этого племени в ее первозданном виде: «У них есть все, что может им понадобиться. Лес снабжает их всем необходимым. Невозможно провести границу между человеческой деревней и лесом – они находятся в полном слиянии друг с другом».
Мальчишка, на вид лет пяти, упал и сильно поцарапал ногу. Жена старейшины тут же поспешила к нему и втерла ему в рану немного мази. Мальчик улыбнулся и побежал играть дальше. Судя по всему, боли он больше не чувствовал. «Эта женщина, очевидно, врач племени, – записал Вернер в блокнот. – Нужно узнать, что за травы она использует в качестве анестетика».
Вечером, после того как мужчины и подростки вернулись с охоты, все племя собралось вокруг костра в центре деревни. Старейшина рассказывал им что-то, вероятно предания о давно ушедших днях, а в конце каждого его предложения все племя хором пело какую-то мантру, восхваляя подвиги своих далеких предков.
Когда все племя разошлось по хижинам, Вернер тоже начал готовиться ко сну. «Какая невероятная удача, – прошептал он. – Эти идиоты дома умрут от зависти!» Он чувствовал себя самым счастливым человеком на Земле. Вернер уже почти заснул, когда кто-то встряхнул его за плечи. Его обнаружили! Трое сильных мужчин стащили его с дерева и поволокли в палатку старейшины. Вокруг стояли крики, а жители деревни показывали на него пальцами. Вернера раздели догола и внимательно осмотрели его одежду и тело. Теперь не он изучал их, а они его! «Если я выживу, то сделаю все возможное, чтобы защитить эту деревню», – подумал Вернер. К его удивлению, жена старейшины поднесла ему чашу с горячим напитком и жестами предложила выпить его. Вернер сделал так, как ему было велено, и через несколько минут уже крепко спал.
Когда он проснулся, солнце уже было высоко. Местные жители соорудили для него хижину рядом с жилищем старейшин, ожидая, что он поселится в деревне вместе с ними. Вернер был в восторге. «Итак, я жив. Значит, я могу продолжать наблюдения», – решил он. Но через некоторое время он заметил, что жизнь в клане полностью изменилась. Он стал центром существования как для взрослых, так и для детей. Малыши ходили за ним по пятам, дергали его за бороду и предлагали поиграть вместе с ними с импровизированным мячом. Молодые женщины смотрели на него со страстью, размышляя, каково это – заняться любовью с белокожим мужчиной. Воины все время были начеку, каждую минуту ожидая от него нападения. «Они больше не такие, как прежде, и никогда не будут, – с грустью понял Вернер. – Мое присутствие изменило их поведение, и пути назад нет. Я уничтожил их представления о мире и дал им другие, которые навсегда останутся с ними». Но изменился и сам Вернер. Он уже не был уверен, что хочет домой.
Я рассказал вам историю Вернера, чтобы проиллюстрировать разницу между классическим и квантовым подходом к измерениям. До того, как племя обнаружило Вернера, он обладал «первозданной» информацией о его жизни, то есть факты, которыми он располагал, не были затронуты его присутствием. Это идеальная ситуация для наблюдателя, при которой он не влияет на объект наблюдения и между ними сохраняется дистанция. Наше восприятие реальности в значительной степени зависит от таких наблюдений, учитывая, что мы осознаем присутствие лишь крупных объектов, для которых квантовые эффекты, судя по всему, не имеют большого значения. Мы видим книги, сложенные на столе, машины, проезжающие по улице, мух, жужжащих вокруг нас, и наше наблюдение не влияет на их поведение. Разумеется, если вы сделаете движение в сторону машин или мух, они отреагируют соответствующим образом, но сейчас речь не об этом. Это классическое приближение, мир сенсорного восприятия, в котором квантовые эффекты себя не проявляют. Как мы увидим далее, изучая реалистичность такого приближения (даже если мы считаем ее самой собой разумеющейся, раз приближение строится на том, как мы воспринимаем мир), можно многое узнать о природе квантовой физики.
Вторая часть истории, в которой племя уже знает о присутствии Вернера, является иллюстрацией к пространству квантовых эффектов, в котором акт наблюдения влияет как на наблюдаемый объект, так и на наблюдателя и изменяет их необратимым образом. Ни племя, ни сам Вернер уже не были прежними после того, как его обнаружили. Вернер стал частью племени, а племя – частью Вернера. Они превратились в неразрывное целое. Знание о существовании друг друга повлияло на их истории, и ни Вернер, ни жители деревни уже не могли вернуться к независимому состоянию, которое предшествовало их знакомству. Они «запутались» друг в друге – именно этот термин в 1935 году предложил Шрёдингер для обозначения одной из основных характеристик квантовых систем.
Глава 23. Откуда в квантовом мире берутся волны в которой мы рассмотрим странную интерпретацию квантовой механики, предложенную Максом Борном, и узнаем, как она усложняет наши представления о физической реальности
Давайте быстро повторим пройденное. За первые 25 лет ХХ века наши познания о физическом мире достигли небывалых высот благодаря теориям относительности Эйнштейна и квантовой механике Гейзенберга, Шрёдингера и их коллег.
Необычность квантовой механики никак не связана с ее эффективностью как физической теории. В принципе, это самое точное описание Природы, которым мы располагаем на сегодняшний день, включающее в себя мельчайшие свойства материалов, молекул, атомов и субатомных частиц. Трудность заключается в интерпретации, то есть в понимании того, что на самом деле происходит в квантовом мире. Мы уже видели, как объекты малого размера могут вести себя то как частицы, то как волны в зависимости от условий эксперимента, которому они подвергаются. Мы знаем, что такое дуалистичное поведение объясняется внутренней недетерминированностью природы, выраженной в принципе неопределенности Гейзенберга. Нам известно, что с учетом этого принципа мы не можем разделять наблюдателя и наблюдаемое, так как сам факт наблюдения влияет на его предмет – и не просто влияет, а, что очень важно, определяет его. Иными словами, если квантовая механика верна, а у нас нет указаний на обратное, наблюдатель определяет физическую природу наблюдаемого. Электрон – это не частица и не волна. Он становится частицей или волной в зависимости от метода наблюдения. При проведении опытов на коллайдере электрон ведет себя как частица, а при прохождении через две узкие прорези создает интерференционный узор как волна. В квантовом мире любое явление – это всего лишь вероятность, лотерея, результат которой зависит от того, кто (или что) вращает барабан.
Научный реалист мог бы возразить на это:
– Но ведь природный объект должен существовать в какой-то форме еще до начала наблюдений.
– Возможно, – ответил бы ему на это последователь квантовой механики. – Но мы ничего не можем сказать про эту форму, и она не имеет значения. Важно лишь то, что благодаря этой странной конструкции мы можем объяснить результаты своих наблюдений.
– То есть вы хотите сказать, что объекты существуют только тогда, когда мы на них смотрим? Электрона нет в природе, пока мы не начинаем с ним взаимодействовать?
– Да, именно это я и хочу сказать. Фактически электрон существует лишь тогда, когда мы измеряем его свойства.
– Но что насчет больших тел? В конце концов, и горы, и деревья, и люди состоят из атомов. Их тоже не существует, пока мы на них не посмотрим?
– Строго говоря, так и есть. Мы не можем знать, реально ли что-то, пока мы не вступим с ним во взаимодействие. Это верно и для макромира. Мы можем лишь предполагать, что крупные объекты существуют, потому что они существовали и до этого. Но пока мы не посмотрим на них, мы не можем быть уверены. На практике большинство людей считает, что существует некая разделительная черта или, еще лучше, переходная зона, после которой классическое описание реальности снова начинает работать. Для объяснения этого существует термин «декогерентность», к которому мы вернемся чуть позже.
– Хорошо. Но никто не знает, где эта переходная зона начинается и заканчивается, верно? Ничто не существует до тех пор, пока мы его не наблюдаем, по крайней мере в теории?
– Я знаю, звучит глупо. Вот почему мы не любим во все это углубляться. Мы используем квантовую механику по необходимости, проводим с ее помощью расчеты и расходимся по домам.
– Ну что ж, если вы не хотите познать истинную природу вещей, а просто используете свою теорию для расчетов, в этом нет ничего страшного. Но разве вы не хотите вырваться из этой тюрьмы практичности?
– Возможно, суть квантовой механики заключается в том, что мы не можем проникнуть в суть реальности, что нам нужно научиться жить с этим осознанием и принять ограниченность наших знаний. Мы должны научиться отпускать.
– Ну нет, так не пойдет. А что насчет всей Вселенной? Разве она не была маленькой до Большого взрыва? Если так, то не значит ли это, что она представляла собой квантовый объект? Но если так и если все вокруг подчиняется квантовой механике, выходит, Вселенная все еще им остается? Или в ней уже работают законы классической механики? Кто выступает в роли ее наблюдателя?
– Прости, дружище, мне пора домой.
– Esse est percipi – «Существовать – значит быть воспринимаемым». Так сказал епископ Джордж Беркли еще в 1710 году.
– Да, но Беркли использовал эту фразу как доказательство существования Бога, вечного наблюдателя, дающего жизнь всему. Не думаю, что это поможет нам понять квантовую механику.
– Но ведь в этом месте тайна всего сущего и природа реальности сходятся воедино и…
– Все, вот теперь я точно ухожу!
Странное квантовое поведение не ограничивается только микромиром. Все вокруг подчиняется квантовой механике, все движется, и ничто не остается стабильным. Разница лишь в том, что на малые объекты это движение оказывает огромное влияние, в то время как в больших телах квантовые колебания незаметны. Суть в том, что мир подчиняется законам не классической, а квантовой механики. Ньютоновское видение мира – это всего лишь удачное приближение, действующее для больших объектов, в отношении которых квантовыми эффектами можно безопасно пренебречь. Тем не менее это не больше чем приближение. Существуют разные способы определить, в какой момент квантовые эффекты перестают быть важны (например, при небольшой длине волны де Бройля по сравнению с параметрами системы, при высоких температурах или сильном внешнем воздействии), но тем не менее они могут оставаться релевантными и в достаточно больших масштабах. Неужели вся Вселенная живет по законам квантовой механики?[123]
Когда Шрёдингер записал свое волновое уравнение, ему нужно было понять, что оно значит, найти подходящую интерпретацию. Что-то присутствовало во времени и пространстве, и в своем уравнении он назвал это что-то волновой функцией, то есть математической функцией пространства и времени ψ(t,x). Так как своей первой задачей Шрёдингер видел объяснение теории де Бройля об электронных волнах, движущихся вокруг ядра атома по разным орбитам, его первым порывом было приравнять волновую функцию к таким волнам. Когда это не сработало, он попробовал интерпретировать свое волновое уравнение как описание плотности заряда электрона. Уравнение представляло электрон чем-то вроде расходящейся от заряда волны и позволяло рассчитать его наиболее вероятное местоположение. В письме Хендрику Лоренцу от 6 июня 1926 года Шрёдингер подошел невероятно близко к правильному ответу, предположив, что в физической интерпретации должен учитываться квадрат волновой функции: «Физическое значение имеет не само число, а его квадратичная функция».[124] Итак, знатоки соотносят количество с абсолютным квадратом ψ(t,x), так как это сложная функция.
Шрёдингер не собирался отказываться от мысли, что его уравнение описывало что-то конкретное. Ему оставался всего один шаг до верной интерпретации, но он не мог отойти от своего научного реализма. Через несколько дней после того, как Шрёдингер опубликовал свою работу, в которой попытался связать волновую функцию с плотностью заряда электрона, Макс Борн выступил с альтернативой, которая ужаснула Шрёдингера, де Бройля, Планка и Эйнштейна. Волновая функция не описывала ни электрон, ни плотность его заряда. Она вообще не была реальна. Борн заявил, что математическая функция, включенная в уравнение Шрёдингера, была всего лишь инструментом для расчета. Ее роль заключалась в том, чтобы указывать на нахождение электрона с определенной энергией в определенное время в определенном месте (так называемую амплитуду вероятности). Возведя ее в квадрат, можно получить плотность вероятности, то есть число от 0 до 1, указывающее на вероятность того, что при измерении позиции электрона он обнаружится неподалеку от определенной точки х.[125]
Важно понимать, что волновая функция указывает амплитуду вероятности электрона на момент времени до начала измерений. После включения устройства, способного засечь электрон, и обнаружения электрона в точке х он продолжит в ней оставаться. Интерференция между устройством и частицей закрепит электрон на своем месте. Уравнение Шрёдингера указывает на вероятность того, что электрон будет где-то обнаружен, но как только это происходит, история заканчивается. Волновая функция коллапсирует в одной точке пространства (в пределах, обеспечиваемых точностью измерений). Каким-то непонятным образом обнаружение электрона устанавливает его местоположение. Волновая функция указывает на то, что его в принципе можно обнаружить в той или иной точке, но его фактическое местоположение неизвестно. Удивительно еще и то, что этот коллапс происходит мгновенно: как бы широко волновая функция ни была распространена в пространстве до начала измерений, в момент измерения она немедленно сжимается до области, окружающей точку нахождения электрона. Это противоречит понятию локальности, предусматривающему, что никакое физическое воздействие не может двигаться быстрее скорости света. Только факторы, у которых имелось достаточно времени для того, чтобы достичь объекта (то есть в узком смысле являющиеся локальными), могут влиять на его поведение. Как же волновая функция, «части» которой расположены на различных расстояниях друг от друга, может сколлапсировать целиком и одновременно?[126]
Возможно, для объяснения лучше будет воспользоваться аналогией. Представьте, что Нильс делает ремонт в доме Вернера в пригороде Манауса, столицы штата Амазонас в Бразилии (после войны Вернер решил не возвращаться в Германию, но не жить же ему из-за этого в джунглях). Дом Вернера стоит на отшибе, окруженный густой растительностью. Нильс вышел из него на минутку, оставив окно открытым. За это время в дом вполз огромный бушмейстер – самая опасная из всех ядовитых змей Бразилии – и уснул, вытянувшись на ступеньках большой лестницы. Заметив открытое окно, Вернер почуял неладное, на цыпочках вышел из дома, заглянул внутрь и увидел спокойно спящего внутри монстра 10 футов длиной. Тяжело дыша, Вернер уже потянулся было за палкой, как вдруг услышал голос вернувшегося Нильса: «Эй, дружище, что происходит?» – «Тссс! Ты что, умереть захотел? Смотри!» Услышав их разговор, змея проснулась и стремительно свернулась в кольцо вокруг одной из ступенек лестницы. Во время сна она не находилась ни на какой конкретной ступеньке, а затем, после взаимодействия с голосом Нильса, сколлапсировала до одной. И, судя по всему, была этим очень недовольна.[127]
Математическая часть квантовой механики описывает действия материи, не ссылаясь на нее напрямую. В уравнении учитываются силы, влияющие на электрон (или иную частицу или атом, который является предметом исследования), но не электрон сам по себе. Таким образом, в нем смешивается реальное (силы и энергия) и нереальное (волновая функция). Волновая функция содержит в себе всю статистическую информацию, которую мы можем получить из физической системы, но не представляет элементы такой системы. Если я брошу камень в пруд и составлю уравнение, описывающее распределение кругов по воде, такое уравнение, наоборот, будет представлять реальную волну. Между волной на поверхности воды и математической функцией будет иметься прямая корреляция, в то время как за волновой функцией в уравнении Шрёдингера не будет стоять реальная волна.
Необычная концептуальная структура уравнения Шрёдингера вызывает вопросы: какие именно объекты оно вообще описывает и где они находятся до измерения? В нашей аналогии бушмейстер растянут по всей поверхности лестницы, то есть одновременно присутствует везде. Но змея, даже будучи, в принципе, квантовым объектом, хорошо соответствует классической модели. Мы можем видеть ее до и после того, как она заметит нас. Кроме того, она не коллапсирует вокруг одной ступеньки мгновенно, а делает это в несколько последовательных этапов. Органы чувств воспринимают потенциальную добычу и запускают нервный импульс, который ведет к сокращению мышц и переводу всего организма в режим атаки. Реальны ли объекты квантового мира настолько же, насколько реальна змея? Возможно ли, что и я, и камень, и пруд состоим из несуществующих элементов? Вопрос реальности – это главный элемент нашего толкования квантовой механики.
Физики сражаются с этим вопросом с самых первых дней ее существования. Эйнштейн, Шрёдингер и научные реалисты полагали, что текущее описание было всего лишь временным вариантом, который вскоре должно было заменить более сложное объяснение. Обратите внимание, как противопоставляются эти два термина – «объяснение» и «описание». Научный реализм предполагает, что наука должна объяснять реальность, что реальные объекты существуют на всех уровнях и что объяснения (если таковые имеются) распространяются на все из них. Эйнштейна больше всего смущала в квантовой физике не ее вероятностная природа, а именно это отрицание реальности в науке. Однажды во время прогулки по Принстону он в шутку спросил друга: «А что, Луны тоже не существует, когда я на нее не смотрю?»
Если оставить в стороне чувство юмора Эйнштейна (впрочем, скоро мы к нему вернемся), объяснение реальности может оказаться слишком сложной задачей даже для науки, в особенности если мы придаем своим объяснениям статус окончательности (что, как я уже говорил, несовместимо с научным прогрессом). Эфир, флогистон, теплород и модель атома Бора – все это описания природных явлений, и неважно, верны они или нет. Во время их создания они играли важную роль мостов между старыми и новыми представлениями. Очевидно, что с точки зрения научного реализма за ними не стояло никакой научной реальности. Для науки с ее постоянно меняющейся точкой зрения гораздо лучше было бы считать наши модели и теории описаниями тех частей реальности, которые мы можем измерить и осмыслить. Когда дело доходит до физической реальности, мы можем говорить не об окончательных объяснениях, а лишь о более или менее эффективных описаниях.
В качестве примера философии научного реализма можно привести теорию скрытой переменной де Бройля – Бома (подробно разработанную Бомом во время работы с Эйнштейном в Принстоне, а затем – в Сан-Паулу, куда Бом уехал в 1952 году, опасаясь преследований маккартистов), которая отражает ранние идеи де Бройля. Бом добавил в квантовую теорию еще один уровень объяснений для описания позиции электрона с большей точностью. Этот уровень он назвал пилотной волновой функцией. Уравнение Шрёдингера оставалось без изменений, просто у него появлялся «предшественник». Как дирижер управляет игрой различных секций оркестра во время исполнения симфонии, так и пилотная волновая функция определяет, каким именно образом волновая функция принимает одно из возможных состояний. Пилотная волна находится одновременно во всех точках пространства, как вездесущее божество. Это свойство физики называют нелокальностью. Иными словами, в соответствии с механикой де Бройля – Бома частицы оставались частицами, а их коллективное движение было детерминировано нелокальным действием пилотной волны. Частицы представляются чем-то вроде группы серферов, покоряющих одну волну, которая и определяет их движение в ту или иную сторону.
В теории де Бройля – Бома поведение электрона было совершенно предсказуемым, и его присутствие в той или иной точке можно было рассчитать с достаточной точностью. Скрытая переменная становилась связующим звеном между классическим видением реальности и зыбким миром квантовой неопределенности. Но для того, чтобы сделать квантовую механику детерминированной, физикам пришлось заплатить свою цену – ввести бесконечную сеть связей и влияний между всем сущим. По сути, вся Вселенная принимает участие в формировании результата того или иного эксперимента. Скорость и ускорение каждой частицы зависят от положения всех остальных частиц. Вселенная определяет условия среды, применимые к каждой подсистеме – от эксперимента с коллайдером до движения облаков в небе. Именно это физики и называют нелокальностью – но с определенной долей сарказма. Неудивительно, что книга Бома о философском основании его концепции называется «Целостность и имплицитный порядок», и неудивительно, что лишь немногие ученые поддержали его подход, хотя некоторые варианты теории де Бройля – Бома все еще являются предметом активных исследований. Одна из проблем состоит в том, что эта теория (по крайней мере, в большинстве своих версий) дает те же результаты, что и квантовая механика, и потому неотличима от нее. Скрытую переменную невозможно вычислить. Нам бы хотелось делать выбор между конкурирующими теориями на основании экспериментов. Если разные теории дают одинаковые экспериментальные результаты, почему бы не выбрать самую простую из них, то есть традиционную квантовую механику без дополнительных пилотных волн? Вот почему я на время оставлю скрытые переменные и сфокусируюсь на том, что именно квантовая механика говорит (или не говорит) нам о природе физической реальности.
Глава 24. Можем ли мы распознать реальность в которой мы узнаем, как квантовая физика влияет на наше понимание реальности
Одним из самых удивительных выводов из квантовой физики является тот факт, что акт измерения оказывает влияние на измеряемое. По сути, он определяет измеряемое, придает ему физическую реальность. Между наблюдателем и наблюдаемым им объектом создается связь, которую сложно разорвать. Возможно, точнее всего это выразил Паскуаль Йордан, работавший над матричной механикой вместе с Гейзенбергом и Борном: «Наблюдения не просто беспокоят наблюдаемый объект, они создают его… Мы принуждаем [электрон] занять определенную позицию… Мы сами производим результаты измерений».[128]
После возникновения связи исчезает разделение между вами как наблюдателем и оставшейся частью мира (такое разделение мы обычно называем объективностью). Как понять, где заканчиваетесь вы и начинается то, что вы измеряете? Если мы прочно связаны с «внешними объектами», то никаких «внешних объектов» не существует – есть лишь одно неделимое целое. Разделять больше нечего. Вы едины со всей остальной Вселенной. А вот еще один сложный вопрос: если вы связаны со всем миром, то в какой степени вы обладаете свободой? Возможно ли, что наша личная независимость – всего лишь иллюзия? Диктует ли влияние внешних сил наше поведение? Неужели мы подобны паукам, которые не могут существовать без своих паутин?
Здравомыслящий человек мог бы возразить: «Но ведь в реальной жизни все работает совсем не так. Просто оглянитесь вокруг, и вы увидите, что мы отделены от остального мира и существуем независимо от него. Я и стул, на котором я сижу, – это разные вещи. Стул существует самостоятельно, отдельно от меня. Это автономный объект, и в нем нет ничего квантового. Кроме того, не человек обнаруживает частицу – это делает специальное устройство, детектор. А ведь это тоже большой объект, подчиняющийся классическим законам. В заявлении о том, что акт измерения влияет на измеряемое, есть некоторая натяжка. Частица взаимодействует с материалами, из которых сделан детектор, и после достаточного увеличения это взаимодействие фиксируется счетчиком или отслеживающим устройством. За существованием такой частицы не стоите ни вы, ни другое сознание – всего лишь щелчки детектора. Задача квантовой механики – объяснить эти щелчки, и она прекрасно это делает, используя вероятности. Микроскопические объекты не существуют в том же смысле, что вы или я. Они всего лишь создания нашего разума, инструменты для описания того, что мы наблюдаем. К чему вся эта метафизика?»
В приведенном выше параграфе описывается так называемая ортодоксальная позиция, основанная на копенгагенской интерпретации квантовой механики, которую изначально разработали Гейзенберг и Бор для того, чтобы смягчить растерянность и отчаяние ученых, работающих в этой области. Преподаватели квантовой механики обычно не выходят за рамки копенгагенской интерпретации с ее прагматичным подходом к реальности. Эта позиция допустима, но ровно до того момента, пока нам не захочется углубиться в суть вещей. Когда же мы задумываемся о ней, начинает нарастать неприятное ощущение, которое становится все сильнее и сильнее по мере того, как мы продвигаемся дальше.
Несомненно, существование частицы обнаруживает детектор, а не человек. Но ученый и его направленность на предмет, то есть специально подобранная методика организации эксперимента, появляются раньше детектора. Детектор не существует без человека. Он не смог бы работать, если бы его кто-то не включил или не запрограммировал на определенные действия. Данные, полученные детектором, не имеют смысла без участия наблюдателя, который может объяснить скрывающиеся за ними закономерности. Электрон не существует без сознания, которое интерпретирует его существование. Иными словами, существование объекта, будь он квантовым или классическим, зависит от признающего его сознания. Вселенная без разума пуста, так как в ней нет существ, способных понять значение слова «существование». Сама концепция существования подразумевает наличие сознания, способного к высшим рассуждениям. Существование – это конструкция, которую изобрели мы сами, чтобы объяснить свое место в космосе.
Разумеется, это не означает, что Вселенная возникла лишь в тот момент, когда в ней появились сознательные наблюдатели (если только вы не согласны с епископом Беркли и его принципом Esse est percipi). Это произошло гораздо раньше. Люди, а также иные разумные существа, способные рассуждать о сущем, являются продуктами бесчисленных физических и химических реакций, которые не до конца понятным образом сумели породить сложных биологических существ. Для этого потребовалось время – пару миллиардов лет, достаточный срок для того, чтобы сменилось несколько поколений звезд и возникли более тяжелые элементы периодической таблицы, необходимые для появления жизни. Учитывая, что в начале времени не было разумных существ, мы должны заключить, что сознание не является обязательным условием для бытия Вселенной.[129] Если верна гипотеза Мультивселенной, то вселенных может быть множество, и во многих из них нет ни следа жизни. А вот обратное утверждение наверняка будет неверным, ведь жизнь существует только в рамках вселенной. Если отбросить идею бестелесного вселенского Разума, жизнь – это сеть переплетенных между собой физических, химических и астрономических условий, действующих во времени и в пространстве. Вселенная прожила множество эпох своей истории, прежде чем у жизни появилась своя собственная.
Ключевой вопрос заключается не в том, порождает ли сознание Вселенную (эту точку зрения очень трудно научно обосновать), а в том, что происходит со Вселенной после зарождения сознания. Разумеется, от него можно отмахнуться, поверив вслед за Коперником, что во вселенском масштабе нами можно пренебречь, что мы – звездная пыль и в звездную пыль возвратимся. На это я могу ответить вам вот что: позиция Коперника строится на изначально неверном посыле. Неважно, представляем ли мы интерес для Вселенной (правильный ответ – нет). Важно лишь то, как мы вписываемся в нее после осознания своей уникальности как разумных существ. Эту позицию в своей книге A Tear at the Edge of the Universe я называю гуманоцентризмом. Если кратко, мы имеем значение, потому что такие, как мы, встречаются редко. Даже если в космосе есть другие существа, обладающие «сознанием», мы – уникальный эксперимент эволюции.
Какое отношение это имеет к основаниям квантовой физики и природе реальности? Начнем с того, что все, что мы знаем о реальности, проходит через наш мозг. Когда мы разрабатываем эксперимент, чтобы определить, является электрон частицей или волной, «мы» означает человеческий мозг и его способность к мышлению. Детекторы – это продолжения наших органов чувств, фиксирующие события, которые мы затем расшифровываем с помощью внимательного рационального анализа. Мы не вступаем в прямой контакт с электронами, атомами или иными объектами квантового мира. Все, что у нас есть, – это вспышки, щелчки, звонки, линии и потоки данных, которые мы пытаемся интерпретировать. Микромир четко показывает нам, насколько ограничены наши описания реальности. Вот только кроме них у нас ничего нет. Поэтому они на очень глубоком уровне отражают нашу человеческую суть, пути нашего стремления к знаниям и границы, за которые мы не можем зайти. Мы существа, ищущие смысла, и наука – это один из плодов нашего вечного стремления к пониманию реальности.
Несмотря на то что я много лет использовал квантовую механику в своих исследованиях, а также преподавал ее и теорию квантовых полей в университете, когда я взялся за изучение литературы о различных ее интерпретациях, меня заполнило ощущение потери. Неужели реальность может быть настолько туманной? Самым печальным было то, что у этого вопроса отсутствовал простой ответ, общепризнанный выход из ситуации. При расчете квантовых вероятностей мы все совершаем одни и те же действия, но при этом взгляды на то, как квантовая механика сочетается с реальностью, сильно расходятся. Возможно, правильного ответа вообще не существует, а есть лишь разные способы посмотреть на вопрос. Как мы увидим дальше, сложность состоит в том, что некоторые странные квантовые эффекты заставляют нас пересмотреть собственное отношение к Вселенной. Может ли быть такое, что мы и Вселенная – не отдельные сущности, а единое целое? Лишь тот, кого совершенно не привлекает интеллектуальный поиск, может оставаться равнодушным к очарованию квантового мира, к манящим тайнам, в которые погружено наше существование, навсегда заключенное в пределы Острова знаний. И лишь тот, кто равнодушен, не чувствует смеси ужаса и восхищения от того, что суть реальности непознаваема.
В 1935 году Эйнштейн совместно с Борисом Подольским и Натаном Розеном (далее мы будем сокращать эту троицу до ЭПР) опубликовал работу, в которой попытался указать на абсурдность квантовой механики. Вся суть работы отражена в ее заголовке: «Можно ли считать полным объяснение физической реальности, данное квантовой механикой?»[130] У авторов не возникало никаких сомнений в верности самой теории: «Правильность теории определяется степенью соответствия между теоретическими заключениями и человеческим опытом. Опыт, который сам по себе позволяет нам делать выводы о реальности, в физике принимает форму измерений и экспериментов». Проблема, по их мнению, состояла в полноте квантового описания мира. Поэтому они предложили рабочий критерий для определения элементов воспринимаемой нами физической реальности – те физические величины, которые могут быть предсказаны с точностью (то есть с вероятностью, равной единице) без вмешательства в систему. Соответственно, должна существовать такая физическая реальность, которая совершенно не зависит от наших измерений. Например, ваш рост и вес – это элементы физической реальности, так как они могут быть точно измерены (с учетом погрешности измерительных приборов). В принципе, они также могут быть измерены одновременно без влияния друг на друга. Когда кто-то измеряет ваш рост, вы не прибавляете в весе и не худеете. В мире, которым управляют квантовые эффекты, такое четкое разделение невозможно для определенных важных пар значений, что отражается в принципе неопределенности Гейзенберга. ЭПР отказывались это терпеть.
Мы уже знаем, что отношение неопределенностей мешает нам одновременно узнать местоположение и скорость (точнее, механический момент) частицы. Это верно и для многих других пар «несовместимых» значений. Энергия и время также несовместимы, и между ними имеется такое же отношение неопределенностей, как между положением в пространстве и моментом. Еще одним примером является спин частицы – квантовое свойство, которое мы ассоциируем со своего рода внутренним вращением и визуализируем (пусть и не совсем верно) как обращение частицы вокруг своей оси. Квантовые частицы со спином похожи на вращающихся дервишей, только они никогда не останавливаются. Кроме того, вращение всегда происходит с одной и той же угловой скоростью, но при этом разные частицы могут иметь разные спины. Разнонаправленные спины (например, вращение слева направо или сверху вниз) несовместимы – мы не можем измерить их одновременно. В классической физике таких ограничений не существует, так как большинство значений совместимы друг с другом.[131]
Если значения совместимы, вы можете получить их одновременно без каких-либо ограничений. В квантовой физике при несовместимости значений применяется принцип неопределенности, поэтому информация, которую мы можем получить о них обоих одновременно, ограниченна. Если мы знаем скорость частицы, но также хотим вычислить ее местоположение, измерение такого местоположения заставит ее переместиться в определенную точку, «сжимая» ее волновую функцию. Иными словами, измерение активно влияет на частицу и изменяет ее первоначальное состояние. Более того, о первоначальном местоположении вообще нельзя говорить, так как до начала измерения существовали лишь вероятности присутствия частицы тут или там.
Но давайте вернемся к публикации ЭПР. Мы видим, что несовместимые значения нарушают предложенный ими критерий принадлежности физической переменной к физической же реальности. Так как измерять свойства частицы означает влиять на нее, сам акт измерения не соответствует понятию реальности, независимой от наблюдателя. Измерение создает реальность, в которой частица находится в определенной точке в пространстве. ЭПР считали такое объяснение абсурдным. Реальность не должна зависеть от того, кто или что на нее смотрит.
ЭПР рассматривали пару идентичных частиц, движущихся с одинаковой скоростью в разных направлениях. Давайте назовем их частицами А и В. Их физические свойства были зафиксированы в момент их взаимодействия, после которого они разлетелись в разные стороны.[132] Предположим, детектор определяет местоположение частицы А. Так как частицы имеют одинаковую скорость, мы также знаем, где в этот момент находится частица В. Если наш прибор сумеет измерить скорость частицы В в этой точке, мы будем знать и ее местоположение, и момент. Это противоречит принципу неопределенности Гейзенберга, который гласит, что невозможно одновременно получить информацию о скорости частицы и ее положении в пространстве. Кроме того, мы будем знать свойство частицы В (ее местоположение), не наблюдая ее. Согласно определению ЭПР, такое свойство является частью физической реальности. Даже если квантовая физика настаивает на том, что мы не можем узнать его до измерений, это, очевидно, не так. Соответственно, квантовая механика представляет собой неполную теорию физической реальности. В конце своей статьи ЭПР выразили надежду на появление лучшей, более полной теории, которая сможет вернуть физике реализм.
Бор ответил ЭПР всего через шесть недель, причем его работа вышла под тем же заголовком (не уверен, что это было бы возможно сегодня). В своей статье Бор ссылается на понятие комплементарности, которое предполагает, что в квантовом мире нельзя разделять детектор и то, что он наблюдает. Взаимодействие частицы с детектором вводит в состояние неопределенности не только частицу, но и сам детектор, так как они неразрывно связаны между собой. По сути, акт измерения устанавливает измеряемые свойства частицы и делает это непредсказуемым образом. Мы не можем сказать, имела ли она какие-либо свойства до измерения. Учитывая это, мы также не можем наделять эти свойства физической реальностью в том смысле, который подразумевали ЭПР: «Очевидно, что конечное взаимодействие между объектом и измерительными приборами… ведет… к необходимости отказаться от классического представления о причинно-следственных связях и радикально пересмотреть наш подход к вопросу физической реальности»[133] (выделение авторское).
В своем классическом учебнике Дэвид Бом развивает эту мысль: «[Мы предполагаем, что] свойства заданной системы существуют в нестрогой, но определенной форме и что на более точном уровне они не выступают определенными свойствами, но лишь вероятностями, которые более точно проявляются в интеракциях с подходящими для этого классическими системами, например измерительными аппаратами».[134] Бом завершает свою аргументацию ярким пассажем: «Итак, мы видим, что такие свойства, как местоположение и момент, не просто представляют собой не полностью определенные и противоположные вероятности. При высокоточном описании мы даже не можем считать, что они принадлежат только электрону, так как реализация этих вероятностей зависит от электрона в той же степени, что и от системы, с которой он взаимодействует».[135]
Согласно Бору и его последователям, ЭПР строят свои рассуждения на традиционном классическом допущении о существовании реальности, независимой от измерений. От этого допущения необходимо было отказаться. Реальность – куда более странная штука, чем ее хотел видеть Эйнштейн. Все, что мы можем, – это исследовать ее с помощью наших измерительных приборов и толковать результаты, используя вероятностную интерпретацию, которую предлагает квантовая механика. Если за Природой и стоит что-то, это что-то непознаваемо. Гейзенберг писал: «То, что мы наблюдаем, – это не сама Природа, а Природа, которая выступает в том виде, в каком она представляется нам благодаря нашему способу постановки вопросов».
У ЭПР можно различить черты платоновского идеализма – представления о существовании конечной реальности, основы всего сущего, доступной для познания. Различие состоит в том, что для Платона эта реальность представлялась абстрактным миром идеальных форм, в то время как Эйнштейн и научные реалисты видели ее вполне конкретной, хоть и сложной для осознания. Столкновение этих взглядов с прагматичной Копенгагенской интерпретацией и с комплементарностью Бора было неизбежным.
Неужели Эйнштейн, Шрёдингер и научные реалисты всего лишь следовали за античной мечтой о полном понимании мира? Как далеко мы можем зайти в изучении базовой структуры Природы и не будет ли это изучение всего лишь разглядыванием теней на стене? Действительно ли основы сущего непознаваемы?
Шрёдингер отказывался в это верить. В 1935 году, вдохновленный работой ЭПР и ответом Бора, он написал собственную статью, критикующую квантовую физику, в которой и появился его знаменитый кот. Шрёдингер высмеивал теорию, которую сам же помогал создать, вернее, ее экстраполяцию на объекты макромира. И какой-то смысл в этом был.
Представьте себе кота, закрытого в ящике вместе с устройством, которое Шрёдингер назвал «адской машиной»: счетчиком Гейгера, прикрепленным к контейнеру с радиоактивными атомами и бутылке с цианидом. При распаде атом испускает частицу, счетчик Гейгера регистрирует ее и запускает механизм, который открывает бутылку с цианидом, убивающим кота. Если же атом не распадается, кот остается жив. Очевидно, что внешний наблюдатель не сможет сказать, жив кот или нет, до тех пор, пока не откроет коробку. Соответственно, пишет Шрёдингер, если верить квантовой механике, то до открытия коробки кот будет одновременно и жив и мертв. Волновая функция, описывающая всю систему, будет содержать равное количество элементов живого и мертвого кота (он будет находиться в суперпозиции к обоим состояниям).[136]
Согласно копенгагенской интерпретации, сам факт наблюдения приведет к 50 %-ной вероятности смерти кота. Вот уж воистину убийственный взгляд! Но и это еще не все: если кот был либо жив, либо мертв до того, как вы открыли коробку, то это должно подтверждаться его прошлой историей. Он либо был отравлен, либо нет. Означает ли это, что акт наблюдения на самом деле определяет прошлое, то есть направлен во времени назад? Возможно, один взгляд не убивает кота, а воссоздает прошлое?
На это можно ответить, что в роли наблюдателя в данном случае выступает не человек, открывающий коробку, а счетчик Гейгера. Если атом распадается и счетчик это регистрирует, то это является актом наблюдения. В ответ вы могли бы заявить: так как мы не знаем, что на самом деле происходит внутри коробки, то и взаимоотношения между котом и счетчиком неважны. Значение имеет только взгляд, который мы бросаем в коробку, так как он вводит в эту историю наблюдателя.
В основе этой задачки лежит парадокс, которого не существовало в классической физике. В квантовой физике троица, состоящая из наблюдателя, измерительного устройства и измеряемого объекта, формирует новую единицу реальности, которая измеряется волновой функцией. Как писал Шрёдингер, их индивидуальные волновые функции «запутаны».[137] В принципе, при рассмотрении этой единицы мы можем учитывать всю Вселенную, так как на нас воздействуют различные ее силы: гравитация Юпитера, солнечная радиация, притяжение гигантской черной дыры в центре Млечного Пути и еще одной – в центре галактики Андромеды, пролетающая за окном птица, плывущие по небу облака, волны, набегающие на берег на пляже в Ипанеме, и т. д. Как эта связанная Вселенная соотносится с актом наблюдения, в котором наблюдатель должен быть отделен от наблюдаемого? Но если наблюдатель и наблюдаемое не разделены, то как понять, где заканчивается одно и начинается другое? Разве это разделение не лежит в основе измерений?
К счастью, большая часть наших измерений такова, что мелкими квантовыми эффектами, возникающими в результате взаимодействия между наблюдателем и его аппаратурой или наблюдателем и остальной Вселенной, можно пренебречь. Их чистое статистическое воздействие гораздо меньше, чем типичные экспериментальные ошибки, возникающие из-за ограниченности измерительных приборов. Поэтому мы вполне можем рассматривать наблюдателя и его устройство как два отдельных объекта, взаимодействующих исключительно в соответствии с классическими физическими законами. Кроме того, так как состояния измерительных приборов одинаковы для разных наблюдателей (мы слышим одни и те же щелчки счетчика Гейгера, видим одни и те же отклонения стрелки или следы в диффузионной камере и т. д.), мы считаем эти состояния не зависящими от факта наблюдения или характеристик наблюдателя. Наши измерения удобным образом сводятся к анализу данных, собранных классическим устройством, которое было разработано для восприятия и усиления сигналов в наблюдаемой системе. Такое описание верно до тех пор, пока мы четко разделяем шкалы измерений, так чтобы измерительное устройство вело себя в соответствии с классическими законами.
Это четкое разделение между наблюдаемым объектом и измерительным прибором, лежащее в основе принципа комплементарности Бора, имело смысл 60 лет назад, когда разница в масштабах действительно была велика. Однако многие современные эксперименты направлены на исследование мезомира – загадочной границы между классическими теориями и квантовой физикой. Размеры объектов мезомира измеряются в миллионных долях сантиметра (примерно такими параметрами обладают бактерии). Мы можем визуализировать отдельные атомы и, более того, манипулировать ими, как в знаменитом эксперименте IBM 1989 года, когда Дон Эйглер с помощью сканирующего туннельного микроскопа составил из 35 атомов аргона логотип компании. Нанотехнологии изучают состав устройств на мезоскопическом уровне и используют квантовые эффекты. Некоторые устройства настолько чувствительны, что могут улавливать колебания нулевой энергии квантовых гармонических осцилляторов, успешно обнаруживая энергию в вакууме. Туманность квантового мира больше не кажется недостатком. Она используется на практике для разработки новых технологий – от безопасных компьютерных систем до ультрачувствительных сенсоров и потенциально новых типов компьютеров.
В результате граница между квантовым и классическим миром утрачивает четкость. Во многих случаях ученые не могут больше прятаться за удобный и прагматичный постулат Бора о разделении квантовой системы и классического измерительного устройства. Они напрямую сталкиваются со странностью квантового мира. Это объясняет, почему сегодня над основами квантовой механики работает куда больше физиков, чем, например, 20 лет назад.[138] Но мы так и не получили ответа на свой вопрос. Является странность квантового мира неизбежной частью Природы, или мы можем что-то с ней сделать? Для нас очень важно ответить на него, ведь, если странность квантовой механики доступна для объяснений, это будет означать дальнейший рост нашего Острова знаний, а если нет, нам придется признать, что значительная часть физической реальности не просто неизвестна нам, а непознаваема в принципе.
Критики задачи о коте Шрёдингера заявляли, что кот – это просто слишком большой объект для того, чтобы изолировать его от всего остального мира и поместить в суперпозицию по отношению к двум состояниям (жизни и смерти). Вся эта идея сама по себе непрактична и потому бессмысленна. На первый взгляд, так и есть. Но как провести четкую границу? Австрийский физик Антон Цайлингер с группой коллег провели несколько потрясающих экспериментов, заставляя все бо́льшие и бо́льшие объекты проходить через препятствия с двумя прорезями, чтобы проверить, будут ли они вызывать интерференционные узоры, как электроны и фотоны.[139] В 1999 году они успешно провели интерференцию фуллеренов – крупных сферических молекул, похожих на футбольные мячи и состоящих из 60 атомов углерода. Недавно они включили в свои опыты крупные органические молекулы и планируют проверить, могут ли вирусы находиться в суперпозиции квантового состояния и интерферировать. По мере увеличения объекта и уменьшения его волны де Бройля становится все сложнее (а также все дороже) изолировать объект от внешнего влияния и поместить его в суперпозицию двух или более квантовых состояний. Если бы всего один фотон вырвался из коробки, отскочив от кота, и если бы мы зафиксировали его движение, мы смогли бы определить, стоит кот или лежит. Всего один фотон мог привести к коллапсу волновой функции кота. Придет день, и ученые, экспериментирующие с квантовой интерференцией, попытаются провести через препятствие с двумя отверстиями бактерию. Как жизнь отреагирует на квантовую суперпозицию? Предполагает ли она классическое состояние материи?
Шрёдингеру было известно об этих трудностях, и его задача была не экспериментальной, а умозрительной. Существует ли граница между странностью квантового мира и нашим, предположительно более разумным, восприятием реальности? На первый взгляд, мир не сделан из квантовых состояний в суперпозиции. Рассмотрев три знаменитые публикации 1935 года (работу ЭПР, ответ Бора и статью Шрёдингера), мы видим, почему большинство физиков предпочитают просто игнорировать происходящее и заниматься своим делом, со спокойной душой измеряя скорости переходов и квантовые суперпозиции. Но если вдуматься в то, что хотели сказать нам ЭПР, и посмотреть, как текущие эксперименты опровергают их утверждения (доказывая, например, возможность влияния на расстоянии со скоростью выше скорости света), невозможно относиться ко всей этой истории как к чисто философскому диспуту. Эйнштейн и Шрёдингер были уверены, что Природа пытается нам что-то сказать – может быть, нам стоит прислушаться? Этим-то мы и займемся дальше.
Глава 25. Кто боится квантовых призраков в которой мы еще раз рассмотрим претензии Эйнштейна к квантовой физике и поймем, что они говорят нам о мире
Пока вы еще не окончательно приняли аргументы Бора против ЭПР и не стали приверженцем прагматического подхода в квантовой физике, давайте рассмотрим одну современную концепцию, которая была реализована экспериментально.
При поляризации света его сопряженная волна движется вверх и вниз в направлении поляризации, как человек, который едет верхом на лошади. Такое направление электрического поля характерно для электромагнитной волны. Фотоны поляризованного света тоже поляризуются. Неважно, как это происходит, – важно то, что у фотонов появляется такое свойство и его можно измерить.
Представьте себе, что в ходе эксперимента источник света испустил два поляризованных фотона, движущихся в разных направлениях, например направо и налево. Два физика, Элис и Боб, стоят слева и справа от источника на расстоянии 100 ярдов каждый. Так как фотоны движутся со скоростью света, детекторы Элис и Боба засекут их одновременно.
[ЭЛИС] – (ИСТОЧНИК) – [БОБ]
Теперь давайте представим, что детектор может идентифицировать два возможных варианта поляризации фотонов – вертикальную и горизонтальную. Источник света всегда испускает фотоны с одинаковой поляризацией. Ни Элис, ни Боб не знают, какова поляризация этой пары фотонов, пока они ее не измерят. Предположим, Элис узнает, что ее фотон имеет вертикальную поляризацию. Значит, и фотон Боба будет поляризован вертикально. То же самое верно и для горизонтальной поляризации. Несмотря на то что фотон с равной вероятностью может иметь любой из вариантов поляризации (они распределяются случайным образом), Элис и Боб всегда будут получать одинаковый результат: два фотона, испускаемые одним источником, связаны между собой. Они ведут себя как единое целое.[140]
Элис решает немного приблизиться к источнику света. Ее детектор регистрирует фотон и определяет, что тот имеет вертикальную поляризацию. Она тут же понимает, что точно так же и будет поляризован фотон Боба, хотя тот еще даже не был зарегистрирован его детектором. Но, согласно квантовой механике, мы можем определить состояние чего-либо, только посмотрев на это. А так как двигаться быстрее скорости света невозможно, значит, Элис мгновенно (или, по крайней мере, со сверхсветовой скоростью) повлияла на фотон Боба, не взаимодействуя с ним!
Удивительно, но этот эффект не зависит от того, на каком расстоянии друг от друга находятся Элис и Боб. Неважно, разделяют их десять миль или множество световых лет, – результат будет тем же. Учитывая точность имеющихся у нас на сегодняшний день приборов, нам кажется, что все происходит мгновенно. Обратите внимание, что между двумя фотонами не произошла передача информации. Они не «говорили» (не взаимодействовали) друг с другом никаким (известным нам) способом. Они вели себя как единое целое, невосприимчивое к разделению в пространстве. Эйнштейн назвал это влияние на расстоянии загадочным и мистическим квантовым призраком. Учитывая, что он уже сделал с духом Ньютона (описав гравитацию как локальное воздействие, а не как влияние на расстоянии), можно понять, почему квантовый призрак тоже его заинтересовал. Эйнштейн умер в уверенности, что его следует изгнать. Но возможно ли это?
Такие связанные пары частиц создаются и анализируются во многих лабораториях по всему миру. Измерение одной частицы из двух мгновенно (или, по крайней мере, со сверхзвуковой скоростью) влияет на другую вне зависимости от расстояния до нее. Давайте рассмотрим этот эксперимент более подробно.
Глава 26. По ком звонит колокол в которой обсуждается теорема Белла и показывается, как ее практическое применение превращает реальность в фантастику
Есть ли из всего этого выход? Может быть, физики упускают что-то важное и очевидное, какое-то правильное объяснение происходящего? Как показывает наш экскурс в историю, это был бы не первый подобный случай в научной практике. Может быть, то, что сделал Эйнштейн с ньютоновским действием на расстоянии, можно каким-то образом повторить и для квантового мира? Может быть, действие на расстоянии вовсе не мгновенно, а просто происходит быстрее скорости света? В конце концов, мы не можем измерить мгновенность действия, ведь это потребовало бы от наших приборов абсолютной точности, чего на практике добиться невозможно. «Мгновенность» и ее противоположность «вечность» – это концепции, которые не могут быть подтверждены экспериментально. Измерение не может быть ни достаточно коротким, чтобы считаться мгновенным, ни достаточно длинным, чтобы его можно было назвать вечным. Мы даже не можем быть уверены, что эти понятия являются частью физической реальности.
Мы уже знаем, что Бом предложил нелокальную теорию скрытых переменных, которая отвечала предсказаниям квантовой механики. Этот подход соответствовал утверждению из его учебника, опубликованного в 1951 году, всего за год до работы о переменных: «До тех пор, пока мы не найдем реального подтверждения неверности общего квантового описания, которое мы используем сегодня, поиск скрытых переменных кажется совершенно бессмысленным. Вместо этого следует считать законы вероятности фундаментальными, встроенными в самую структуру материи».[141] Итак, любая теория скрытых переменных должна была повторить успех квантовой механики, а кроме того, дать «точное, рациональное и объективное описание индивидуальных систем с квантовым уровнем точности»[142] (для чего Бом и разработал свою теорию).
В течение 12 лет после публикации работы Бома ситуация не сдвигалась с мертвой точки. Большинство физиков в духе широко распространенного научного консерватизма 1950-х годов не были готовы изменить успешную теорию из-за метафизической потребности в реализме, в особенности если эта теория опиралась на нелокальность – свойство, которое многим не хотелось допускать в физику. Прагматическая эффективность казалась важнее верного толкования. При этом физики 1950-х игнорировали то, что было на кону: либо новая теория о фундаментальных свойствах материи, соответствующая нашим наивным мечтам о познаваемости Природы и ее детерминированности, то есть управлении логическими законами, либо принятие странности квантовой механики как нерушимой преграды, мешающей нам познать истинную суть вещей. Иными словами, большинство ученых заняли сторону Бора и Гейзенберга и придерживались мнения о непознаваемости самой сути реальности (чем бы она ни была).
Лишь немногие заинтересовались идеей, которая наверняка привлекла бы внимание Эйнштейна, – локальной теорией скрытых переменных. Такая теория могла бы восстановить реализм квантовой физики, избавив ее от ужасного понятия нелокальности. Но стоило тратить свое время на поиск таких теорий или это было бессмысленно?
Ответ на этот вопрос появился в 1964 году, когда у ирландского физика Джона Белла родилась блестящая идея. Как он писал впоследствии, на нее его натолкнула теория скрытых переменных: «Я увидел, что невозможное возможно. Я прочел это в работах Дэвида Бома».[143] Белл нашел способ экспериментальным путем найти различия между квантовой механикой и локальным действием скрытых переменных и, следовательно, установить, действительно ли традиционный формализм является неполным, как полагали Эйнштейн и его сторонники.
В то время Белл работал в ЦЕРН. Он воспользовался академическим отпуском, предоставленным ему в США, чтобы обдумать эту забытую философскую проблему. Однажды я даже встречался с Беллом лично. Это было в начале 1980-х, когда я только начинал учиться в аспирантуре лондонского Кингз-колледжа. Меня не очень привлекала область исследований, которую предлагал мой научный руководитель, поэтому я решил сменить интересы и переключиться на основания квантовой механики. Я мечтал об этом еще со студенческих лет, после того, как мне в руки попал знаменитый учебник «Фейнмановские лекции по физике». Дело было на конференции в Оксфорде. Я подошел к великому ученому после семинара, посвященного его знаменитому неравенству.
– Доктор Белл, меня зовут Марчело Глейзер, я работаю вместе с Джоном Тейлором над вопросами суперсимметрии.
– Отлично, это прекрасная тема для исследования.
– Да, но на самом деле я уже давно интересуюсь основаниями квантовой теории. Я даже писал Дэвиду Бому и просил его быть научным руководителем моей диссертации, но он сказал, что больше не курирует студентов.
В то время Бом работал в Биркбек-колледже, тоже в Лондоне. При упоминании Бома глаза Белла сверкнули.
– Что ж, ваши интересы делают вам честь, хотя они и редки для людей вашего возраста. Однако я бы порекомендовал вам не писать диссертацию на эту тему.
– Почему же? – спросил я, уже догадываясь, каким будет ответ.
– Сначала нужно поработать с чем-то основательным, с чем-то, что поддерживает научное сообщество. Пока у вас нет прочной репутации в физике, никто не захочет слушать ваших рассуждений о квантовой механике. Да и в этом случае тема останется довольно зыбкой, поверьте мне.
– Хорошо, я понял, – ответил я, пытаясь скрыть разочарование. – Может быть, я вернусь к этому позже.
– Ну я именно так и сделал.
Так завершился мой единственный разговор с Джоном Беллом. Я считаю эту книгу своей первой попыткой победить квантовый призрак и, будем надеяться, предисловием к новым, более техническим публикациям. В конце концов, с момента встречи с Беллом прошло 30 лет. Если и сейчас моя репутация недостаточно прочна, я уже никогда ее не укреплю.
Мы уже знаем, что с помощью своего эксперимента ЭПР исследовали взаимоотношение положения частицы в пространстве и момента, чтобы поставить под сомнение полноту квантовой механики. Бом упростил эту идею, использовав вместо двух свойств спин частицы. Это был умный ход, потому что он делал рассуждение более ясным, а также упрощал измерения. В отличие от положения свободно движущейся частицы в пространстве (свободной переменной, которая может принимать любое значение), спин имеет лишь несколько дискретных значений. Классический волчок, будь то игрушка или планета Земля, обращающаяся вокруг своей оси, может вращаться с любой (угловой) скоростью, в то время как квантовые частицы имеют лишь три возможных варианта: нулевой спин (как у бозона Хиггса), целый спин (как у фотона) или половинное значение квантовой единицы спина (как у электрона или кварка), то есть постоянная Планка h, разделенная на 2π (h / 2π). Изменить спин квантовой частицы невозможно – это ее неотъемлемая характеристика.
Для упрощения давайте обозначим квантовую единицу спина буквой s (s = h / 2π). Электроны, протоны и нейтроны имеют спин s / 2, а спин фотонов равняется s. Спин может быть по-разному ориентирован в пространстве, хотя на его направление можно влиять (например, с помощью магнитного поля). Давайте сфокусируемся на вертикальном направлении спина, перпендикулярном движению частицы, и обозначим его как ось z. Если ориентировать магнитное поле вертикально, электроны (или любые другие частицы со спином, равным s / 2) будут ориентированы в направлении поля или против него (проще говоря, вверх или вниз). Это значительно упрощает дело, потому что теперь мы можем говорить о частицах со спином +s / 2 и – s / 2. Вариантов остается всего два. Чтобы сделать наш эксперимент еще проще, давайте заменим эти значения на +1 и –1.
В своем мысленном эксперименте Белл представил источник, испускающий пару связанных частиц с половинным спином, совокупный спин которых равняется нулю. Соответственно, если одна из них направлена вверх (+1), вторая обязательно будет двигаться вниз (–1). Как и в эксперименте с Элис и Бобом, частицы разлетаются в разных направлениях и проходят сквозь детекторы, определяющие направление их спина. Пускай буквой П будет обозначен детектор справа, а Л – слева, как показано на схеме ниже.
Л – (ИСТОЧНИК) – П
Если все пары электронов и два детектора будут постоянно ориентированы вертикально, у нас получится четкая корреляция. Когда один исследуемый объект направится вверх, второй будет двигаться вниз, и наоборот. Удивительно то, что из нашего обсуждения поляризованных фотонов мы уже знаем: связанная пара действует как одно целое, в котором каждая частица всегда знает, куда направляется другая (разумеется, «знает» – это не самый правильный термин). Так как в квантовой механике частица приобретает определенное свойство только после измерения, электрон Элис окажется направленным вверх, когда она определит его ориентированность. Но как частица Боба узнает об этом так быстро? Как писал Сет Ллойд в своей книге о квантовой информации, эти частицы похожи на двух братьев-близнецов в разных барах: когда один заказывает пиво, другой тут же берет себе виски и когда первый говорит: «Виски», второй моментально произносит: «Пиво».[144]
В дальнейшем Белл добавил в свой эксперимент еще один вариант.[145] Предположим, что мы можем измерить спин частицы в любом направлении, а не только в вертикальном. Давайте установим два направления: вертикальное и с 30-градусным отклонением от вертикальной оси. Каждый детектор можно настроить таким образом, чтобы он измерил одно из двух возможных направлений. Обозначим вертикальное направление для детекторов как Л| и П|, а наклонное – как Л/ и П/. Итого два детектора могут быть ориентированы четырьмя возможными способами: (Л|; П|), (Л|; П/), (Л/; П|) или (Л/; П/). Так как электроны могут быть направлены по этим осям только вниз или вверх, детекторы могут показывать только два значения: +1 и –1. Следовательно, после установки детектора в нужном направлении каждое измерение будет давать нам пару возможных чисел: (+1; +1), (+1; –1), (–1; +1) или (–1; –1).
Обратите внимание, что для случаев (Л|; П|) и (Л/; П/), при которых оба детектора имеют одно направление, результаты определяются сохранением момента количества движения – фундаментальным законом природы, который говорит, что значение вращения в физической системе, не подвергающейся внешнему воздействию, остается неизменным. Если Л| = +1, то П| = –1, и наоборот. Если Л/ = +1, П/ = –1, и наоборот. В этом случае между двумя частицами наблюдается идеальная корреляция, как в случаях, которые мы обсуждали выше.
Четыре независимых результата становятся возможными, если мы предполагаем, что между разными направлениями спина частиц, попадающих на детекторы Л и П, отсутствует корреляция в соответствии с принципом локальности, который Эйнштейн и Шрёдингер так хотели увидеть воплощенным в Природе. Мы ожидаем, что со смешанными комбинациями (Л|; П/) и (Л/; П|) не произойдет ничего особенного.
Учитывая четыре возможных ориентации двух детекторов, экспериментатор может составить таблицу с результатами многочисленных повторений данного опыта и записывать в нее пары чисел для каждого измерения.[146] Иными словами, каждое повторение опыта соответствует четырем отдельным измерениям, по одному для каждой схемы ориентации детекторов. Кроме того, экспериментатор может изучить соотношения между парами значений в каждом опыте. Его может заинтересовать следующее соотношение, которое мы назовем С:
C = (Л| × П|) − (Л/ × П|) + (Л| × П/) + (Л/ × П/) = (Л| − Л/) × П| + (Л| + Л/) × П/.
Последнее выражение было получено путем перестановки условий. Экспериментатор рассчитывает С для каждого опыта, включающего в себя четыре возможных способа ориентации детекторов и расчет спина обеих частиц.[147] Если локальные теории верны, результаты будут таковы: так как Л| и Л/ могут принимать только значения +1 или –1, одно из двух условий в скобках пропадает, а второе принимает значение +2 или –2. Например, если Л| = +1, а Л/= –1, первое условие будет равно +2, а второе пропадет. Если же Л| = –1, а Л/ = +1, первое условие будет равняться –2, а второе можно будет вычеркнуть. Так как П| и П/ в каждом из опытов тоже принимают значения +1 или –1, общее значение С всегда будет составлять либо +2, либо –2.
Экспериментатор рассчитывает и записывает С для каждого опыта. Предположим, что он делает это N раз. Затем он может рассчитать среднее значение С, Cср = (С1 + С2 +… + СN)/N, где С1 будет означать С для опыта 1, С2 – для опыта 2 и т. д. до последнего СN. Так как в каждом из случаев С может принимать только значения –2 или +2, Сср является числом в промежутке от –2 до +2. Мы можем записать это так: –2 ≤ Сср ≥ +2. Например, если после четырех попыток экспериментатор получит С1 = +2, С2 = –2, С3 = +2 и С4 = +2, он рассчитает Сср как Сср = (2–2 + 2 + 2) / 4 = 1.
Таким образом, локальные теории предсказывают, что среднее значение С всегда будет находиться в диапазоне от –2 до +2. Однако если мы проводим расчет С с использованием квантовой механики, мы можем найти более сильную корреляцию между разнонаправленными частицами и, соответственно, получить другой результат: измерения спина двух частиц, движущихся в различных направлениях, не полностью независимы друг от друга. В результате значение С может выходить за пределы диапазона от –2 до +2. При некотором угловом отклонении от вертикали квантовые корреляции между спинами частиц оказываются больше, чем предсказывают локальные теории. Иными словами, в квантовой механике неравенство –2 ≤ Сср ≥ +2 должно быть нарушено. Белл разработал однозначный экспериментальный способ обнаружить разницу между традиционной квантовой механикой и модификациями со скрытыми переменными, предполагающими локальность в смысле, установленном ЭПР.
Пока я писал эти строки, группа Цайлингера вместе с коллегами из других стран, включая Национальный институт стандартов и технологий США и специалистов из Германии, провела уникальный эксперимент со связанными фотонами, подтверждающий, что в Природе отсутствуют мистические «влияния на расстоянии».[148]
Новизна этого опыта состояла в том, что в нем рассматривались одновременно все фотоны, участвующие в эксперименте, чего до сегодняшнего дня добиться было трудно (раньше какая-то часть фотонов не попадала на детектор и поэтому не учитывалась). Это очень важный аспект, так как он исключает возможную предвзятость в отношении как источника, так и улавливающего фотоны оборудования (желание принимать к рассмотрению только «важные» фотоны). Соответственно, результат становится более объективным. Эксперимент Цайлингера стал последним в длинном ряду опытов, которые начались еще в 1972 году, когда Джон Клоузер и Стюард Фридман из Университета Калифорнии в Беркли обнаружили случай нарушения неравенства Белла, соответствующий принципам квантовой механики. В начале 1980-х этим вопросом занялись Алейн Аспект и его команда, а в 1990-х эстафету перенял Цайлингер со своими коллегами. Результаты впечатляли: в каждом опыте неравенство Белла не просто нарушалось, нарушение полностью соответствовало квантовой механике.
Чистый результат этих экспериментов несколько сбивает с толку. Выходит, что надежда Эйнштейна на появление локальной теории, объясняющей происходящее и способной изгнать квантовый призрак (чего-то вроде его собственного дополнения ньютоновской теории притяжения), оказалась ложной. В совокупности эти эксперименты опровергают все локальные теории, в которых используются скрытые переменные для объяснения мгновенного действия на расстоянии. Нелокальность (или делимость, то есть взаимодействие между элементами связанной пары, разделенной в пространстве, на световых скоростях) – это вовсе не призрак. Реальность не просто удивительнее, чем мы предполагали, – она удивительнее, чем мы могли предположить.
Если вы прочли предыдущие абзацы и вас ничто в них не удивило, перечитайте их еще раз. Если же вы их пропустили, читайте дальше, но приготовьтесь – вы будете шокированы. Тот факт, что один объект может влиять на другой на расстоянии без привычного обмена информацией, кажется довольно пугающим. Да что там, он вообще не сочетается со здравым смыслом. Он добавляет к нашей реальности дополнительное измерение, совершенно не соответствующее нашему повседневному восприятию времени и пространства. Более того, в нем вообще нет ни времени, ни пространства, ведь оно действует мгновенно (или, по крайней мере, со сверхзвуковой скоростью) на любом расстоянии – насколько мы можем судить на основании наших измерений.
Что это значит для нашего восприятия реальности? Может быть, это какое-то проявление микромира, крошечный квантовый эффект, который мы не замечаем за более масштабными событиями нашей жизни? Или же он имеет значение для нашего взаимодействия с физической реальностью и друг с другом? Люди часто говорят о синхроничности, то есть о сверхъестественной способности (или вере в способность) чувствовать что-то или кого-то мгновенно, как бы вне времени: «Я знал, что ты сегодня сюда придешь!» или «Недавно мы ехали в машине с кузиной, и стоило мне сказать, что я люблю кленовый сироп, как мы увидели дорожный знак с его рекламой!». Можно ли списать все эти случаи исключительно на совпадения? На заблуждения людей, которые хотят во всем видеть связи? Или же существует какая-то более масштабная запутанность, связь между вещами, которую чувствует наш мозг?
Прямо сейчас мы балансируем на тонкой грани между серьезной наукой и безумными домыслами. Наука прочно стоит на своем: квантовая нелокальность существует и в ближайшее время никуда не денется. Рассуждения о том, как она влияет на события макромира, не имеют под собой оснований (по крайней мере, на данный момент). После неравенства Белла и экспериментального подтверждения эффекта нелокальности между двумя связанными частицами лишь немногие физики осмелятся утверждать, что квантовая механика неверна. Большая часть ее пробелов была заполнена экспериментами. Но когда мы задаемся вопросом, насколько глубоко в реальность проникают странные квантовые эффекты, начинаются споры и разногласия. Еще десять лет назад от них легко было отмахнуться и заявить, что они действуют лишь в малых масштабах, далеких от реальной жизни, но последние эксперименты резко изменили эту удобную позицию.
В апреле 2004 года венская группа Цайлингера использовала пару связанных фотонов для того, чтобы перевести пожертвование в размере 3000 евро от городской администрации в Банк Австрии. Для этого одному из двух фотонов пришлось преодолеть 1450 метров по оптоволоконному кабелю, не разрывая при этом связи со своим партнером. За год до этого Цайлингер успешно переправил связанные фотоны через Дунай (с крыш двух башен для сточных вод). Ставки росли, и в 2007 году Цайлингер отправил связанные фотоны на расстояние 144 километра, разделяющее испанские острова Тенерифе и Гран-Канария. Пара фотонов была сгенерирована лазером в обсерватории на Гран-Канарии, а затем принята оборудованием на Тенерифе. Смысл этого эксперимента состоял в том, чтобы показать, что связи между электронами сохраняются даже на больших расстояниях в открытом пространстве и не разрушаются под влиянием температуры или атмосферных колебаний. Цайлингер планирует повторить свой эксперимент в космосе, используя МКС в качестве источника фотонов. Предполагается, что частицы будут направлены на детекторы, расположенные на поверхности Земли далеко друг от друга. Предварительные тесты с использованием японского спутника оказались весьма многообещающими. Судя по всему, нелокальность – это гораздо более стабильное явление, чем нам казалось раньше. Но если так, почему мы не замечаем его вокруг себя? Или все же замечаем?
Глава 27. Сознание и квантовый мир в которой рассматривается возможная роль сознания в мире квантовых эффектов
Я уже рассказывал вам о своей встрече с великим физиком Джоном Беллом, который посоветовал мне держаться подальше от исследований в области толкования квантовой механики в начале научной карьеры. Еще я говорил, что до встречи с Беллом писал Дэвиду Бому и тот ответил мне, что больше не курирует студентов. Как я ни старался, двери в мир квантовой механики закрывались одна за другой. Уже начав работать над докторской и опубликовав несколько работ по единым космологическим теориям с несколькими дополнительными измерениями, я сделал отчаянный шаг – обратился к человеку, чьи книги вдохновили меня в первый год учебы в университете, пускай даже в то время у меня уже возникали сомнения относительно его попыток связать воедино современную физику и восточный мистицизм. Звали этого человека Фритьоф Капра. Седьмого декабря 1984 года я отправил ему сердечное письмо, в котором жаловался, как мои взгляды на физику расходятся с принятым у большинства моих коллег принципом «заткнись и считай». Покоренный романтичным образом ученого-бунтаря, я мечтал поработать вместе с ним над вопросами связи между сознанием и квантовым миром. К счастью (как мне кажется теперь), я опоздал. На тот момент Капра еще имел кое-какие связи с лабораторией Лоуренса Беркли в Калифорнии, но не занимал постоянную университетскую должность и не работал со студентами. Несомненно, если бы Капра взял меня под крыло, моя карьера сложилась бы совершенно иначе. Но, оглядываясь назад, я радуюсь, что этого не произошло.
Мне было 25 лет, и я искал способы соединить рациональный научный подход, привитый мне в университете, с той глубокой духовностью, которую я воспитывал в себе с юности. Примерно в то же время я прочел «Философский камень» Колина Уилсона и задумался, действительно ли наш мозг может гораздо больше, чем то, ради чего мы его используем. Научно-фантастическая книга Уилсона прекрасно описывала, как электростимуляция неокортекса может переключить мозг человека в режим гениальности.[149] Возможно ли, что у каждого из нас действительно имеется такой потенциал, ждущий, когда его откроют? Добавим к этому еще и факт, что за несколько лет до этого я, как и многие другие зрители по всему миру, был поражен выступлением израильского экстрасенса Ури Геллера и его умением гнуть ложки силой мысли. Как, черт побери, он это делал? Каким образом, следуя его инструкциям, люди запускали старые часы, просто взяв их в руки? Я лично вернул к жизни дедушкины наручные часы, которые были сломаны уже много лет. В то время работы блестящего фокусника и скептика Джеймса Рэнди, демонстрирующего, как проделывать такие трюки с помощью простой ловкости рук, еще не были так известны, как телевизионные выступления Геллера. Как здравый смысл мог противостоять притяжению магии?[150]
В своем юношеском энтузиазме я был уверен, что я не одинок в своих попытках связать физику с потусторонним миром. Многие великие викторианские ученые переживали увлечение мистикой, включая даже некоторых нобелевских лауреатов: лорд Рэлей, объяснивший голубой цвет неба, Дж. Дж. Томсон, открывший существование электронов, Уильям Рэмзи, первооткрыватель благородных газов, сэр Уильям Крукс и сэр Оливер Лодж, выдающиеся физики своего времени. Все они, как и многие другие, практиковали оккультизм и искали доказательства существования телепатии, общения с мертвыми, психокинеза и иных чудесных и сверхъестественных явлений.[151] Они считали пространство пронизанным невидимыми электромагнитными волнами, эфирными вибрациями, излучаемыми живой и мертвой материей. Гильермо Маркони довел до совершенства прием и передачу радиоволн – звуков и голосов из воздуха. Что еще могло скрываться незамеченным в этом зыбком мире?
Новая наука постоянно играет с границами возможного. Если наши ограниченные органы чувств не замечают столь многого, почему не предположить, что от них скрыто гораздо больше? Что, если существует душа, способная пережить материальное разложение тела? Современная наука в сочетании с исконным человеческим стремлением к вечной жизни могла бы открыть мир, населенный духами, а если бы нам были доступны правильные каналы коммуникации, духи могли бы ответить на наши отчаянные призывы. Крукс, Лодж и Томсон принимали участие в сотнях спиритических сеансов, каждый раз ожидая, что произойдет что-то невероятное. Еще недавно наука была настолько гибкой, что прощала даже самым блестящим своим представителям подобные устремления. Неудивительно, что я решил отправиться для написания своей докторской диссертации в Англию. Я втайне надеялся найти связь между нашим миром и волшебной невидимой реальностью, которая иногда показывалась из тени возможного.
Викторианские джентльмены от науки пытались найти мост между миром материи и миром духа. Эту же попытку, хотя и в более формальном выражении, предприняли и основатели квантовой механики, изучавшие связь между квантовой физикой и ролью наблюдателя. Квантовая физика образовалась на месте столкновения реального и невозможного, рутинного повседневного опыта и альтернативного мира, в котором необычность является нормой. Какую позицию нам занять? Нужно ли бороться со странностями и вслед за Эйнштейном настаивать, что реальность должна быть рациональна по своей сути? Или нам следует сойти со старого пути реалистичности и углубиться в новый мир квантовых эффектов, приняв его отклонение от нормы за новый мировой порядок?
Если мы выбираем второй вариант, возникает следующий вопрос: как далеко мы готовы зайти? Так как различные интерпретации квантовой механики не так-то легко поддаются экспериментальному подтверждению, большинство физиков предпочитает не иметь с ними дела. Неважно, что, по-вашему, квантовая механика говорит нам о мире – значение имеют лишь данные на наших детекторах. Давайте исследовать реальность, не поддаваясь на субъективные интерпретации. В конце концов, разве суть науки не состоит в независимости от субъективного выбора?
Подобная слепота к тайнам и загадкам квантовой физики шокирует ученых из другого лагеря. «Как вы можете спокойно спать по ночам, зная, что мы ничего не понимаем в самой сути реальности? – вопрошают они. – Нелокальность уничтожает пространственное разделение между классическими (большими) и квантовыми (малыми) явлениями. Закрывать глаза на это – значит быть подобными церковникам, которые отказывались посмотреть в телескоп Галилея».
Из этого тупика нет выхода. Вот как Максимиллиан Шлоссхауэр, Йоханн Кофлер и Антон Цайлингер резюмировали ситуацию после проведения опроса среди участников конференции «Квантовая физика и природа реальности», прошедшей в июле 2011 года в Австрии:
Квантовая теория основывается на четкой математической базе, имеет огромное значение для естественных наук, позволяет делать потрясающе точные предсказания и играет ключевую роль в современном технологическом развитии. Тем не менее за 90 лет с момента ее создания научное сообщество так и не пришло к единому мнению относительно толкования ее базовых единиц. Наш опрос призван напомнить об этом необычном положении дел.[152]
Существуют различные подходы к ситуации – от умеренных до радикальных. Начнем с первых. Старая добрая копенгагенская интерпретация задает правила игры: между квантовой системой и классическим измерительным устройством существует четкое разделение. Мы, наблюдатели, никогда не вступаем в прямой контакт с квантовой системой – за нас это делают детекторы. Мы лишь интерпретируем результаты взаимодействия между системой и измерительными приборами после того, как в результате усиления воздействия видим вспышки или следы или слышим щелчки на фотографическом или цифровом регистраторе. Волновая функция, фундаментальная единица квантовой физики, представляет собой математическое выражение возможностей – потенциальных результатов измерения. Это не физическая величина, так как она не имеет связи с физической реальностью. В отличие от классической физики, в которой уравнения движения напрямую ссылаются на конкретный движущийся объект (шар, волну или автомобиль), в квантовой физике уравнение описывает амплитуду вероятностей. Предположим, что мы хотим измерить местоположение частицы. До измерения ее волновая функция распространяется по всему пространству (или области движения частицы, если она ограничена), отражая различные вероятности ее нахождения здесь или там. Уравнение Шрёдингера описывает, как волновая функция развивается во времени с учетом всех возможных сил, влияющих на частицу. Когда мы проводим измерение и обнаруживаем частицу в определенном месте, волновая функция коллапсирует. Она перестает быть возможностью и превращается в реальность, мгновенно переходя от распространенности во всем пространстве к концентрации в одной точке. Строго говоря, акт измерения делает измеряемое реальностью, перенося его из зыбкого мира квантовых вероятностей в конкретный мир обнаружения и чувственного восприятия. Если говорить коротко, измерять – значит создавать.
Но если начать задавать вопросы об этом сценарии, он оказывается гораздо сложнее, чем на первый взгляд. Когда мы говорим: «Измерять – значит создавать» (как делал Паскуаль Йордан), кто или что создает реальность? Согласны ли мы наделять способностью к творению механическое измерительное устройство? Убивает ли счетчик Гейгера кота Шрёдингера, когда регистрирует частицу и выпускает яд? Или же для наблюдения нужен мыслящий наблюдатель, обладающий сознанием, намерением провести измерение и рациональной способностью интерпретировать его результаты? Если для создания реальности требуется мыслящий наблюдатель, как объяснить, что Вселенная существовала без него миллиарды лет? Означает ли это, что существует вездесущий Бог, как предполагал Джордж Беркли в XVIII веке? Возможно ли, что Вселенная «схлопнула» свою собственную волновую функцию при переходе из квантового состояния в начале времен к классической расширяющейся модели? Если да и если нелокальность существовала в течение всей истории космоса, значит ли это, что все может до сих пор оставаться связанным?
Лауреат Нобелевской премии Юджин Вигнер, изучавший роль математической симметрии в квантовой механике, прямо обращался к вопросу роли сознания в квантовой физике: «Когда область действия физической теории была расширена до микроскопических явлений… понятие сознания снова вышло на передний план. Законы квантовой механики невозможно было сформулировать полно и последовательно, не ссылаясь на сознание».[153] Говоря «снова», Вигнер имеет в виду Рене Декарта с его афоризмом Cogito ergo sum («Мыслю, значит существую»), признающим верховенство мысли. Вигнер, как и Гейзенберг до него, понимал, что любому измерению требуется сознание, которое его истолкует. От наблюдаемого объекта к детектору и от него к сознанию наблюдателя простирается единый континуум. В классической физике разумный наблюдатель тоже необходим – для разработки эксперимента и толкования его результатов, – но разница состоит в том, что в квантовом мире измерение делает измеряемое реальностью. Без сознания реальности не существует. Задача, которую Джон Белл называл центральной проблемой квантовой механики, состоит в том, чтобы найти границу между реальным классическим «внешним» миром и связанным с ним «внутренним» квантовым уровнем реальности.
Для того чтобы проиллюстрировать эту проблему, используется метафора «друга Вигнера». Представим себе, что друг Вигнера, физик-экспериментатор, создал аппарат для измерения спина электрона. Он может быть направлен вверх или вниз, и до начала измерений, когда электрон находится в суперпозиции, вероятность каждого из этих результатов составляет 50 %. Начав опыт, друг Вигнера обнаружит спин, направленный либо вверх, либо вниз. После того как измерение проведено, не существует ни суперпозиции, ни вероятностей. Допустим, Вигнер знает об этом эксперименте, но спрашивает о результатах только после его завершения. Другу Вигнера результат уже известен, то есть волновая функция уже сколлапсировала в одно из двух возможных состояний. Однако для самого Вигнера электрон остается в суперпозиции до тех пор, пока его друг не ответит на вопрос о результатах опыта. «Подобная дуалистичность совершенно бессмысленна», – писал реальный Вигнер. Ведь из сложившейся ситуации можно сделать вывод, что до тех пор, пока Вигнер не задаст своему другу вопрос, сам друг будет находиться в суперпозиции («состоянии заморозки»), соответствующей двум возможным результатам измерений. Все мы помним, чем это закончилось для кота Шрёдингера. Вигнер заключает: «Соответственно, мыслящее существо должно играть в квантовой механике иную роль, нежели неодушевленный вычислительный прибор».[154] Если точнее, «сознание неизбежно и неизменно входит в [квантовую] теорию».[155]
Физик Джон Уилер из Принстона развил идеи Вигнера в своей концепции «соучастной Вселенной». Он заявил, что акт измерения представляет собой нечто большее, чем просто наблюдение: он определяет, как Вселенная будет развиваться во времени с момента измерения (и даже в обратном направлении!). Как только экспериментатор решает измерить свойства электрона определенным образом (например, с помощью детектора частиц, а не волнового интерферометра), будущее Вселенной изменяется. «Изменяется самим экспериментатором. Нужно слово “наблюдатель” и заменить его словом “участник”», – заявлял Уилер на конференции в Оксфорде в 1974 году.[156]
Для того чтобы прояснить свою точку зрения, Уилер предложил мысленный эксперимент. Предположим, что ученый устанавливает источник фотонов, которые должны преодолеть препятствие с двумя прорезями, как в обычных опытах с квантовой интерференцией. Источник можно настроить таким образом, чтобы за определенный промежуток времени он испускал только один фотон. За препятствием установлен экран, на котором должен отображаться ожидаемый экспериментатором интерференционный узор из черных и белых полос. Этот экран имеет колесики, которые позволяют ученому двигать его вдоль траектории движения фотонов после прохождения через препятствие. За экраном имеются два детектора, каждый из которых ориентирован на одну из прорезей в препятствии.
Диаграмма эксперимента Уилера с отложенным выбором
Таким образом, если экран сдвинут, детектор может уловить, через какую прорезь двигался фотон. Существует два возможных варианта развития событий: или экран находится на месте и экспериментатор видит на нем интерференционный узор, или экран сдвинут в сторону и тогда наблюдатель знает, через какую прорезь прошел фотон. Но вот в чем хитрость: экспериментатор может решить, сдвигать экран или нет, только после прохождения фотона через прорези.
Уилер предположил, что фотон будет реагировать на выбранное устройство наблюдения. Он назвал свой опыт экспериментом с отложенным выбором. Свободный выбор экспериментатора определяет физическое состояние фотона (волна он или частица) и, судя по всему, этот выбор направлен назад в прошлое. Уилер объяснял эту идею так: «Прошлое не существует иным образом, кроме как в виде зафиксированного результата в настоящем… Вселенная не находится где-то вовне, независимая от наших наблюдений. Вместо этого мы имеем дело со своего рода соучастной Вселенной». Позже он отмечал в описании аналогичного эксперимента с использованием космического источника света: «Мы решаем, что фотон должен был сделать, после того, как он уже это сделал». Наш выбор вмешивается в прошлое частицы. Уилер экстраполирует свою идею на Вселенную в целом: наблюдатель «дает миру возможность воплотиться в реальности за счет придания ему смысла». «Если говорить кратко, – пишет он, – без сознания нет коммуницирующего общества для создания смыслов, а без них нет и мира… Вселенная порождает сознание, а сознание придает Вселенной смысл».[157]
Выводы Уилера кажутся несколько натянутыми, но, как ни удивительно, его концепция отложенного выбора недавно была подтверждена экспериментально, по крайней мере для квантовых систем. В 2007 году Венсан Жак и его коллеги (среди которых был и Алейн Аспект, который, как вы помните, продемонстрировал наличие нарушений в неравенстве Белла) провели эксперимент, описанный Уилером, в точности следуя его инструкциям и обеспечив невозможность коммуникации на скоростях вплоть до световой. Таким образом, фотон не мог «знать», как именно он будет измеряться.[158] В конце своего труда Жак и соавторы цитируют Уилера: «Мы наблюдаем странную инверсию нормального движения времени. Передвигая зеркало, мы неизбежно оказываем влияние на то, что мы можем сказать о прошлом наблюдаемого фотона».[159]
Нелокальность поражает нас, заставляя пересмотреть глубоко укоренившиеся в нашем сознании концепции, например причинно-следственную связь. Может ли настоящее действительно определять прошлое? Возможно ли перенести эти странные отношения с хрупких квантовых систем на более крупные объекты или даже на всю Вселенную целиком, как предлагал Уилер? «Может ли понятие Большого взрыва быть лишь упрощенным описанием совокупного влияния миллиардов и миллиардов элементарных действий соучастного наблюдения, направленных в прошлое?[160]» Уилер поступает мудро, разделяя сознание и акт наблюдения, который он понимал как своего рода регистрацию явления. Смысл, то есть то, как сознание толкует эту регистрацию, – это уже «отдельная история». Объяснения Уилера звучат неоднозначно, потому что он не знает правильного ответа. Как и никто другой.
Может ли реальность строиться на миллиардах миллиардов актов соучастного наблюдения? Сегодня мы все еще бесконечно далеки от понимания глубинного строения вселенной, чтобы ответить на этот вопрос. Чем больше деталей мы замечаем, тем меньше узнаем обо всем плане в целом. Тот факт, что мы способны задавать такие странные вопросы, показывает, насколько мы не уверены в своем понимании оснований квантового мира и следствий из них.[161]
Неудивительно, что, столкнувшись с этой странностью, большинство физиков прекращают попытки объяснить квантовую физику и принимают копенгагенскую интерпретацию. До появления однозначного экспериментального теста интерпретация представляет собой личный выбор. Еще один подход, не менее странный, чем предыдущие, но удивительным образом привлекающий множество физиков, называется многомировой интерпретацией (MWI). Впервые она была предложена Шрёдингером на лекции в Дублине как «безумная идея», а затем в 1957 году ее развил в своей докторской работе ученик Уилера физик Хью Эверетт. В 1960–1970-х многомировую интерпретацию расширил Брайс Девитт, превратив ее в поистине радикальную концепцию. Многомировая интерпретация утверждает, что при измерении не происходит коллапса волновой функции. Все возможные результаты измерений (все вероятности) реализуются одновременно в параллельных мирах (вселенных). Если верить MWI, все варианты развития истории сосуществуют в своего рода Мультивселенной, и их количество увеличивается при каждом измерении. Кот Шрёдингера жив в одной вселенной и мертв в другой, спин электрона направлен вверх в одном мире и вниз – в параллельном ему, фотон является частицей в одном месте и волной в другом. Создавая бесчисленное количество вариантов результата, реализуемое в бесконечном множестве миров, MWI устраняет парадоксы квантовой механики.
У Хорхе Луиса Борхеса есть рассказ «Сад расходящихся тропок», в котором описан лабиринт, существующий во времени, а не в пространстве, и каждая развилка означает два альтернативных продолжения истории. Точно так же и в многомировой интерпретации различные возможные истории существуют бок о бок, пускай каждый из вариантов недоступен для другого. Ключевым положением теории является утверждение о том, что волновая функция – это не просто математический термин, а реальное явление, направляющее параллельное развитие истории. MWI – это попытка вернуть физике реальность, пусть и за счет предположения о существовании постоянно растущей Мультивселенной с постоянно разветвляющейся альтернативной историей. Главным сторонником MWI является теоретик квантовой информации Дэвид Дойч из Оксфордского университета. В своей последней книге «Начало бесконечности» он, не стесняясь, называет копенгагенскую интерпретацию «плохой философией», которая «не только неверна, но и активно препятствует дальнейшему росту знаний».[162] Дойч пишет: «Идея состоит в том, что квантовая физика подрывает самые устои разумного: частицы имеют взаимоисключающие свойства (будучи и частицами, и волнами одновременно), точка. Любые попытки критиков оказываются неэффективными, так как в них используется “классический язык” вне области его применения». По словам Дойча, вся «расплывчатость», возникающая из-за нелокальности, коллапса волновой функции и принципа зависимости реальности от наблюдателя, исчезает после принятия реальности волновой функции и многомировой Мультивселенной. Однако для большинства физиков этот выбор все же не так очевиден.
Никто не может (и не должен) с уверенностью заявить, что многомировая интерпретация решает проблему измерений в квантовой механике. Как и в случае с теорией Бома о нелокальности и скрытых переменных, нам предлагается странная альтернатива коллапсу волновой функции (которая в этом случае вообще не коллапсирует). Одновременно с этим вводится новый уровень сложности – параллельное существование бесчисленных разветвляющихся миров, отделенных друг от друга и никогда не контактирующих. Где находятся эти миры, реальные, не недоступные для нас? Когда именно в процессе измерения происходит разветвление? Кроме того, не существует убедительных экспериментальных данных, которые могли бы проиллюстрировать разницу между теорией Бома и MWI или утвердить точку зрения сторонников MWI как жизнеспособную альтернативу копенгагенской интерпретации (пускай некоторые физики и утверждают, что если возможна интерференция с крупными объектами вроде кота Шрёдингера, то могут существовать и разные, различающиеся в мелочах варианты истории). До тех пор пока не будет проведен конкретный практический эксперимент, идея о существовании параллельных не взаимодействующих между собой вселенных говорит нам ровно столько же об измерениях и природе реальности, сколько теория мультиверса – о том, почему мы существуем в этом мире (см. часть I книги).
Значительным шагом вперед (хотя и неоднозначным как решение для проблемы измерений) является концепция квантовой декогерентности, которая устраняет («декогерирует») проблему квантовой интерференции между различными возможными результатами экспериментов за счет взаимодействия между квантовой системой и окружающей ее средой. В соответствии с этой концепцией классическая физика появляется в результате утраты квантовой интерференции. Классический мир крупных неквантовых объектов возникает тогда, когда мы принимаем в расчет взаимодействие со средой. Некоторые физики представляют декогерентность как естественное продолжение копенгагенской интерпретации с учетом того, что процесс измерений полностью уничтожает какую бы то ни было квантовую когерентность в волновой функции. Другие считают декогерентность продолжением многомировой интерпретации Эверетта, в которой она является причиной расхождения альтернативных миров и историй. Вариация концепции квантовой декогерентности, известная как «декогерентный исторический формализм» или «согласующиеся истории», была предложена Робертом Гриффитсом в 1984 году и независимо от него разработана Роланом Омне, а затем повторно открыта и применена в квантовой космологии Марри Гелл-Маном и Джеймсом Хартлом в 1990 году. Этот вариант предлагает рассматривать всю Вселенную в качестве квантовой системы. Трудность в том, что, так как Вселенная считается «закрытой системой», в ней отсутствуют внешние наблюдатели или среда для декогеренции глобальной волновой функции. Переход от квантовой Вселенной к классической произошел в процессе ее собственной эволюции, так как различные варианты истории, каждый из которых включает в себя свой набор вероятностей, развиваются независимо друг от друга (то есть декогерентно по отношению к целому). Конкретные акты декогеренции случаются в результате конкретных событий (взаимодействий между частицами), которые происходят в рамках определенной временной линии. Мы живем в одном сегменте этой постоянно разветвляющейся истории, и в нем же находится Вселенная со свойствами, которые мы регистрируем в ходе измерений. К сожалению, мы не знаем механизма, согласно которому предпочтение отдается именно нашей Вселенной (если таковой вообще существует).
Концепция декогерентности разделяет традиционный взгляд о том, что измерение заставляет волновую функцию коллапсировать, отраженный в копенгагенской интерпретации. Измерение – это событие, вызывающее резкую декогеренцию, приближение, в котором декогеренция представляется в идеальном виде как мгновенное точное действие. Существуют и другие виды «измерений», которые не так резки, но тоже влияют на эволюцию волновой функции. Физик Джон Хартл писал: «Вероятности можно присвоить различным положениям Луны в небе или колебаниям плотности материи после Большого взрыва… вне зависимости от того, участвуют ли эти события в ситуации измерения и существует ли наблюдатель, регистрирующий их значения».[163] Иными словами, условия ранней Вселенной определяют разветвления ее будущей истории, включая появление людей как неизбежный результат взаимодействия между такими условиями и непоследовательностью, присущей квантовой физике. Согласно этой концепции, участники не влияют на прошлую историю Вселенной.
Декогерентный подход четко демонстрирует искусственность разделения между классическим наблюдателем или детектором и квантовой системой. Он показывает, что классический мир, который мы воспринимаем своими органами чувств, представляет собой следствие из свойств материи, результат взаимодействия многокомпонентных квантовых систем друг с другом и с окружающей средой. Чем больше система, тем больше волновых функций требуется для описания всех ее элементов и тем сложнее привести их в когерентные состояния, отображающие квантовую суперпозицию. Системы в квантовой суперпозиции очень хрупки и коллапсируют даже под самым минимальным внешним влиянием, будь то фотон солнечного света, космический луч или колебание гравитационного поля от проезжающего мимо грузовика. Декогеренция позволяет понять, как классический мир возникает из квантового, существующего за пределами нашего восприятия, хотя и не объясняет, где именно находится граница между классической и квантовой физикой. Джон Белл писал об этом так:
Проблема [квантовой механики] формулируется следующим образом: как именно разделить мир на аппаратную часть… которую мы можем обсуждать… и не подлежащую обсуждению квантовую систему? Сколько электронов, атомов или молекул составляют «аппарат»? Математика обычной теории требует такого разделения, но не объясняет, как оно происходит.[164]
Что еще важнее, декогеренция не разрешает проблему измерения по той простой причине, что его результаты продолжают оставаться случайными, а не определяются каким-то скрытым порядком. Например, до первого измерения мы не можем предсказать, будет фотон иметь горизонтальную или вертикальную поляризацию. Несмотря на некоторые разъяснения, которые дает нам концепция декогерентности (теперь нам не нужно задумываться, жив кот Шрёдингера или нет либо куда девается Луна, пока мы на нее не смотрим), борьба с квантовым призраком нелокальности и с нашей неспособностью объяснить основы физической реальности еще не закончена. Кроме того, мы до сих пор не понимаем, какую роль в определении этой реальности играет сознание – и играет ли вообще.
Глава 28. Назад к истокам в которой мы пытаемся разгадать квантовую загадку
Квантовая механика напрямую сталкивает нас с неизвестным и заставляет многих физиков чувствовать себя неуютно. «Неизвестное» – это приговор для науки, которая создана для того, чтобы иметь дело с непознанным и постепенно устранять его. Эйнштейн, Шрёдингер и научные реалисты отрицали саму возможность того, что некоторые секреты Природы могут так и остаться нераскрытыми. Они признавали, что наши знания об окружающем мире ограниченны и как минимум, неполны, но считали, что это объясняется нашим собственным несовершенством, а не какими-то скрытыми глубокими мотивами. Они надеялись, что вероятностный характер квантовых систем является не фундаментальным, а оперативным. В конце концов, вероятности используются и в другой успешной теории – статистической механике, описывающей поведение газов и систем с множеством частиц, – но в этом случае она лишь отражает практическую неспособность отследить поведение каждой отдельной частицы среди триллионов точно таких же. Вместо этого мы описываем среднее общее поведение частиц и рассматриваем любые отклонения от него как статистические погрешности. Реалисты надеялись, что что-то подобное произойдет и в квантовой механике, и таким образом вероятностное поведение станет не внутренним свойством, присущим системам малого размера, а лишь продуктом нашего ограниченного понимания истинной природы микромира.
Точно такие же ожидания слышатся в словах некоторых физиков, которые заявляют, будто знают, как объяснить происхождение Вселенной с помощью квантовой механики и общей теории относительности. Разумеется, этого не знает никто, и до настоящего времени у нас имелись лишь очень упрощенные модели, основанные на множестве неподтвержденных предположений. Эти ожидания не просто беспомощно наивны, но и философски недопустимы. Ведь любую модель в физических науках поддерживают идеализированные концепции, такие как пространство, время, энергия и закон ее сохранения. Происхождение Вселенной включает в себя появление всех этих понятий. Но откуда же они взялись? Кроме того, модели формулируются с помощью так называемых граничных условий, которые предполагают четкое разделение между предметом исследования и его окружением. Очевидно, что такие границы сложно провести, если предметом исследования является вся Вселенная целиком, даже с учетом особенностей геометрии кривых.
Пытаясь объяснить происхождение Вселенной с помощью физических моделей, мы можем надеяться максимум на создание жизнеспособного описания первых мгновений космической истории в соответствии с данными, которые мы можем получить. Это масштабное и крайне волнующее предприятие, но нельзя приравнивать его к объяснению всего сущего. Для этого нам пришлось бы начать с поиска источников физических законов, в соответствии с которыми работает Вселенная, а эта тема находится вне юрисдикции современных физических теорий, включая те, которые предполагают существование Мультивселенной (где законы физики могут отличаться от наших). В части I книги мы уже обсуждали, что любые теории о различающихся законах в разных вселенных лишь дополнительно сбивают ученых с толку. Более того, если мы хотим добиться хоть какого-то прогресса в понимании квантовой природы происхождения Вселенной, нужно уточнить, какую роль в ней играет нелокальность – что возвращает нас к дискуссии о запутанности и декогерентности.
К счастью, 40 лет ярких экспериментов принесли свои плоды. Мы уже знаем, что можно исключить расширения квантовой теории, в которых используются скрытые переменные, ведь, если такие расширения и существуют, они все равно не являются локальными и, соответственно, не помогают изгнать призрак «воздействия на расстоянии», которого так боялся Эйнштейн. Нелокальность – это неотъемлемая характеристика запутанности, а запутанность – неотъемлемая часть квантовой механики. Почему она кажется нам такой странной? Потому что так и есть! Запутанность настолько хрупка и нестабильна, что ее сложно поддерживать в течение длительного времени и на больших расстояниях. Экспериментальные физики идут на разнообразные ухищрения, чтобы продлить срок ее существования. Она подвергается многочисленным воздействиям со стороны окружающей среды – термальным, вибрационным, гравитационным, даже взаимодействиям между ее собственными колеблющимися атомами. Луна не может одновременно находиться в нескольких местах на своей орбите, потому что она не является изолированной системой. На нее постоянно попадают фотоны солнечного света (поэтому-то мы можем ее видеть) и космические лучи, она состоит из мириадов атомов, подвергается влиянию гравитационных сил от Солнца, Земли, нас с вами и т. д. Все эти факторы уничтожают возможные суперпозиции «Луна там» и «Луна тут». Более крупные объекты трудно отделить от декогерирующего влияния внешнего мира. Наша классическая реальность выступает из декогерированных теней квантового мира.
Связь между классической и квантовой физикой очень зыбкая. Некоторые системы могут проявлять типично квантовое поведение на удивительно больших расстояниях и в длительные сроки. Цайлингеру удалось идентифицировать связанные фотоны через сотни километров; кристаллы и крупные молекулы могут оказываться в суперпозиции и демонстрировать интерференционные узоры, как фотоны и электроны. При правильном подходе связанность можно сохранить. Однако не следует забывать, что это происходит в искусственных лабораторных условиях под тщательным надзором экспериментаторов. Я не сомневаюсь, что эти достижения будут совершенствоваться и в ближайшие десятилетия окажутся реализованы при создании первых рабочих квантовых компьютеров, приведут к распространению квантовой криптографии и иному практическому использованию спутанности и случайности квантовых систем.
Эти случаи практического применения, основанные на странных свойствах квантового мира, заставляют нас задаться интересным вопросом: можем ли мы поднять суперпозицию и запутанность до уровня макроскопических объектов, возможно, даже живых организмов? Зависит все просто от достаточного финансирования научной работы (как однажды заявил Цайлингер) или существуют более фундаментальные препятствия, мешающие экстраполяции квантовых эффектов на системы с высоким уровнем сложности? Если мы сумеем создать для бактерии состояние квантовой суперпозиции и провести ее через две прорези в препятствии, что это будет значить? Может ли жизнь существовать при квантовой интерференции?[165] Возможно, этот вопрос представляет собой переформулированную проблему квантовой механики, о которой говорил Белл, – проблему существования разрыва между двумя мирами. Декогерентность может объяснить, почему классическая и квантовая реальность кажутся нам настолько отличными друг от друга. Но можем ли мы создавать квантовые эффекты самостоятельно и увеличивать их до масштабов нашего мира? Иными словами, если квантовые эффекты лежат в самой основе реальности, можем ли мы превратить их из щелчков и вспышек на экранах приборов в объекты прямого наблюдения? И если да, поможет ли это нам познать истинное значение вещей?
Не уверен, что хоть кто-то знает ответ на этот вопрос. Лично я думаю, что это невозможно, и проблема здесь заключается не только в экспериментальной ограниченности, но и в тех аспектах квантовой физики, которые мы знаем на сегодняшний день. Эксперименты, связанные с ЭПР, показали, что случайность – неотъемлемая часть природы. Когда Элис и Боб измеряют спин или поляризацию связанных частиц, они не знают, какой результат получат. Ни одна из наших теорий не может предсказать результаты разового квантового измерения. Что еще хуже, после исключения локальных скрытых переменных эта теория кажется в принципе невозможной. Так что, если «истинное значение вещей» предполагает традиционную надежду реалистов на абсолютное познание Природы, у нас ничего не выйдет. Наш подход к знаниям требует пересмотра в свете открытий квантовой механики. Некоторые аспекты реальности навсегда останутся скрытыми от нас. Остров знаний вечно будет окружен океаном не просто непознанного, но непознаваемого.
В этом утверждении нет никакого пораженчества. Цель науки состоит в том, чтобы в меру своих возможностей выяснить, как работает Вселенная. Наука не предназначена для того, чтобы отвечать на все вопросы. Надеяться на это бессмысленно, особенно когда мы сталкиваемся с природой знаний, о которой говорится в этой книге: постоянно расширяющейся, постоянно изменяющейся, четко отражающей наш подход к миру и вопросы, которые мы задаем (можем задать) ему в тот или иной момент времени. Знания, которыми мы обладаем, определяют знания, которыми мы можем обладать. Тем не менее, как сказал бы физик, именно таковы наши исходные данные: после нескольких первых шагов ситуация становится непредсказуемой, а финал – открытым. По мере изменения наших знаний мы начинаем задавать новые вопросы, которых не могли предвидеть ранее.
Сегодня мы знаем, что нелокальность следует принять как часть физической реальности и что существуют долговременные квантовые эффекты, которые, судя по всему, преодолевают границы пространства и времени. Новый рубеж, открывшийся перед нами, будет продвигаться все дальше и дальше вглубь запутанности, в том числе изучать возможность ее применения к более масштабным системам и адаптации к сильному влиянию среды. Нам неизбежно придется задуматься о роли квантовых эффектов в мозгу и об их потенциальном влиянии на мозг, причем зайти в этих исследованиях гораздо дальше Вигнера. Может ли соучастная вселенная Уилера оказывать влияние на Вселенную в целом? Судя по всему, информация является ключевым элементом в определении физической природы квантовых объектов. Условия эксперимента, которые мы устанавливаем, и вопросы, которые мы задаем, задают характеристики этих объектов при обнаружении: если у нас нет данных о пути квантового объекта, возникает интерференция, а если есть, интерференция отсутствует. Реальность зависит от того, как мы с ней взаимодействуем, по крайней мере в квантовых системах.
И здесь мы сталкиваемся с понятием намерения, с выбором способа взаимодействия. Пускай волновую функцию обнаруживают и «схлопывают» детекторы, но устанавливают их люди. Без сознания с определенным уровнем сложности, способного к толкованию наблюдений, реальности вообще не существует. В нашем случае такое сознание генерируется человеческим мозгом, поэтому естественно было бы задаться вопросом: сам мозг является классическим или квантовым объектом? Или, если говорить более научным языком, в какой степени квантовые эффекты имеют отношение к функционированию мозга?
Несмотря на то что идеи Роджера Пенроуза и Стюарта Хамероффа, например, об изучении квантовой когерентности в микротрубочках, были опровергнуты экспериментами и теоретическими расчетами,[166] подобные темы столь сложны, а наши текущие знания настолько примитивны, что многие вопросы остаются без ответов. Возможно, квантовые эффекты проявляют себя в межсинаптических щелях, например, когда ионы, движущиеся от одного синапса к другому, рассеиваются при прохождении через приемочные ворота. А возможно, происходит нечто совершенно иное. Мы знаем, что квантовые эффекты играют большую роль в фотосинтезе, оптимизируя и ускоряя процесс поиска наилучших энергетических путей. Такие же эффекты могут наблюдаться и в мозгу и отвечать за эффективность нашей обработки информации и, соответственно, за существование различных уровней сознания. Пускай существующие предположения о роли квантовых эффектов в человеческом сознании кажутся невероятными, можно с уверенностью сказать, что этот вопрос остается открытым.
Мы покидаем атомный век и вступаем в эпоху информации. Метафоры, которыми мы пользуемся и которые строятся на наших знаниях, меняются. От ужаса холодной войны и угрозы взаимного уничтожения, нависавшей над нами в 1960–1970-е годы, мы перешли к миру, в котором с беспрецедентной скоростью пересекаются культурные барьеры, а значительная часть населения планеты пользуется одними и теми же продуктами и услугами. Для работы с новыми знаниями и их потенциалом возникают новые дисциплины: квантовая информация и квантовые вычисления, теория сетей, анализ данных и его практическое применение, теория сложности и т. д. В их основе лежит понимание того, что информация – это ключ к знаниям. Мы должны изучать информацию, свое взаимодействие с ней и способы, с помощью которых она определяет наши знания. Разумеется, в ходе такого изучения мы обнаружим, что количество информации, которую мы можем извлечь из мира с помощью наших технологий, будь то математика или информатика, строго ограничено. Гораздо удивительнее то, что эти границы могут многое сказать о том, кто мы такие, и о нашем поиске смыслов в век науки.
Часть III. Сознание и смысл
Математик, подобно художнику или поэту, создает образы. Если его «образы» долговечнее их образов, то потому, что они состоят из идей.
Г. Х. Харви. Апология математикаЗатем здесь, в Копенгагене, за те три года в середине двадцатых мы открыли, что не существует точно определенного объективного мироздания. Что мир существует только как серии приближений. Только в пределах границ, очерченных нашим к нему отношением. Только посредством разума, приютившегося в голове человека.
Майкл Фрейн. КопенгагенСегодня мы понимаем, что человеческое сознание – это не логический, а аналоговый механизм, работающий на догадках, на эстетике и красоте и исправляющий собственные ошибки.
Дуглас Р. Хофштадтер. Предисловие к книге «Теорема Геделя»Существует два пути рассуждения – путь времени и истории и путь вечности и безвременья. Оба они являются частью попыток человечества понять мир, в котором оно живет. Ни один из них не сводится к другому и не понимается через него. Они, как говорят физики, представляют собой комплементарные элементы, дополняющие друг друга, и ни один из них не рассказывает всю историю целиком.
Дж. Роберт Оппенгеймер. Наука и взаимопониманиеГлава 29. О законах природных и человеческих в которой мы выясним, является математика изобретением или открытием и почему это важно
Всех людей объединяет единый порыв: понять окружающий мир и свое место в нем – как наше личное, так и общечеловеческое. То, что мы следуем этому порыву уже несколько тысяч лет, показывает, что в этом смысле мы не отличаемся от наших далеких предков. Методы и вопросы могут меняться, но жажда знания и стремление постичь жизнь остаются прежними.
Когда люди заметили, что и на земле, и в небесах преобладают ритмические рисунки, они естественным образом предположили, что за множеством движений и форм должна стоять какая-то упорядочивающая сила, как если бы реальность была созданием каких-то невидимых творцов закономерностей. Кто они – это главный вопрос религии и науки, а значит, и этой книги. Кто приносит порядок в этот мир – боги, или законы, или и те и другие, или же никто из них? За время существования человечества этот вопрос породил множество мифов о творении, священных писаний, которые призваны объяснить происхождение и природу всех вещей. Неважно, где и когда появляется миф, – происхождение вещей в нем всегда связывается с установлением порядка в результате божественного вмешательства или без него.
Природа постоянно демонстрирует нам упорядоченность и регулярность: смена дня и ночи, времена года, приливы и отливы, фазы Луны, движение планет по орбитам, цикл жизни и смерти растений и животных, созревание урожая. Для того чтобы получить хотя бы минимальный контроль над миром, развивающимся по законам, которые находятся вне нашей власти и остаются для нас далекими и недосягаемыми, нам требуются способы методического подсчета и организации. Как еще люди, любящие все структурировать, могут упорядочить свое представление о реальности, кроме как с помощью языка, способного описывать эти закономерности, анализировать их и изучать их вечное повторение? Математизация Природы и упорядочение наблюдаемых тенденций с помощью законов представляет собой одно из главных достижений нашего вида. Однако большинству людей лучше знакомы законы, действующие в социальной сфере, поэтому мне кажется разумным для начала обсудить различия между законами природными и человеческими.
Человеческие законы направлены на то, чтобы обеспечить контроль и порядок в поведении личности и социума и сделать общественную жизнь безопаснее, в то время как законы Природы выводятся на основании длительных наблюдений за разнообразными явлениями. Человеческие законы могут варьироваться в зависимости от культуры или эпохи, так как они основываются на моральных ценностях, у которых отсутствует универсальный стандарт. Законы Природы же стремятся к универсальности, так как они описывают примеры поведения, которые остаются верными (доказуемыми) во всем пространстве и на протяжении всего времени. Одна группа людей может находить определенный ритуал (например, женское обрезание) допустимым, а другая – варварским, но звезды во Вселенной будут жить по тем же законам, которые начали действовать на них еще 200 миллионов лет назад после Большого взрыва. В некоторых странах запрещена смертная казнь, а в некоторых смертные приговоры приводятся в исполнение регулярно и с фанатизмом, но какую бы планету, луну или галактику мы ни взяли, молекулы в ней будут соединяться и рекомбинироваться в ходе химических реакций, следуя строго определенным законам сохранения энергии и притяжения и отталкивания.[167]
Вариативность человеческих законов показывает, что мы еще мало знаем о себе и о том, каковы (или какими должны быть) универсальные моральные стандарты. С другой стороны, надежность и окончательность природных законов и их очевидная непоколебимость вдохновляли многих людей на использование их в качестве оснований для законов общества. Самым известным примером является эпоха Просвещения, но на самом деле эта тенденция существовала задолго до XVIII века. Возьмем, к примеру, Платона и его идеальные формы. Мы чувствуем в них восхищение возможностями математики и еще большее – силой человеческого разума, открывшего эти врата к вечной истине. Платон, в свою очередь, подхватил указанные идеи у пифагорейцев, которые возвели математику в божественный статус. С помощью математики люди могли выйти за пределы своей смертной природы и соединиться с вечным сознанием Творца.
Сила математики заключается в ее отстраненности от физической реальности, в абстрактном представлении ее значений и концепций. Она начинается во внешнем мире, который мы воспринимаем своими органами чувств, когда выделяем в Природе формы, приближенные к кругу или треугольнику, либо учимся рассчитывать и измерять расстояние и время. Но затем математика делает шаг в сторону упрощения. Она берет у Природы асимметричные формы и поднимает их до идеального уровня симметрии, чтобы нам было проще анализировать в уме их взаимоотношения. Эти отношения и их плоды могут применяться или не применяться для дальнейшего изучения Природы, то есть использоваться в каких-либо научных моделях или же навсегда остаться в абстрактном пространстве идей, где они родились. Такой перенос форм и значений из Природы, позволяющий нам проводить абстрактные манипуляции с числами и формами, показывает, что математика – это всегда приближение к реальности, но не сама реальность.
Платоники и по сей день радуются этому разделению, так как оно представляет собой единственный способ достижения высших смыслов в стремлении к вечной истине, очищенный от грязи и уродства несовершенного материального мира. Они считают, что этот абстрактный мир вычислений и является реальностью, и математика – единственный способ достичь ее и сорвать плод с древа познания (при этом не пережив второе изгнание из рая). Великий математик Г. Х. Харди писал: «Я верю, что математическая реальность лежит вне нас самих, что наша функция состоит в наблюдении за ней и изучении ее и что теоремы, которые мы доказываем и напыщенно называем своими творениями, на самом деле являются лишь результатами наших наблюдений».[168] Он продолжает свою мысль еще более радикальным высказыванием: «“Воображаемые” вселенные намного прекраснее тупо построенной “реальной” вселенной, и большинство прекраснейших плодов фантазии прикладного математика должны быть отвергнуты сразу же после того, как их сотворили, на том жестком, но достаточном основании, что они не согласуются с фактами».[169]
Другие считают этот романтический взгляд на математику чем-то вроде крипторелигии – системы верований, которая не имеет ничего общего с реальностью. Для них математика лишь продукт функционирования нашего мозга и его восприятия окружающего мира в нераздельном союзе с телом. То, как мы думаем, зависит от строения нашего организма, сформировавшегося в результате эволюции. Вот как пишут об этом Джордж Лакофф и Рафаэль Э. Нуньес в предисловии к своему подробному разбору истоков математического мышления «Откуда взялась математика»:
Человеческая математика, единственный вид математики, который известен человеческим существам, не может быть подвидом математики абстрактной и трансцендентной.
Вместо этого математика, какой мы ее знаем, возникает из природы нашего мозга и нашего воплощенного опыта. В результате все романтические представления о ней оказываются ошибочными.[170]
И действительно, вера в существование математического мира, наполненного бесконечными количеством истинных утверждений, которые человеческое сознание может познавать по одному более или менее эффективно в зависимости от воображения и способностей познающего, обладает всеми признаками религиозной фантазии. Речь идет о воображаемом мире, параллельном нашему и содержащем скрытые истины, вечную правду, доступ к которой имеют лишь немногие избранные, наделенные пророческим видением. И лишь те, кто познал смысл этих истин, могут передавать их другим для их просвещения и умудрения.
Математик Грегори Хайтин, сыгравший ключевую роль в применении результатов работ Геделя и Тьюринга в алгоритмической информационной теории (о которой мы подробнее поговорим позже), в одном из интервью заявил о своей вере в существование платоновского мира: «Мне нравится представлять, что я не просто растратил свою жизнь ни на что и не придумал свои результаты, но выразил через них какую-то фундаментальную внешнюю реальность».[171] Однако в конце интервью он говорит, что после многих лет, потраченных на исследования в области теории сложности, он вынужден признать существование экспериментальной (изобретенной) стороны математики, пусть лично ему с его философских позиций ближе другой подход – средний путь между двумя радикальными позициями.
Другие ученые, например светило британской математики сэр Майкл Атья, соглашаются, что вечная истина как «фундаментальная основа, ждущая открытия» может существовать, но личность исследователя персонализирует ее, оставляя на ней свой уникальный отпечаток и освещая ее собственным светом.[172] Это смелая попытка объяснения, но, если вдуматься, она также не является «средним путем», ведь Атья признает существование мистического математического измерения.[173]
Лично я считаю подобные предположения необоснованными, и Эйнштейн со мной согласен. В своем эссе «Замечания о теории познания Бертрана Рассела» он утверждает: «Так, например, натуральный ряд чисел, очевидно, является изобретением человеческого ума, создавшего орудие, позволяющее упростить упорядочение некоторых ощущений».[174] Рассуждения о платоновском пространстве вечных математических истин могут вдохновлять и направлять математиков, но имеют такие же материальные основания, как размышления христианина о рае: «Он существует, если я в него верю, и моя уверенность – это все, что мне нужно для жизни». Нет никаких доказательств того, что трансцендентные истины существуют вне человеческого восприятия. Почему же просто не сказать, что человеческое сознание обладает потрясающей способностью создавать абстрактные концепции и манипулировать ими с помощью логических рассуждений и познания? Зачем приплетать к этому какую-то нематериальную реальность?
Астрофизик Марио Ливио в своей книге «Был ли Бог математиком?» рассказывает об истории противопоставления двух взглядов на математику – как на исследование и как на изобретение, ссылаясь при этом на рассуждения и работы величайших представителей науки всех времен. Он делает вывод, что простого ответа на этот вопрос не существует: «Как правило, концепции являются изобретениями. Люди изобрели концепцию простых чисел, но вот теоремы о простых числах уже были открытиями».[175] Проблема с этими рассуждениями состоит в том, что мы не можем быть уверены, является ли что-то открытием, не имея на руках своего рода карты загадочной математической страны. В конце своей книги Ливио переходит на сторону когнитивистов и подчеркивает важнейшую роль человеческой нейрофизиологии в объяснении эффективности и единообразия математики.
Разумное сознание, способное к счету и оперирующее понятием бесконечности, способно разработать основы арифметики и даже теории множеств. Известно, что некоторые животные, например шимпанзе и вороны, умеют считать, но лишь до определенного уровня. Затем они останавливаются, так как не в состоянии понять существование больших чисел и осознать, что подсчет может никогда не закончиться. Как пишут Лакофф и Нуньес, только сложное сознание может представить себе бесконечность, то есть осуществить переход от бесконечности как потенциала (возможности считать или проводить линию без остановки) к бесконечности как факту и отдельному понятию. Мы не можем досчитать до бесконечности, но ее образ имеется у нас в головах.
Лауреат Нобелевской премии по физике Юджин Вигнер в своей статье «Непостижимая эффективность математики в естественных науках» обращает внимание на использование математики в физике и описывает ее как удивительный дар: «Невероятная эффективность математики в естественных науках есть нечто граничащее с мистикой, ибо никакого рационального объяснения этому факту нет». Будучи первым ученым, применившим математическую теорию групп к квантовой механике, Вигнер пишет о своем удивлении тем, как много физических результатов было получено с использованием математических концепций, не предназначенных для этих целей – да и для каких бы то ни было целей в принципе: «Чудесная загадка соответствия математического языка законам физики является поразительным даром, который мы не в состоянии понять и которого мы, возможно, недостойны».[176]
Между работой математиков и теоретических физиков действительно существует прекрасная гармония, ведь математика постоянно и с неизменным успехом применяется для разрешения физических проблем. Однако удивление Вигнера, которое разделяют многие физики, не имеет под собой оснований. Во-первых, как писал Г. Х. Харди, «геометр предлагает физику целый набор карт на выбор. Возможно, что одна карта будет лучше соответствовать фактам, чем другие. В этом случае геометрия, порождающая лучшую карту, окажется геометрией, наиболее важной для прикладной математики».[177] Многие математические идеи не имеют ничего общего с физической реальностью, физики лишь выбирают те, которые кажутся им наиболее удобными, для достижения своих целей. Как прекрасно знает любой физик-теоретик, абсолютное большинство математических моделей, которые мы разрабатываем, не имеют никакого отношения к реальному миру. Что бы ни говорила нам интуиция, большинство уравнений, которые мы решаем, остаются просто уравнениями. Познавать Природу куда сложнее, чем делать расчеты для моделей.
Во-вторых, даже самая абстрактная математика отталкивается от воспринимаемой реальности. Числа, множества, геометрия – все эти концепции существуют у нас в мозгу и используются для описания мира. Мы считаем, мы объединяем предметы в множества (вон там столько-то львов, а вон там – столько-то зебр), мы распознаем схемы. Как пишут Лакофф и Нуньес, чтобы понять, откуда берется математика, мы должны прояснить процесс ее «воплощения», то есть узнать, как именно наше когнитивное строение приводит к формированию тех или иных мыслительных процессов. В-третьих, заявление «истина есть красота, и красота есть истина», то есть утверждение о том, что в математике присутствует эстетическая красота, отраженная в Природе, является заблуждением. Разумеется, в Природе существует множество прекрасных симметрий и повторяющихся узоров, таких как спирали галактик и ураганов или шарообразная форма планет и мыльных пузырей. Еще больше абстрактных симметричных проявлений можно найти во взаимодействиях фундаментальных частиц материи друг с другом. Но большая часть этих симметричных явлений объясняется приближением, а многие предметы и вовсе асимметричны. В своей книге A Tear at the Edge of Creation я уже писал о том, что творческая сила Природы часто скрывается за асимметричными проявлениями. Бенуа Мандельброт, первооткрыватель фракталов, писал: «Облака – не идеальные сферы, горы – не конусы, береговые линии – не окружности, кора дерева – не гладкая, и молния не распространяется по идеально прямой линии».[178] Богатство Природы заключается не в четком порядке, стоящем над всем остальным, а в контрасте между порядком и хаосом, симметрией и асимметрией как взаимодополняющими характеристиками, которыми мы пользуемся при описании мира.
Дополнительную сложность в обсуждение этого вопроса вносит тот факт, что во многих случаях введение математической симметрии или единообразия в физику приводило к потрясающим достижениям. Возьмем, к примеру, релятивистскую версию квантовой механики Дирака, благодаря которой были открыты античастицы. Пытаясь создать формулировку квантовой механики, согласующуюся с эйнштейновской теорией относительности и спином электрона, Дирак получил не одно, а сразу два решения своего уравнения. Одно из них описывало электрон, а второе – аналогичную частицу, но с противоположным зарядом (существовало и еще несколько мелких различий, но они в данном случае неважны). Зная, что положительным зарядом среди частиц обладает протон и что его масса существенно отличается от массы электрона, Дирак вскоре понял, что имеет дело с новой частицей – античастицей. В 1932 году Карл Андерсон обнаружил «антиэлектрон» экспериментальным путем и назвал его позитроном. Математический союз между квантовой механикой и специальной теорией относительности предсказал существование целого нового класса частиц антиматерии. Таким образом, у каждой частицы материи появился антиматериальный брат-близнец.
Уравнение Дирака открыло ученым двери в новый мир, населенный материей и антиматерией. Удивительно, но этот мир оказался реальностью, в которой мы живем. Но даже в этом случае гармония не является абсолютной. Согласно уравнению Дирака, материя и антиматерия должны существовать в равных объемах, однако мир вокруг нас загадочным образом состоит только из материи. Эта природная асимметрия, заключающаяся в избытке материи, остается для нас загадкой, несмотря на многие десятилетия, потраченные учеными в поисках ответа на этот вопрос. А ведь именно он является ключом к тайне существования человечества и нашего мира в целом. Частицы материи и антиматерии, сталкиваясь с поразительной точностью, аннигилируют и превращаются в излучение. Поэтому вселенная, при зарождении которой количество материи и антиматерии было бы равным, выглядела бы как наполненная излучением пустота. Судя по тому, что мы видим вокруг себя, этого не произошло.[179]
Данный пример, как и многие другие, заставляет некоторых ученых поверить в то, что математика – нечто большее, чем простой описательный инструмент физиков, и что физика позволяет раскрыть какую-то глубокую математическую структуру природы, возможно, то самое платоновское измерение чистой математики, перенесенное в физическую реальность. Сегодня эти убеждения находят свое воплощение в научном Эльдорадо – теории всего, попытке создать единое и всеобъемлющее описание материального мира, основанное на работе фундаментальных сил между элементарными частицами. Какими бы привлекательными ни казались подобные проекты, наделяющие открытия естественных наук некоей божественной истиной, история физических теорий говорит нам об обратном. Физические теории постоянно меняются, в отличие от незыблемых математических результатов (ведь теорема Пифагора не перестанет быть верной, если мы узнаем что-то новое о треугольниках). Рассмотрим в качестве примера силу притяжения. Как мы уже обсуждали выше, Ньютон видел ее иначе, нежели Аристотель, а Эйнштейн – иначе, нежели Ньютон. В настоящий момент мы еще раз пересматриваем сущность гравитации, и некоторые физики уже задаются вопросом, является она фундаментальной силой Природы, как электромагнетизм, или чем-то совершенно иным.
Любое утверждение о том, что математика не играет никакой роли в Природе, было бы наивным и неверным, особенно для физика-теоретика. Разумеется, ее роль является одной из важнейших, что подтверждается нашими физическими теориями, созданными на основе математики. Симметрия крайне важна для реализации этих теорий и их прикладных моделей – точных приближений к той реальности, которую мы пытаемся описать. Опасность (и источник платонических заблуждений) состоит в вере в симметрию как отражение Природы, а не инструмент для объяснения того, что мы наблюдаем и измеряем. Между человеческим мозгом и его попытками понять реальность с помощью математики существует прочная связь. Однако любая попытка представить математические модели как проявления великого природного замысла, доступного лишь немногим избранным, превращает такие модели в мистические послания свыше.
Но если математические результаты являются не отблесками какой-то трансцендентной правды, а лишь человеческим изобретением и если наши поиски общей теории Природы, основанные на ее уникальной математической структуре, ведут нас не туда, зачем вообще что-то делать? Зачем вообще ступать на эту дорогу, если она не приблизит нас к истине? Я часто слышу этот вопрос, обычно в сочетании с обвинениями в пораженчестве или в том, что я опустил руки, столкнувшись с собственной ограниченностью. Думаю, по крайней мере некоторые из моих читателей придерживаются того же мнения. Мне досталась неприятная задача: я романтик, убивающий мечты других романтиков. Но настало время увидеть и оценить науку такой, какая она есть. Она не божественный дар человечеству. Основа нашего стремления к знанию находится не извне, а внутри нас. Теоремы абстрактной математики, даже кажущиеся полностью оторванными от окружающей реальности, являются продуктами логических правил и концепций, сконструированных нашим сознанием. Как объясняют Лакофф и Нуньес, наш мозг функционирует особым образом, обнаруживая методы познания, которые, в свою очередь, ускоряют разработку абстрактных концепций. Наш неокортекс играет с самим собой в игры чистой математики, будучи при этом результатом долгих веков эволюции, осуществлявшейся путем естественного отбора и генетической вариативности, то есть при активном влиянии среды на живые организмы.
Возможно, 2 + 2 = 4 – это универсальное выражение (для любого вида, который знает числа и умеет их складывать), но от этого оно не становится менее человеческим. Если другие мыслящие инопланетяне смогут получить тот же результат (несомненно, выраженный в других символах), это скажет нам больше о том, как работает сознание, чем об универсальных истинах Природы. Тот факт, что 2 + 12 = 14 или eix = cos x + i sin х, определяется не Вселенной, а человеческим разумом, который может использовать подобные выражения для приближения к физической реальности и/или описания ее элементов, от стада зебр до сложных экспоненциальных и тригонометрических функций, применимых бесчисленным количеством способов во всех науках или используемых в абстрактных мысленных конструкциях.
Спор о математике как об открытии или изобретении, равно как и дискуссия о природе физической реальности, указывает на важность человеческого мозга как чудесного и редкого явления вселенского масштаба, а не на существование некой ускользающей от нас истины в непостижимом абстрактном измерении. Самое важное находится не извне, не над нами, не в руках Бога, а в небольшом клубке нейронов, скрытом под нашей черепной коробкой.
Глава 30. Неполнота в которой кратко рассматриваются неожиданные, но важные открытия Геделя и Тьюринга
Открытия, сделанные физиками в начале ХХ века, в большинстве своем были направлены против общепринятого (и ньютоновского по своей сути) представления о том, что Природа полностью рациональна и независима от вмешательства или наблюдений человека. Сначала специальная теория относительности Эйнштейна указала на то, что для интерпретации значения местоположения и времени необходимо учитывать точку зрения наблюдателя. Затем принцип неопределенности Гейзенберга связал присутствие наблюдателя и нашу интерпретацию физической реальности в одно нераздельное целое. Новая физика, отвергая все классические законы, вернула человеческий фактор в науку, которая когда-то гордилась своей строгостью и независимостью от субъективного мнения. Как мы уже знаем, у этого утверждения имеются некоторые нюансы, так как теория относительности Эйнштейна строится на абсолютных величинах (то есть законы Природы и скорость света являются одинаковыми для всех наблюдателей), а неопределенности Гейзенберга исчезают по мере перехода от атомных и молекулярных величин к более крупным объектам нашей повседневной жизни. Тем не менее происходило что-то новое – изменялись наши способы мышления о физике и о роли, которую в ней играет человеческий фактор.
Удивительные и блестящие исследования Курта Геделя привнесли такой же человеческий подход в математику. В 1930 году в возрасте 23 лет этот австрийский логик представил две связанные между собой теоремы о неполноте, в которых, по сути, доказал, что математика (или, точнее, любая формальная система, в которой возможна теория чисел) не является автономной, так как включает в себя по меньшей мере одно утверждение, которое нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Как следствие, в своей второй теореме Гедель выводит, что непротиворечивость системы невозможно доказать, находясь внутри нее. Иными словами, великая мечта о создании замкнутой восходящей структуры всей математики, которую вынашивали величайшие ученые всех времен, рухнула. Разумеется, в несовершенную логическую систему можно было бы добавить дополнительные аксиомы, чтобы доказать ее непротиворечивость, и в некоторых случаях математики действительно так поступали. Но теорема о неполноте сделала свое дело. После Геделя дух идеальной красоты, определявший платоновский реализм на протяжении многих тысяч лет, был утрачен. Река еще не обрушила дамбу окончательно, но трещины на ней уже были заметны.
Гедель нацелился на монументальный трехтомный труд «Принципы математики», написанный Бертраном Расселом и Альфредом Нортом Уайтхедом в 1910–1913 годах, в котором авторы пытались свести всю математику к чистой логике. Их работа была воплощением идеальной рациональности. Рассел и Уайтхед ставили своей целью показать, что все математическое мышление можно свести к манипуляции символами, регулируемой набором правил. Гедель заменил символы числами, показав, что символьные модели в «Принципах» можно представить в качестве моделей цифровых (обработки массивов численных данных). Учитывая, что работа Рассела и Уайтхеда была автореферентной (замыкалась сама на себя, как мифический змей Уроборос), Гедель легко показал, что весь этот проект был построен на проблемах, поднимавшихся еще в античных парадоксах, в частности в знаменитом парадоксе лжеца: «Это утверждение ложно».
Если задуматься, становится очевидно, что подобного рода парадокс вводит наш мозг в замкнутый круг рассуждений. Это утверждение не может быть верным, так как если оно верно, то оно ложно. Ложным оно также быть не может, так как если оно ложно, то оно верно. Гедель показал, что, базируясь на положениях «Принципов математики», можно создать формулировку, противоречащую себе самой: «Эту формулу невозможно доказать с помощью правил, содержащихся в “Принципах математики”».[180] Какой удар для Рассела и Уайтхеда и их доблестной попытки избавить математику от таких парадоксов. Как писал Хофштадтер, «в своей потрясающе дерзкой манере Гедель взял приступом крепость “Принципов математики” и оставил ее в руинах».[181]
У самых корней математики уже лежат зерна ее собственной ограниченности. Это стало тяжелым ударом для тех, кто верил в существование измерения абсолютных математических истин, доступного человеческому сознанию.[182] Ребекка Голдстейн пишет в своей увлекательной статье «Неполнота», посвященной работе Геделя, что, как это ни удивительно, общее восприятие теорем противоречило тому, в чем был убежден сам Гедель, – существованию платоновского мира, ключом к которому является математика. Голдстейн добавляет, что то же самое произошло с Эйнштейном, чья вера в физическую реальность, независимую от человеческого сознания, не поколебалась даже после квантовой революции (см. часть II книги) и чья теория относительности часто рассматривается как шаг в сторону от реалистичной точки зрения и введение в количественное описание мира неустойчивого человеческого фактора.[183] Для Эйнштейна «истиной, находящейся где-то рядом» была Природа, а для Геделя – измерение чистой математики. Оба они считали неприемлемыми противоречия реализма и идеализма и ограничения, которые последний налагал на знания. Наше сознание не должно диктовать условия внешнего мира.
Несмотря на революционный вклад, который оба этих ученых внесли в свои дисциплины, и Эйнштейн, и Гедель провели последние годы жизни в своего рода интеллектуальной ссылке, прогуливаясь по кампусу принстонского Института перспективных исследований и разговаривая в основном лишь друг с другом. Голдстейн предполагает, что именно эта ситуация и стала причиной их странной дружбы, которая продлилась до самой смерти Эйнштейна в 1955 году.
Через пять лет после публикации работы Геделя англичанин Алан Тьюринг ввел в обиход то, что сегодня мы называем машиной Тьюринга, – устройство, способное манипулировать символами на ленте для печати с использованием определенного набора правил. По сути, машина Тьюринга представляет собой идеализированный компьютер, имеющий одну программу и бесконечный объем памяти для расчетов. На практике большинство компьютеров с достаточным объемом памяти и определенным ограниченным временем работы действуют как машины Тьюринга. Устройство и лента – это «железо», аппаратная часть машины, а набор правил – это программа, или алгоритм. Тьюринг показал, что любое такое устройство рано или поздно сталкивается с проблемой остановки, то есть своей неспособностью установить, останавливается выполнение случайной программы или продолжается бесконечно. Разумеется, остановку некоторых программ легко заметить. В качестве примера можно привести строку кода print "Остров знаний". Машина напечатает заданную фразу и закончит выполнение задачи. С другими программами все сложнее, например, со строкой кода while (true) continue, где (true) может представлять собой одно или несколько верных утверждений, например, что число плюс такое же число равно этому числу, умноженному на два. Программа будет складывать число за числом до тех пор, пока у устройства не закончится энергия. И чем сложнее программа, тем труднее принять решение об остановке.
Важность проблемы остановки и ее связь с геделевскими теоремами о неполноте состоит в том, что эта задача, как и парадокс лжеца, не имеет решения. Тьюринг доказал, что невозможно составить единый алгоритм, который всегда будет давать правильный ответ «да» или «нет» на вопрос, стоит ли программе остановиться. В этом и заключается главное затруднение, так как это означает, что в мире всегда будут существовать предположения, истинность или ложность которых невозможно будет определить за ограниченное количество шагов. Учитывая, что математика строится на основании аксиоматической структуры, следуя определенному набору символически реализуемых правил, Гедель и Тьюринг отвечают отрицательно на все три знаменитых вопроса, поставленных Дэвидом Гильбертом в 1928 году. Нет, математика не является полной формальной структурой, нет, она не непротиворечива, и нет, она не разрешаема. Иными словами, механизация человеческой математической мысли – это всего лишь фантазия.
Подобные выводы могут разочаровать тех, кто все еще лелеет платоновские мечты о математическом идеале, но всем остальным они кажутся удивительными, ведь они показывают, какой огромной силой обладает наше творческое начало. Трещины в дамбе математического идеализма показывают нам изнутри, как хрупок человек, и наделяют наши попытки создать Остров знаний высотой и благородством. Гедель и Тьюринг пролили свет на сложную природу математической истины – как и истины в целом. Мы не всегда можем найти ответы на свои вопросы, следуя определенному набору правил, потому что у некоторых вопросов нет ответов. Язык, который мы создали для себя, не позволяет нам подтвердить или опровергнуть истинность некоторых утверждений. В результате – по крайней мере, в принятых сегодня логических рамках – мы не можем представить себе формально полную систему знаний, созданную при участии человеческого разума. Некоторые наши интеллектуальные ресурсы не поддаются контролю и возникают из новых принципов исследования и демонстрации, которые не вписываются в границы логики. Если вы фанат сериала «Звездный путь», то вот вам такая аналогия: мы никогда не сможем стать подобными Споку и другим вулканцам. Как прекрасно, что мы не рабы формального интеллектуального процесса! Именно это ограничение и неожиданные места, в которые оно приводит нас в нашей постоянной борьбе за понимание, делает стремление к знаниям непредсказуемым и оттого более захватывающим. Неполнота открывает нам путь к творческой свободе.
Глава 31. Жуткие мечты о сверхчеловеческих машинах, или Мир как информация в которой мы рассуждаем о мире как информации, о природе сознания и о том, является ли реальность симуляцией
Ограниченность математики как закрытой и завершенной формальной системы затрагивает еще одну важную сферу знаний – взаимоотношения между машинами и человеческим сознанием. Этот вопрос все еще является важным и трудным для понимания науки. Могут ли машины мыслить, как мы, могут ли они, в конце концов, стать креативными и инновационными существами, а не бездумными исполнителями инструкций или кодов? Может ли человеческий мозг со всей его сложностью быть смоделирован, может ли его суть быть схвачена и реализована в машине?
Этому вопросу можно посвятить (и уже посвящено) много книг, но данная книга – не одна из них. Я хотел бы поговорить о том, как такой вопрос влияет на нашу дискуссию об ограниченности знаний и ее важности для человечества.
В заключительных параграфах «Теоремы Геделя» Эрнест Нагель и Джеймс Ньюман пишут, что одним из следствий теорем о неполноте является тот факт, что вычислительные приборы (по крайней мере, как их понимали в момент публикации книги в 1958 году) не могут имитировать человеческое сознание: «В ближайшее время замена человеческого мозга роботом невозможна».[184] Нагель и Ньюман подчеркивают, что, каким бы ни был их объем памяти и скорость обработки данных, машины всегда следуют линейной пошаговой логике, основанной на фиксированной аксиоматике (программе и ее синтаксисе). Как доказал Гедель, такая логика, в отличие от человеческого сознания, не в состоянии решить неразрешимые проблемы в теории чисел. Появившиеся во второй половине века клеточные автоматы, машинное обучение, параллельное кодирование и иные техники сократили разрыв между электронным устройством и человеческим мозгом, и потому ситуация существенно изменилась. Тем не менее «в ближайшее время замена человеческого мозга роботом» все еще невозможна.
Машины способны обойти человека в решении задач, которые на первый взгляд требуют осмысленных рассуждений. Например, суперкомпьютер IBM Deep Blue в 1997 году в матче-реванше победил чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, а компьютер Watson в 2011 году обыграл победителей игры «Jeopardy!» Брэда Раттера и Кена Дженнингса. Некоторым эти достижения кажутся впечатляющими, а некоторых пугают. Тем не менее за победами компьютеров не стоят ни глубокие рассуждения, ни творческое мышление, а лишь блестящие программы, очень быстрая обработка информации и доступ к огромным базам данных (в случае с Watson – к двумстам миллионам веб-страниц, включая всю «Википедию»). Эти устройства и их победы следует скорее назвать триумфом человеческого гения.
Существуют различные уровни машинного интеллекта, и нет никаких сомнений в том, что в области копирования некоторых аспектов функционирования человеческого мозга мы добились невероятного прогресса. Но искусственный интеллект как самостоятельное мышление машины остается далекой целью. Одной из причин этого является тот факт, что мы недостаточно хорошо представляем себе, что такое интеллект вообще и как именно человеческий мозг (или в меньшей степени мозг высокофункциональных животных) вмещает его в себя. Если интеллект зависит исключительно от архитектуры мозга, включая мириады синаптических соединений между нейронами, тогда существуют основания предполагать, что создание ИИ (искусственного интеллекта) всего лишь дело времени и что когда-нибудь машины научатся имитировать человеческий мозг и в конечном итоге превзойдут его. Это фундаментальное предположение, по сути, дало начало исследованиям сильного ИИ на конференции 1956 года в Дартмутском колледже: «Каждый аспект обучения или иная характеристика интеллекта может быть описана настолько точно, что возможно создать машину для ее имитации».[185] С другой стороны, если интеллект и сознание действительно зависят от чего-то другого, например от какого-то неизвестного организационного принципа или принципов, то простого инженерного анализа будет недостаточно для создания мыслящих машин.
Таким образом, осуществимость этой задачи зависит от функционирования мозга и природы сознания. Проблема и главное затруднение состоят в том, что между экспертами в этой области нет согласия. Компьютерная теория разума, один из сильнейших аргументов в пользу ИИ, утверждает, что мозг можно декодировать и что его работа сводится к коммуникации между нейронами и образованию операционных кластеров. Не существует никакой великой загадки сознания, есть лишь непонимание принципов его работы. Оптимисты, такие как изобретатель Рэй Курцвейл, создатель роботов Ханс Моравец и кибернетик Кевин Уорвик, уверены, что день, когда компьютеры смогут имитировать человеческий мозг, уже не за горами. В 1965 году один из основателей компании Intel Гордон Мур вывел эмпирическую закономерность, известную как закон Мура: количество транзисторов в интегральных схемах удваивается примерно каждые два года. Курцвейл применил этот закон к современным микропроцессорным технологиям и сделал вывод, что к 2029 году персональные компьютеры сравняются по мощности обработки информации с нашим мозгом. Продолжая свои рассуждения, он приходит к тревожным выводам: к 2045 году искусственный интеллект научится улучшать сам себя с немыслимой скоростью. Этот момент в истории писатель-фантаст Вернор Виндж называет сингулярностью.
Когда я был постдокторантом в Фермилабе, Марвин Мински, один из отцов-основателей сильного ИИ и человек, чья подпись стояла под дартмутским предложением, приехал к нам провести коллоквиум. Когда он представил свои аргументы в пользу того, что машины скоро научатся мыслить (стоял 1986 год), я спросил его, будут ли они болеть душевными болезнями, например психозом или биполярным расстройством. К моему изумлению, Мински ответил мне категорическим «Да!». Полушутя я поинтересовался, будут ли существовать психотерапевты для компьютеров, и снова получил положительный ответ. Вероятно, это будут специальные отладчики, занимающиеся одновременно программированием и машинной психологией.
В ответ Мински можно было бы возразить, что если бы мы смогли провести настолько точный инженерный анализ человеческого мозга, что сумели бы его воспроизвести, то точно выяснили бы химические, генетические и структурные причины возникновения душевных заболеваний, нашли бы способы их устранения и начали бы создавать совершенно здоровые искусственные мозги. На самом деле подобные медицинские задачи являются одной из основных целей компьютерного моделирования мозга. Ведь если оно пройдет успешно, у нас на руках окажется целая лаборатория для тестирования лекарств и процедур без привлечения людей – разумеется, если люди к тому моменту еще будут существовать.
Эти жуткие мечты о сверхчеловеческих машинах остаются всего лишь мечтами, по крайней мере на данный момент. Во-первых, закон Мура не является законом природы, а лишь иллюстрирует скорость развития технологий для обработки информации, порожденных человеческим гением. Учитывая, что расчетные мощности и возможности миниатюризации физически ограничены, в какой-то момент данный закон должен перестать действовать. Однако если бы мифы превратились в реальность, у нас были бы все основания бояться цифровых устройств, постоянно улучшающих собственные коды. Каким моральным принципам будет следовать такой неизвестный интеллект? Не окажется ли человеческий род устаревшим, а значит, ненужным? Курцвейл и его единомышленники считают, что так и будет и что это хорошо. В своем фильме «Сингулярность уже близка» Курцвейл рассказывает, как ему не терпится стать гибридом человека и машины.[186] Другие (в основном, я думаю, врачи и дантисты, спортсмены, бодибилдеры и т. д.) вовсе не испытывают энтузиазма от перспективы расстаться со своим органическим телом. Если уж на то пошло, сможем ли мы вообще понять человеческий мозг без тела? Такое разделение может оказаться невозможным, ведь тело и мозг настолько прочно связаны между собой, что рассматривать их по отдельности бессмысленно. В конце концов, значительная часть человеческого мозга (как и мозга любого другого животного) занимается регулированием тела и органов чувств. Каким станет мозг, если забрать у него его главное дело – контроль над работой тела? Может ли мозг или интеллект существовать лишь для выполнения высших когнитивных функций? Будет ли такой мозг обладать эмпатией или пониманием других, физических существ? Давайте остановимся на этом моменте.
Хотя скорость обработки информации и доступ к обширным базам данных могут творить чудеса при имитации отдельных свойств нашего мозга, этого недостаточно для формирования той совокупности ментального опыта, которую мы называем сознанием. Мы можем запрограммировать машину на распознавание стилей разных художников и наделить каждого из них определенной эстетической значимостью, а затем заставить компьютер выдать свое мнение о новой работе того или иного художника. Мы даже можем научить машину создавать изображения, соответствующие стилистике заданного живописца, или писать музыку, подобную творениям Моцарта или Баха. Мы можем заставить компьютер имитировать реакции, которые мы называем эмоциональными, при загрузке в него картины (ведь машина не может видеть) или симфонии (равно как и слышать). Но эти реакции не будут подлинными, ведь они включаются в программу заранее. Почему индивидуальные эмоциональные ответы людей на ту или иную картину или мелодию так разнятся – это открытый вопрос. Что персонализирует наши чувства, наши реакции на сенсорные стимулы, имеющие эмоциональное наполнение? Иными словами, почему вы – это вы?
Важнейшую концепцию для любого обсуждения процессов работы мозга можно сформулировать одним словом – «информация». Вся физическая реальность вокруг нас, по сути, является информацией, закодированной с разной степенью сложности в комбинациях атомов, из которых формируются различные материальные структуры и мы сами. В принципе, мозг не исключение. Если приверженцы компьютерной теории разума правы, то существует четкий редукционистский путь к сознанию, основанный на методичном декодировании его информационной составляющей: мозг состоит из такого-то числа нейронов, связанных друг с другом таким-то способом, через синапсы проходят такие-то химические вещества и т. д. После того как подобная информация будет получена, ее можно будет воплотить технологически и на ее основании постепенно построить искусственный интеллект – как дом, который мы начинаем строить с фундамента, затем добавляем стены и крышу, затем прокладываем проводку и трубы и, наконец, обставляем и украшаем. Фундаментальное предположение, на котором зиждется вера в сильный ИИ, состоит в том, что после «правильной» имитации структуры мозга сознание возникнет в нем естественно и спонтанно. Однако это предположение никак не подтверждается эмпирически. Любой, даже самый быстрый анализ, показывает, что оно представляет собой наивное, если не крипторелигиозное верование, учитывая все имеющиеся у нас на сегодняшний день знания о работе мозга и природе сознания.
Современные суперкомпьютеры способны совершать потрясающее количество операций (опсов для краткости) в минуту. Текущий рекорд (по состоянию на июль 2013 года) принадлежит компьютеру Titan, созданному компанией Cray, – 17 590 триллионов опсов, или 17,59 петафлопсов (приставка «пета-» означает единицу с 15 нулями, или 1000 триллионов, которая записывается математически как 1015).[187] Этот компьютер имеет более полумиллиона ядер – подумайте о своем двухъядерном ноутбуке, – которые разделены между обыкновенными центральными процессорами (ЦП) и быстрыми графическими процессорами (ГП), популярными на игровых платформах. Его площадь составляет более четырех тысяч квадратных футов, а энергии, которую он тратит, хватило бы на девять тысяч домов (хотите верьте, хотите нет, но по сравнению с конкурентами Titan еще довольно экономно расходует электричество). Для того чтобы сравниться с ним в скорости обработки данных, каждый житель Земли должен был бы производить примерно три миллиона вычислений в секунду.
Многие надеются, что скоро суперкомпьютеры перешагнут отметку в один экзафлопс, то есть миллион триллионов флопсов (приставка «экза-» означает единицу с 18 нулями, или 1018). Оптимисты, например, специалист по нейронауке Генри Маркрам, полагают, что это произойдет уже в 2018 году. Недавно Маркрам получил грант в размере 1 миллиарда долларов от Евросоюза для реализации проекта The Human Brain Project – совместной попытки десятка европейских организаций создать полностью функционирующую имитацию человеческого мозга. Проект сочетает в себе последние достижения нейронауки и компьютерных технологий, а его цель состоит в том, чтобы воплотить все мельчайшие детали архитектуры мозга и нервных соединений в нем в виде огромного компьютерного кода, составителям которого придется учитывать характеристики каждой клетки (ведь двух одинаковых нейронов не существует), включая ее морфологию, связи, трехмерную структуру, синаптическую коммуникацию (движение молекул нейротрансмиттеров по ионным каналам), а также кластеризацию и нейронную организацию более высокого уровня в различных областях мозга. Судя по прогнозам, количество расчетов, производимых для такой симуляции, достигнет экзафлопса. Если Маркраму и последователям компьютерной теории удастся осуществить свой замысел, у нас появятся экзафлопсовые машины, способные копировать человеческий мозг. Проект строится на двух важных предположениях: во-первых, что в мозгу техническая часть создает программное обеспечение, а во-вторых, что мы обладаем подробными и достаточными знаниями всех релевантных физиологических переменных мозга, чтобы ввести их в симуляцию.
Первое предположение кажется вполне естественным. В конце концов, в нашем мозгу нет больше ничего, кроме нейронов и их синаптических соединений. Любые попытки представить что-то еще, что-то, что мы могли бы назвать душой, противоречат картезианскому дуализму. Кроме того, такое предположение значительно осложнило бы жизнь современной науки, в первую очередь из-за вопроса нематериальности души. Если душа нематериальна, как она взаимодействует с материей? Если же взаимодействие происходит, значит, душа и материя обмениваются энергией, а такой обмен оставляет физический след и делает душу полностью или частично материальной.
Лишь немногие современные ученые и философы придерживаются мнения о том, что у мозга имеется нематериальный компонент. При этом ученые и философы сильно расходятся во взглядах на то, могут ли люди понять свое собственное создание. Очевидно, Маркрам и другие специалисты в области нейронауки верят, что проблема с пониманием мозга как вместилища сознания заключается лишь в его сложности, что инженерный анализ мозга возможен и что этот анализ однажды приведет к его полному пониманию. Более тонкого взгляда на вещи придерживаются Томас Нагель, Колин Макгинн, Ноам Хомски, Роджер Пенроуз и в меньшей степени Стивен Пинкер, приверженцы так называемого нового мистерианизма. Говоря об их подходе, Макгинн пишет, что люди «когнитивно закрыты» для понимания природы сознания. Мышь никогда не сможет читать стихи, потому что архитектура и функциональность ее мозга будут препятствовать этому. Точно так же и человеческий мозг имеет свои когнитивные ограничения, одно из которых состоит в понимании сознания.
Это далеко не новый подход. В своей книге «Язык и мышление» Ноам Хомски указывает на то, как ограниченные когнитивные возможности разных организмов ведут к диверсификации их функциональных способностей: «Марсианский ученый, чье сознание отлично от нашего, может посчитать эту проблему [свободы воли] тривиальной и удивиться, почему людям никогда не приходил в голову очевидный способ ее решения. Кроме того, этого наблюдателя могла бы поразить способность всех человеческих детей овладевать языком. Она казалась бы ему недоступной для понимания и требующей божественного вмешательства».[188] Об этом же писал и Нагель в своей знаменитой статье «Каково быть летучей мышью», утверждая, что людям не дано понять, как летучая мышь воспринимает реальность с помощью эхолокации.[189] Иными словами, если пользоваться терминологией Канта, феномен для одного сознания – это ноумен для другого. Некоторые вещи лежат за пределами наших категорий понимания – мыслительных инструментов, с помощью которых мы изучаем жизненные явления.
Вслед за Хомским и Нагелем Макгинн вводит свой «трансцендентальный натурализм» и не отрицает, что более развитый мозг сможет понять феномен сознания. Эта задача в целом имеет решение, просто мы на данном этапе своего эволюционного развития не в состоянии ее решить.
Еще 145 лет назад, в 1868 году, выдающийся физик викторианской эпохи Джон Тиндаль, президент секции физики Британской научной ассоциации, сказал в одной из своих речей:
Переход от физики мозга к соответствующим проявлениям сознания немыслим. Если определенная мысль и определенное молекулярное действие в мозгу происходят одновременно, мы не обладаем ни необходимым мыслительным органом, ни, судя по всему, даже рудиментом органа, который позволил бы нам проследить связь между этими явлениями. Они происходят одновременно, но мы не знаем почему. Если бы наши умы и чувства были настолько расширены, усилены и просвещены, что мы могли бы видеть и чувствовать каждую молекулу в мозгу, следить за всеми их движениями и группами, которые они формируют, знать их электрические заряды, если таковые имеются, и при этом осознавать все сопутствующие состояния наших мыслей и чувств, мы все равно были бы бесконечно далеки от ответа на данный вопрос. Как эти физические процессы связаны с фактами сознания? Пропасть между двумя классами явлений все еще будет непреодолимой для человеческого ума… Пусть за любовь отвечают правосторонние спиральные движения молекул в мозгу, а за ненависть – точно такие же, но закрученные в левую сторону. Теперь, почувствовав любовь, мы будем знать, что молекулы нашего мозга движутся в одну сторону, а испытав ненависть – что в другую. Но ответа на вопрос «Почему?» мы так и не получим.[190]
Очевидно, что Тиндалю не понравился бы проект Маркрама. Суть мистерианства состоит в том, что некоторые задачи слишком сложны для решения с помощью наших интеллектуальных возможностей. Эти загадки указывают нам на границы наших знаний и в некоторых случаях на существование вопросов без ответов, островков непознаваемого в огромном океане неизвестного.
Вот как мистерианцы критикуют компьютерную теорию разума. Ее последователи путают два понятия: физиологию мышления, то есть сложный танец нейронов и запутанные потоки нейротрансмиттеров у нас в мозгу, и суть мыслительного процесса, то есть то, о чем мы думаем. Как недавно писал Макгинн, «когда вы смотрите на картину или читаете стихотворение, в вашем мозгу, несомненно, происходит нейрохимическая активность. Но ни картина, ни стихотворение не находятся внутри вашего мозга… Произведение искусства – это предмет мыслительного акта восприятия, а не сам мыслительный акт, в ходе которого оно воспринимается».[191] Макгинн вместе с остальными мистерианцами возлагает на приверженцев компьютерной теории бремя доказывания. Могут ли они подтвердить, что эмпирическое сознание возможно редуцировать до потока нейронных вычислений в мозгу? Могут ли они объяснить, как именно субъективный опыт возникает из этих нейронных вычислений? Макгинн считает, что это невозможно, и полагает, что наш способ восприятия мозга ограничивает наши способности понять его функционирование. Сознание – это не свойство, которое можно выделить и наблюдать. Оно не находится в той или иной области мозга и не возникает в результате конкретного нейронного процесса. Оно постоянно от нас ускользает.
Проблема сознания так серьезна, что ее даже сложно сформулировать. Австралийский философ Дэвид Чалмерс, который в настоящее время работает в Университете Нью-Йорка, называл ее «сложной проблемой сознания» в отличие от других, более «легких», таких как разница между состояниями сна и бодрствования или обработка и интеграция сенсорной информации нашей когнитивной системой.[192] Кавычки намекают, что эти «легкие» проблемы на самом деле тоже чрезвычайно сложны. Разница состоит лишь в том, что они доступны для решения с помощью традиционных методов когнитивистики, в то время как «сложная проблема» – нет. Многие ученые и философы сходятся в том, что понимание сознания – это трудная задача (если не игнорируют ее в целом), но некоторые утверждают, что, несмотря на очевидное наличие у нас когнитивных ограничений, мы не можем быть до конца уверены в своей неспособности понять принципы работы мозга.[193]
Как бы там ни было, все эти аргументы относятся к области философии, и пусть некоторые из них весьма убедительны и важны для дискуссии, их нельзя считать доказательствами. В данном случае мы не имеем, как сказали бы физики, запрещающей теоремы, а в ее отсутствие очень сложно с уверенностью определить, на какие вопросы не может быть ответов. «Никогда» – это слишком резкое слово для науки. Если мы хотим хотя бы чуть-чуть продвинуться вперед, возможно, есть смысл сменить передачу и попытаться связать «сложную проблему сознания» с природой реальности и нашим пониманием ее.
Проблема сознания прочно связана с понятием реальности. Даже если другие животные действительно обладают сознанием и могут осознанно взаимодействовать с физической реальностью, люди – это все равно единственные на Земле существа, способные к самоосмыслению и при этом имеющие достаточно высокий уровень когнитивной сложности для анализа природы сознания, пусть результаты такого анализа и ставят нас в тупик. Самоосмысление в сочетании с высокой когнитивной сложностью формируют уникальное свойство человека – самосознание, то есть способность осознавать свое существование.
Мы живем в мире, который считаем реальным. Под этим я подразумеваю, что мы не полагаем, будто мир – это продукт нашего мышления, и верим, что его существование не зависит от нашего восприятия. Эта вера строится на сенсорных стимулах, которые идут снаружи (из «внешнего» мира) в мир, находящийся внутри нас. Как видите, я выступаю против точки зрения радикальных идеалистов, которые верят, что внешняя реальность формируется нашим мозгом и не имеет места отдельно от него. «Внешняя» реальность существует, даже если ее природа зависит от восприятия ее «изнутри». Физическая боль, которую мы ощущаем, ударившись о камень (камень реален, несмотря на то что разные люди чувствуют боль по-разному), а также миллиарды лет существования космоса без какого бы то ни было сознания (людям или другим мыслящим существам потребовалось некоторое время, чтобы развиться) кажутся мне убедительными доказательствами того, что мир вокруг не зависит от нас.
Разумеется, разные люди могут иметь разные мнения относительно деталей этого мира, а галлюцинации могут мешать восприятию таких деталей. Тем не менее какой-то внешний мир все-таки существует. Именно в этом мире мы живем, и именно его воспринимает наш мозг через органы чувств. Когда я вижу синий катящийся шар, разные участки моего мозга работают совместно, чтобы создать во мне уверенность, что это шар (форма), он синий (цвет) и он катится (движение). Эта конструкция полностью подчиняется законам классической физики в том смысле, что квантовыми эффектами в ней можно полностью (или в большей степени) пренебречь. То, что мы обычно называем реальностью, является декогерентной реальностью. При любой попытке использовать квантовую механику и ее странность для объяснения сознания или даже более низких функций мозга необходимо учитывать тот факт, что мозг – это теплая и влажная среда, а значит, в нем трудно поддерживать квантовую запутанность. Как пишут космолог из МИТ Макс Тегмарк и его коллеги, скорость декогеренции в мозгу очень высока – она происходит даже быстрее, чем мерцание нейронов.[194] Если и существуют другие способы влияния квантовой механики на функционирование мозга (например, на открытие и закрытие синаптических ворот или на оптимизацию транспортировки энергии по синапсам), они, вероятно, не имеют фундаментального значения для объяснения того, как нейронная деятельность порождает сознание. Я говорю «вероятно», потому что мы знаем слишком мало о внутренней работе мозга, поэтому все возможно.
Итак, на текущий момент мы считаем сознание классическим объектом и полагаем, что наше представление о реальности возникает в результате сенсорного взаимодействия с миром и с совокупностью наших воспоминаний. Можем ли мы в таком случае быть уверены, что реальность реальна? Этот вопрос для нас является ключевым, и, как ни удивительно, ответом на него будет категорическое «Нет!».
Мы уже знаем: то, что мы называем физической реальностью, в значительной степени зависит от того, как мы смотрим на мир и что мы о нем знаем. Для наших предков, начиная с древних греков и заканчивая временем жизни Коперника, то есть концом XVI века, космос был конечным. В его центре располагалась Земля, а его пространственную границу определяла сфера звезд. Реальность была определенной, и это определение имело большое религиозное значение и направляло жизни большинства людей. После открытий Эдвина Хаббла в 1920-х годах мы узнали о расширении космоса и реальность сделала очередной поворот. Космос превратился в динамичный объект, обладающий собственной историей. Как и много раз до этого, реальность была переосмыслена, и мы все еще пытаемся осознать, каково это – жить во Вселенной, у которой было начало и будет конец.[195]
Если до начала ХХ века жизнь людей во многом подчинялась религиозным доктринам и вера имела огромное эмоциональное и экзистенциальное влияние на общество в целом, в наше время это место постепенно занимает наука. На самом фундаментальном уровне наши научные открытия определяют то, что мы называем реальностью. Но вот в чем подвох. Мы уже знаем, что наука в своих попытках объяснить Природу наталкивается на внутренние ограничения, на лимиты точности, с которой она может формулировать естественные законы. Так как эти границы постоянно меняются в связи с методологическим прогрессом наших исследований, сцена, которую мы называем реальностью, тоже не остается статичной. Понятия времени и пространства, поля и его влияния на способы взаимодействия материи, сама концепция природы материи, даже уникальность Вселенной – все эти краеугольные камни нашей, как сказали бы философы, онтологии, все эти концептуальные единицы, с помощью которых мы описываем реальность, постоянно меняются. Сама природа научного исследования, никогда не останавливающегося и постоянно пересматривающего прошлые результаты, содержит в себе представление об изменчивости нашего понимания реальности. Вследствие этого мы даже не можем сказать, что такое реальность. Максимум, который нам доступен, – это наши знания о природе реальности на сегодняшний день. Те, кто верит, что однажды нам откроется фундаментальная суть реальности, пали жертвой ошибки, которую я называю заблуждением об окончательных ответах. Это заблуждение преследует науку с тех пор, как Фалес впервые задался вопросом, из чего состоит мир.
Но есть и другая, более странная причина не доверять утверждениям о возможности познать фундаментальную суть реальности, помимо наших собственных ограничений. Вполне возможно, что все мы – жертвы розыгрыша поистине космического масштаба. Реальность (или то, что мы называем реальностью) может оказаться огромной симуляцией, достаточно мощной, чтобы убедить нас в своей истинности. Учитывая, что мы воспринимаем мир вокруг с помощью органов чувств, обладающих ограниченной точностью, можно ли создать виртуальную копию реальности, идентичную оригиналу? Иными словами, возможно ли, что мы все живем в виртуальном мире, который на самом деле представляет собой лишь огромный компьютерный код?
Во-первых, мы должны согласиться с тем, что нашей точкой отсчета является воспринимаемая реальность, то есть тот мир, существование которого мы выводим на основании суммирования нашим мозгом всех данных, полученных от органов чувств. Соответственно, симуляции не нужно быть очень точной за рамками того, что мы можем заметить.[196] В науке для этого явления есть специальный термин – увеличение зернистости. Он означает, что мы игнорируем детали, которые неважны для нас или которые нам сложно заметить, сглаживая невидимые впадины и выпуклости в единую ровную поверхность. Так воспринимают реальность скованные люди в пещере Платона – равно как и мы с вами. Разумеется, создатели симуляции должны были бы учесть имеющиеся у нас наблюдательные приборы и степень увеличения и приближения реальности с их помощью. Для того чтобы мы продолжали оставаться в неведении по мере развития наших инструментов, симуляции пришлось бы постоянно повышать разрешение.
В 2003 году философ Ник Бостром опубликовал статью, в которой рассуждал, не живем ли мы в симуляции уже сейчас.[197] Предположив, что постчеловеческая цивилизация (вероятно, та, которая возникнет после сингулярности Курцвейла и будет обладать достаточной когнитивной открытостью для решения проблемы соотношения мышления и тела) будет иметь вычислительные ресурсы, значительно превышающие наши, Бостром заключил, что вопрос о том, не живем ли мы в симуляции, имеет три возможных варианта ответа – два отрицательных и один положительный.
1 Человеческая цивилизация исчезает до начала постчеловеческой фазы (сценарий судного дня).
2 Постчеловеческая цивилизация не заинтересована в том, чтобы имитировать жизнь своих предков (психологический сценарий).
3 Мы действительно живем в симуляции.
Учитывая отсутствие у нас необходимых подтверждений, Бостром считает все эти ответы равновероятными.
Если верен ответ 3, тогда в своих попытках решить проблему сознания мы подобны марионеткам, безнадежно мечтающим узнать, кто дергает их за ниточки. Если это так, как же мы беспомощны! Бостром, а вместе с ним и многие авторы научно-фантастических книг и фильмов на эту тему (самый популярный из которых – «Матрица» братьев Вачовски, хотя в том же 1999 году вышел «Тринадцатый этаж» Джозефа Руснака, повествующий о похожем мире) считают, что при достаточной мощности компьютеров реальность можно симулировать с такой точностью, что мы поверим в реальность своей жизни и мира вокруг.[198]
Существует и еще более неприятный сценарий. В концепции Бострома мы все еще являемся существами из плоти и крови, поверившими в обман мощной симуляции, которая посылает стимулы к нам в голову. Однако по-настоящему сложной симуляции незачем ограничиваться внешними раздражителями. Внутренние стимулы, включая наши мысли и сны, тоже могут быть ее частью. Мне кажется, что такая симуляция сумела бы имитировать тот опыт бесчисленных ментальных состояний, который мы называем сознанием. Возможно ли, что вопрос сознания кажется нам таким сложным потому, что оно на самом деле является симуляцией и в связи с этим кажется нам непознаваемым и чуть ли не магическим?
При таком сценарии мы, будучи закованными в виртуальной пещере, уже не являемся материальными существами. Мы лишь персонажи симуляции. Я знаю, что это звучит абсурдно, но вспомните популярную игру The Sims. Ее название уже указывает на то, что это симуляция – в данном случае повседневной жизни героев, в которой есть отношения, учеба в школе, рождение детей и т. д. Игрок контролирует своих персонажей и все, что они делают. На текущем уровне сложности персонажи, разумеется, не знают, что являются частью игры. На самом деле у них вообще отсутствует какое бы то ни было самосознание. Но представьте себе, что в следующих версиях оно добавится и герои игры будут способны осознавать собственное существование, а игроки смогут регулировать уровень самосознания от примитивного до крайне высокого. При достаточном усложнении программы персонажи могут поверить в то, что они и их жизни реальны. Но даже в этом случае их свободная воля будет сводиться к паре строчек кода и останется иллюзией. Игра будет симулировать наше существование, индивидуальное сознание каждого из нас, а мы даже не догадаемся.
Идея о том, что мы можем оказаться не хозяевами своей жизни, а всего лишь ожившими куклами в руках настоящих хозяев, кажется неприятной. Нельзя сказать, что она слишком уж печальна, ведь персонажи (мы) никогда не узнают о своем подчиненном состоянии. Как и мы, они будут считать себя настоящими и свободными. Могут ли наше чуткое сенсорное восприятие мира, наши желания и мысли, наши триумфы и поражения, сладость и горечь человеческого существования, даже наше собственное сознание быть всего лишь творениями более продвинутых разумных существ? Это вопрос выполнимости, то есть ресурсов, необходимых для создания такой симуляции.
Кроме того, это вопрос мотивации. Получают ли более продвинутые существа удовольствие, играя в подобную симуляцию? Или она нужна им для изучения образа жизни своих предков? Будет ли в постчеловеческом обществе вообще существовать понятие удовольствия? Или второй ответ Бострома (пост-человеческая цивилизация не заинтересована в том, чтобы имитировать жизнь своих предков) является верным и симуляции такого рода могут быть интересны лишь примитивному разуму вроде нашего? Обратите внимание, что ответы Бострома работают даже для тех случаев, когда симуляция – это не только окружающая реальность, но и мы сами.
С учетом вышесказанного я нахожу второй ответ Бострома наиболее вероятным. Помимо всего прочего, он прекрасно сочетается с трансцендентным натурализмом Макгинна, так как наши постчеловеческие потомки вполне могут разгадать тайну сознания (ведь им не обязательно иметь ту же когнитивную закрытость, что и нам).
Тем, кто верит, что мы живем в симуляции, я предлагаю задуматься над интересным парадоксом: аргументы Бострома – это замкнутый круг. Кто сказал, что высшие существа – тоже не элементы симуляции? Откуда мы знаем, что какой-нибудь суперразум не убедил их, что они кукловоды, в то время как они такие же куклы, как и мы? Иллюзия в иллюзии в иллюзии… Как будто мы живем в стихотворении Эдгара По: «Все, что зрится, мнится мне, все есть только сон во сне».
Но раз уж мы зашли так далеко, пора задаться вопросом, не является ли вся Вселенная одной гигантской симуляцией. Здесь мы ступаем на почву астротеологии, так как разумные существа, способные имитировать целые вселенные, будут неотличимы от богов. Существуют ли границы у игры в имитацию, например ограниченность ресурсов, о которой мы говорили выше? Многие ученые, в частности Сет Ллойд из МИТ, сравнивают Вселенную с гигантским компьютером, заявляя, что, по сути, каждый физический процесс – от столкновения двух электронов после Большого взрыва и вращения галактики Млечный Путь до мысли, которая только что пришла мне в голову, – представляет собой расчет, производимый между частицами материи, передачу информации в соответствии с законами квантовой механики: «Каждая деталь окружающего мира, каждая прожилка на листке, каждый завиток на отпечатке пальца, каждая звезда на небе может быть сведена до элемента информации, созданного квантовой механикой. Вселенная – это программа, написанная квантовыми битами».[199]
Ллойд выдвигает предположение, что богатство и сложность Природы вокруг нас обязаны своим существованием сочетанию двух условий: наличию компьютера (в данном случае Вселенной, которая активно обрабатывает информацию) и случайности (в данном случае квантовой декогерентности, создающей случайные биты информации, из которых формируются небольшие кусочки компьютерных программ). В отличие от тысячи обезьян за тысячей печатных машинок, что могут генерировать лишь бессмысленные тексты, случайные программные строки разной длины в соответствии с математической теорией алгоритмической информации, создают «весь тот порядок и всю ту сложность, которые мы видим вокруг себя».[200]
Если Вселенная – это компьютер, может ли компьютер генерировать Вселенную? Перед тем как решить, не является ли наша Вселенная симуляцией, нужно разобраться, насколько сложно было бы ее создать. Существуют строгие физические ограничения на количество энергии и информации, которую можно закодировать в материи для последующего оперирования. Эти ограничения действуют для любого человека или инопланетянина, строящего вычислительные машины. Каждое вычисление требует манипулирования информацией в среде, и неважно, материальна она (как обычные компьютерные чипы) или состоит из излучения (фотоны). В большинстве случаев это означает переключение спина магнитного материала из положения «вверх» в положение «вниз» или какой-то аналогичный процесс. Используя квантовую физику, мы можем рассчитать количество элементарных логических операций, которые оптимальное (идеальное) вычислительное устройство может совершить, используя определенный объем энергии. Если вся энергия устройства (что в соответствии с формулой Е = mc2 означает всю его массу) может быть использована для расчетов, то оптимальный ноутбук, весящий два фунта, смог бы производить около 1050 операций в секунду (опсов). Сравните это значение с мощностью суперкомпьютеров будущего, работающих с экстрафлопсовой скоростью (1018 опсов)![201] Но скорость расчета – это еще не все. Энергия и температура также налагают ограничения на количество информации, которую устройство может хранить и обрабатывать, то есть на свойства его памяти. В целом N систем, каждая из которых может принимать два состояния, обладают 2N возможных состояний и могут зарегистрировать N бит информации (два состояния могут соответствовать двум направлениям спина магнитных частиц). Это соотношение определяется энтропией системы, которая ограничивает объем ее памяти.
По сути, энтропия системы указывает на количество ее доступных состояний, то есть таких состояний, которые могут использоваться для хранения информации. Чем выше энтропия системы, тем больше информации она может хранить. Шахматная доска со стороной 12 клеточек может вместить в себя гораздо больше конфигураций, чем доска со стороной 6 клеточек. В случае с моделью идеального двухфунтового ноутбука это означает 1031 бит доступной памяти. Данные результаты можно экстраполировать на всю Вселенную, если предположить, что с момента Большого взрыва она используется для вычислений. В 2002 году Ллойд рассчитал, что Вселенная может выдавать 10120 опсов при 1090 битах памяти (или даже 10120, если учитывать гравитационное взаимодействие).[202] Если наши кукловоды действительно создали симуляцию размером с известную нам Вселенную, то их компьютер должен иметь подобную мощность. Они могут сэкономить немного опсов и битов за счет увеличения зернистости, но тем не менее цифры остаются впечатляющими. Если бы они снизили мощность слишком сильно, пострадало бы качество симуляции и мы, ее жители, смогли бы заметить в ней неполадки – какую-то странность окружающего мира, разрыв в ткани нашей реальности. Например, Силас Бин, Зохре Давуди и Мартин Сэвэдж предположили, что, если бы авторы нашей симуляции использовали для имитации Вселенной квадратную решетку, что-то вроде трехмерной шахматной доски и с определенным размером ячейки (соответствующей клетке на обычной доске), их симуляция была бы ограничена минимально возможным объемом такой ячейки. Следовательно, высокоэнергетичные явления в микромире могли бы помочь нам проверить разрешение симуляции и, возможно, выявить ее искусственную природу.[203]
Если совместить эти аргументы с доказательствами неполноты, выведенными Геделем и Тьюрингом, и с неизбежной ограниченностью самореферентных логических систем, которую они раскрывают, мы увидим, что даже идеальные компьютеры в состоянии моделировать физическую систему, частью которой они не являются, с лимитированной точностью. Симуляция не может быть совершенной. Кроме того (и это самое важное), любая попытка смоделировать часть мира, которая включает в себя их самих, обречена на провал.[204]
Даже очень сложно организованные существа будущего неизбежно столкнутся с тем, что какие-то возможности им доступны, а какие-то – нет. Во-первых, их знание реальности будет ограниченно. Во-вторых, их способность симулировать собственную версию реальности, то есть воспроизводить свои знания с помощью машин, будет подчиняться лимитам энергетических ресурсов, скорости обработки информации и объемов памяти. Раса, способная использовать для своих вычислений целую Вселенную, будет неотличима от богов. Но все же ее природа будет вовсе не Божественной, ведь ее возможности будут иметь физические границы. Эта мысль немного успокаивает. Более того, по мере расширения наших знаний о физической Вселенной и возможностей наших вычислительных ресурсов мы в конце концов сможем производить расчеты и совершать иные действия, которые на сегодняшний день показались бы нам волшебством. Как однажды сказал Артур Кларк, «любая достаточно развитая технология неотличима от магии».[205] То, что даже самые продвинутые наши попытки никогда не выведут нас за пределы «зернистой» реконструкции физической реальности, означает, что мы никогда не будем подобны богам, как и наши предполагаемые кукловоды. Законы природы и границы знаний заставят нас вечно оставаться простыми смертными.
Глава 32. Трепет и смысл в которой говорится о нашем стремлении к знанию и о том, почему это важно
Наука как человеческое предприятие – это одно из величайших достижений нашего интеллекта и истинное свидетельство нашей способности совместно создавать знания. Наука – это ответ на наше страстное желание понять мир, в котором мы живем, и свое место в нем. Она задается древнейшими вопросами, которые преследовали и подталкивали людей вперед в течение многих веков, – вопросами начала и конца, места и смысла. Нам нужно знать, кто мы такие, где мы находимся и как мы сюда попали. Наука откликается на нашу человеческую природу, на наше непрестанное стремление к свету.
Разум – это инструмент, который мы используем в науке, но он не является ее мотивацией. Мы не пытаемся познать мир сам по себе и закончить на этом. Наш поиск определяет нас, он воплощается во всем, что делает нас людьми: в страстях и драмах, в вызовах и задачах, в победах и поражениях, в вечном желании идти вперед, в пугающем, но одновременно манящем ощущении, что мы знаем так мало и что впереди нас ждут тайны – скрытые от нашего глаза, близкие, но одновременно недоступные.
Мы анализируем и тестируем Природу так, как можем, с помощью своих инструментов и интуиции, моделей и приближений, фантастических описаний, метафор и образов. Наука, как я показываю ее в этой книге, – это бесконечное движение, конца которому не предвидится. Чем больше мы узнаем о мире, чем больше сравниваем данные наблюдений с нашими теориями, чем глубже и дальше заходим в своих поисках, тем чаще понимаем, что получаемые нами ответы не всегда ведут нас вперед. Иногда они означают шаг назад. Остров знаний может увеличиваться и уменьшаться по мере того, как мы узнаем что-то новое о Вселенной или отказываемся от прошлых взглядов. Мы видим мир яснее, чем кто-либо до нас, но все еще недостаточно ясно.
Надежда на то, что когда-нибудь мы достигнем конечной полноты знаний, слишком наивна. Для того чтобы двигаться вперед, наука должна совершать ошибки. Мы можем стремиться к достоверности, но для дальнейшего роста нам необходимы сомнения. Мы окружены горизонтами и проявлениями неполноты. Все, что мы видим, – это тени на стене пещеры. С другой стороны, наивно и полагать, что эти препятствия непреодолимы. Границы – это стимулирующий фактор. Они рассказывают нам о мире, о нашем восприятии его и о нас самих, при этом подталкивая вперед в поиске ответов. Мы раздвигаем границы, чтобы лучше понять, кто мы такие. Тот же процесс, который мы видим в науке (движение вперед или отступление, но при этом постоянный прогресс), должен происходить с каждым из нас при достижении наших личных целей. Когда мы боимся сделать следующий шаг в неизвестное, мы перестаем расти.
Наука – это не просто знания о физической реальности. Это взгляд на жизнь, это образ жизни, коллективное стремление расти как вид в мире, полном тайн, страхов и чудес. Наука – это одеяло, которым мы накрываемся каждую ночь, свет, который мы включаем во тьме, маяк, напоминающий нам, на что мы способны, когда работаем сообща в стремлении к единой цели. Тот факт, что науку можно использовать во благо или во вред, говорит лишь о ненадежности человеческого рода и о его склонности к созданию и уничтожению.
Исследуя Природу и изучая множество ее лиц, мы должны помнить, что берега неведения растут вместе с Островом знаний. Океан неизвестного растет вместе с нашими успехами. Кроме того, нельзя забывать, что науке отведена лишь часть этого Острова, ведь существует множество способов знать, которые подпитывают друг друга. Пусть физические и социальные науки освещают многие аспекты знания, но им не принадлежат все ответы. Как глупо было бы попытаться вместить все, на что способен человеческий дух, в одном понятии «знание»! Мы многомерные существа, ищущие ответы различными дополняющими друг друга способами. У каждого из них есть своя собственная цель, но нам нужны они все. Когда вы подаете бокал вина любимому человеку, появляется что-то еще, кроме химии его молекулярного строения, физики его жидкого состояния и света, отражающегося на его поверхности, или биологии его ферментации и нашей сенсорной реакции на него. Ко всему этому добавляется ощущение вкуса вина и его красного цвета, чувство присутствия любимого человека, блеск в его глазах, эмоции от того, что вы разделяете этот чудесный момент друг с другом. Пусть многие из этих реакций имеют когнитивное и неврологическое основание, было бы неправильно сводить их все к набору измеримых данных. Все они важны, и все они в сумме дают нам представление о том, что значит быть живыми и искать ответов, дружбы, понимания или любви.
Не на все вопросы есть ответы. Надеяться на то, что их однажды сможет найти наука, – значит хотеть ограничить человеческий дух, подрезать его крылья, отобрать у нашего существования многомерность. Учитывая все, что сказано в данной книге о границах научного знания, можно понять, что эта надежда ошибочна. Одно дело – искать ответы на вопросы о начале и конце, смысле и цели в рамках научного знания. Этим мы должны заниматься постоянно. Я как ученый посвятил этому свою жизнь. И совсем другое дело – верить, что этот поиск конечен, что у океана неизвестного есть берега и что только наука может их достигнуть. Как самоуверенно заявлять, что мы можем знать все, что мы способны раскрывать законы Природы один за другим, как матрешки, пока не доберемся до последнего! Принять неполноту знания не означает признать поражение человеческого интеллекта. Это не значит, что мы выбрасываем белый флаг. Это значит, что мы выделяем науке место в человеческом мире, признаем ее несовершенной и вместе с тем могущественной, неполной, но при этом – нашим лучшим инструментом для описания мира. Наука – это не отражение божественной истины, состоящее из открытий, которые мы сумели добыть из идеального измерения Платона, но проявление чисто человеческого беспокойства, стремления к порядку и контролю, трепета и ужаса перед бесконечностью космоса.
Мы не знаем, что лежит за нашим горизонтом, – что думать о раннем состоянии Вселенной или как получить детерминистское описание квантового мира. Эти неизвестные обстоятельства не просто отражают наше текущее неведение или несовершенство наших инструментов. Они выражают саму суть Природы, ее ограниченность скоростью света, линейностью времени, неизменной случайностью. Между выражениями «мы не знаем» и «мы не можем знать» существует принципиальная разница. Даже если мы найдем ответы на какие-то из этих вопросов, они будут ограниченны. Мы не сможем продвинуться за свой космический горизонт, пока не научимся двигаться быстрее скорости света. Любой научный ответ на вопрос о ранней Вселенной будет в значительной степени зависеть от концепций, которые мы используем в рамках науки, – понятий полей, законов сохранения, неопределенностей, природы пространства, времени и гравитации. Квантовая нелокальность сводит на нет все наши попытки детерминистского описания микромира. Если говорить в общем, то любое научное объяснение обязательно окажется ограниченным.
Я понимаю, почему некоторым сложно понять, что подобные ограничения не умаляют красоты и силы науки. Мне кажется, что сопротивление этим идеям возникает из древнего способа мышления, в котором наука представлялась людям как противник всего тайного и загадочного. Из-за такой точки зрения люди путают недостижимую цель по приобретению абсолютного знания с бесконечным стремлением к поиску. Лично я считаю наоборот. То, какой наука является на самом деле, делает ее еще более прекрасной и сильной. Так она оказывается наравне с другими творческими достижениями человечества – все еще впечатляющими, несмотря на наше несовершенство и многомерность.
Оглядевшись вокруг, мы видим лишь малую часть того, что нас окружает. Вспомните, что материя, из которой мы сделаны, составляет лишь 5 % всего космоса, что он наполнен темной материей и темной энергией. Прямо сейчас темная материя находится рядом с каждым из нас. Даже если наши приборы продолжат улучшаться (а так и будет), даже если мы наконец раскроем тайну темной материи и темной энергии (я уверен, что будет и это), информация, которую мы сумеем получить, все равно будет иметь свои границы. Новое поджидает нас в самых неожиданных местах и готовится снова радикально изменить наши представления о мире.
То, что мы называем реальностью, на самом деле представляет собой постоянно движущуюся мозаику идей.
Читатель, я прошу тебя снова обратить внимание на то, что моя точка зрения не означает поражение и отказ от дальнейшего научного поиска. Совсем наоборот – поиск должен продолжаться. Именно этот поиск и придает смысл нашему существованию. Мы ищем ответы, зная, что самые важные из них вызовут еще больше вопросов. Если рассматривать науку в исторической перспективе, как я сделал в этой книге, достаточно просто не только смириться с неполнотой знаний, но принять ее как символ того, что значит быть человеком. Огромное желание чуда – вот то, что питает нашу поразительную способность узнавать новое.
Как и наши предки, мы склоняемся перед масштабностью данного предприятия, перед красотой неведомого, которое так манит нас. Это восхищение, смешанное со страхом, движет нас вперед с самого начала нашего существования. Оно связывает прошлое и настоящее и направляет нас в будущее по мере того, как мы продолжаем свои поиски. Давайте не будем сводить этот спор к банальному «мы способны все знать» против «мы не способны все знать». Давайте примем этот трепет в наших сердцах и умах, этот импульс, толкающий нас к знаниям и открытиям, это желание пролить еще немного света на тьму перед нами и раздвинуть границы Острова знаний – вперед, в стороны, назад – неважно, лишь бы они двигались в сторону лучшего понимания. Давайте восстанем против гаснущего света и не согласимся покорно уйти во тьму. Все, что важно, – продолжать светить. Вот для чего мы здесь.[206]
Благодарности
Идея этой книги пришла ко мне во время конференции «Законы природы: их характер и познаваемость», которая прошла в мае 2010 года в канадском институте теоретической физики «Периметр». Организаторы конференции Стив Вейнстейн, Дэвид Уолперт и Крис Фукс были так добры, что пригласили меня и позволили самому выбрать тему своего выступления. Я бесконечно благодарен им за помощь в развитии моих идей о границах науки и природе знания.
Когда я задумался, что я могу сказать перед группой выдающихся ученых и философов, присутствовавших на конференции, у меня в голове возник образ Острова знаний. Мы окружены океаном непознанного, и по мере того, как Остров растет, разрастаются и берега нашего неведения, а значит, и наша способность задавать вопросы, о которых мы раньше даже подумать не могли. Образ Острова натолкнул меня еще на один образ – существование непознаваемого, то есть вопросов, ответы на которые недоступны человеческой мысли. Положительная реакция моих коллег и множество дискуссий, последовавших за моим выступлением, еще больше разожгли мое воображение. В результате, после четырех лет работы, родилась эта книга.
Я хотел бы поблагодарить своих коллег, которые тратили свое время и силы, чтобы ответить на мои вопросы и о природе знания. В первую очередь, я хочу выразить сердечную благодарность Адаму Фрэнку, Дэвиду Кайзеру и Николь Юнгер-Хальперн, которые прочли черновой вариант этой книги и предоставили мне свои бесценные комментарии и критические отзывы. Все мы знаем, как велика цена времени на сегодняшний день, когда каждую секунду вокруг появляются новые заманчивые идеи.
Я также хочу сказать спасибо моему агенту Майклу Карлайлу за то, что он с самого начала верил в этот проект, и моему редактору в Basic Books Т. Дж. Келлехеру – за то, что этот проект стал реальностью.
Наконец, я благодарю своих детей Эндрю, Эрика, Тали, Луциана и Габриэль, которые научили меня обращать внимание на действительно важные аспекты жизни и каждый день смотреть на мир с удивлением и восхищением. Спасибо и моей жене Кари за ее любовь, поддержку и понимание.
Примечания
1
Определение «минимальные частицы вещества, из которых состоит все сущее в мире» требует подробного объяснения, которое я приведу в части II. Мы должны задаться вопросом, могут ли ученые в принципе быть уверены, что они обнаружили «минимальную частицу вещества». Как вы увидите далее, этот вопрос напрямую связан с ограниченностью человеческого знания.
(обратно)2
Здесь следует провести аналогию с крупицей соли, так как апельсины, сталкивающиеся на обычных скоростях, сильно отличаются от частиц вещества, сталкивающихся на скорости, близкой к скорости света. Новые виды частиц возникают, когда энергия движения конвертируется в массу. Если разогнать апельсин до скорости света, то после столкновения нам останутся только капли сока, ошметки мякоти и лопнувшие косточки. Физики любят говорить, что сталкивать частицы для создания новых – все равно что сталкивать два теннисных мяча, чтобы получить в итоге целый «Боинг-747».
(обратно)3
«Элементарный» в данном случае означает «неделимый», то есть «не состоящий из более мелких частей» (см. примечание 1). Эта цитата указывает на то, что, когда частицу называют элементарной, мы должны с осторожностью относиться к такому определению. Точнее было бы сказать, что, учитывая наше понимание свойств материи на данный момент, та или иная частица может считаться элементарной или не имеющей структуры. Ключевым в этом определении является выражение «на данный момент».
(обратно)4
Разумеется, наука представляет собой лишь один из способов «узнать больше, чем мы можем увидеть». Искусство дополняет ее, пытаясь излечить человека от эмоциональной слепоты и установить связь между зыбкой областью чувств и более материальным миром слов, образов и звуков.
(обратно)5
Bernard le Bovier De Fontenelle, Conversations on the Plurality of Worlds (Berkeley: University of California Press, 1990), 1.
(обратно)6
Когда я в последний раз проверял библиографические ссылки в этой книге перед отправкой рукописи редакторам, я наткнулся на образ, очень похожий на мою собственную метафору Острова знаний. Знаменитый австрийский физик Виктор Вайсскопф писал: «Наши знания – это остров в бесконечном океане непознанного, и чем больше он становится, тем длиннее оказывается граница между известным и неведомым». Victor Weisskopf, Knowledge and Wonder: The Natural World as Man Knows It (Garden City, NY: Doubleday, 1962). Цит. по: Louise B. Young, ed., The Mystery of Matter (New York: Oxford University Press, 1965), 95. Но Вайсскопф, в отличие от меня, не развивает эту идею дальше. Научный журналист Джон Хорган в своей противоречивой книге The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age (New-York: Broadway Books, 1996) приписывает подобное высказывание американскому физику Джону Арчибальду Уилеру: «По мере того как разрастается остров нашего знания, увеличиваются и берега неведомого». О существовании еще одного схожего образа я узнал в середине работы над этой книгой. Сэр Уильям Сесил Дампьер в своей работе A History of Science and Its Relations with Philosophy and Religion, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1961) писал: «Научное познание безгранично, потому что, как верно говорят, чем больше становится сфера знаний, тем больше и площадь неведомого, с которым она вступает в контакт». Я хочу сказать спасибо Mark I – читателю моего блога, который обратил мое внимание на эту цитату, даже не зная о проекте книги. Образ острова или сферы знаний, очевидно, является очень убедительным. Судя по всему, впервые эта метафора появляется в «Рождении трагедии» немецкого философа Фридриха Ницше: «Окружность науки имеет бесконечно много точек, и в то время, когда совершенно еще нельзя предвидеть, каким путем когда-либо ее круг мог бы быть окончательно измерен, благородный и одаренный человек еще до середины своего существования неизбежно наталкивается на такие пограничные точки окружности и с них вперяет взор в неуяснимое» (Basic Writings of Nietzsche, trans. Walter Kaufmann [New York: Modern Library, 2000], 97).
(обратно)7
Позднее я подробнее объясню разницу между подобным недосягаемым неизвестным и тем, что я называю научным неизвестным. Последнее является важнейшей частью нашего понимания Природы.
(обратно)8
Mircea Eliade, Images and Symbols: Studies in Religious Symbolism (New York: Sheed & Ward, 1961), 59.
(обратно)9
Стремясь к профессиональной целостности, ученому следует отказаться от своей веры, если она не подтверждается доказательствами. Но отпускать то, к чему ты привык, бывает тяжело.
(обратно)10
Isaac Newton, The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy, trans. I. Bernard Cohen, Anne Whitman (Berkeley: University of California Press, 1999), 796. В «третьем правиле изучения натуральной философии» Ньютон предполагает, что «свойства тел, [которые не могут быть увеличены или уменьшены] и которые имеются у всех тел, на которых проводятся эксперименты, должны приниматься за универсальные свойства всех тел».
(обратно)11
Аэций цитируется по Daniel W. Graham, ed., Texts of Early Greek Philosophy: The Complete Fragments and Selected Testimonies of the Major Presocratic (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), Part 1, 29.
(обратно)12
Graham, Texts of Early Greek Philosophy, Part 1, 35.
(обратно)13
Isaiah Berlin, “Logical Translation”, in Concepts and Categories: Philosophical Essays, ed. Henry Hardy (New York: Viking, 1979), 76.
(обратно)14
Graham, Texts of Early Greek Philosophy, Part 1, 55.
(обратно)15
См., например, биографию Анаксимандра авторства Карло Ровелли (Carlo Rovelli, The First Scientist: Anaximander and His Legacy (Yardley, PA: Westholme, 2011).).
(обратно)16
Graham, Texts of Early Greek Philosophy, Part 1, 47.
(обратно)17
Graham, Texts of Early Greek Philosophy, Part 1, 57.
(обратно)18
Подобным правом обладали мужчины. Исключение составляют пифагорейцы, которые единственные наделяли женщин равным статусом.
(обратно)19
После прочтения этих строк становится ясно, почему Стивен Гринблатт в своей блестящей книге The Swerve: How the World Became Modern пишет о ключевой роли Лукреция и его поэмы в формировании современного мира.
(обратно)20
G. S. Kirk, J. E. Raven, and M. Schofield, The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 343.
(обратно)21
Nicolaus Copernicus, On the Revolutions of the Heavenly Spheres, trans. Edward Rosen (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992), 4–5.
(обратно)22
Plato, The Dialogues: The Republic, Book VII, trans. Benjamin Jowett, Great Books of the Western World, vol. 7, ed. Mortimer J. Adler, 2nd ed. (Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1993), 389, line 517.
(обратно)23
Lucretius, The Nature of Things, Book II, trans. A. E. Stallings (1060; rept., London: Penguin, 2003), 67–68.
(обратно)24
Тот факт, что каждая гипотеза рано или поздно должна быть опровергнута, определяется самой эволюцией науки и постоянным пересмотром того, как она моделирует и описывает науку. Представление об электроне, которого придерживались ученые XIX века, отличается от существовавшего в 1940-е годы и от принятого сейчас. Далее в этой книге мы увидим, как менялись другие ключевые представления.
(обратно)25
Представление о Боге как о Космическом часовщике было популярно среди деистов XVIII века, к которым причислял себя и Бенджамин Франклин.
(обратно)26
Simplicius of Cilicia, On Aristotle’s “On the Heavens 2.1–9”, trans. Ian Mueller (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004), 74 (line 422,20).
(обратно)27
Moses Maimonides (1135−1204), “The Reality of Epicycles and Eccentrics Denied”, trans. Shlomo Pines, in A Source Book in Medieval Science, ed. Edward Grant (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974), 517–520.
(обратно)28
Graham, Texts of Early Greek Philosophy, 83.
(обратно)29
Тот факт, что мы до сих пор используем слово «метеорология» для описания науки о погоде, указывает на то, какое огромное влияние идеи Аристотеля оказали на западную культуру. Ведь облака и грозы имеют мало общего с метеорами!
(обратно)30
Martin Luther, Table Talk, Luther’s Works, vol. 54, trans. and ed. Theodor G. Tappert (Philadelphia: Fortress, 1967), 358–359.
(обратно)31
J. L. E. Dreyer, Tycho Brahe (Edinburgh, 1890), 86f.
(обратно)32
Вид движения, называемый собственным движением, был впервые отмечен Эдмундом Галлеем в 1781 году при наблюдении за кометой, названной его именем. Кроме того, звезды могут приближаться и удаляться от нас при радиальном движении, которое обнаруживается с помощью эффекта Допплера – небольшого изменения длины световых волн (расстояния между двумя пиковыми значениями) при приближении (уменьшении) или удалении (увеличении) источника света.
(обратно)33
Обратите внимание, что с точки зрения земного наблюдателя Солнце движется по небу, совершая один полный оборот в год. По мере движения оно проходит через 12 зодиакальных созвездий, тех самых, которые включаются в гороскопы. Поскольку угол наклона Земли при вращении составляет 23,5 градуса, путь Солнца по небу имеет такой же наклон над и под звездным экватором. Отсюда взялось выражение «прямое восхождение». Во время весеннего и осеннего солнцестояния траектория движения Солнца пересекает звездный экватор и два этих воображаемых круга соединяются с нулевым прямым восхождением.
(обратно)34
В отношении углов используется та же шестидесятеричная система, что и в отношении часов, минут и секунд. Как час делится на 60 минут, так и угол 1 градус может быть разделен на 60 угловых минут (1 угловая минута составляет 1/60 градуса соответственно). Угол размером 1 угловая минута состоит из 60 угловых секунд (1 угловая секунда равна 1/3600 градуса).
(обратно)35
Существует простое упражнение, позволяющее понять, как работает параллакс. Вытяните вперед руку и закройте левый глаз. Посмотрите на свой большой палец, а затем на предмет, находящийся еще дальше, например на картину на стене. Обратите внимание, как они расположены относительно друг друга. Теперь зажмурьте правый глаз и еще раз посмотрите на палец и картину. Вам покажется, что положение пальца поменялось, а картина осталась на месте. В случае Браге роль глаз играли два астронома из Дании и Праги, вместо пальца была Луна, а вместо картины – комета.
(обратно)36
Я много писал о жизни Кеплера в других своих книгах, поэтому в этой мы отвлечемся от превратностей его судьбы и сконцентрируемся на науке.
(обратно)37
Чтобы показать вам вещи в правильной перспективе, я должен отметить, что в данном случае «резкий» – это некоторое преувеличение. Чтобы визуализировать, как орбита Марса отклоняется от идеально круглой формы, представьте, что вы нарисовали окружность на 50-футовой доске. Орбита Марса будет на один дюйм выходить за ее пределы.
(обратно)38
Рисунки Луны, созданные Хэрриотом, можно найти в Интернете по адресу в разделе Thomas Harriot’s Moon Drawings, The Galileo Project, 1995. Его биографию см. в книге John W. Shirley, Thomas Harriot: A Biography (Oxford: Clarendon, 1983).
(обратно)39
Галилею должно было быть известно, что модель Браге также была рабочей и могла предсказывать фазы Луны. Однако он проигнорировал этот факт, к сожалению, равно как и эллиптические орбиты Кеплера.
(обратно)40
Из манускрипта Кеплера о сверхновых De Stella Nova 1604 г. Цит. по: Alexandre Koyre, From the Closed World to the Infinite Universe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1957), 61.
(обратно)41
Несмотря на существование споров относительно того, действительно ли Галилей делал что-то подобное, у входа в башню висит мемориальная табличка, посвященная его эксперименту. Кроме того, ученик и первый биограф Галилея Вивиани заявлял, что подобный опыт имел место. Как бы там ни было, я провел точно такой же эксперимент на знаменитой башне для бразильской телепередачи об истории науки. Воспроизводимость – главное в нашем деле.
(обратно)42
Вот ссылка на это видео в YouTube: . Представьте, как бы поразился Галилей, если бы узнал, что его опыт был повторен на поверхности Луны менее чем через 400 лет после него.
(обратно)43
Jonathan Hughes, The Rise of Alchemy in Fourteenth-Century England: Plantagenet Kings and the Search for the Philosopher’s Stone (London: Continuum, 2012), 24.
(обратно)44
Newton, Mathematical Principles, 941.
(обратно)45
Blaise Pascal, Pensées, trans. A. J. Krailsheimer (New York: Penguin, 1995), nos. 205 and 206.
(обратно)46
Isaac Newton, Four Letters to Richard Bentley, in Newton: Texts, Backgrounds, Commentaries, ed. I. Bernard Cohen and Richard S. Westfall (New York: Norton, 1995), 330–339.
(обратно)47
Newton, Mathematical Principles, 943.
(обратно)48
Обратите внимание, что мое заявление не имеет ничего общего с традиционными философскими течениями, такими как релятивизм или постмодернизм, или с любыми заявлениями о том, что наука по сути своей субъективна, или с теми, которые утверждают, что она представляет собой единственный путь к истине. Даже несмотря на то что научные концепции часто возникают из субъективных рассуждений людей или групп людей в рамках определенного культурного контекста, ученые в своей практической деятельности стремятся к универсальным истинам, то есть к результатам, которые любой желающий, обладая необходимой технической базой, может проверить и воспроизвести. Важно понимать, что научное описание реальности представляет собой непрерывный процесс создания картины мира и исправления ошибок в ней, направленный на достижение максимальной эффективности. Мое отношение к философии науки можно назвать натуралистическим конструктивизмом. Более подробно мы поговорим об этом позже.
(обратно)49
Обратите внимание, что свет движется с разной скоростью в разных средах, например в вакууме, воздухе и воде. Чем плотнее среда, тем ниже будет скорость света. Например, скорость света внутри алмаза составляет лишь 41 % от его скорости в вакууме.
(обратно)50
Как говорил Эйнштейн, «если рассматривать [метрическую] структуру в большем масштабе, мы можем представлять материю равномерно распределенной по огромному пространству так, что плотность ее распределения окажется переменной функцией, изменяющейся очень медленно». Albert Einstein, Cosmological Considerations on the General Theory of Relativity [1917], in The Principle of Relativity: A Collection of Original Papers on the Special and the General Theories of Relativity, trans. W. Perrett, G. B. Jeffery (New York: Dover, 1952).
(обратно)51
Стодюймовый телескоп Хукера в период с 1917 по 1948 год считался самым большим в мире. Он был назван в честь Джона Д. Хукера, бизнесмена из Лос-Анджелеса, который финансировал постройку огромного рефлектора для телескопа.
(обратно)52
Без паровых локомотивов и высоких скоростей, которые они могли развивать, продемонстрировать идею Допплера было бы куда труднее. Контекст открытия во многом зависит от доступных инструментов.
(обратно)53
Robert Schulmann, A. J. Kox, Michel Janssen, and Jozsef Illy, eds., The Collected Papers of Albert Einstein, vol. 8, The Berlin Years: Correspondence, 1914−1918 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998), Document 321.
(обратно)54
В своей книге «Танцующая Вселенная» я подробно описываю историю космологии в ХХ веке. Здесь я обращаю больше внимания на идеи, которые понадобятся нам для понимания дальнейших концепций.
(обратно)55
Удивительно, но это произойдет примерно тогда же, когда Солнце превратится в красного гиганта, поглотит Меркурий и Венеру и приблизится к орбите Земли. Пускай галактические столкновения на самом деле являются менее драматичными, чем кажутся нам (звезды находятся на огромных расстояниях друг от друга, и шансы на то, что одна из них врежется в другую, весьма невелики), конец Солнца будет означать и конец Земли как планеты, на которой обитает жизнь.
(обратно)56
Учитывая, что свет движется со скоростью 983 571 056 футов в секунду, для того чтобы преодолеть расстояние 1 фут, ему потребуется 1/983 371 056 секунды, или 1,0167 × 10–9 секунды. В вакууме свет преодолевает 1 фут за одну миллиардную долю секунды. Это соотношение легко запомнить (воздух отличается от вакуума, но разница невелика).
(обратно)57
Ученые, занимающиеся когнитивной нейробиологией, особо интересуются тем, как мозг принимает сигналы от различных органов чувств и, например, почему визуальные и аудиальные сигналы воспринимаются одновременно, хотя и идут до органов чувств разное время (например, мы слышим звук, с которым мячик для пинг-понга ударяется о стол, и видим, как мячик подпрыгивает). В отчете Дж. В. Стоуна и его коллег говорится, что эта одновременность нарушается для разных людей в разное время, то есть вы и я по-разному воспринимаем визуально-аудиальную одновременность. Однако существует общее представление о том, что свет обходит звук на 52 миллисекунды (J. V. Stone et al., “When Is Now? Perception of Simultaneity”, Proceedings of the Royal Society of London [B] 268 [2001]: 31–38). Кроме того, судя по всему, мы можем реагировать на визуальные стимулы еще до того, как осознаем их присутствие. Иными словами, если визуальный стимул не слишком сложен, нашими действиями не всегда управляет сознание. См., например, J. Jolij, H. S. Scholte, S. Van Gaal, T. L. Hodgson, and V. A. Lamme, “Act Quickly, Decide Later: Long-Latency Visual Processing Underlies Perceptual Decisions but Not Reflexive Behavior”, Journal of Cognitive Neuroscience 23, no. 12 (2011): 3734–3745. Нужно также отметить, что наше текущее понимание сознания еще не настолько точно, чтобы мы могли его отслеживать.
(обратно)58
Говоря точнее, под «светом» в данном случае я понимаю не только видимый свет, но и все возможные типы электромагнитного излучения, из которых видимый свет составляет лишь небольшую долю. Электромагнитный спектр простирается от радиоволн с максимальной длиной (но минимальной частотой, а значит, самой низкой энергией) до микроволн, от инфракрасных волн и света видимого спектра до ультрафиолетового излучения, от рентгеновских до гамма-лучей, имеющих наименьшую длину и, соответственно, максимальную энергию.
(обратно)59
Во избежание путаницы, если не указано иное, я буду использовать понятие «свет» для обозначения всех типов электромагнитного излучения.
(обратно)60
Легкие атомные ядра, существующие сегодня, были синтезированы в период с одной сотой секунды до трех минут после Большого взрыва. Этот период называют нуклеосинтезом. К таким ядрам относится несколько изотопов водорода (дейтерий и тритий с одним протоном и одним и двумя нейтронами в ядре соответственно), гелия (гелий-3 и гелий-4 с двумя протонами и одним и двумя нейтронами соответственно) и литий-7 (с тремя протонами и четырьмя нейтронами). Более крупные атомные ядра возникли через сотни миллионов лет после взрывов умерших звезд.
(обратно)61
Учитывая, что электроны и протоны до этого не составляли атомов водорода, термин «рекомбинация» кажется мне неудачным.
(обратно)62
Цифры приводятся на основе анализа, проведенного командой спутника «Планк». См., например, .
(обратно)63
То, что галактики могут разбегаться со скоростью, превышающей скорость света, не противоречит теории относительности Эйнштейна, хотя может показаться, что это так. Скорость света ограничивает быстроту распространения информации или частиц, но не скорость увеличения пространства как такового.
(обратно)64
George Gordon (Lord) Byron, “Darkness”, in The Works of Lord Byron: A New, Revised, and Enlarged Edition with Illustrations, ed. Ernest Hartley Coleridge, vol. 4 (London: John Murray, 1901), 42.
(обратно)65
В списке литературы к этой книге упоминается множество книг, как поддерживающих теорию суперструн (например, за авторством Брайана Грина, Митио Каку и Леонарда Сасскинда), так и опровергающих ее (Ли Смолин, Питер Уойт). Эта тема остается увлекательной даже несмотря на то, что имеющиеся у нас на сегодняшний день данные противоречат некоторым ее положениям, например, о существовании суперсимметрии. В любом случае цель моей книги – рассмотрение природы физической реальности в рамках того, что известно науке, а не того, что является лишь теорией (какой бы убедительной она ни была).
(обратно)66
В этом случае часто любят приводить пример с падающим лифтом. Чем быстрее он летит вниз, тем легче будет ваше тело. В свободном падении вы почувствуете, что вообще не имеете веса.
(обратно)67
В ньютоновской теории на гравитацию влияет только плотность газа. Этот факт указывает на огромное различие между представлениями об эволюции космоса с точки зрения этих двух теорий.
(обратно)68
Чтобы не усложнять восприятие текста для читателя, я буду достаточно редко использовать слова «метастабильный» и «фазовый переход».
(обратно)69
Вы можете резонно возразить, что временные промежутки, равные триллионным долям секунды, слишком малы, чтобы иметь значение. Вероятно, для нас это действительно так, но для элементарных частиц такой временной масштаб вполне релевантен. Например, за одну триллионную секунды фотон может преодолеть расстояние в одну треть миллиметра. Для физики частиц это огромная дистанция, равная примерно пяти миллионам атомов водорода.
(обратно)70
Разумеется, «ложный вакуум» не самое лучшее понятие, так как оно применяется только в том случае, если материя фиксируется в своем высокоэнергетическом состоянии и ей требуется дополнительная энергия, чтобы перейти в низкоэнергетическое. Представьте себе баскетбольный мяч, застрявший на кольце. Чтобы оказаться в низкоэнергетическом состоянии (на земле), ему требуется сильный удар. Читатель должен постоянно помнить, что мяч может катиться по склону вверх или вниз, и во втором случае его не обязательно останавливает какое-то препятствие. Поэтому вместо термина «ложный вакуум» мы пользуемся выражением «смещенная энергия».
(обратно)71
Это второе определение, приведенное в Большом Оксфордском словаре. Первое связывают с первоначальным использованием этого термина Уильямом Джеймсом в статье 1895 года Is Life Worth Living: «Вся видимая природа пластична и бесчувственна. Это не единая вселенная, как нам бы хотелось ее назвать, но мультиверс» (International Journal of Ethics 6 [октябрь 1895]: 10). Джеймс называет мультиверсом то, что мы называем Вселенной, и мы не будем дальше углубляться в это.
(обратно)72
Читателю следует различать происходящее сегодня ускоренное расширение, питаемое темной энергией, и древнее ускоренное расширение, о котором говорит инфляционная космология. За ранним ускорением последовало более медленное расширение, которое длилось около пяти миллиардов лет и сменилось текущей стадией.
(обратно)73
В книге Мэри-Джейн Рубенштейн (Mary-Jane Rubenstein’s Worlds Without End: The Many Lives of the Multiverse (New York: Columbia University Press, 2013)) приводится подробное описание различных типов множественных вселенных, предлагавшихся учеными за все время существования космологической мысли.
(обратно)74
Буквой М изначально обозначалась мембрана, обобщение всех возможных поверхностей, которое также является фундаментальным и включает в себя одномерные струны. Но, согласно самому Виттену, сейчас М обозначает еще магию и мать.
(обратно)75
Lisa Randall, Warped Passages: Unraveling the Mysteries of the Universe’s Hidden Dimensions (New York: Harper Perennial, 2005).
(обратно)76
В библиографии к этой книге перечислено несколько изданий, посвященных антропному принципу, например: The Anthropic Cosmological Principle Джона Бэрроу и Фрэнка Типплера, Cosmic Jackpot Пола Дэвиса и Before the Beginning сэра Мартина Риза. В моей собственной книге «Разрыв на краю создания» (A Tear at the Edge of Creation) я посвящаю достаточно большую часть своих рассуждений недостаткам антропного принципа как инструмента прогнозирования в физических науках. Существует как минимум два варианта принципа: сильный и слабый. Сильная версия принципа ссылается на космическую телеологию, то есть говорит о том, что космос создан таким образом, чтобы в нем появились мы. Этот принцип мы в дальнейшем рассматривать не будем.
(обратно)77
Этот пример я позаимствовал из книги моего друга Алекса Виленкина (Alex Vilenkin) Many Worlds in One. Однако я применяю его совершенно противоположным образом, так как подчеркиваю не преимущества, а недочеты рассуждений с использованием антропного принципа.
(обратно)78
George Ellis, “Does the Multiverse Really Exist?” Scientific American (August 2011).
(обратно)79
Я предлагаю то, что философы науки могли бы назвать «натуралистическим конструктивизмом», – доктрину, в которой научные теории представляют собой не открытия вневременных истин, но постоянно изменяющиеся человеческие конструкты, основанные на соотношении того, что можно наблюдать с помощью приборов, и математических моделей, которые мы создаем, чтобы описать то, что видим. Наши лучшие теории – это те, которые соответствуют данным, даже если мы не можем быть уверены в том, что они уникальны. Единственное, в чем мы можем быть уверены, – они не окончательны.
(обратно)80
Всего через несколько дней после того, как я написал эти строки, статья Стива Надиса с таким заголовком появилась в журнале Discover.
(обратно)81
О двойном пике в схеме поляризации впервые написали Мэттью Клебан, Томас С. Леви и Крис Сигурдсон в своей работе Observing the Multiverse with Cosmic Wakes от 15 сентября 2011 г. (.) Не могу не упомянуть, что Том Леви был моим научным консультантом в Дартмуте и что я был соавтором его первой публикации.
(обратно)82
Еще точнее было бы представить, как пену в ванне посыпают черным перцем. Перчинки будут распределены по поверхности пузырьков, внутри которых останется пустота. Точно так же расположены и галактики во Вселенной, разделенные пространствами с минимальной концентрацией материи или вовсе без нее.
(обратно)83
Пока эта книга готовилась к печати, 17 марта 2014 года были опубликованы результаты эксперимента BICEP2, направленного на первичную оценку реальности этого сценария. Инфляция и растяжение квантовых флуктуаций получили убедительное эмпирическое подтверждение.
(обратно)84
Я рассматриваю лишь западные идеи объединения. Разумеется, в восточных религиозных и философских традициях, от буддизма до индуизма и даосизма, присутствует множество унифицирующих принципов, которые в той или иной степени могли повлиять на мышление досократиков.
(обратно)85
Западные философы не были единственными, предложившими идею атома. В Индии буддисты, джайны и индуисты создавали собственные версии атомизма. В частности, джайны еще до греков предложили собственную материалистическую версию атомизма, в которой каждый атом имел собственный вкус, запах, цвет и два состояния – тонкое (то есть позволяющее атому проникать в самые узкие места) и толстое (большее). У атомов даже имелись свойства, схожие с противоположными электрическими зарядами, которые притягивали и соединяли их друг с другом. Неизвестно, насколько эти идеи влияли на труды западных атомистов, хотя Диоген Лаэртский, историк, живший в III веке н. э., рассказывает, что Демокрит путешествовал в Индию и встречался там с гимнософистами (аскетами, которые отказывались от пищи и одежды и посвящали себя чистым размышлениям).
(обратно)86
Democritus, Fragment 32c, quoted in Graham, Texts of Early Greek Philosophy, 597.
(обратно)87
Democritus, Fragment 40, quoted in Graham, Texts of Early Greek Philosophy, 597.
(обратно)88
Epicurus, Letter to Herodotus l.85–87, %20to%20Herodotus_0.pdf.
(обратно)89
Epicurus, Letter to Pythocles l.32–34, .
(обратно)90
Обратите внимание: это совсем не то же самое, что и бессмертие. Человек все еще может погибнуть от несчастного случая или нападения. Сравните веру алхимиков с современной генной терапией, клонированием органов и другими способами продления человеческой жизни, в которых сочетаются биология и цифровые технологии. В обоих случаях последние научные достижения того или иного времени используются для решения универсальной задачи – борьбы со смертью. «Франкенштейн» Мэри Шелли также вписывается в эту традицию, так как в нем недавно открытая сила электричества и ее способность заставлять мышцы двигаться рассматриваются как еще одно средство победы над смертью.
(обратно)91
Roger Bacon, The Mirror of Alchimy: Composed by the Thrice-Famous and Learned Fryer, Roger Bachon, ed. Stanton J. Linden (NewYork: Garland, 1992), 4.
(обратно)92
Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (New York: Norton, 1997).
(обратно)93
Прочность бронзы по сравнению с медью определяется ее решетчатой структурой. Медь имеет упорядоченную решетку, в то время как атомы олова, добавляемые к ней, нарушают этот порядок, ограничивают подвижность атомов меди и делают решетчатую структуру менее ломкой.
(обратно)94
Существуют некоторые споры относительно того, действительно ли Джабир ибн Хайян был первооткрывателем aqua regia и многих других упомянутых выше кислот. Зигмунт С. Деревенда утверждает, что тот упоминался в его статье о винной кислоте (“On Wine, Chirality and Crystallography”, Acta Crystallographica A64 [2008]: 246–258). Другие историки науки утверждают, что первооткрывателем был европейский алхимик, известный под именем Псевдо-Гебер. Это прозвище после исследований Уильяма Т. Ньюмена ассоциируют с итальянским монахом XIII века Паулем из Таранто. Как бы там ни было, даже из самого псевдонима уже очевидно, как популярен был Джабир. Его труды (реальные или апокрифические) на пять веков стали основой для европейской алхимии. Читателям, которых интересуют рассуждения о природе алхимии, включая роль духовных и оккультных практик в ней, я рекомендую работу Лоуренса М. Принсипе и Уильяма Р. Ньюмена (Lawrence M. Principe and William R. Newman, “Some Problems with the Historiography of Alchemy”, in Secrets of Nature: Astrology and Alchemy in Early Modern Europe, ed. William R. Newman and Anthony Grafton (Cambridge, MA: MIT Press, 2001)).
(обратно)95
Цит. по: Eric John Holmyard, Makers of Chemistry (Oxford: Clarendon, 1931), 60.
(обратно)96
B. J. Dobbs, “Newton’s Commentary on the Emerald Tablet of Hermes Trismegistus”, in Hermeticism and the Renaissance, ed. Ingrid Merkel and Allen G. Debus (Washington, DC: Folger Shakespeare Library, 1988).
(обратно)97
Платина менее реактивна, чем золото, однако, будучи сравнительно редкой, она играет куда меньшую роль. Около 80 % ее добычи сегодня приходится на Южную Африку.
(обратно)98
Bacon, The Mirror of Alchimy, 4.
(обратно)99
William R. Newman, “The Alchemical Sources of Robert Boyle’s Corpuscular Theory”, Annals of Science 53 (1996): 571.
(обратно)100
Адаптировано по статье Jane Bosveld, “Isaac Newton, World’s Most Famous Alchemist”, Discover (July – August 2010), -aug/05-isaac-newton-worlds-most-famous-alchemist.
(обратно)101
Newton, The Principia, 938.
(обратно)102
Там же. – P. 382–383.
(обратно)103
Isaac Newton, Opticks (London: William Innys, 1730), Query 8.
(обратно)104
Там же. – Часть 31 (Query 31). Эти цитаты взяты из конца длинного рассуждения, в котором Ньютон демонстрирует потрясающее знание химии, накопленное за годы алхимических экспериментов.
(обратно)105
Там же. – Часть 30 (Query 30).
(обратно)106
Все эти три соотношения (вернее, любая их пара) отражены в обобщенном газовом законе PV = kT, где Р означает давление, V – объем, Т – температуру, а k – произвольная константа.
(обратно)107
В формулах T ≈ v2 и P ≈ n v2 переменная v2 означает квадрат средней скорости, а n = N/V – числовую плотность молекул, то есть отношение их количества N к объему V. Еще до Уотерстоуна, в 1820 году, английский физик Джон Херэпэт предположил, что импульс (скорость, умноженная на массу) частицы в газе можно использовать в качестве показателя температуры газа. Несмотря на то что правильным соотношением является импульс к квадрату температур, идеи Херэпэта были опубликованы в Annals of Philosophy после того, как их отвергло Королевское научное общество. Атомистическая гипотеза витала в воздухе, хотя ее пока поддерживали лишь немногие.
(обратно)108
Benjamin (Count Rumford) Thompson, “An Experimental Enquiry Concerning the Source of the Heat Which Is Excited by Friction”, Philosophical Transactions of the Royal Society (1798): 102.
(обратно)109
Теоретически голубизна неба объясняется явлением, которое называется рэлеевским рассеянием по имени британского физика лорда Рэлея, доказавшего, что сила рассеянного света обратно пропорциональна его длине волны в четвертой степени (I ~ 1/λ4). Поскольку синий цвет имеет меньшую длину волны, чем другие цвета видимого спектра, он рассеивается сильнее всего, а значит, и виден вокруг нас чаще.
(обратно)110
Это немного усложняет задачу, так как волны в воде и волны звука продольны, то есть колеблются в том же направлении, в котором распространяются. Поперечный характер световых волн некоторое время сбивал ученых с толку.
(обратно)111
Thomas Young, “An Account of Some Cases of the Production of Colors Not Hitherto Described” (1802), reprinted in The Wave Theory of Light: Memoirs by Huygens, Young and Fresnel, ed. Henry Crew (New York: American Book, 1900), 63–64.
(обратно)112
Многие другие эксперименты также привели к отрицательным результатам. Я упоминаю опыт Михельсона – Морли, так как он лучше всего известен. Результаты могут быть первого порядка и представлять собой отношение v/c, где v – скорость движения относительно эфира, или второго порядка, то есть v2/c2. Результаты первого порядка могли бы объясняться движением эфира в целом, но результаты второго порядка, как те, которые получили Михельсон и Морли, ставили всю идею существования эфира под сомнение.
(обратно)113
Albert Einstein, On the Electrodynamics of Moving Bodies, reprinted in The Principle of Relativity, 37.
(обратно)114
Там же. – P. 38.
(обратно)115
Albert Einstein, “On a Heuristic Point of View About the Creation and Conversion of Light”, in The Old Quantum Theory: Selected Readings in Physics, by D. ter Haar (New York: Pergamon, 1967), 104.
(обратно)116
Там же. – P. 92.
(обратно)117
Albert Einstein, “Does the Inertia of a Body Depend upon Its Energy-Content?” reprinted in The Principle of Relativity, 71.
(обратно)118
Там же.
(обратно)119
С технической точки зрения, поднимаясь вверх по лестнице, вы совершаете работу против гравитационного поля Земли. Количество выполняемой работы равно количеству потенциальной накопленной гравитационной энергии. Спускаясь, вы высвобождаете такую потенциальную энергию. Электрон должен совершать работу, чтобы освободиться от притяжения протона.
(обратно)120
В частности, де Бройль ассоциирует длину волны λ с массой тела m и скоростью v, а значит, и с импульсом p = mv в соответствии с уравнением λ = h/p, где h – постоянная Планка. Эта формула может быть доработана для тел, движущихся с релятивистскими скоростями, то есть скоростями, близкими к скорости света:
Если v намного меньше с, формула сводится к предыдущему выражению. Обратите внимание, что по мере увеличения v длина волны частицы уменьшается в соответствии с релятивистским сокращением.
(обратно)121
Max Born, The Born-Einstein Letters: Correspondence Between Albert Einstein and Max and Hedwig Born from 1916–1955, with Commentaries by Max Born, trans. Irene Born (London: Macmillan, 1971), 91.
(обратно)122
Anton Zeilinger, Dance of the Photons: From Einstein to Quantum Teleportation (New York: Farrar, Strauss and Giroux, 2010), 78.
(обратно)123
Сверхжидкости – это прекрасный пример макроскопического квантового поведения. Совместные квантовые эффекты при низких температурах позволяют жидкости оставаться текучей даже при очень низкой вязкости. Совместный эффект означает, что многие атомы действуют в тандеме, усиливая эффект до макроскопического масштаба. Сверхжидкий гелий поднимается по стенкам сосуда, как если бы какая-то волшебная сила позволяла ему двигаться против гравитации.
(обратно)124
Schrödinger to Lorentz, in Letters on Wave Mechanics: Schrödinger, Planck, Einstein, Lorentz, trans. Martin J. Klein (New York: Philosophical Library, 1967), 55.
(обратно)125
Для читателей, знакомых с комплексными числами, очевидно, что функция ψ(t,x) является комплексной. Для получения реального значения вероятности мы должны рассчитать ее абсолютный квадрат, то есть умножить функцию на ее комплексно сопряженную величину ψ˙(t,x). Поскольку электрон может находиться в любой точке пространства, мы также должны убедиться, что волновая функция удобна для анализа, то есть что ее абсолютный квадрат стремится к нулю при пространственной бесконечности, ψ˙(t,x)ψ(t,x)→0 при x→±∞. Для того чтобы иметь вероятностное значение, волновая функция должна быть нормализована: ∫ ψ˙(t,x)ψ(t,x)dx=1 (то есть частицы должны находиться в какой-то точке пространства!). Вероятность обнаружения электрона в точке х во время t рассчитывается как P(x,t)ψ˙(t,x)ψ(t,x). Решением уравнения Шрёдингера является волновая функция ψ(t,x). Отсюда мы можем рассчитать P(x,t).
(обратно)126
Предположим, что электрон находится в одной из четырех позиций – x1, x2, x3 и x4. Перед тем как его местоположение будет измерено, существует определенная вероятность, что он может находиться в любой из них, и волновая функция это отражает. Обнаружение электрона будет означать, что он находится только в одной из возможных точек. Предположим, это х2. После обнаружения его волновая функция будет составлять ψ(x,t) (разумеется, из-за ограниченной точности измерительного прибора электрон никогда не будет располагаться точно в точке х2, но будет находиться так близко от нее, насколько это можно определить, учитывая точность прибора).
(обратно)127
Эта аналогия имеет общий характер, ведь змея – это реальный объект, а волновая функция – нет. Кроме того, коллапс волновой функции происходит мгновенно, а вот змее требуется время, чтобы свернуться.
(обратно)128
Цит. по Max Jammer, The Philosophy of Quantum Mechanics: The Interpretations of Quantum Mechanics in Historical Perspective (New York: Wiley, 1974), 151.
(обратно)129
Если только, подобно физику Джону Уилеру, мы не верим, что можем влиять на уже свершившуюся историю (к этому мы скоро вернемся еще раз). Уилер предполагает, что наше существование влияет на космическую историю и что Вселенная существует только для того, чтобы мы развивались в ней.
(обратно)130
Albert Einstein, Boris Podolsky, and Nathan Rosen, “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?” Physical Review 47 (1935): 777–780.
(обратно)131
Математически это означает, что их произведение будет одинаковым вне зависимости от порядка умножения, например: 2 × 4 = 4 × 2 = 8. Такие произведения называют коммутирующими: их можно измерять в любой последовательности и результат останется неизменным. Несовместимые произведения в квантовой механике не коммутируют, то есть их порядок влияет на конечный результат. Это не так странно, как может показаться на первый взгляд. Некоммутирующие числа существуют и в нашей реальности. Представьте, например, что вы поворачиваете книгу в двух различных непараллельных направлениях. Если изменить направление вращения, конечное положение книги все равно будет отличаться от начального. Расположите книгу, которую вы сейчас читаете, перед собой и представьте три проходящие через нее оси. Выберите две из них и поверните книгу по часовой стрелке сначала по одной, а потом по другой. Отметьте, в каком положении она оказалась. Теперь повторите то же самое, изменив направление вращения. Вуаля!
(обратно)132
Например, если распадающаяся частица в состоянии покоя испускает две частицы с равной массой, мы знаем, что их скорость будет одинаковой, а направления движения – противоположными. Это происходит из-за сохранения импульса: если импульс изначально был нулевым (изначальная частица в состоянии покоя), то он останется нулевым и в дальнейшем (две частицы, движущиеся в противоположных направлениях). Такой тип распада довольно часто встречается в физике частиц. Или же можно использовать свет: фотоны в вакууме всегда движутся со скоростью света.
(обратно)133
Niels Bohr, “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?” Physical Review 48 (1935): 696–702.
(обратно)134
David Bohm, Quantum Theory (1951; rept., New York: Dover, 1989), 620.
(обратно)135
Там же.
(обратно)136
Если мы используем греческую букву ψ для обозначения общей волновой функции кота, то согласно квантовой теории она должна записываться перед описаниями двух возможных состояний – ψживой и ψмертвый, обозначающих соответственно живого и мертвого кота. Формула будет выглядеть как ψ = aψживой+ bψмертвый, где a и b представляют собой числовые коэффициенты, которые, кроме того, являются комплексными числами. Они рассчитываются с использованием числа i, которое равно √–1. Соответственно i2 = –1. Типичное комплексное число (z) записывается с использованием двух действительных чисел (х и у) как z = x + iy. «Абсолютное значение» комплексного числа всегда положительное и рассчитывается как |z|2 = z z* = (x + iy) (x − iy) = x2 + y2. Вероятность того, что кот жив, обозначается как |a|2, абсолютное значение а в квадрате. Соответственно вероятность смерти кота обозначается как |b|2. Изначально, когда кота сажают в коробку, |a|2 = 1: вероятность того, что он жив, равна 100 %. После того как коробка закрывается, кот оказывается в суперпозиции обоих состояний. Если после открытия коробки кот останется жив, то |a|2 = 1, как и раньше. Если кот мертв, то |a|2 = 0, а |b|2 = 1.
(обратно)137
Запутанные волновые функции обычно представляются как суммы произведений запутанных объектов. Предположим, у нас есть датчик, который измеряет спин электрона, и этот спин может принимать только значения + (вверх) и – (вниз). До измерения волновая функция электрона будет равна ψel = ψel(+) + ψel(—) (без учета цифровых констант). Волновая функция датчика – ψdetector. Датчик также имеет как минимум два состояния, измеряя спин электрона вверх или вниз. Совместная волновая функция датчика и электрона равна ψ = ψdetector [ψel(+) + ψel(—)]. Они запутаны. В некотором смысле спин электрона направлен одновременно и вверх и вниз. Или же можно сказать, что у него нет определенного спина. После измерения, когда электрон коллапсирует в определенное состояние, совместная волновая функция равняется либо ψ = ψdetector ψel(—), либо ψ = ψdetector ψel(+). Суть в том, что пока два объекта являются запутанными, нет смысла описывать их с помощью их индивидуальных волновых функций. В данном случае важно лишь само запутанное состояние. Акт измерения уничтожает его, так как точно определяет направление спина.
(обратно)138
Захватывающая и информативная история того, как квантовая теория была по-новому интерпретирована в конце 1960-х и в 1970-е годы, приведена в книге Дэвида Кайзера (David Kaiser’s How the Hippies Saved Physics: Science, Counterculture, and the Quantum Revival (New York: Norton, 2011)).
(обратно)139
Dance of the Photons Цайлингера – это популярная книга о его экспериментах и странности квантовой механики, которая очень приятно читается.
(обратно)140
Совместная волновая функция двух запутанных протонов будет рассчитываться как ψ = ψAv ψBv – ψAh ψBh, где А обозначает фотон Элис, а В – фотон Боба, а v и h – фотоны, находящиеся в вертикальном или горизонтальном состоянии соответственно. Не обращайте внимания на знак «минуса».
(обратно)141
Bohm, Quantum Theory, 115.
(обратно)142
David Bohm, “A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden’ Variables: I”, Physical Review 85, no. 2 (1952): 166.
(обратно)143
John S. Bell, Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 160.
(обратно)144
Seth Lloyd, Programming the Universe: A Quantum Computer Scientist Takes on the Cosmos (New York: Knopf, 2006).
(обратно)145
Далее приведен не текст из работы Белла, а его более упрощенный вариант, основанный на так называемом неравенстве КХШХ (CHSH). Аббревиатурой обозначены фамилии четверых авторов работы – Дж. Ф. Клозера, М. Э. Хорни, А. Шимони и Р. А. Холта (J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, R. A. Holt), Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories, Physical Review Letters 23, no. 15 (1969): 880–884.
(обратно)146
К примеру, ученые могут провести опыт тысячу раз и занести результаты в таблицы вроде следующей.
(обратно)147
Для каждой попытки может быть рассчитано значение С. Например, попытка 1 в таблице выше будет иметь значение: C1 = C(RUN 1) = (+—) – (—+) + (—) + (—+) = (–1) – (–1) + (+1) + (–1) = 0.
(обратно)148
Marissa Giustina et al., “Bell Violation with Entangled Photons, Free of the Fair-Sampling Assumption”, Nature 497 (May 9, 2013): 227–230.
(обратно)149
В современной версии, приведенной в фильме «Области тьмы» 2011 года, аналогичного эффекта добиваются благодаря таблетке риталина.
(обратно)150
Ранди выступает против нечестности любого рода в физике. В одном из своих видео он разоблачает Ури Геллера и евангелистского целителя Питера Попоффа: . В 2009 году Геллер объявил, что не имеет никакой особой магической силы, и назвал себя мистификатором и сценическим артистом. Если говорить о сломанных часах, то исследования показывают, что более половины часов, которые приносят для ремонта, не имеют механических повреждений и останавливаются потому, что механизму мешает работать грязь или масло. Если зажать такие часы в теплой руке и встряхнуть, они вполне могут пойти вновь. См., например, David Marks and Richard Kammann, “The Nonpsychic Powers of Uri Geller”, Zetetic 1 (1977): 9–17; James Randi, The Truth About Uri Geller, rev. ed. (New York: Prometheus Books, 1982).
(обратно)151
В книге How the Hippies Saved Physics Дэвида Кайзера приводится увлекательное описание жизни этого викторианского джентльмена и рассказывается, как много общего имеется между современными «магами», ссылающимися на квантовую механику, и их викторианскими коллегами.
(обратно)152
Maximilian Schlosshauer, Johannes Kofler, and Anton Zeilinger, “A Snapshot of Foundational Attitudes Toward Quantum Mechanics”, Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics 44, no. 3 (August 2013): 222−230.
(обратно)153
Eugene Wigner, “Remarks on the Mind-Body Question”, reprinted in Quantum Theory and Measurement, ed. John Archibald Wheeler and Wojciech Hubert Zurek (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983), 169.
(обратно)154
Там же. – P. 177.
(обратно)155
Там же. – P. 173.
(обратно)156
C. M. Patton and J. A. Wheeler, “Is Physics Legislated by Cosmogony?” in Quantum Gravity: An Oxford Symposium, ed. C. J. Isham, R. Penrose, and D. W. Sciama (Oxford: Clarendon, 1985), 538–605.
(обратно)157
Там же. – P. 564.
(обратно)158
V. Jacques et al., “Experimental Realization of Wheeler’s Delayed-Choice Gedanken Experiment”, Science 315 (2007): 966–968. Я также упоминаю два недавних экспериментальных доказательства отложенного выбора Уилера с использованием связанных фотонов: F. Kaiser et al., “Entanglement-Enabled Delayed-Choice Experiment”, Science 338 (2012): 637−640, and A. Peruzzo et al., “A Quantum Delayed-Choice Experiment”, Science 338 (2012): 634−637.
(обратно)159
J. A. Wheeler, “Law Without Law”, in Wheeler and Zurek, eds., Quantum Theory and Measurement, 182–213.
(обратно)160
Там же. – P. 197.
(обратно)161
Там же. – P. 199.
(обратно)162
David Deutsch, The Beginning of Infinity: Explanations that Transform the World (New York: Penguin, 2011), 308.
(обратно)163
James Hartle, “The Quantum Mechanics of Closed Systems”, in Directions in General Relativity, vol. 2 (Festschrift for C. W. Misner), ed. B. L. Hu, M. P. Ryan, and C. V. Vishveshwara (Cambridge: Cambridge University Press, 1993). Более короткая версия, из которой взята эта цитата, доступна по адресу -qc/9210006.pdf.
(обратно)164
Bell, Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics, 171.
(обратно)165
Я полагаю, что это невозможно. Жизнь требует стабильности и упорядоченности, которых не существует в квантовом мире. Жизнь может возникать при переходе от квантовой механики к классической, и, разумеется, многие известные и неизвестные квантовые эффекты влияют на ее развитие. Но для того чтобы система оставалась живой, она должна подчиняться законам классической физики.
(обратно)166
Данные об экспериментах см. в J. R. Reimers, L. K. McKemmish, R. H. McKenzie, A. E. Mark, and N. S. Hush, “Weak, Strong, and Coherent Regimes of Frohlich Condensation and Their Applications to Terahertz Medicine and Quantum Consciousness”, Proceedings of the National Academy of Sciences 106, no. 11 (2009): 4219–4224. Теорию см. в M. Tegmark, “Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes”, Physical Review E 61, no. 4 (2000): 4194–4206.
(обратно)167
Я обратил внимание, что многие физики, начиная с Поля Дирака, предполагали, что законы Природы хоть и не являются полностью независимыми от времени, но тем не менее могут изменяться с его течением. Например, некоторые фундаментальные константы могут медленно меняться от одной эпохи к другой. Этот эффект будет почти незаметен, а значит, сложен для измерения. В начале своей научной карьеры я пытался выяснить, могут ли теории с дополнительными пространственными измерениями, например основанные на теории суперструн, приводить к возникновению не зависящих от времени фундаментальных констант. Ответ – да, могут, несмотря на существование очень строгих ограничений на наблюдение за такими переменами; настолько строгих, что на самом деле они остаются константами на протяжении миллиардов лет. Недавно Жуан Магейжу и его коллеги предположили, что скорость света в прошлом могла быть иной, а Ли Смолин – что законы природы менялись в сингулярности Большого взрыва. Обе эти идеи требуют эмпирического подтверждения. Для нас изменяющиеся со временем константы и законы природы становятся прекрасной иллюстрацией того, как ограниченный характер измерений позволяет расцветать новым научным идеям. Учитывая, что мы можем измерить значения констант только с определенным уровнем точности, у нас всегда есть пространство для изменений.
(обратно)168
T. G. Hardy, A Mathematician’s Apology (1940: rept., Edmonton: University of Alberta Mathematical Sciences Society, 2005), 23. /A%20Mathematician%27s%20Apology.pdf.
(обратно)169
Там же. – P. 41.
(обратно)170
George Lakoff and Rafael E. Núñez, Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being (New York: Basic Books, 2000), xvi. В 1998 году, когда Лакофф и Нуньес еще работали над своей книгой, Джордж Джонсон написал для New York Times очень информативное эссе, в котором приводил свидетельства того, что математика – изобретение человеческого разума. При этом он цитировал множество различных источников, от Лакоффа и математика Грегори Хайтина до нейробиологов. См. George Johnson, “Useful Invention of Absolute Truth: What Is Math?” New York Times, February 10, 1998. -invention-or-absolute-truth-what-is-math.html.
(обратно)171
Цитата из интервью Грегори Хайтина с Робертом Лоуренсом Куном Is Mathematics Invented or Discovered – видео, Closertotruth.com. -profile/Is-Mathematics-Invented-or-Discovered-Gregory-Chaitin-/1433 (просмотрено 9 августа 2013 г.).
(обратно)172
Майкл Атья, Created or Discovered? – видео, Web of Stories. ;jsessionid=36092DC06C8A5D5C2C2E755A2CD70972 (просмотрено 25 июня 2013 г.).
(обратно)173
Судя по всему, Атья не имеет четкой позиции, так как утверждает, что это сложный вопрос, не имеющий очевидного решения. Кроме того, он приводит притчу об одинокой медузе (как я ее называю), которая показывает, что он все же склоняется на сторону теории изобретения: «Мы все чувствуем, что целые числа существуют лишь в каком-то абстрактном смысле, и платоновский подход кажется очень привлекательным. Но можем ли мы доказать его правоту? Нам кажется, что счет – это древнее, доисторическое понятие. Но давайте представим, что сознание зародилось не у человека, а у одной-единственной медузы, плавающей глубоко в Тихом океане. Такая медуза не знает о существовании других объектов, кроме окружающей ее воды. Ее органы чувств получают данные о движении, температуре и давлении. В такой ситуации дискретность не возникнет, и считать будет нечего». Однако этот аргумент может быть не таким уж сильным. Если медуза осознает собственное существование и может сказать про себя «я есть», она, обладая определенным уровнем интеллекта, сможет идентифицировать число 1. Затем она может начать играть с ним, вычитая или прибавляя его к самому себе, или может создать множество из двух элементов – ничто и медуза. Из этого множества можно создать еще одно, прибавив вторую медузу, и т. д. Судя по всему, любое существо, обладающее сознанием, может научиться считать, как только идентифицирует себя как единицу (а если у него есть сердцебиение или иные периодические функции, задача еще больше упрощается).
(обратно)174
Albert Einstein, “Remarks on Bertrand Russell’s Theory of Knowledge”, in The Philosophy of Bertrand Russell, ed. Paul Arthur Schilpp, Library of Living Philosophers, vol. 5 (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1944), 287.
(обратно)175
Mario Livio, Is God a Mathematician? (New York: Simon & Schuster, 2009), 238.
(обратно)176
Eugene Wigner, “The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences”, Communications in Pure and Applied Mathematics 13, no. 1 (February 1960).
(обратно)177
Hardy, A Mathematician’s Apology, 37.
(обратно)178
Benoît Mandelbrot, The Fractal Geometry of Nature (New York: Freeman, 1982), 1.
(обратно)179
Заинтересовавшемуся читателю я рекомендую прочесть мою книгу Tear at the Edge of Creation, в которой я более подробно рассказываю об антиматерии.
(обратно)180
Мне очень помогла классическая книга Эрнеста Нагеля и Джеймса Р. Ньюмена (Ernest Nagel, James R. Newman) Gödel’s Proof с предисловием Дугласа Р. Хофштадтера (Douglas R. Hofstadter), 2-е издание (New York: New York University Press, 2002).
(обратно)181
Хофштадтер, предисловие к Gödel’s Proof Нагеля и Ньюмена, xiv.
(обратно)182
Читателям, заинтересованным в понимании этих ограничений, я рекомендую книгу Грегори Хайтина, Ньютона да Коста и Франциско Антонио Дориа (Gregory Chaitin, Newton da Costa, and Francisco Antonio Doria) Gödel’s Way: Exploits into an Undecidable World (London: CRC, 2012). Я хотел бы отметить, что Франсиско Антонио Дориа был руководителем и соавтором моей магистерской работы и великолепным наставником на ранних этапах моей карьеры. Кроме того, я рекомендую книгу Хайтина Meta Math!:The Quest for Omega (New York: Vintage Books, 2005).
(обратно)183
Как мы уже видели, это неверная интерпретация теории относительности Эйнштейна. Она делает совершенно противоположное, предоставляя разным наблюдателям четкий метод для сравнения их наблюдений и разрешения любых очевидных противоречий, вызванных их совместным относительным движением.
(обратно)184
Nagel and Newman, Gödel’s Proof, 112.
(обратно)185
John McCarthy, Marvin Minsky, Nathan Rochester, and Claude Shannon, “A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”, August 31, 1955, 1. /~meeden/cs63/f11/AIproposal.pdf.
(обратно)186
Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (New York: Viking, 2005).
(обратно)187
Второе место занимает Sequoia от IBM с 16,32 петафлопа и 1,5 миллиона ядерных процессоров.
(обратно)188
Noam Chomsky, Language and Problems of Knowledge (Cambridge, MA: MIT Press, 1988), 152. Аналогичные идеи ограниченности наших когнитивных способностей также приводятся в книгах Хомски Reflections on Language (New York: Pantheon Books, 1975) и Jerry Fodor The Modularity of the Mind (Cambridge, MA: MIT Press, 1983).
(обратно)189
Thomas Nagel, “What Is It Like to Be a Bat?” in Mortal Questions (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).
(обратно)190
Из статьи “Tyndall Blogged: Freud’s Friends and Enemies One Hundred Years Later, Part 1”, Transcribing Tyndall: Letters of a Victorian Scientist (блог), 6 февраля 2010 г. /.
(обратно)191
Colin McGinn, “What Can Your Neurons Tell You?” New York Review of Books 60, no. 12 (July 2013): 50.
(обратно)192
David Chalmers, “Facing Up to the Problem of Consciousness”, Journal of Consciousness Studies 2 no. 3 (1995): 200–219.
(обратно)193
В частности, я хотел бы обратить внимание на последнюю книгу философа Патрисии Черчленд (Patricia Churchland) Touching a Nerve: The Self as Brain (New York: Norton, 2013), в которой она пишет, что наша текущая нехватка знаний о мозге ни в коем случае не ограничивает того, что может стать известно о нем в будущем. Несмотря на то что я разделяю ее энтузиазм относительно развития человеческого знания, я не могу согласиться с ее мнением о всемогуществе разума. Надеюсь, что основания для такой точки зрения я достаточно ясно изложил в этой книге. В принятии того, что мы не можем знать всего на свете, есть только смирение и никакой гордыни.
(обратно)194
Max Tegmak, “The Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes”, Physical Review E 61 (1999): 4194–4206. -ph/9907009.
(обратно)195
К этим рассуждениям о постоянно меняющейся космической реальности можно добавить и нашу меняющуюся материальную реальность, то есть то, как мы представляем себе реальность материи. Оба этих фактора представляют собой ключевые аспекты нашей физической реальности, о которых мы говорили в первой и второй частях этой книги.
(обратно)196
К примеру, острота человеческого зрения составляет около 0,3 угловой минуты, или 0,3/60 градуса, или 1/200 градуса. Снимок размером 20 × 13,3 дюйма, находящийся на расстоянии 20 дюймов от зрителя, должен содержать около 74 мегапикселов, чтобы человек смог рассмотреть его. Более высокое разрешение будет бессмысленным. См. Roger N. Clark, “Notes on the Resolution and Other Details of the Human Eye”, ClarkVision Photography, November 25, 2009. -eye/index.html.
(обратно)197
Nick Bostrom, “Are You Living in a Computer Simulation?” Philosophical Quarterly 211 (2003): 245–255.
(обратно)198
Для любителей кино я также должен добавить фильм Райнера Фассбиндера 1973 года «Мир на проводе», в котором компьютер Симулякрон также может имитировать реальность.
(обратно)199
Seth Lloyd, “The Computational Universe”, in Information and the Nature of Reality: From Physics to Metaphysics, ed. Paul Davies and Niels Henrik Gregersen (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 100.
(обратно)200
Там же, 102.
(обратно)201
Seth Lloyd, “Ultimate Physical Limits to Computation”, Nature 406 (2000): 1047.
(обратно)202
Seth Lloyd, “Computational Capacity of the Universe”, Physical Review Letters 88, no. 23 (2002): 237901–237905. Кстати говоря, количество битов рассчитывается путем применения знаменитого голографического принципа ко Вселенной в целом: максимальный объем информации, который может быть зарегистрирован любой физической системой, включая гравитационные (например, звезды или черные дыры), равен площади системы, разделенной на квадрат минимальной длины, которую мы можем учитывать, то есть так называемой планковской длины (около 10–33 см). Эта длина указывает на переход между классической и квантовой гравитацией. Слово «голографический» в названии принципа возникает из идеи, что вся информация, необходимая для характеристики объекта, может быть закодирована в его поверхности. Это интересная тема, но она уводит нас в сторону. Интересующимся читателям я рекомендую книгу Leonard Susskind and James Lindesay, An Introduction to Black Holes, Information and the String Theory Revolution: The Holographic Universe (Hackensack, NJ: World Scientific, 2005).
(обратно)203
S. R. Beane, Z. Davoudi, and M. J. Savage, “Constraints on the Universe as a Numerical Simulation”, November 9, 2012. :1210.1847. В данном случае высокоэнергетические космические лучи, которые, как предполагается, испускаются всеми участками неба равномерно, были сконцентрированы в трех направлениях – с севера на юг, с запада на восток и сверху вниз (говоря техническим языком, изотропия была нарушена). Даже если имитаторы будут использовать те технологии, которыми располагаем мы, но более оптимизированные, все равно было бы интересно порассуждать, какие ошибки могли бы встретиться в масштабной модели Вселенной.
(обратно)204
Paul Cockshott, Lewis M. Mackenzie, and Greg Michaelson, Computation and Its Limits (Oxford: Oxford University Press, 2012).
(обратно)205
Это третий из трех законов Кларка, которые можно найти в книге Arthur C. Clarke, “Hazards of Prophecy: The Failure of Imagination”, in Profiles of the Future: An Enquiry into the Limits of the Possible, rev. ed. (New York: Harper & Row, 1973), 14, 21, 36.
(обратно)206
Отсылка к стихотворению Дилана Томаса Do Not Go Gentle into That Good Night.
(обратно)





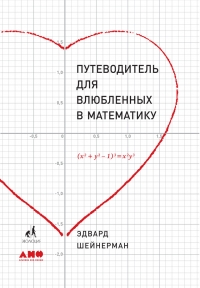



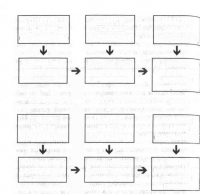


Комментарии к книге «Остров знаний», Марсело Глейзер
Всего 0 комментариев