Карен Армстронг Битва за Бога: История фундаментализма
Переводчик Мария Десятова
Редактор Анна Яковлева
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректоры Е. Аксенова, С. Мозалёва
Компьютерная верстка А. Фоминов
Дизайнер обложки О. Сидоренко
© Karen Armstrong, 2000
© Предисловие. Karen Armstrong, 2001
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2016
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
Посвящается Дженни Уэйман
Предисловие к переизданию
11 сентября 2001 г. изменило мировую историю навсегда. В этот день мусульманские террористы разрушили Всемирный торговый центр и крыло здания Пентагона, погубив более 5000 человек. Теракт, без сомнения, задумывался как зрелищный телевизионный образ: горящие, а затем оседающие в клубах пыли башни-близнецы, похоже, станут символом XXI в. Впервые за всю историю страны жители Соединенных Штатов подверглись нападению внешнего врага на собственной территории – и удар был нанесен не вражеским государством, не ядерной ракетой, а религиозными экстремистами, имевшими при себе из оружия лишь перочинные и канцелярские ножи. Мишенью террористов стали США, однако урок предназначался всем цивилизованным странам. Мы почувствовали свою беззащитность, абсолютную уязвимость. Я пишу эти строки через месяц после той страшной трагедии, и пока еще не ясно, какой станет наша жизнь в этом изменившемся мире. Тем не менее одно понятно уже сейчас: все теперь пойдет по-другому. Дела и заботы, занимавшие нас до 11 сентября, отошли на второй план. Лицом к лицу мы столкнулись с началом новой, пугающей и тревожной эпохи.
При этом динамика развития самого фундаментализма не претерпела никаких изменений. Предсказать именно такой теракт не смог бы никто, это было бы немыслимо, однако он стал самым последним и самым жестоким из нанесенных фундаменталистами ударов в их бесконечной битве за Бога. Как я попытаюсь показать в этой книге, уже без малого сотню лет христиане, иудеи и мусульмане создавали воинствующие религиозные течения, пытаясь вытащить Бога и религию из закулисья, куда их загнала современная секулярная культура, на авансцену. Так называемые фундаменталисты убеждены, что сражаются за веру в мире, враждебном религии по самим своим основам. Они ведут войну против современного светского общества и достигли в ней заметных результатов. В середине XX в. аналитики и исследователи отмечали, что наступает эпоха секуляризации и религия никогда больше не будет играть решающую роль в международной политике. Однако фундаменталисты опровергли это утверждение, и постепенно как в США, так и в мусульманских странах религия стала фактором, с которым вынуждено считаться любое правительство.
Апокалипсис 11 сентября можно рассматривать как логическое продолжение истории фундаментализма, описанной в этой книге. Фундаментализм, вопреки распространенному мнению, вовсе не сознательный архаизм, не откат в прошлое. Эти виды фундаментализма – абсолютно современные течения, которые не могли появиться ни в какую другую эпоху. Теракт 11 сентября стал самым разрушительным ударом фундаменталистов по современному секулярному обществу. Террористы не смогли бы выбрать более подходящей мишени. Никогда еще фундаменталисты не использовали современные средства коммуникации так мастерски, как 11 сентября: потрясенные атакой первого самолета, миллионы людей застыли перед экранами телевизоров как раз тогда, когда на их глазах южную башню Всемирного торгового центра протаранил второй самолет. Фундаменталисты воспользовались современными авиатехнологиями, чтобы обрушить величественные здания, напоминающие Вавилонскую башню наших дней, построенную наперекор силам природы. В глазах фундаменталиста подобное сооружение – вызов, брошенный человеком всемогуществу Господа. Всемирный торговый центр и Пентагон – символы экономической и военной мощи Соединенных Штатов – развалились, словно карточные домики, от обрушившейся на них религиозной ярости. Удар был смертельный. Вместе с тысячами жизней он унес и гордую самоуверенность американцев в собственной несокрушимости. Спокойная, безопасная жизнь закончилась 10 сентября. Десятилетиями самолет дарил людям ощущение сверхчеловеческой свободы, позволяя воспарить над облаками и путешествовать по миру со скоростью древних богов. Однако теперь многие стали бояться летать. Людей опустили на землю, обрубили масштабы, подрезали секулярные крылья, их уверенность в своих силах основательно пошатнулась.
Усама бен Ладен – главный подозреваемый в организации теракта – ничего нового не изобрел. Его идеология почти целиком основана на постулатах египетского фундаменталиста Сайида Кутба, которые описаны в главе 8 этой книги. Изъясняясь терминологией Кутба, бен Ладен заявил, что события 11 сентября свидетельствуют о расколе мира на два враждующих лагеря: за Господа и против Него. Однако на самом деле мир расколот уже давно, хотя и не так, как утверждает бен Ладен. Десятилетиями между ценителями благ современности и фундаменталистами, питающими острую неприязнь к современному обществу, пролегала глубочайшая пропасть непонимания. Трагедия 11 сентября лишь продемонстрировала, насколько глубока эта пропасть и насколько опасно стало это разделение. Теракт не был столкновением цивилизаций, фундаментализм всегда проистекал из внутрисоциальной розни. И словно в доказательство этой мысли американские христианские фундаменталисты Джерри Фолуэлл и Пат Робертсон почти сразу же провозгласили 11 сентября карой Господней, посланной светским гуманистам США за их грехи. Не слишком далеко христианские фундаменталисты ушли от мусульманских террористов.
В послесловии к своей книге я указывала, что фундаментализм и не думает исчезать. Он часть современного общества, реальность, с которой нам нужно научиться жить. История фундаментализма доказывает, что воинствующая религиозность не исчезнет, если закрыть на нее глаза. Глупо делать вид, будто угрозы не существует, или отмахиваться от нее со светским высокомерием, наивно полагая, что фундаментализм – удел горстки пустоголовых фанатиков. Кроме того, история демонстрирует, что попытки подавить его только подливают масла в огонь. Нам, без сомнения, необходимо научиться расшифровывать фундаменталистские образы, осмыслить, что пытаются выразить представители всех трех ветвей фундаментализма, поскольку их недовольство и возмущение ни одно общество не сможет игнорировать без ущерба для себя. После 11 сентября понимать, что такое фундаменталистские течения, которые во многих частях мира все более радикализируются, стало более необходимо, чем когда-либо.
В США некоторым участникам правохристианского движения удалось перещеголять фундаменталистов 1970-х. Последнюю главу своей книги я посвятила реконструкционизму и христианской идентичности, оставившим и Джерри Фолуэлла, и «Моральное большинство» (Moral Majority) далеко позади. Это уже постфундаментализм, гораздо более пугающий, бескомпромиссный и радикальный. Точно так же террористы, по всей видимости, представляют собой некое новое, более зловещее крыло исламского фундаментализма. Если бен Ладен изъясняется на традиционном фундаменталистском языке Сайида Кутба, то террористы, которых бен Ладен, пользуясь терминологией Кутба, назвал «авангардом», являют собой новый, доселе незнакомый нам тип фундаментализма. Мохаммед Атта, египтянин, захвативший первый самолет 11 сентября, был пьющим и на борт поднимался, хлебнув водки. Зияд Джарра, ливанец, предположительно захвативший самолет, который рухнул в Пенсильвании, тоже пил и был завсегдатаем ночных клубов Гамбурга. Клубы и женщины Лас-Вегаса, как оказалось, этих террористов тоже не оставили равнодушными.
Когда появилась такая информация, она повергла меня в недоумение. Мусульманам религия запрещает спиртное. Представить, что мусульманский смертник собирается дышать на Аллаха перегаром, так же нелепо, как представить еврейского экстремиста Баруха Гольдштейна, расстрелявшего 29 мусульман в хевронской Великой мечети в 1994 г. и самого погибшего в этом теракте, завтракающим перед бойней яичницей с беконом. Ни один истинный мусульманин или еврей даже помыслить не смог бы о таком святотатстве. Большинство фундаменталистов придерживаются строгих ортодоксальных правил, по которым алкоголь, ночные клубы, женщины легкого поведения считаются «джахилией», невежеством и безбожным варварством, которого мусульманские фундаменталисты, следуя наказу Сайида Кутба, поклялись не только сторониться, но и искоренять его. Террористы же не только всячески нарушали основные заповеди своей религии, которую они поклялись защищать, но и попирали принципы, движущие традиционными фундаменталистами.
В этой книге я описываю разные антиномианистические движения, участники которых во времена невзгод и коренных перемен осознанно нарушают самые главные священные нормы. Это и лжемессия XVII в. Шабтай Цви со своим учеником Якобом Франком, и революционные пророки в Англии XVII в., ратующие за так называемый «священный грех». Отчаянные времена требовали кардинально новых ценностей, старые уже не годились, необходим был новый закон, новая свобода, достичь которой можно было лишь решительным отречением от старых норм.
Вы увидите также, что наиболее радикальным формам фундаментализма присущ врожденный нигилизм. Фундаменталисты всех трех религий вынашивали мечты о разрушении и истреблении, временами, как я покажу в главе 10, доходя до осознанного самоуничтожения. Наглядный тому пример – планы «Еврейского подполья» взорвать иерусалимскую мечеть Купол Скалы в 1979 г. Этот теракт стал бы гибельным для Израиля как государства. Еврейских фундаменталистов вдохновляли мистические убеждения: устраивая апокалипсис на земле, они надеялись вынудить Господа послать спасение с небес. Мусульманские террористы-смертники тоже действуют не иначе как методом самоуничтожения. Точно так же (но на другом уровне) выходки Джима и Тэмми Фэй Бэккер и Джимми Сваггерта, вызвавшие скандал на американском телевидении в 1980-е гг., представляли собой нигилистический бунт против более спокойного фундаментализма Джерри Фалуэлла. Это была очередная форма постфундаментализма, поощрявшего антиномианистические стремления к «священному греху». Возможно, организаторы теракта 11 сентября тоже дошли до той черты, за которой начинается мусульманский антиномианистический постфундаментализм, и решили, что нет больше ничего святого. За этой чертой самые жестокие и бесчеловечные действия могут восприниматься как благо.
Как бы то ни было, страшная трагедия 11 сентября доказывает, что, оправдывая верой ненависть и убийства, отказываясь от присущей всем главным мировым религиям идеи милосердия, человек вступает на путь поражения этой веры. Воинствующая религиозность способна ввергнуть своих самых ярых последователей в моральную тьму, несущую угрозу всем нам. Если фундаменталисты всех трех религий обратятся к более нигилистичным и радикальным взглядам – миру конец. Именно поэтому так важно научиться понимать, что кроется за глубочайшим разочарованием фундаменталистов в современности и что ими движет. Пока в терактах участвует лишь мизерный процент фундаменталистов, большинство же просто пытаются жить по заветам своей религии во враждебном, по их мнению, мире. Будет прискорбно, если своим невежеством и презрением мы побудим фундаменталистов пополнить экстремистские ряды. Поэтому давайте делать все возможное, чтобы предотвратить эту страшную возможность.
Введение
Одной из самых поразительных тенденций конца XX в. стало зарождение и развитие внутри каждой из основных мировых религий воинствующего направления, получившего название «фундаментализм». Отдельные его проявления порой заставляют содрогнуться. Фундаменталисты расстреливали молящихся в мечети, убивали врачей и медсестер, работавших в абортариях, покушались на президентов и даже свергли могущественное правительство. И хотя теракты совершает лишь незначительное меньшинство фундаменталистов, даже самые мирные и законопослушные из них вызывают не меньшее недоумение, поскольку решительно отвергают самые ценные достижения современного общества. Фундаменталисты не приемлют демократию, плюрализм, религиозную толерантность, миротворчество, свободу слова и отделение церкви от государства. Христианские фундаменталисты отрицают открытия в области биологии и физики, касающиеся происхождения жизни, веря в научную точность изложенного в Книге Бытия. В отличие от всех тех, кто сбрасывает оковы прошлого, еврейские фундаменталисты, наоборот, еще больше ужесточают соблюдение своего богодухновенного закона, а мусульманки, отказываясь от свобод, завоеванных западными женщинами, закутываются в чадру и паранджу. И мусульманские, и еврейские фундаменталисты лишь в религиозном ключе рассматривают арабо-израильский конфликт, зародившийся на самой что ни на есть светской почве. Фундаментализм присущ не только основным монотеистическим религиям. Среди буддистов, индуистов и даже конфуцианцев тоже находятся свои фундаменталисты, которые точно так же отбрасывают завоеванные с боем достижения либеральной культуры, сражаются и убивают во имя религии, а кроме того, пытаются перенести религию в сферу политики и национальной борьбы.
Это религиозное наступление застало многих исследователей врасплох. В середине XX в. секуляризм казался необратимым, большинство привыкло к мысли, что вера уже не сможет оказывать существенного влияния на мировые события. Считалось, что по мере рационализации человеческого сознания нужда в религии пропадет – либо религиозность будет довольствоваться рамками личной сферы, оставаясь частным делом верующего. Однако в конце 1970-х фундаменталисты начали восставать против доминирования этих секуляристских взглядов, превращая религию из маргинального явления в главный вопрос современности. И в этом, по крайней мере, им удалось добиться значительных успехов. Религия снова стала внушительной силой, с которой пришлось считаться любым властям. Несмотря на ряд поражений, фундаментализм не сдался. Он остается значимым фактором современной жизни и, без сомнения, будет играть важную роль во внутренней и внешней политике будущего. А значит, необходимо попытаться понять, что представляет собой эта форма религиозности, как и в силу каких причин она сложилась, что может сказать нам о нашей культуре и как с ней лучше сосуществовать.
Однако, прежде чем перейти к подробному рассмотрению, давайте разберем сам термин «фундаментализм», который многие находят неудачным. Его авторство принадлежит американским протестантам. В первые десятилетия XX в. часть из них стала называть себя фундаменталистами, в отличие от более «либеральных» единоверцев, которые, по их мнению, полностью искажали христианскую религию. Фундаменталисты хотели вернуться назад, к основам, поставить во главу угла «фундаментальные принципы» христианства, под которыми они понимали буквальное толкование Писания и принятие ряда ключевых доктрин. С тех пор термин «фундаментализм» стал без разбора применяться к реформаторским движениям и в других мировых религиях, что не вполне корректно. Предполагается, что фундаментализм одинаков во всех своих проявлениях. Однако это не так. Каждая его разновидность имеет свои законы и свою динамику. Кроме того, такая терминология наводит на мысль, что фундаменталисты по определению традиционны и привязаны к прошлому, тогда как на самом деле их идеи вполне современны и отличаются новаторством. Да, американские протестанты намеревались вернуться к «основам», однако делали они это самым современным способом. Бытует мнение, что христианский термин неприменим к движениям с совершенно другими приоритетами. Например, мусульманских и иудейских фундаменталистов доктрина не особенно заботит, это в основном прерогатива христиан. В буквальном переводе на арабский «фундаментализм» будет звучать как «усулия» – изучение источников различных предписаний и принципов исламского закона[1]. Большинство мусульманских активистов, называемых фундаменталистами на Западе, не имеют никакого отношения к исламской науке и преследуют совершенно иные цели. А значит, термин «фундаментализм» в данном случае некорректен.
Другие возражают, что, хотим мы того или нет, слово «фундаментализм» уже прижилось как термин. И я склонна с этим согласиться: пусть термин не идеален, однако он выступает удобным наименованием движений, которые при всех своих различиях имеют четкое фамильное сходство. Во введении к своему монументальному шеститомнику «Фундаменталистский проект» (Fundamentalist Project) Мартин Марти и Скотт Эпплби доказывают, что все разновидности фундаментализма строятся по определенной схеме. Это воинствующая форма духовности, появляющаяся в ответ на кризисную ситуацию. Фундаментализм вступает в борьбу с противником, чья секуляристская политика и убеждения кажутся направленными против самой религии. Фундаменталисты не считают эту борьбу политической в общепринятом смысле слова, они воспринимают ее как космическую битву между силами добра и зла. Боясь уничтожения, они пытаются укрепить свою оказавшуюся в опасности идентичность посредством обращения к избранным доктринам и практикам прошлого. Чтобы избежать порчи, они зачастую отмежевываются от общества и создают контркультуру, однако фундаменталистов не стоит считать витающими в облаках мечтателями. Они усвоили прагматичный модернистский рационализм и под руководством своих харизматичных лидеров творчески перерабатывают «фундаментальные основы», создавая идеологию, которая станет программой действий для верных. В конце концов они переходят к попыткам заново обратить к религии все более проникающийся скепсисом мир[2].
При разборе этого глобального отклика на современную культуру я ограничусь лишь несколькими фундаменталистскими движениями, сложившимися в иудаизме, христианстве и исламе – в трех монотеистических религиях. Я буду рассматривать их не по отдельности, а в хронологической параллели, так, чтобы было очевидно, насколько велико между ними сходство. Ограничивая число исследуемых фундаменталистских течений, я надеюсь изучить это явление более подробно, чем получилось бы в более общем обзоре. Перед нами предстанут американский протестантский фундаментализм, иудейский фундаментализм в Израиле, мусульманский фундаментализм в суннитском Египте и в шиитском Иране. Я не берусь утверждать, что мои выводы верны для всех остальных форм фундаментализма, однако надеюсь показать, насколько общими были страхи, желания и тревоги – составляющие обычную реакцию на определенные трудности современного светского мира, – которые лежали в основе перечисленных движений, принадлежащих к числу самых влиятельных и выдающихся.
В каждую эпоху, при каждом укладе находились люди, вступающие в борьбу с новыми реалиями своего времени. Однако фундаментализм, который мы рассмотрим, – явление прежде всего XX в. Это ответная реакция на научную секулярную культуру, которая зародилась на Западе, а затем проникла и в другие части света. На Западе сложилась совершенно беспрецедентная и неповторимая цивилизация, поэтому религиозный отклик на нее тоже оказался уникальным. Фундаменталистские движения, развившиеся в наши дни, неразрывно связаны с эпохой модерна. Они могут отвергать научный западный рационализм, но не могут от него укрыться. Западная цивилизация изменила мир. Ничто, в том числе и религия, больше не станет прежним. По всему миру люди пытаются бороться с этими новыми условиями и вынуждены производить пересмотр своих религиозных традиций, изначально соответствовавших обществу совсем другого типа.
Схожий переходный период пришлось пережить и Древнему миру. Он длился приблизительно с 700 по 200 г. до н. э. и получил у историков название осевого времени, поскольку стал базисным для духовного развития человечества. Сама эпоха была плодом многотысячелетнего экономического, а значит, и социального, и культурного развития, начавшегося в Шумере (на территории нынешнего Ирака) и Древнем Египте. Не ограничиваясь выращиванием урожая, достаточного для удовлетворения насущных потребностей, люди IV–III тыс. до н. э. научились производить сельскохозяйственные излишки, которыми можно было торговать, получая дополнительный доход. Благодаря ему они смогли строить цивилизации, развивать искусство и создавать все более могущественные политические объединения: города, города-государства, а затем и империи. В аграрном обществе власть больше не принадлежала единолично вождю или жрецу, теперь она частично сосредоточивалась и на рынке – источнике богатства каждой культуры. Изменившиеся обстоятельства рано или поздно заставляли людей осознать, что языческая вера, так хорошо служившая их предкам, уже не отвечает их жизненным потребностям в полной мере.
У жителей городов и империй осевого времени расширялись горизонты сознания, и старые местные культы начинали казаться ограниченными и косными. Высшая сила переставала быть пантеоном божеств, возникала привычка поклоняться одному, общему источнику сакрального. Увеличение свободного времени привело к развитию внутренней жизни, и люди ощутили потребность в духовности, не зависящей исключительно от внешних проявлений. Самые чуткие к требованиям времени озаботились проблемой социальной несправедливости, она казалась неотъемлемой частью аграрного общества, зависящего от труда крестьян, которые не могли насладиться плодами высокой культуры. Соответственно, находились пророки и реформаторы, доказывающие, что духовная жизнь невозможна без сострадания: признаками истинной веры стали способность увидеть святое в каждом человеке и желание позаботиться о наиболее уязвимых членах общества. Вот так в осевое время в цивилизованном мире появились великие религии, которые человек исповедует по сей день: буддизм и индуизм в Индии, конфуцианство и даосизм на Дальнем Востоке, монотеизм на Ближнем Востоке и рационализм в Европе. Несмотря на основные различия, у религий осевого времени было много общего: все они на почве прежних традиций выстраивали концепцию единой, всеобщей высшей силы, культивировали внутреннюю духовность и подчеркивали важность деятельного сострадания.
Сегодня, как уже отмечалось, мы переживаем сходный переходный период. Он уходит корнями в XVI–XVII вв., когда в Западной Европе начало складываться общество нового типа, опирающееся не на сельскохозяйственные излишки, а на технологии, позволяющие бесконечно воспроизводить ресурсы. Экономические перемены последних четырех столетий сопровождались глобальными социальными, политическими и интеллектуальными переворотами, а также развитием совершенно нового, научного и рационального, понятия истины, и поэтому снова назрела необходимость в радикальных изменениях религии. Во всем мире люди сталкиваются с тем, что в этих коренным образом изменившихся обстоятельствах прежние формы веры уже не отвечают ожиданиям, не давая ни просвещения, ни утешения, в котором нуждается человек. В результате люди ищут новые формы религиозности; подобно реформаторам и пророкам осевого времени, они отталкиваются от представлений прошлого и стремятся вперед, в новый мир, который они себе создали. Одним их этих модернистских экспериментов – каким бы парадоксальным это утверждение ни выглядело на первый взгляд – выступает фундаментализм.
Мы склонны думать, что представители прошлого почти не отличаются от нас, однако на самом деле их духовная жизнь была совсем непохожей на нашу. В частности, в области мышления, речи и приобретения знаний у них выделялось два направления, которые ученые назвали «миф» и «логос»[3]. Оба были важны и выступали взаимодополняющими способами постижения истины, при этом за каждым была закреплена собственная область применения. Первичным считался миф, как связанный с вневременными и постоянными составляющими нашего существования. Миф обращен к истокам жизни, к основам культуры и к глубочайшим слоям человеческого сознания. Миф не связан с практическим применением, только со значениями и смыслом. Не находя смысла в жизни, мы, смертные, легко впадаем в отчаяние. Общественный миф обеспечивал человеку контекст, наполнявший его будни смыслом, направлявшим его внимание на вечное и универсальное. Кроме того, миф уходил корнями в то, что мы сейчас называем бессознательным. Различные мифологические сюжеты, не предназначенные для буквального толкования, выполняли в древности задачу психологии. Рассказы о героях, спускающихся в подземное царство, преодолевающих лабиринты и сражающихся с чудовищами, высвечивали темные уголки нашего подсознания, лежащего вне досягаемости разума, но оказывающего огромное влияние на наше поведение и опыт[4]. В современном обществе, после гибели мифа, нам приходится прибегать к услугам психоанализа, чтобы проникнуть в свой внутренний мир.
Миф нельзя доказать рациональными средствами, его озарения интуитивны, как у живописи, музыки, поэзии или скульптуры. Миф становится реальностью, только когда он воплощен в культе, обрядах и церемониях, эстетически воздействующих на адепта, пробуждающих в нем ощущение священной значимости и позволяющих прикоснуться к глубинным течениям бытия. Миф и культ неразделимы, ученые до сих пор спорят, что возникло первым – мифическое повествование или связанные с ним ритуалы[5]. Кроме того, миф ассоциируется с мистицизмом, погружением в глубины психики с помощью структурированных упражнений на сосредоточение, сложившихся в каждой культуре как средство интуитивного постижения. Без культа или мистических практик религиозный миф лишается смысла. Он становится пустой абстракцией – как нотная запись, которая для большинства из нас раскрывает свою красоту лишь в инструментальном исполнении, а на бумаге остается непонятной.
В премодернистскую эпоху люди воспринимали историю по-другому. Их меньше, чем нас, интересовало событие как факт, зато гораздо больше – его значение. Историческое событие в их глазах выглядело не уникальным случаем, произошедшим в далеком прошлом, а внешним проявлением вечной, вневременной реальности. И поскольку нет ничего нового под солнцем, история имеет свойство повторяться. Историческое повествование стремилось описать именно эту, вечную сторону универсума[6]. Поэтому мы не знаем, что на самом деле произошло, когда древние израильтяне бежали из Египта и перешли через Красное море. События были намеренно изложены в форме мифа и связаны с другими преданиями об исходах, погружениях в пучину и богах, заставляющих расступиться морские воды, – тем самым создавалась новая реальность. Каждый год иудеи проживают этот миф заново в обрядах пасхального седера, которые переносят необычайные события предания в повседневную жизнь, чтобы верующий мог к ним приобщиться. Без подобной мифологизации и высвобождения из прошлого при помощи вдохновляющих обрядов историческое событие не станет религиозным. Задаваться вопросом, действительно ли исход из Египта происходил именно так, как описано в Библии, или требовать научно-исторического подтверждения фактической подлинности событий означает не понимать характер и цель подобного повествования. Это значит путать миф с логосом.
Логос имел не меньшее значение. Без этого рационального, прагматичного, научного мышления человек не смог бы ориентироваться и существовать в окружающем мире. Сегодняшний Запад, может быть, и утратил связь с мифом, но логос нам знаком, именно на нем строится наше общество. В отличие от мифа логос должен точно воспроизводить факты и соответствовать внешней действительности, иначе он окажется несостоятельным. Логос должен давать результат в земном мире. К его дискурсивной аргументации мы прибегаем, когда хотим повлиять на ход событий, добиться чего-либо, убедить другого человека предпринять определенные действия. Логос практичен. В отличие от мифа, который обращен к началам и основам, логос устремлен вперед, к новому: к открытиям и изобретениям, развитию имеющихся теорий, подчинению окружающей среды[7].
В древние времена одинаково высоко ценился и миф, и логос. Друг без друга они бы обеднели, отличаясь, тем не менее, по природе своей, поэтому путать мифический и рациональный дискурс было опасно. У каждого из них была своя задача. Миф внерационален и не предполагает эмпирической проверки. Он обеспечивал смысловой контекст, в котором наши практические действия обретали значение. Миф не брался за основу прагматической программы действий, это было чревато катастрофическими последствиями, поскольку применимое к внутреннему миру, миру человеческой психики, совершенно не подходило для мира внешнего. Так, решение папы Урбана II начать в 1095 г. Первый крестовый поход было продиктовано соображениями логоса. Папа хотел, чтобы рыцари Европы перестали воевать между собой, разрывая в клочья западный христианский мир, и направили свои силы на войну на Ближнем Востоке, чтобы расширить владения христианской церкви. Однако когда военная кампания увязла в народной мифологии, библейских преданиях и апокалиптических фантазиях, исход – в практическом, военном и моральном отношении – оказался трагичным. На протяжении всей этой долгой кампании крестоносцам улыбалась удача, пока перевес был на стороне логоса. Они побеждали в сражениях, основывали процветающие колонии на Ближнем Востоке, учились уживаться с местным населением. Однако стоило вывести на первый план миф или мистику и начать строить стратегию на них, как крестоносцы терпели поражение и опускались до изуверства[8].
У логоса тоже имелись свои ограничения: он не способен был утешить в горе и унять боль. Рациональными доводами нельзя было объяснить трагедию. Логос не мог дать ответ на вопросы о высшей ценности человеческой жизни. Ученый добивался того, что какие-то вещи начинали работать эффективнее, или открывал удивительные факты о материальной вселенной, однако объяснить смысл жизни ему оказывалось не под силу[9]. Это была прерогатива мифа и культа.
Однако к XVIII в. европейцы и американцы достигли таких поразительных высот в науке и развитии технологий, что логос стал казаться им единственным способом обретения истины, и они начали отвергать миф как ложь и предрассудки. Кроме того, создаваемый ими новый мир противоречил динамике прежней мифологической духовности. Религиозные переживания в современном мире тоже изменились, а поскольку все больше людей считали истиной лишь научный рационализм, они зачастую пытались обратить миф своей веры в логос. Фундаменталисты тоже не избежали подобных попыток. Однако получившаяся в результате путаница только усугубила проблемы.
Нам нужно осознать, насколько изменился наш мир. Поэтому первая часть книги перенесет нас в конец XV – начало XVI в., когда в Западной Европе только начинал складываться новый научный подход. Кроме того, мы рассмотрим мифопочитание в премодернистской аграрной цивилизации, чтобы понять, как функционировали прежние формы веры. В нашем дивном новом мире становится все труднее оставаться религиозным в традиционном понимании этого слова. Модернизация всегда проходила в муках. Когда из-за фундаментальных перемен в обществе окружающий мир становится непривычным и неузнаваемым, человек чувствует отчуждение и растерянность. Мы увидим, как отразилось становление современной эпохи на европейских и американских христианах, на иудеях и на мусульманах Египта и Ирана. Нам следует понять, что двигало фундаменталистами, когда в конце XIX в. они принялись создавать свою новую форму веры.
Фундаменталисты представляют себя борцами с той темной силой, что угрожает уничтожить самое святое для них, а воюющим сторонам крайне трудно встать на точку зрения противника. Модернизация, как мы увидим, действительно расколола общество на два полюса, однако иногда, чтобы предотвратить эскалацию конфликта, мы должны попытаться понять боль и страхи противоположной стороны. Тем, кто (как и я) ценит свободы и достижения современной эпохи, трудно осознать, почему религиозных фундаменталистов они повергают в ужас. И тем не менее модернизация часто воспринимается не как освобождение, а как агрессия. Мало кому современный мир принес столько страданий, сколько евреям, поэтому уместно будет начать именно с их несчастливого знакомства с модернизацией в христианских странах Запада конца XV в., заставившей отдельных представителей еврейского народа предвосхитить многие стратегии, концепции и принципы, которые впоследствии получат распространение в новом мире.
Часть первая Старый и Новый Свет
1. Евреи. Провозвестники (1492–1700)
1492 г. запомнился для Испании тремя крайне важными событиями. Современников они повергли в смятение, однако теперь, в ретроспективе, мы понимаем, что эти события знаменовали собой зарождение нового общества, медленно и болезненно складывавшегося в Западной Европе XV–XVII вв. Именно тогда формировалась наша современная западная культура, поэтому вполне логично искать в 1492-м объяснение нашим нынешним мытарствам и дилеммам.
Первое из указанных событий произошло 2 января, когда войска короля Фердинанда и королевы Изабеллы, правителей-католиков, своим брачным союзом незадолго до того объединивших старинные иберийские королевства Кастилию и Арагон, заняли город-государство Гранаду. На глазах потрясенной толпы христианское знамя вознеслось над городскими стенами, и вся Европа огласилась торжествующим звоном колоколов – пал последний мусульманский оплот внутри христианских земель. Пусть крестовые походы против ислама на Ближнем Востоке не увенчались успехом, Европа могла праздновать победу – мусульманство с ее территории было изгнано. В 1499 г. испанцам-мусульманам будет предложено либо поменять веру, либо покинуть страну, после чего на несколько столетий Европа станет исключительно христианской.
Второе значимое событие того переломного года случилось 31 марта, когда Фердинанд и Изабелла подписали указ об изгнании, призванный очистить Испанию от евреев. По этому указу евреям предписывалось либо принять крещение, либо убираться вон. Многие оказались настолько сильно привязаны к Аль-Андалузу, как тогда называли это еще недавно мусульманское королевство, что предпочли креститься и остаться в Испании, однако около 80 000 евреев отправились в соседнюю Португалию, а 50 000 бежали в образованную недавно Османскую империю, где их приняли с распростертыми объятиями[10].
Третье событие связано с человеком, присутствовавшим при взятии Гранады христианскими войсками. В августе 1492 г. флотилия Христофора Колумба, снаряженная Фердинандом и Изабеллой, отчалила от испанских берегов на поиски нового торгового пути в Индию, однако в итоге, как известно, была открыта Америка.
В этих трех событиях отражена одновременно и слава, и боль раннего Нового времени. Как со всей наглядностью продемонстрировало путешествие Колумба, европейцы стояли на пороге нового мира. Горизонты расширялись, открывались новые, неведомые сферы деятельности – географические, интеллектуальные, социальные, экономические и политические. Благодаря своим достижениям европейцы могли бы властвовать над всей планетой. Однако у медали была и обратная сторона. Христианская Испания вошла в число самых развитых и влиятельных королевств Европы. Фердинанд и Изабелла создавали современное централизованное государство, из числа тех, что уже начали появляться и в других частях христианского мира. Его устройство начисто исключало старинные автономные институты самоуправления – такие как гильдии, корпорации или еврейские общины, характерные для средневековой эпохи. Объединение Испании, завершенное завоеванием Гранады, повлекло за собой этнические чистки, оставившие без крова евреев и мусульман. Кому-то новое время дарило свободу, перемены к лучшему и перспективы. Другим оно несло – и будет нести – насилие, экспансию и разруху. Та же история повторится затем с распространением западного модернизма и в других частях света. Модернизация несла с собой просвещение и развитие гуманитарных ценностей, однако внедрялись они путем агрессии, которая в далеком XX в. превратит пострадавших от нее в фундаменталистов.
Но это в будущем. А в конце XV в. европейцы и представить не могли, чем обернутся начатые ими перемены. На протяжении трех последующих столетий Европе предстояло пережить, помимо политической и экономической перестройки общества, еще и интеллектуальную революцию, когда научный рационализм начнет постепенно подчинять одну сферу жизни за другой, меняя образ мыслей и чувств. Подробнее эту Великую Западную трансформацию, как был назван данный период, мы рассмотрим в главе 3. Однако, чтобы осознать ее последствия в полной мере, необходимо сперва понять, как воспринимали мир в эпоху премодернизма. Студенты и профессора испанских университетов оживленно обсуждали новые идеи итальянского Возрождения. Путешествие Колумба не состоялось бы без таких изобретений, как магнитный компас, и последних астрономических открытий. К 1492 г. западный научный рационализм уже набирал силу. Человек, проникшись потенциалом того вечного стремления к новому и неизведанному, которое греки называли «логос», совершал открытие за открытием. Благодаря современной науке европейцы обнаружили совершенно новый мир и обрели невиданную власть над природой. Однако и от мифа они еще не отказались. Колумб дружил с наукой, однако и в привычной мифологической вселенной чувствовал себя вольготно. Он происходил из семьи обращенных в христианство евреев и сохранил интерес к каббале, мистической иудейской традиции, но был при этом верным христианином и хотел покорить мир во имя Христа. На берегах Индии он надеялся подготовить христианский оплот для завоевания Иерусалима[11]. Европейцы начали путь к Новому времени, модерну, современности, однако современными в нашем понимании слова они еще не сделались. Рациональные научные исследования по-прежнему осмыслялись в терминах христианских мифов.
И все же христианство менялось. Испанцы возглавили инициированную Тридентским собором (1545–1563) контрреформацию – модернистское движение, приводящее старый католический уклад в соответствие с европейским прогрессом. Церковь, как и государство, тоже стремилась к централизации. Собор укрепил власть папы и епископов, а также принял первый катехизис для всех верующих, чтобы обеспечить доктринальное единство. Обучение в семинариях предполагалось отныне вести на более высоком уровне, с тем чтобы, в свою очередь, повысить и уровень проповедей. Подверглись рационализации литургия и религиозные обряды мирян. Ритуалы прошлого века, утратившие свой смысл в новую эпоху, были упразднены. Многие испанские католики черпали вдохновение в трудах голландского гуманиста Эразма Роттердамского (1466–1536), который намеревался оживить христианство возвращением к «основам». Его лозунгом было «Ad fontes!» («Назад к истокам!»). Эразм Роттердамский полагал, что подлинная христианская вера оказалась погребенной под грудой безжизненных средневековых догм. Очистив ее от этих наслоений и вернувшись к истокам – Библии и отцам Церкви, – христиане заново откроют живую суть Евангелия и возродятся в вере.
Основным вкладом испанцев в контрреформацию была их мистика. Иберийские мистики стали исследователями духовного мира, подобно великим мореплавателям, открывавшим неведомые земли в мире физическом. Мистицизм относился к области мифа, сфере неосознанного, недоступного рациональному мышлению и поэтому требовавшего других средств постижения. Однако испанские мистики-реформаторы стремились упорядочить, сделать менее эксцентричной, менее зависимой от прихотей некомпетентных советчиков и эту духовную область. Святой Иоанн Крестный (1552–1591) позаботился о том, чтобы искоренить самые сомнительные и суеверные обряды, придав мистическому процессу большую систематичность. Мистики новой эпохи должны были представлять, что повлечет за собой переход от одной стадии мистического восхождения к другой, им предстояло научиться справляться с ловушками и опасностями духовной жизни, рачительно расходуя свою духовную энергию.
Более современным и еще более наглядным воплощением грядущих перемен стало Общество Иисуса, основанное бывшим военным Игнатием Лойолой (1491–1555). Оно строилось на принципах продуктивности и эффективности, которые станут символами современного Запада. Игнатий намеревался найти силе мифа практическое применение. Бесконечные рассуждения в духе Иоанна Крестного его иезуитам не подходили. «Духовные упражнения» Лойолы являли собой систематизированные, четко распланированные тридцатидневные занятия, размышления о грехах, молитвы и покаяние в уединении, которые предлагалось пройти каждому иезуиту в качестве интенсивного курса мистицизма. Христианин, полностью обратившийся ко Христу, обязан правильно следовать своим главным целям и быть готовым действовать. Методичностью, дисциплиной и систематизацией этот подход напоминал научный. Бог рассматривался как динамическая сила, направляющая иезуитов во все концы света, подобно исследователям-первооткрывателям. Франциск Ксаверий (1506–1552) распространял христианство в Японии, Роберт де Нобили (1577–1656) – в Индии, а Маттео Риччи (1552–1610) – в Китае. На заре Нового времени религия в Испании еще не отошла на второй план. Она могла реформироваться и использовать первые проявления модерна для собственного развития и обогащения своих представлений в будущем.
Таким образом, Испания в начале Нового времени выступала в авангарде модерна. Однако Фердинанду и Изабелле приходилось сдерживать эту бьющую через край энергию. Они занимались объединением разрозненных и независимых испанских королевств, которые необходимо было как-то спаять воедино. В 1483 г. монархи основали свою собственную инквизицию, призванную насаждать идеологическое единообразие на подвластных Фердинанду и Изабелле территориях. Они создавали современное абсолютистское государство и не могли дать подданным неограниченную интеллектуальную свободу. Инквизиторы выискивали инакомыслящих и вынуждали их признаваться в «ереси» (в греческом это слово изначально обозначало «идти собственным путем»). Деятельность испанской инквизиции вовсе не была попыткой сохранить устаревший уклад, напротив – она стала орудием модернизации, с помощью которого монархи создавали национальное единство[12]. Они прекрасно знали, что религия обладает подрывной революционной силой. Протестантские правители в таких странах, как Англия, с аналогичной жестокостью истребляли «инакомыслящих» католиков, которые точно так же считались угрозой для государства. Как мы увидим, процесс модернизации очень часто не обходился без насилия. В Испании главными жертвами инквизиции стали евреи, и именно их реакцию на притеснения и агрессию мы рассмотрим в этой главе. Этот пример во многом иллюстрирует и то, как реагировали на модернизацию люди в других частях света.
Испанская Реконкиста на прежних мусульманских территориях Аль-Андалуза обернулась катастрофой для иберийских евреев. В исламском государстве иудаизм, христианство и ислам как-то уживались в относительной гармонии более шести сотен лет. В частности, евреи переживали в Испании культурное и духовное возрождение, не ведая кошмара погромов, от которых страдало еврейское население остальной Европы[13]. Однако вместе с христианским воинством, все больше теснившим мусульман, все дальше в глубь полуострова проникал и антисемитизм. В 1378-м и 1391 г. христиане принялись громить еврейские общины Кастилии и Арагона, насильно окуная евреев в купели и под страхом смерти вынуждая их принять христианство. В Арагоне к антисемитским выступлениям нередко приводили проповеди монаха-доминиканца Викентия Феррера (1350–1419). Кроме того, Феррер организовывал публичные дебаты между раввинами и христианами, призванные дискредитировать иудаизм. Некоторые евреи обращались в христианство «добровольно», не дожидаясь гонений. Официально такие люди назывались новообращенными (выкрестами), однако у испанских христиан они получили прозвище «марраны» («свиньи»), которое некоторые выкресты, несмотря на оскорбительное происхождение, носили с гордостью. Вопреки предостережениям раввинов поначалу «новые христиане», как еще звали выкрестов, устраивались неплохо и не знали нужды. Одним удавалось дослужиться до высокого церковного сана, другие роднились со знатными семьями, многие добивались ошеломительного успеха в коммерции. Однако такое положение дел возмущало «старых христиан», недовольных быстрым взлетом «новых». Между 1449-м и 1474 г. они нередко громили дома марранов, убивая хозяев, разоряя их или вынуждая покинуть город[14].
Фердинанда и Изабеллу такое развитие событий тревожило. Обращение евреев в христианство, вместо того чтобы сплачивать подданных, вызывало новый раскол. Монархам докладывали, что некоторые «новые христиане» возвращались тайком к старой вере и организовали подпольное движение по возвращению других выкрестов обратно в иудаизм. Инквизиторам было приказано выслеживать этих подпольщиков, вычисляя их, например, по отказу употреблять в пищу свинину или работать в субботу. У подозреваемых вытягивали признание под пытками, заодно заставляя называть имена других тайных иудеев. В результате за первые 12 лет существования инквизиции погибли мучительной смертью около 13 000 новообращенных. Однако на самом деле многие из замученных, попавших за решетку и лишенных имущества, были верными католиками, вовсе не симпатизировавшими иудаизму. Неудивительно, что в результате новая вера вызвала у многих выкрестов отторжение[15].
Вместе с завоеванным в 1492 г. городом-государством Гранадой Фердинанд и Изабелла получили новых подданных, по преимуществу евреев. Осознав, что дело принимает непредсказуемый оборот, они решили еврейский вопрос радикально: подписав указ об изгнании. Испанское еврейство было уничтожено. Около 70 000 евреев обратились в христианство и остались в стране на растерзание инквизиции, прочие 130 000, как мы уже знаем, стали изгнанниками. Потеря испанского еврейства оплакивалась евреями всего мира как величайшее несчастье со времен разрушения Иерусалимского храма в 70 г. н. э., когда евреи лишились своей земли и расселились отдельными общинами под собирательным названием «диаспора» за пределами Палестины. С тех пор изгнание стало печальным лейтмотивом еврейской культуры. Изгнание из Испании в 1492 г. пришлось на конец века, в котором евреев по очереди изгоняли из разных стран Европы. В 1421 г. их депортировали из Вены и Линца, в 1424-м – из Кельна, в 1439-м – из Аугсбурга, в 1442-м – из Баварии, а в 1454-м – из королевских городов Моравии. Евреев выгоняли из Перуджи (1485 г.), Виченцы (1486 г.), Пармы (1488 г.), Милана и Лукки (1489 г.), Тосканы (1494 г.). Постепенно они переселялись все дальше на восток, пока не осели (как им казалось, прочно) в Польше[16]. Изгнание становилось непременной и неизбежной частью существования еврейского народа.
Это убеждение, несомненно, разделяли те испанские евреи, которые после изгнания нашли приют в Северной Африке и балканских провинциях Османской империи. К мусульманскому окружению им было не привыкать, однако потеря Испании – Сфарада, как они ее называли, – ранила их до глубины души. Евреи-сефарды ощущали себя чужими в новых местах[17]. Ведь изгнание – это не только физическое, но и духовное отторжение. Мир изгнанника – незнакомый и бессмысленный мир. Насильственное переселение, выбивающее все привычные опоры и ориентиры, раскалывает мир, навсегда изымает нас из окружения, пропитанного дорогими сердцу воспоминаниями, и погружает в среду совершенно чуждую, вызывая ощущение, что само наше существование – рискованное предприятие. Кроме того, изгнание, сопряженное с человеческой жестокостью, рождает крайне острые вопросы, например: почему существует зло в мире, созданном якобы справедливым и милосердным Господом?
Евреям-сефардам в экстремально жесткой форме пришлось пережить процессы истребления и переселения в чуждую среду. С тем же самым в дальнейшем столкнутся другие народы, подвергнутые насильственной модернизации. Как мы увидим, насаждаемый сверху современный западный уклад искажал модернизируемую среду до неузнаваемости, вызывая у коренного населения дезориентацию и отчуждение. Старый мир рушился на глазах, а новый оказывался таким непривычным, что люди теряли все ориентиры, а с ними и смысл жизни. Многим, подобно сефардам, казалось, что само их существование находится под угрозой. Они боялись гибели и уничтожения. В растерянности и отчаянии многие по примеру некоторых из испанских изгнанников обращались к религии. Однако кардинальные перемены вынуждали их искать новые формы веры, чтобы возродить прежний уклад в радикально изменившейся обстановке.
Однако на это необходимо время. Евреи-изгнанники начала XVI в. обнаружили, что традиционный иудаизм не отвечает их духовным запросам. Старые верования оказались бессильными перед вселенской катастрофой. Кто-то стал искать спасения в мессианизме. Столетиями евреи ждали Мессию, царского помазанника из колена Давидова, который положит конец их вечным скитаниям и вернет их в Землю обетованную. Согласно некоторым еврейским учениям, явлению Мессии должен был предшествовать период испытаний, поэтому некоторые из сефардов-изгнанников, укрывшихся на Балканах, решили, будто выпавшие на их долю и долю других евреев Европы мытарства означают только одно: предсказанные пророками и мудрецами «родовые муки», сопровождающие появление на свет Мессии, а значит, после них придет спасение и настанет новая жизнь[18]. Другие народы, ощущавшие крушение привычного мира под напором модернизма, также пытались искать утешение в милленаристских надеждах. Однако мессианские движения, рассчитанные на скорый приход Искупителя, чреваты, как мы убеждаемся по сей день, не менее скорым разочарованием. Сефардам удалось справиться с этой дилеммой и найти более удачный выход: они выработали новый миф.
Группа сефардов, переселившись с Балкан в Палестину, закрепилась в городе Сафед (Цфат) в Галилее. Согласно традиционному верованию, Мессия должен был появиться именно в Галилее, и испанские изгнанники решили приветствовать его там первыми[19]. Некоторые из них уверовали, что именно он явился в облике болезненного и набожного ашкенази Ицхака Лурии (1534–1572), поселившегося в Цфате и первым высказавшего новый миф. Он основал новое направление каббалы, которое по сей день носит его имя. Сегодня мы бы сказали, что Лурия сам создал этот миф, уловив подсознательные чаяния и страхи своего народа и создав утешающую иллюзию, дающую покой и надежду не только цфатским изгнанникам, но и евреям по всему миру. Однако мы дети своего времени, мы мыслим рациональными категориями и далеки от премодернистского мифологического мировоззрения. Ученики Лурии не считали, что он «сочинил» свой миф о творении, но напротив – миф явил ему себя сам. Человеку стороннему, чуждому обрядам лурианской каббалы, этот миф покажется нелепым. Более того, он не имеет никакого сходства с историей творения, изложенной в Книге Бытия. Однако для цфатских каббалистов, освоивших ритуалы и предписанные Лурией медитативные упражнения, уже во втором поколении переживающих трагедию изгнания, этот миф был предельно понятен. Он раскрывал истину, известную и ранее, однако завладевшую умами лишь теперь, когда она нашла безраздельный отклик в душе евреев раннего Нового времени. Она стала светом в конце тоннеля, дав возможность человеку не просто выживать, но и радоваться жизни.
Столкнувшись с лурианским космогоническим мифом, современный человек не удержится от вопроса: «Как такое возможно?» События настолько невероятные и бездоказательные мы отбрасываем как вопиющую заведомую ложь. Происходит это потому, что мы готовы принять только рациональный вариант истины, забыв, что возможен и другой подход. Так, например, мы привыкли рассматривать историю с научной точки зрения, как череду неповторяющихся событий. Однако в премодернистском мире исторические события рассматривались не как уникальные, а как примеры вечных законов, проявление постоянной, вневременной реальности. Историческое событие может повторяться снова и снова, поскольку все земные события есть выражение фундаментальных законов бытия. В Библии, к примеру, воды по крайней мере дважды чудесным образом расступаются перед народом израильским; сыны Израилевы часто «входят» в Египет, а затем снова возвращаются в Землю обетованную. Изгнание, входящее в число наиболее часто повторяющихся библейских сюжетов, после испанской трагедии придало особый оттенок всей еврейской культуре, отразило потрясение самих основ бытия. Лурианская каббала, как и положено мифологии, возвращается для рассмотрения этого вопроса назад, к истокам, чтобы исследовать изгнание, представляющееся одним из фундаментальных законов, и выявить его подлинное значение.
В мифе Лурии процесс творения начинается с добровольного исхода. А именно с вопроса о том, как может существовать мир, если Господь вездесущ. Ответом становится доктрина цимцума (сжатия): бесконечный и недосягаемый Бог, которого каббалисты называют Эйн-Соф («бесконечный»), стягивается внутрь себя, оставляя вокруг свободное пространство, полость, в которой и образуется мир. Таким образом, творение начинается с акта божественной беспощадности: в своем сострадательном стремлении явить себя в своих тварях и перед ними Эйн-Соф изгоняет часть своей сущности. В отличие от упорядоченного, мирного процесса творения, описанного в Книге Бытия, тут перед нами – насильственный процесс, включающий в себя первовзрывы, катастрофы, неудавшиеся начала, – и сефардам-изгнанникам они кажутся куда более точным отражением того мироустройства, в котором они очутились. На раннем этапе лурианский Эйн-Соф пытается заполнить пустоту, созданную в результате цимцума, божественным светом, однако «сосуды» или «трубы», по которым он должен был течь, лопаются от натуги. Искры божественного света сыплются в бездну, где нет Бога. После разрушения сосудов одни искры возвращаются к Богу, другие застревают в этом обезбоженном пространстве, наполненном потенциальным злом, которое Бог очистил в акте цимцума. В результате катастрофы процесс творения исказился – все перемешивается. Когда был сотворен Адам, он был способен навести порядок, и в таком случае божественное изгнание завершилось бы в первый же шаббат, однако Адам согрешил, и с тех пор божественные искры так и остались запертыми в материальных предметах, а Шехина (ощущение божественного присутствия на земле) отправилась скитаться по свету, став вечной изгнанницей и стремясь воссоединиться с Богом[20].
История фантастическая, однако, если бы цфатских каббалистов спросили, верят ли они, что так было на самом деле, вопрос показался бы им некорректным. События, описанные в мифе творения, – это не единичное происшествие из далекого прошлого, это нечто происходящее постоянно. У нас нет ни концепции, ни слова для обозначения такого события, поскольку наше рациональное мышление воспринимает время исключительно линейно. Если бы у участников древнегреческих Элевсинских мистерий спросили, могут ли они доказать, что Персефона действительно была пленницей Плутона в подземном царстве, а ее мать Деметра оплакивала потерю дочери, такая постановка вопроса их тоже, наверное, удивила бы. Откуда им известно, что Персефона, как утверждает миф, действительно вернулась на землю? Из фундаментального круговорота жизненных процессов, отраженного в мифе. Собирается урожай, затем зерно высевается в урочный час в землю и всходит снова[21]. И миф, и урожай указывают на некий фундаментальный и универсальный для всего мира процесс, как английское слово boat и русское «лодка» обозначает один и тот же предмет, существующий независимо от наименования. Евреи-сефарды, возможно, ответили бы точно так же. Изгнание – это фундаментальный закон существования. Куда ни глянь, везде евреи находятся в положении изгнанных чужаков. Даже гои испытывают ощущение потери, разочарования, чувство отчужденности, как свидетельствуют универсальные мифы об изгнании первых людей из первобытного рая. Сложная лурианская космогония представляла подобное положение дел в новом свете. Изгнание Шехины объединялось в сознании каббалистов с собственной бесприютной жизнью. Цимцум же показывал, что изгнание – неотъемлемая часть основ мироздания.
Лурия не записывал свои тексты, поэтому при жизни его учение было известно лишь узкому кругу[22]. Однако ученики записали его откровения для потомства, а остальные распространили их по Европе. К 1650 г. лурианская каббала стала массовым учением, единственной из теологических систем, завоевавшей признание у евреев того времени[23]. И вовсе не потому, что поддавалась рациональному или научному доказательству. Напротив, она прямо противоречила Книге Бытия почти в каждом пункте. Однако, как мы увидим, буквальное прочтение Писания – это уже современный подход, продиктованный приматом рационального сознания над мифологическим. До начала Нового времени евреи, христиане и мусульмане понимали свои священные тексты аллегорически, символически и эзотерически. Поскольку слово Божье бесконечно, оно может содержать великое множество смыслов. Поэтому евреев, в отличие от многих современных верующих, не смущал отход Лурии от сказанного в Библии. Его миф служил для них авторитетом, поскольку объяснял и наделял смыслом происходящее вокруг. Они представали не существами второго сорта, оттертыми на обочину зарождающегося современного мира, а людьми, чья жизнь подчиняется фундаментальным законам бытия. Даже Богу пришлось пережить изгнание; мир изначально был подвержен пертурбациям; божественные искры застряли в материи; добру пришлось бороться со злом – все это непреложные жизненные факты. И далее евреи так же описываются не как отщепенцы и изгои, а как центральные фигуры процесса искупления. Скрупулезное соблюдение заповедей Торы, закона Моисеева и особых, родившихся в Цфате ритуалов должно было положить конец этому вселенскому изгнанию. Таким образом евреи участвовали в процессе «восстановления» (тиккун), возвращения Шехины Богу, еврейского народа – в Землю обетованную, а остального мира – в его надлежащее состояние[24].
Этот миф не утратил для евреев своего значения и по сей день. После трагедии холокоста некоторые из них обнаружили, что видят в Боге лишь страдающее, бессильное божество цимцума, не способное управлять сотворенным миром[25]. Образ божественных искр, запертых в материи, и восстановительная миссия тиккун по-прежнему вдохновляет модернистские и фундаменталистские еврейские движения. Лурианская каббала, как и любой подлинный миф, стала откровением, объяснившим евреям суть и смысл их бытия. Миф содержал собственную истину и был на каком-то глубинном уровне самоочевидным. Он не мог получить, да и не требовал рационального подтверждения. Сегодня мы назвали бы лурианский миф символом или метафорой, но и в этом скрывалась бы рационализация. В греческом языке слово «символ» означало соединение двух предметов в неразрывное целое. Модернистское сознание, которому присуще разъединение, проявилось как раз тогда, когда Запад начал называть обряды и иконы «всего лишь символами».
В традиционной религии миф, будучи неотделимым от культа, привносит посредством церемоний и созерцательных практик элемент вечной реальности в обыденную жизнь верующих. Несмотря на всю силу своего символизма, лурианская каббала никогда бы не обрела такого значения для еврейской культуры, если бы не выражалась в пышных ритуалах, проникнутых для изгнанников трансцендентным смыслом. В Цфате каббалисты придумывали особые обряды для проигрывания в лицах лурианской теологии. Ночные бдения помогали отождествляться с Шехиной, которую они воображали женщиной, странствующей в отчаянии по миру в поисках своего божественного источника. Евреи поднимались в полночь и, сняв обувь, заходились рыданиями, натирая лицо пылью. С помощью этих ритуальных действий они выражали собственную скорбь и потерю, связывающие их с утратой, понесенной божественной сущностью. Они лежали без сна по ночам, призывая Бога, будто возлюбленного, страдая от разлуки, которая всегда горька, но для изгнанника является первопричиной скорби. Каббалисты подвергали себя и самоистязаниям – постились, устраивали самобичевание, катались в снегу. Эти самоистязания служили воплощением тиккун. Они отправлялись в долгие пешие переходы, скитаясь, подобно Шехине, и проецируя вовне свое ощущение бездомности. Согласно еврейскому закону, молитва обретает наибольшую силу и смысл лишь в коллективном исполнении – в группе мужчин числом не менее десяти, – однако цфатских евреев учили молиться в одиночку, чтобы полностью ощутить свою отчужденность и уязвимость в этом мире. Эта одинокая молитва обособляла еврея от остального общества, готовила его к иному опыту и помогала вновь и вновь принимать ситуацию опасной изоляции еврейского народа в мире, постоянно угрожающем их существованию[26].
Однако Лурия твердо стоял на том, что упиваться скорбью не следует. Каббалисты должны работать над своим горем методично и дисциплинированно, пока не достигнут хоть какой-то радости. Полуночные ритуалы всегда заканчивались глубокой медитацией над окончательным воссоединением Шехины с Эйн-Софом, знаменовавшим, соответственно, конец разделения человеческого и божественного. Каббалист должен был представить, что каждая его рука и нога – это земной храм божественной сущности[27]. Во всех мировых религиях духовность обретает ценность лишь в практическом сострадании, и лурианская каббала не была исключением. Она предполагала суровые наказания за причинение зла ближнему – за сексуальные домогательства, порочащие слухи, унижение собратьев, оскорбление родителей[28].
И наконец, каббалистов учили мистическим практикам, появлявшимся в большинстве мировых религий и помогавшим адепту докопаться до глубин собственной души и обрести интуитивное прозрение. В Цфате медитация состояла в подробном искусном воспроизведении букв, составляющих имя Бога. С помощью подобного «сосредоточения» (каванот) каббалист искал в себе следы божественного. Считалось, что, преуспев в подобных медитациях, человек может стать пророком, способным создать новый миф, явить на свет, по примеру Лурии, доселе неизвестную религиозную истину. Каванот действительно дарили радость. По словам одного из учеников Лурии Хаима Витала (1542–1620), во время медитаций он дрожал в экстазе от восторга и благоговения. Посещавшие каббалистов видения и впадение в транс преображали жестокий и враждебный мир[29].
Рациональная мысль, при всех ее достижениях в практической сфере, не способна развеять печаль и горе. Испанская трагедия научила каббалистов, что философские дисциплины, популярные у андалузских евреев, не помогут справиться с болью[30]. Жизнь лишилась смысла, а бессмысленность существования приводит к отчаянию. Поэтому, дабы сделать жизнь выносимой, изгнанники стали искать утешения в мифе и мистицизме, позволявших соприкоснуться с бессознательными источниками боли, утраты и тоски и найти опору в утешительных видениях.
Примечательно, однако, что, в отличие от Игнатия Лойолы, Лурия и его ученики не вынашивали практических планов политического раскабаления евреев. Каббалисты обосновались в Израиле, но они не были сионистами, Лурия не призывал евреев мигрировать на Святую землю и тем самым положить конец изгнанию. Он не стремился построить на своем мифе и мистических видениях новую идеологию и превратить ее в программу действий. Миф этим не занимается, подобные практические разработки и политические программы – прерогатива логоса, рациональной дискурсивной мысли. Лурия знал, что его миссия как мистика – спасти евреев от экзистенциального и духовного отчаяния. И когда позже мифы все-таки были перенесены на политическую почву, результат оказался, как мы увидим в этой же главе, плачевным.
Без культа, без молитвы и обряда мифы и доктрины лишены смысла. Без особых церемоний и ритуалов, позволяющих каббалистам принять миф, лурианская космогония осталась бы бессмысленной выдумкой. Лишь литургический контекст наделяет религиозную веру смыслом. Лишившись подобного рода духовной активности, человек утрачивает веру. Именно так и произошло с некоторыми из евреев, решившими принять крещение, чтобы не покидать Иберийский полуостров. То же самое касалось многих представителей Нового времени, которые переставали медитировать, отказывались от ритуалов и участия в литургиях, а затем обнаруживали, что религиозные мифы ничего больше для них не значат. Многие выкресты вполне успешно встраивались в католичество. Так, например, Хуан де Вальдес (1500 (?) – 1541) и Хуан Луис Вивес (1492–1540) возглавили контрреформацию, тем самым внеся не меньший вклад в культуру раннего Нового времени, чем светские представители еврейского народа, пополнившие ряды обмирщенных людей, такие как Карл Маркс, Зигмунд Фрейд, Эмиль Дюркгейм, Альберт Эйнштейн и Людвиг Витгенштейн, в культуру позднего Нового времени.
Среди самых ярких представителей этих влиятельных выкрестов можно назвать Терезу Авильскую (1515–1582), наставницу Иоанна Крестного и первую женщину, причисленную к учителям церкви. Она возглавила духовную реформу в Испании, заботясь в первую очередь о том, чтобы неграмотные женщины, склоняемые к нездоровым мистическим практикам некомпетентными духовниками, получали основательную религиозную подготовку. Истерические припадки, транс, видения, экстаз не имеют никакого отношения к святости, утверждала она. Мистицизм требует навыка, сосредоточения, уравновешенности, жизнерадостного и здравого настроя. Его необходимо встраивать в обычную жизнь, контролируя и не пуская на самотек. Как и Иоанн Крестный, Тереза была гениальным модернизатором и мистиком, однако в иудаизме она не смогла бы развивать этот свой дар, поскольку женщинам путь в каббалисты был заказан. Тем не менее, как ни удивительно, в духовном плане она оставалась иудейкой. В своем сочинении «Внутренний замок» она описывает путь души через семь небесных обителей, в конце которого ее ждет встреча с Богом. От этой схемы веет разительным сходством с «литературой чертогов», популярной в еврейской культуре с I по XII в. н. э. Тереза, несмотря на то, что была преданной и верной католичкой, молилась все равно по еврейской традиции и монахинь своих учила тому же.
У Терезы иудаизм вполне плодотворно уживался с христианством, однако у других, менее одаренных выкрестов в душе возникал конфликт, как, например, у Томмазо де Торквемады (1420–1498), первого Великого инквизитора[31]. Рвение, с которым он искоренял остатки иудаизма в Испании, возможно, было продиктовано подсознательным стремлением вырвать старую веру из своего собственного сердца. Большинство марранов крестились против своей воли, и многие, судя по всему, так и не смогли полностью эту новую веру принять. Неудивительно, ведь, крестившись, они попадали под неусыпный надзор инквизиции и жили в постоянном страхе обвинения, к которому могла привести мельчайшая оплошность. Зажечь свечи в пятницу вечером или отказаться съесть устрицу – все это могло повлечь за собой тюремное заключение, пытки, смерть или (самое мягкое) лишение имущества. В результате многие отходили от религии совсем. Полностью принять католицизм, обрекающий их на страдания и страх, они не могли, а иудаизм с годами превращался в туманное воспоминание. После великого изгнания 1492 г. в Испании не осталось приверженцев иудейской веры, и даже если марраны захотели бы отправлять ритуалы тайно, им не от кого было бы научиться еврейскому закону и перенять практику обрядов. В результате они не принадлежали ни к одной из конфессий. Таким образом, секуляризация, атеизм, равнодушие к религии и прочие проявления абсолютно современных тенденций распространились среди марранов Иберийского полуострова задолго до остальной Европы.
Согласно утверждению израилеведа Ирмияха Йовеля, у выкрестов довольно часто наблюдался скептицизм по отношению к религии вообще[32]. Еще до великого изгнания 1492 г. некоторые представители испанской знати, такие как Педро и Фернандо де ла Кабаллерия, всецело посвящали себя политике, искусству, литературе, не выказывая ни малейшего интереса к религии. Педро открыто глумился над своим фальшивым христианством, дававшим ему в его глазах полную свободу действий без оглядки на заповеди и ограничения[33]. Незадолго до 1492 г. некий Альваро де Монтальбан предстал перед судом инквизиции за то, что ел сыр и мясо во время поста, тем самым нарушив не только христианский, но и иудейский закон, запрещающий употребление мясного вместе с молочным. Очевидно, что человек не чувствовал себя причастным ни к той, ни к другой вере. В тот раз Альваро удалось отделаться штрафом, однако теплым чувствам к католицизму у него было взяться неоткуда. Тела его родителей, погибших от рук инквизиции за тайную приверженность иудаизму, были эксгумированы, кости сожжены и имущество конфисковано[34]. Утратив даже призрачную связь с иудаизмом, Альваро очутился в религиозном тупике. Уже в преклонном возрасте, будучи 70-летним старцем, он был снова заточен в тюрьму инквизицией за неоднократное и преднамеренное отрицание доктрины загробной жизни. «Дайте мне насладиться благами жизни на этом свете, – повторял он не единожды, – поскольку неизвестно, существует ли иной»[35].
Арест Альваро автоматически бросал тень подозрения и на его зятя Фернандо де Рохаса (ок. 1465–1541), автора трагикомического романа-драмы «Селестина». Тот тщательно культивировал образ благочестивого христианина, однако в «Селестине», увидевшей свет в 1499 г., мы обнаруживаем махровое безбожие под маской скабрезностей. Бога нет, основной ценностью является любовь, и когда любовь умирает, мир превращается в пустыню. В конце пьесы Плеберио оплакивает самоубийство своей дочери, составлявшей весь смысл его существования. «О мир, – заключает он, – в молодости мне казалось, что тобой и деяниями твоими управляет некий порядок. Теперь же ты кажешься лабиринтом ошибок, устрашающей пустыней, логовом диких зверей, игрой, в которой человек болтается по кругу… каменной пустошью, змеиным лугом, цветущим, но бесплодным садом, ручьем невзгод, рекою слез, морем страдания, напрасными надеждами»[36]. Отлученный от прежней веры и не принимающий новую, дискредитированную жестокостью инквизиции, Рохас впал в отчаяние, не видя в жизни ни смысла, ни порядка, ни высшей ценности.
В намерения правителей-католиков Фердинанда и Изабеллы определенно не входило превращать евреев в неверующих скептиков. Однако, как нам предстоит убедиться не единожды, насильственные действия чреваты обратным результатом. Попытка заставить людей принять господствующую идеологию против воли или когда они не готовы к этому очень часто приводит к последствиям крайне нежелательным для насаждающих эту идеологию. Фердинанд и Изабелла были агрессивными модернизаторами, подавляющими любое инакомыслие, однако их инквизиторские методы привели к образованию тайного еврейского подполья и появлению в Европе секуляристских и атеистических настроений. Впоследствии некоторые христиане, проникнувшись отвращением к подобной религиозной тирании, также утратят доверие к официальной религии. Однако секуляризм демонстрировал иногда не меньшую жестокость, и в XX в. насаждение секуляристской этики во имя прогресса сыграло немаловажную роль в развитии воинствующего фундаментализма, нередко оборачиваясь против самого правительства.
В 1492 г. около 80 000 евреев, отказавшихся обратиться в христианство, получили приют во владениях португальского короля Жуана II. Именно у этих португальских евреев и их потомков мы обнаружим самые радикальные и драматичные проявления атеизма. Некоторые из них отчаянно пытались сохранить свою веру, что оказывалось либо затруднительно, либо невозможно за неимением полноценного культа. Евреи, бежавшие в 1492 г. в Португалию, были сильнее духом, чем испанские выкресты, поскольку ради сохранения веры предпочли отказаться от родины. Когда в 1495 г. на португальский трон взошел Мануэль I, его тесть с тещей, Фердинанд и Изабелла, склоняли короля к насильственному обращению в христианство проживающих на его земле евреев, однако он принял компромиссное решение, даровав им неприкосновенность от инквизиции на целое поколение. В результате португальские марраны выиграли почти 50 лет на организацию подполья, в котором истово верующее меньшинство могло тайно отправлять иудейские обряды и работать над возвращением к старой вере остальных[37].
Однако эти иудействующие марраны оказались отрезанными от остального еврейского мира. Они получили католическое образование, их менталитет во многом определялся христианскими символами и доктринами. Они часто думали и говорили об иудаизме в христианской терминологии: например, верили, что обрели «спасение» благодаря закону Моисееву, а не Иисусу, а в иудаизме концепция спасения разработана слабо. Марраны во многом позабыли иудейский закон, и с годами их представление об иудаизме делалось все более и более смутным. Иногда единственным источником сведений об этой вере оказывались полемические труды христиан-антисемитов. В итоге марраны становились приверженцами некой религии, представлявшей собой симбиоз религиозных представлений, далекий и от иудаизма, и от христианства[38]. Их дилемма была в чем-то сродни дилемме жителей многих развивающихся стран, которые имеют лишь поверхностное представление о западной культуре, но при этом теряют связь и с традиционным укладом, ломающимся под натиском современности. Примерно в том же положении оказались и португальские марраны. Их вынудили влиться в модернизированную культуру, не отвечающую их внутренним потребностям.
К концу XVI в. некоторым евреям было позволено покинуть Иберийский полуостров. К тому времени марранская диаспора уже сформировалась в ряде испанских колоний, а также на юге Франции, однако и там евреям по-прежнему запрещалось отправлять свой культ. Только в XVII в., мигрировав в Венецию, Гамбург и позже Лондон, иудействующие марраны смогли открыто вернуться к иудаизму. Больше всего иберийских беженцев, спасающихся от инквизиции, устремилось в Амстердам, который стал для них новым Иерусалимом. Нидерланды оказались самой толерантной из европейских стран. Это было государство в составе процветающей торговой империи, которое в борьбе за независимость от Испании выработало противоположную иберийским ценностям либеральную идеологию. Евреи стали полноправными гражданами республики в 1657 г., и здесь, в отличие от большинства остальных европейских городов, их никто не запирал в гетто. Голландцы ценили коммерческий опыт евреев, и те успешно вели дела, свободно общаясь с гоями, пользуясь разнообразными благами социальной жизни, отличного образования и развитой книгопечатной промышленности.
Многих евреев, без сомнения, привлекали в Амстердаме именно эти социальные и экономические возможности, однако немалое их количество преследовало другую цель – вернуться к полноценному иудаизму. Это оказалось непросто. «Новых евреев», перебравшихся из Иберии, пришлось заново обучать устоям веры, о которой они имели весьма расплывчатое представление. Раввинам предстояла сложнейшая задача: обратить их на прежний путь, принимая во внимание имеющиеся трудности и не жертвуя при этом традицией. Только благодаря им большинству евреев удалось совершить этот обратный переход, несмотря на некоторые трения поначалу, в конечном итоге возвращение к вере предков свершилось[39]. Ярким примером здесь может служить Оробио де Кастро, врач и профессор метафизики, годами тайно практиковавший иудаизм в Испании. Он был схвачен инквизицией, отрекся под пытками от своей веры, затем преподавал медицину в Тулузе, прикидываясь христианином. Наконец, устав от обмана и двойной жизни, в 1650-х он перебрался в Амстердам, где стал истовым апологетом иудаизма и наставником других возвращающихся марранов[40].
Оробио описал целый класс людей, которым оказалось крайне трудно принять законы и обычаи традиционного иудаизма, представлявшиеся им бессмысленными и обременительными. Как и Оробио, они обучались в Иберии логике, физике, математике и медицине. Однако Оробио с раздражением отмечал, что «они полны тщеславия, гордыни и невежества, возомнили себя высочайшими знатоками всех наук». «Им кажется, будто они, будучи образованными людьми, уронят свое достоинство, если снизойдут до обучения у тех, кто действительно сведущ в священном законе, и поэтому изображают высокоученость, споря о том, в чем не смыслят»[41].
Эти евреи, десятилетиями жившие в религиозной изоляции, вынуждены были полагаться на силы собственного разума. Они были лишены возможности участвовать в богослужениях, общинной религиозной жизни, опыта ритуального соблюдения «священных законов» Торы. Перебравшись в Амстердам и впервые увидев жизнь еврейской общины во всей полноте, они испытали естественное изумление. Человеку несведущему 613 заповедей Пятикнижия представляются запутанными и нелогичными. Некоторые из этих заповедей давно утратили свое значение, поскольку относились к возделыванию Святой земли или службам в храме и не подходили для диаспоры. Другие, например замысловатые правила приема пищи и очищения, показались варварскими и бессмысленными образованным португальским марранам, которые, привыкнув осмысливать все с рациональной точки зрения, не принимали толкований раввинов. Еще более иррациональной и абсурдной казалась Галаха – устный свод законов, составленный в первых веках нашей эры, поскольку она была лишена даже отсылок к Библии.
Однако Моисеев закон (Тора) обладает собственным мифом. Как и лурианская каббала, она стала откликом на переживания изгоев. Когда народу израильскому пришлось в VI в. до н. э. пережить Вавилонское пленение – Храм был разрушен, религиозная жизнь также лежала в руинах, – текст Закона стал новым храмом, в котором лишившиеся опоры люди обретали чувство божественного присутствия. Разделение на чистое и нечистое, священное и мирское послужило мысленному упорядочиванию разлетевшегося вдребезги мира. В изгнании евреи обнаружили, что изучение Закона позволяет обрести глубокий религиозный опыт. Евреи читали текст не как нынешние люди, ради информации. Единение с божественным давал им сам процесс изучения, вопросы и ответы, оживленные споры, разбор мельчайших подробностей. Тора была словом Божьим – погружаясь в нее, зазубривая слова, продиктованные Моисею самим Богом, и проговаривая их вслух, евреи привносили божественное в обычную жизнь и попадали в область священного. Моисеев закон стал символом, приближающим к Шехине. Заповеди наполняли божественной волей мелкие подробности повседневной жизни, будь то еда, мытье, молитва или просто отдых с семьей в шаббат.
Все это крайне сложно поддавалось рациональному осмыслению, на которое привыкли полагаться марраны. Приверженность мифическому и культовому была для них внове и казалась чуждой. Некоторые из «новых евреев», как сетовал Оробио, стали «отъявленными атеистами»[42]. На самом деле атеистами в привычном нам современном значении слова они не были, поскольку по-прежнему верили в трансцендентное божество. Однако не в библейского Бога. У марранов выработалась полностью рациональная вера, напоминающая деизм философов эпохи Просвещения[43]. Бог был первопричиной всего сущего, чье существование было логически доказано Аристотелем. Господь всегда вел себя исключительно рационально, не вмешивался то и дело в историю человечества, не попирал законы природы демонстрацией непонятных чудес и не диктовал замысловатые заповеди на горных вершинах. У него не было нужды открывать людям какой-то особенный свод законов, поскольку законы природы и так доступны каждому. Это был такой Бог, к образу которого естественно склоняется человеческое сознание, – по сути, именно такое божество описывали еврейские и мусульманские философы прошлого. Однако для основной массы верующих он не годился. От него не было никакой религиозной пользы. Ведь сомнительно, что Бог как Первопричина вообще подозревает о существовании человека, поскольку его внимание обращено лишь на совершенные объекты. Такой Бог не облегчит человеку боль и страдания. Для этого необходима мистическая и культовая духовность, незнакомая марранам.
Большинство марранов, вернувшихся к иудейской вере в Амстердаме, смогли в той или иной степени научиться принимать галахическую духовность. Однако некоторым такой переход оказался не под силу. Одним из самых трагичных стал пример Уриэля да Косты, родившегося в семье выкрестов и воспитанного иезуитами, который впоследствии разочаровался в христианстве, сочтя его жестоким орудием гнета, сформированным из надуманных правил и доктрин, не имеющих никакого отношения к Писанию. Да Коста обратился к иудейским священным книгам и выработал крайне идеализированное, рационалистическое представление об иудаизме. Когда же в начале XVII в. он прибыл в Амстердам, то обнаружил, к собственному ужасу, что современный иудаизм – такой же рукотворный конструкт, как и католицизм.
Исследователи недавно подвергли сомнению свидетельство да Косты, утверждая, что он почти наверняка где-то еще ранее столкнулся, пусть поверхностно, с какой-то формой галахического иудаизма, возможно, не осознавая при этом, насколько глубоко Галаха управляет жизнью еврея. Однако не возникает никакого сомнения в полном неприятии да Костой амстердамского иудаизма. Он написал трактат против доктрины загробной жизни и иудейского закона, утверждая, что верит лишь в человеческий разум и законы природы. Раввины отлучили его от иудаизма, обрекая на годы одиночества, и в конце концов, не выдержав, да Коста отрекся от своих взглядов, после чего был принят обратно в сообщество. Однако отречение было формальным, на самом деле да Коста по-прежнему не считал необходимым следовать ритуалам, не представлявшим для него рационального смысла, поэтому подвергался отлучению (херему) еще дважды. В 1640 г., окончательно раздавленный, сломленный, отчаявшийся, он покончил с собой.
Трагедия да Косты продемонстрировала, что светской альтернативы религиозной жизни в Европе пока не существовало. Сменить веру было можно, однако лишь совершенно исключительный человек – каким да Коста не был – смог бы выжить вне религиозного сообщества. В годы отлучения да Коста оказался в абсолютной изоляции, презираемый и евреями, и христианами – его дразнили даже уличные мальчишки[44].
Не менее показательным, хоть и не таким острым, можно назвать пример Хуана да Прадо, который приехал в Амстердам в 1655 г. и наверняка часто размышлял над судьбой да Косты. В Португалии он 20 лет был преданным участником иудейского подполья, однако, судя по всему, еще в 1645 г. проникся марранским деизмом. Ум Прадо нельзя было назвать ни блестящим, ни аналитическим, однако его опыт показывает, что невозможно стать приверженцем конфессиональной религии, подобной иудаизму, полагаясь исключительно на разум. Без молитв, без культа, без мистической основы Прадо не мог прийти к иному заключению, чем то, что Бог тождественен законам природы. Тем не менее он оставался участником подполья еще 10 лет. Для него иудаизм означал братство, принадлежность к дружному сообществу, наполнявшему его жизнь смыслом, потому, даже чувствуя неприязнь к амстердамским раввинам, он по-прежнему не желал выходить из еврейской общины. Как и да Коста, Прадо годами отстаивал свое право думать и молиться в соответствии со своими воззрениями. У него было собственное представление об иудаизме, и подлинная картина привела его в ужас. Свои возражения Прадо выражал открыто. Почему евреи считают, что Бог сделал избранным только их народ? Что это за Бог? Не логичнее ли видеть в Боге некую Первопричину, а не личность, продиктовавшую набор варварских бессмысленных заповедей? Этот деизм очень мешал раввинам, которые пытались переучить «новых евреев» из Иберии, многие из которых разделяли мнение Прадо. 14 февраля 1657 г. Прадо отлучили. Тем не менее он отказался выходить из общины.
Это было столкновение двух заведомо непримиримых мировоззрений. И раввины, и Прадо были правы – каждая сторона по-своему. Прадо, утратившему мистический склад ума, казался бессмысленным традиционный иудаизм, а постичь глубинное значение этой веры через культ и ритуалы ему так и не довелось. Привыкнув полагаться на разум и собственные догадки, он не мог свернуть с этого пути. Однако правы были и раввины: деизм Прадо не имел ни малейшего отношения ни к одной известной им форме иудаизма. Прадо хотел, по сути, стать «светским евреем», однако в XVII в. такого понятия еще не существовало, и ни Прадо, ни раввины не могли его четко сформулировать. Это столкновение стало первым в ряду конфликтов между современным (полностью рациональным) мировоззрением и религиозным складом ума, сформированным культом и мифом.
Как часто бывает в подобных принципиальных разногласиях, противники не могли похвастаться достойным поведением. Прадо был человеком высокомерным и всячески оскорблял раввинов, в какой-то момент даже чуть не кинувшись на них с оружием в синагоге. Раввины тоже действовали нечистоплотными методами: приставили к Прадо шпиона, который докладывал, что взгляды бунтовщика становятся все более радикальными. После отлучения Прадо продолжал утверждать, что любая религия – чушь и что единственным источником истины должен быть разум, а не так называемые откровения. Как Прадо окончил свои дни, неизвестно. Он был вынужден покинуть общину и нашел приют в Антверпене. Говорили, что он пытался даже вернуться в лоно католической церкви. Если так, то это был поступок, продиктованный отчаянием и еще раз доказывающий, что существование обычного человека вне религии в XVII в. не представлялось возможным[45].
Прадо и да Коста выступили провозвестниками модернистского духа. Их примеры доказывают, что миф конфессиональной религии оказывается нежизнеспособным без духовных упражнений в молитве и ритуалах, развивающих интуитивные области сознания. Разум порождает лишь бледный деизм, который вскоре отвергается, поскольку не может служить утешением в горе. Прадо и да Коста утратили веру, лишившись возможности ее практиковать, однако, как свидетельствует пример другого амстердамского маррана, упражнение разума может стать настолько всепоглощающим и восхитительным процессом, что потребность в мифе снижается. Единственным объектом размышления становится окружающий мир, мерой всех вещей оказывается человек, а не Бог. Упражнение разума у человека с выдающимися интеллектуальными способностями может само по себе вызвать что-то вроде мистического озарения. И это тоже вполне в современном духе.
Одновременно с отлучением Прадо раввины открыли процесс против Баруха Спинозы, которому тогда было всего 23 года. В отличие от Прадо, Спиноза родился в Амстердаме. Его родители, иудействующие португальские марраны, смогли вернуться к традиционному иудаизму после переезда, поэтому Спиноза никогда прежде не подвергался гонениям и преследованию. Он вырос в либеральном Амстердаме, был вхож в интеллектуальные круги гоев и имел возможность беспрепятственно практиковать свою религию. Он получил традиционное образование в знаменитой религиозной школе «Венец Торы» (иешива «Кетер Тора»), но при этом изучал и современную ему математику, астрономию и физику. Нацеленный на коммерческую карьеру, Спиноза был как будто достаточно набожен, однако в 1655 г., вскоре после появления Прадо в Амстердаме, он вдруг перестал посещать службы в синагоге и начал высказывать свои сомнения вслух. Он указывал на противоречия в библейском тексте, доказывающие его человеческое, а не божественное происхождение. Спиноза отрицал саму возможность откровения и утверждал, что Бог – это лишь совокупность природных явлений. 27 июля 1656 г. раввины наложили на него херем, отлучая от общины, однако, в отличие от Прадо, Спиноза не просил принять его обратно. Он покинул общину с радостью, став первым европейцем, сумевшим безболезненно существовать вне традиционной религии.
Спинозе было легче выжить в мире гоев, чем Прадо или да Косте. Он был гением, способным четко сформулировать свои взгляды, а кроме того, как подлинно независимый человек, мог выдержать неизбежное одиночество. Ему не пришлось покидать родину, у него имелись влиятельные покровители, снабжавшие его достаточными суммами денег, поэтому бедность ему тоже не грозила. Шлифовкой линз Спиноза, вопреки распространенному мнению, занимался вовсе не из нужды, а из научного интереса к оптике. Он водил дружбу с ведущими нееврейскими учеными, философами, политиками своего времени. И все же оставался одинокой фигурой. И евреев, и гоев его безрелигиозность повергала либо в смущение, либо в ужас[46].
Тем не менее в атеизме Спинозы присутствовала духовность, поскольку он видел в мире божественное начало. Представление о Боге, имманентно присутствующем в повседневной действительности, наполняло Спинозу благоговением и восторгом. Философские занятия и собственно мышление заменяли ему молитву; как он объяснял в своем «Кратком трактате о Боге, человеке и его блаженстве» (1661), божество – это не объект познания, а принцип мышления. Отсюда следует, что радость обретения знания и есть интеллектуальная любовь Господа. Подлинный философ, считал Спиноза, будет культивировать так называемое интуитивное знание, озарение, в котором соединяется воедино вся добытая дискурсивным путем информация, и именно в этом ощущении для Спинозы содержится Бог. Это чувство он называл «блаженством», в таком состоянии философ осознает, что неотделим от Бога и что Бог обитает в человеке. Это была мистическая философия, которую можно рассматривать как рационалистическую вариацию учения Иоанна Крестного и Терезы Авильской, однако Спиноза подобные религиозные озарения не приветствовал. Он считал, что поиски трансцендентного Бога отчуждают человека от собственной природы. Более поздние философы сочтут погоню за экстазом блаженства постыдной и вместе с тем откажутся от такого представления о Боге. Тем не менее Спиноза со своим сосредоточением на физическом мире и отрицанием сверхъестественного станет одним из первых европейских секуляристов.
Как и многие представители нашего времени, Спиноза не принимал формальную религию ни в каком виде. Что неудивительно, учитывая отлучение, которому его подвергли. Он отвергал существующие формы веры как «смесь доверчивости и предрассудков» и «паутину нелепых тайн»[47]. Он находил экстаз в неограниченной свободе разума, а не в погружении в библейский текст, и поэтому подходил к Писанию с совершенно объективной точки зрения. Спиноза требовал рассматривать Библию не как божественное откровение, а как самый обычный текст. Он одним из первых применил к ней научный подход, задаваясь вопросами об историческом контексте, литературных жанрах и авторстве[48]. Кроме того, он проверял на Библии свои политические идеи. Спиноза одним из первых в Европе провозгласил идею светского демократического государства, которое станет одним из краеугольных камней западного модерна. Он утверждал, что с переходом власти от иудейских царей к священникам государственные законы приобрели карательный и запретительный характер. Теократия царила в Израиле изначально, однако, по мнению Спинозы, Бог и народ были едины, голос народа имел большую силу. Как только власть захватили священники, глас Божий слышать перестали[49]. Однако Спиноза не был популистом. Как и большинство премодернистских философов, он был элитаристом, считавшим массы неспособными к рациональному мышлению. Им необходима некоторая форма религии для просвещения, однако в основе этой религии должны лежать не откровения, а естественные принципы справедливости, братства и свободы[50].
Спиноза, без сомнения, был одним из предвестников модернизма, а позже станет героем для светских евреев, восхищавшихся его принципиальным отходом от рамок религии. Однако при жизни философ не обрел последователей среди евреев, несмотря на то что многие из них, видимо, были уже готовы к радикальным переменам. Примерно в то же время, когда Спиноза разрабатывал свой светский рационализм, евреев охватили мессианские настроения, при которых значение разума вообще отбрасывается. Это было одно из первых милленаристских движений Нового времени, предоставлявших людям религиозный способ порвать со священным прошлым и устремиться к чему-то совершенно новому. С подобными явлениями мы будем сталкиваться в этой книге часто. Светская философская мысль модернистской интеллектуальной элиты была доступна пониманию немногих, большинство постигало происходящие в мире изменения через религию, дающую утешительную связь с прошлым и облекающую современный логос в мифологическую оболочку.
Судя по всему, к середине XVII в. положение многих евреев стало критическим. Амстердамская община марранов была скорее исключением, в других странах Европы евреи не знали такой свободы, и радикальный уход Спинозы стал реальностью лишь благодаря возможности общаться с гоями и изучать новые науки. Во всем остальном христианском мире евреям доступ в общество был закрыт. К XVI в. их окончательно упрятали за стены специально выделенных гетто, тем самым обрекая на неизбежную изоляцию. Сегрегация усиливала антисемитские предрассудки, и евреи отвечали враждебному миру гоев подозрительностью и недоверием. Гетто стало отдельным мирком. У евреев имелись собственные школы, собственные социальные и благотворительные институты, собственные бани, кладбища и бойни. Гетто были автономными и самоуправляющимися. Кагал (орган общинного самоуправления) из избранных раввинов и старейшин вершил собственный суд по еврейскому закону. По сути гетто было государством в государстве, самодостаточным миром, и евреи мало (да и неохотно) контактировали с внешним обществом гоев. Однако к середине XVII в. многим эти рамки стали тесны. Гетто часто располагались в грязных районах, трущобах. Они огораживались высокой стеной, не дававшей возможности расширяться при перенаселении. Что-то сажать, заниматься садоводством было негде даже в крупных гетто Рима и Венеции. Единственный способ обеспечить себя жилплощадью – надстраивать этажи на уже существующих зданиях, зачастую с неподходящим фундаментом, что приводило к обрушениям. О пожарах и болезнях и говорить нечего. Евреев принуждали носить отличительные знаки на одежде, притесняли в экономическом отношении, зачастую не давая заниматься ничем, кроме мелкой торговли и портняжного дела. К крупным коммерческим предприятиям они не допускались, и большая часть еврейской общины жила за счет благотворительности. Отгороженные высокими стенами от солнечного света и природы, жители гетто чахли и хирели. Оторванность от европейского искусства и науки порождала косность мышления. Еврейские школы были неплохи, однако после XV в., когда образовательная программа у христиан начала обретать более либеральные черты, евреи по-прежнему ограничивались лишь Торой и Талмудом. Замкнутый на собственных текстах и культурной традиции, образовательный процесс вырождался в казуистику и копание в мелочах[51].
В исламском мире евреев так не притесняли. Как и христиане, они обладали статусом «зимми» («защищенного меньшинства»), обеспечивавшим гражданскую и военную защиту при условии признания ими мусульманского государства и соблюдения его законов. В исламских странах евреи не подвергались гонениям, там отсутствовала традиция антисемитизма, и пусть зимми были гражданами второго сорта, им предоставлялась полная религиозная свобода и возможность заниматься делами по своим законам, поэтому они, в отличие от европейских евреев, оказывались в меньшем отрыве от основных направлений культуры и торговли[52]. Однако, как покажут дальнейшие события, даже в исламских странах начинались еврейские волнения и возникали мечты о большей независимости. С 1492 г. до них доходили одна за другой вести о европейских несчастьях, а в 1648 г. оглушили сообщения о трагических событиях в Польше, которые вплоть до XX в. останутся в истории еврейского народа как беспрецедентные по жестокости.
Польша как раз присоединила большую часть нынешней Украины, где крестьяне образовывали собственные оборонные отряды. Казаки ненавидели как поляков, так и евреев, часто служивших управляющими в поместьях польской аристократии. В 1648 г. гетман Богдан Хмельницкий возглавил восстание против поляков, ударившее заодно и по еврейским общинам. По свидетельству хроник, закончившаяся в 1667 г. война унесла жизни 100 000 евреев и разрушила 300 еврейских общин. Даже если предположить, что цифры эти несколько преувеличены, из писем и рассказов беженцев складывалась жуткая картина, повергавшая в страх евреев из других стран. Рассказывали о массовых четвертованиях, о братских могилах, в которых хоронили заживо женщин и детей, о том, как пленным раздавали ружья и заставляли расстреливать друг друга. Поверив, что это и есть предсказанные «родовые муки прихода Мессии», многие в отчаянии обратились к предписанным лурианской каббалой самоистязаниям в надежде приблизить мессианское искупление[53].
Когда вести о зверствах Хмельницкого достигли Смирны (теперешняя Турция), один молодой еврей во время прогулки под городскими стенами услышал глас с небес, назвавший его «спасителем Израиля, Мессией, сыном Давидовым и помазанником Бога Иакова»[54]. Шабтай Цви был талмудистом и каббалистом (хотя в тот момент еще не увлекся лурианской каббалой), собравшим вокруг себя небольшой кружок последователей. К нему тянулись, однако в возрасте 20 лет у него проявились симптомы того, что сегодня мы назвали бы маниакально-депрессивным психозом. Он пропадал на несколько дней, страдая от отчаяния в тесной, темной каморке, потом наступала фаза «озарения» – лихорадочное возбуждение, бессонница, ощущение связи с высшими силами. Иногда он чувствовал потребность нарушить заповеди Торы – например, поминать всуе запретное имя Бога или употреблять некошерную пищу. Он сам не мог объяснить свои странные поступки, но ощущал, что к ним его побуждает сам Бог[55]. Позже он уверился, что совершает свои антиномианистичные действия во имя искупления: Бог «вскоре даст ему новый закон и новые заповеди, благодаря которым произойдет исправление всех миров»[56]. Таким образом, его выходки получали статус «священного греха», лурианские каббалисты причислили бы их к деяниям тиккун. Вероятнее всего, они представляли собой подсознательный протест против традиционных еврейских обрядов и воплощали неосознанную тягу к чему-то новому.
В конце концов Шабтай окончательно настроил против себя общину Смирны, и в 1650 г. ему пришлось покинуть город. Последующие 15 лет, которые он назвал своими «темными годами», Шабтай скитался по городам и весям Османской империи. О своем мессианском призвании он помалкивал и, возможно, оставил саму мысль о собственной избранности. К 1665 г. Шабтай, окончательно устав от своих демонов, становится раввином[57]. Прослышав об одаренном молодом каббалисте из Газы, который занимается целительством, он отправляется туда. До равви Натана уже доходили слухи о Шабтае – возможно, когда оба, еще незнакомые друг с другом, жили в Иерусалиме. Видимо, что-то отложилось в сознании и из «выходок» Шабтая, поскольку незадолго до приезда гостя Натану было откровение об изгнаннике. Равви недавно был посвящен в лурианскую каббалу и накануне Пурима затворился: запершись в комнате, постился, рыдал и читал псалмы. Во время этого бдения ему явился Шабтай, и он услышал собственный голос, предрекавший: «Внемли гласу Божьему! Грядет Спаситель! Его имя – Шабтай Цви. Он поднимет плач, рев, вой, он изгонит моих врагов»[58]. Поэтому появление Шабтая на пороге своего дома Натан воспринял как сбывшееся пророчество.
Как мог Натан, с его блестящим умом, вообразить, что этот жалкий, замученный человек и есть Спаситель? Согласно лурианской каббале, душа Мессии потеряна в безбожном пространстве, образовавшемся в изначальном акте цимцума, а значит, Мессия с самого начала вынужден бороться со злыми «потусторонними» силами, однако теперь, полагал Натан, благодаря принятому у каббалистов самоистязанию эти демоны начинают постепенно отступать. Время от времени, освобождаясь от оков, душа Спасителя открывает Новый Закон мессианской эпохи. Однако до окончательной победы еще далеко, и темные силы одолевают Его снова и снова[59]. Все это отлично увязывалось с характером и биографией Шабтая. Когда он прибыл, Натан заверил, что Конец близок. Вскоре победа над силами зла станет полной, и он, мессия Шабтай, принесет искупление народу Израиля. Старый закон отомрет, и ранее греховное станет праведным.
Сперва Шабтай не хотел примерять на себя фантазии Натана, однако постепенно красноречие молодого раввина его переубедило – по крайней мере он нашел некое объяснение своим странностям. 28 мая 1665 г. Шабтай провозгласил себя Мессией, и Натан немедленно разослал в Египет, Алеппо и Смирну письма с объявлением, что Спаситель вскоре свергнет османского султана, положит конец скитаниям иудеев и отведет их назад на Святую землю. Все остальные народы покорятся его власти[60]. Вести распространились со скоростью лесного пожара, и к 1666 г. мессианскими настроениями прониклись почти в каждой еврейской общине Европы, Османской империи и Ирана. Местами воцарился хаос. Евреи начали распродавать имущество, готовясь к походу в Палестину, и торговля встала. Периодически проносился слух, что Мессия отменил какие-нибудь постные дни, и начинались праздничные шествия и пляски на улицах. Для приближения Конца евреи, согласно распоряжению Натана, должны были предаваться цфатским ритуалам самоистязания, поэтому в Европе, в Египте, в Иране, на Балканах, в Италии, Амстердаме, Польше и Франции иудеи постились, не спали ночами, погружались в ледяную воду, катались в крапиве и подавали милостыню нищим. Наступило первое в череде аналогичных явлений Великое Пробуждение раннего Нового времени, когда люди инстинктивно ощущали приближение глобальных перемен. О самом Шабтае мало кто что-то знал толком, и еще меньше людей были знакомы с невразумительными каббалистическими представлениями Натана – достаточно было знать, что Мессия пришел и избавление близко[61]. Во время этой эйфории, продолжавшейся несколько месяцев, евреи настолько воспрянули духом, что мрачные стены гетто будто раздвинулись. Евреи почувствовали вкус новизны, и для многих жизнь изменилась раз и навсегда. Перед ними замаячили новые возможности, до них, казалось, рукой подать. И эта свобода дарила многим ощущение, что со старой жизнью покончено навеки[62].
Подпадавшие под непосредственное влияние Шабтая или Натана евреи демонстрировали готовность поступиться Торой, пусть даже это означало бы конец привычной им религиозной жизни. Когда Шабтай являлся в синагогу в царских одеждах Мессии, не соблюдал пост, произносил запрещенные имена Бога, ел некошерную пищу и звал женщин в синагогу читать Писание, люди приходили в восхищение. Разумеется, не все: в каждой общине находились и раввины, и простые жители, возмущенные такими новшествами. Тем не менее Шабтай со своим антиномианизмом находил отклик во всех слоях общества – и среди богачей, и среди бедняков. Закон не помог евреям и не спас их. Преследования и изгнание продолжались, и люди внутренне готовы были принять новую свободу[63].
Однако все это было крайне опасно. Лурианская каббала оставалась мифом, не приспособленным под переделку в политическую программу, ее задачей было пролить свет на внутреннюю духовную жизнь. Миф и логос – комплементарные, но совершенно отдельные сферы с разными функциями. Политика принадлежала к области разума и логики, миф придавал ей смысл, однако не был предназначен для буквального прочтения, как толковал Натан мистические видения Ицхака Лурии. Ощущения свободы, силы и власти над собственной судьбой оставались у иудеев всего лишь ощущениями, внешние обстоятельства их жизни нисколько не изменились. Они по-прежнему были слабы, уязвимы и зависимы от прихоти правителей. Лурианский образ Мессии, борющегося с силами тьмы, был ярким символом вселенской борьбы добра со злом, однако попытка воплотить этот образ в эмоционально нестабильном живом человеке грозила обернуться катастрофой.
Так и вышло. В феврале 1666 г. Шабтай с благословения Натана выступил против султана, по понятным причинам встревоженного лихорадочным возбуждением в еврейских общинах и закономерно опасавшегося народных волнений. На подходах к Галлиполи Шабтая арестовали, доставили в Стамбул пред очи султана и предложили выбор – либо смерть, либо обращение в ислам. К ужасу иудеев всего мира Шабтай выбрал смену веры. Мессия превратился в отступника.
На этом все бы и закончилось. Большинство иудеев прониклись к Шабтаю презрением и, пристыженные, вернулись к прежней жизни и полному соблюдению заповедей Торы, стремясь побыстрее забыть о позоре. Однако были и те, кто не мог отказаться от мечты о свободе. Им не верилось, что та вольность, которая царила все эти месяцы в их душе, всего лишь иллюзия. Они примирились с фигурой Мессии-отступника, как первые христиане смогли принять не менее крамольную идею смерти Мессии как обычного преступника.
Натан, пережив период глубокой депрессии, пересмотрел свою теологию. Освобождение началось, объяснял он своим ученикам, однако случился рецидив, и Шабтаю пришлось еще глубже погрузиться в область нечистого и принять облик зла как оно есть. Это был предел «священного греха», последнее деяние тиккун[64]. Саббатиане, не утратившие веры в Шабтая, отреагировали по-разному. Теология Натана обрела популярность в Амстердаме – теперь Мессия стал марраном. Перейдя для отвода глаз в ислам, он втайне остался приверженцем иудаизма[65]. Те марраны, которые давно были не в ладах с Торой, ждали, что окончательное искупление принесет с собой неизбежный отказ от нее. Другие полагали, что должны соблюдать Тору по-прежнему, пока не произойдет полного освобождения, однако после этого Мессия провозгласит новый Закон, во всем противоречащий старому. Немногочисленная группа радикально настроенных саббатиан пошла еще дальше. Они не могли заставить себя вернуться к старому Закону, даже временно, и, уверовав, что иудеи должны последовать за своим Мессией в царство зла, тоже стали отступниками. Они приняли господствующую религию (христианство в Европе, ислам на Ближнем Востоке), но в стенах собственного дома продолжали тайно иудействовать[66]. Эти радикалы предвосхитили и выход, найденный современными евреями: ассимилироваться в большинстве аспектов с культурой гоев, но при этом выделить веру в отдельную область и сохранить ее неприкосновенной.
Саббатианам двойная жизнь Шабтая представлялась полной душевных мук, однако на самом деле мусульманство его, судя по всему, нисколько не тяготило. Он изучал священный исламский закон, шариат и параллельно разъяснял духовному наставнику султана принципы иудаизма. Ему разрешалось принимать гостей, и он устраивал настоящие аудиенции, принимая делегации евреев со всего мира. Гости отмечали его большую набожность. Шабтая часто видели дома поющим гимны со свитком Торы в руках, людей поражала его преданность и удивительная способность проникаться чувствами ближнего[67]. Идеи саббатийского кружка разительно отличались от идей Натана, в том числе и большей благосклонностью к гоям. Шабтай, судя по всему, признавал все религии, а себя видел связующим звеном между иудаизмом и исламом; христианство и Иисус его тоже вдохновляли. По свидетельствам посетителей, иногда он вел себя как мусульманин, иногда как раввин. Османы не запрещали ему отмечать иудейские праздники, и Шабтая часто видели с Кораном в одной руке и свитком Торы в другой[68]. В синагогах Шабтай убеждал евреев принять ислам – только в этом случае, говорил он, они смогут вернуться на Святую землю. В одном из писем, написанных в 1669 г., Шабтай горячо отрицает, что перешел в ислам по принуждению; ислам, утверждал он, «являет собой истину», и, кроме того, Мессией он послан к гоям ровно так же, как и к иудеям[69].
Смерть Шабтая 17 сентября 1676 г. стала большим ударом для саббатиан, поскольку уничтожала все надежды на освобождение. Тем не менее секта продолжала свое подпольное существование, доказывая, что мессианские настроения не были случайным всплеском, а затрагивали какие-то фундаментальные основы еврейской культуры. Для кого-то это религиозное движение стало мостиком, облегчающим трудный переход к современному рацио. Готовность многих отказаться от Торы и упорные мечты саббатиан о новом Законе демонстрировали готовность людей к переменам и реформам[70]. Гершом Шолем, автор фундаментального исследования о Шабтае и саббатианстве, утверждал, что многие из этих тайных саббатиан станут впоследствии пионерами еврейского просвещения или реформистского иудаизма. Среди них он отмечает бывшего саббатианина Иосифа Вехте из Праги, распространявшего идеи просвещения в Восточной Европе в начале XIX в., и Арона Човина, начавшего реформистское движение в Венгрии, – тот в молодости тоже принадлежал к саббатианам[71]. Теория Шолема спорна, она не подтверждена и не опровергнута окончательно, однако общепризнано, что саббатианство сильно подорвало традиционный авторитет раввинов и помогло евреям подготовиться к переменам, которые ранее попали бы в разряд табуированных и невозможных.
После смерти Шабтая было отмечено два случая массового перехода евреев в господствующую веру с подачи радикального саббатианского движения. В 1683 г. около 200 семей в Османской Турции приняли ислам. У этих денме («отступников» в переводе с турецкого) имелись собственные тайные синагоги, но при этом они молились и в мечетях. На пике расцвета, во второй половине XVIII в., в секте насчитывалось около 115 000 человек[72]. Ее разложение пришлось на начало XIX столетия, когда члены секты стали получать современное светское образование и потребность в какой бы то ни было религии отпала. Некоторые молодые денме поддерживали светское движение младотурков и приняли участие в восстании 1908 г.
Второй случай оказался более радикальным и продемонстрировал нигилизм, проистекающий из буквального переноса мифа в практическую сферу. Яков Франк (1726–1791) обратился в саббатианство, путешествуя по Балканам. Вернувшись в родную Польшу, он основал подпольную секту, участники которой на людях соблюдали иудейский закон, однако втайне предавались запретным сексуальным утехам. Когда в 1756 г. Франка отлучили от общины, он принял сперва ислам (во время путешествия в Турцию), а потом католицизм и увел за собой своих последователей.
Франк не просто отвергал ограничения, наложенные Торой, а шел еще дальше, активно проповедуя аморализм. Он считал Тору не только устаревшей, но опасной и бесполезной. Заповеди губительны, и от них следует отказаться. Грех и бесстыдство – единственный путь к искуплению и обретению Бога. Франк пришел не строить, а «только уничтожать и крушить»[73]. Его последователи вели войну против всех религиозных установок: «Говорю вам, что все, кто станут воинами, должны отказаться от религии, то есть достичь свободы собственными усилиями»[74]. Подобно многим нынешним радикальным секуляристам, Франк считал вредной любую религию. Впоследствии франкисты обратились и к политике, вынашивая мечты о великой революции, которая расправится с прошлым и спасет мир. Во Французской революции они увидели подтверждение своим идеям и уверовали, что Бог на их стороне[75].
Евреи предвосхитили многие современные подходы. Испытания, выпавшие на их долю в связи с агрессивной модернизацией европейского общества, привели их к секуляризму, скептицизму, атеизму, рационализму, нигилизму, плюрализму и превращению религии в частное дело. Для большинства иудеев путь в новый мир, развивающийся на Западе, вел через религию, однако эта религия сильно отличалась от привычной нам религии XX в. Она была более мифологизированной, не трактовала Писание буквально и идеально подходила для поиска новых решений, порой шокирующих в своей погоне за новизной.
Чтобы еще глубже понять роль религии в премодернистском обществе, обратимся теперь к мусульманскому миру, переживавшему в означенный период свои собственные потрясения и развивавшему другие формы духовности, влияние которых продолжится и в Новое время.
2. Мусульмане. Дух консерватизма (1492–1799)
В 1492 г. первыми жертвами нового порядка, постепенно зарождавшегося на Западе, пали евреи. Однако кроме них в тот переломный год пострадали и испанские мусульмане, лишившиеся последнего оплота в Европе. Тем не менее это не значит, что ислам исчерпал себя. В XVI в. его власть была по-прежнему величайшей в мире. Несмотря на то, что Китайская империя Сун (960–1260) превосходила исламские страны по уровню социальной развитости и обладала большей мощью, а итальянское Возрождение послужило расцвету культуры, который в конечном итоге позволит Западу вырваться вперед, мусульманам сперва удавалось без труда удерживать экономическое и политическое первенство. Составляя всего около трети населения планеты, мусульмане, однако, были настолько широко и стратегически удачно расселены по Ближнему Востоку, Азии и Африке, что исламский мир, по сути, представлял собой микрокосм мировой истории, доминирующий в цивилизованном мире периода раннего Нового времени. Для мусульман это был период процветания и инноваций. Начало XVI в. ознаменовалось основанием трех новых исламских империй: Османской, объединившей Малую Азию, Анатолию, Ирак, Сирию и Северную Африку; империи Сефевидов в Иране и империи Великих Моголов на Индийском субконтиненте. Все они были носителями разных вариантов исламской духовности. Империя Великих Моголов представляла толерантный универсалистский философский рационализм – так называемую «фальсафу». Сефевидские шахи объявили государственной религией шиизм, до того бывший религией избранного меньшинства. Османские турки, истовые приверженцы суннизма, строили свое государство по шариату – священному мусульманскому закону.
Эти три империи стали новыми форпостами наступающей эпохи. Все три представляли собой премодернистские образования с отлаженной бюрократически рациональной системой управления. На заре своего существования Османское государство было куда более эффективным и развитым, чем любое европейское королевство. Своего расцвета оно достигло при Сулеймане Великолепном (1520–1566). Сулейман расширил свои земли на запад, прихватив Грецию, Балканы и Венгрию, и остановила его только неудача при попытке взять Вену в 1529 г. В Иране при Сефевидах строились дороги и караван-сараи, развивалась экономика, страна становилась ведущим государством в международной торговле. Все три империи переживали культурное возрождение, сравнимое с итальянским Ренессансом. XVI в. был периодом расцвета османской архитектуры и сефевидской живописи, именно в это время в Индии был построен Тадж-Махал.
И тем не менее эта всеобщая модернизация не предполагала радикальных перемен. В мусульманских империях не разделяли революционных настроений, которыми будет пропитана западная культура XVIII в. Вместо этого там царил, по определению американского ученого Маршалла Ходжсона, «дух традиционности», характерный для всего премодернистского общества, в том числе и европейского[76]. И действительно, эти империи стали последним воплощением традиционности в большой политике, а поскольку они оказались и самыми процветающими государствами раннего Нового времени, можно сказать, что традиционность достигла в них своего пика[77]. В наше время традиционному обществу приходится нелегко. Его либо уже подмял под себя современный западный дух, либо оно переживает трудный переход от традиционного к современному типу общества. Фундаментализм во многом проистекает из реакции на эти мучительные перемены. Поэтому важно рассмотреть расцвет традиционного духа в этих мусульманских империях, чтобы понять его сильные стороны и притягательность, а также присущие ему недостатки.
Пока на Западе не сформировался кардинально новый тип цивилизации, основанный на постоянной реинвестиции капитала и техническом прогрессе, набравший силу только в XIX в., экономика у всех народов базировалась на излишках сельскохозяйственной продукции. Отсюда следует, что аграрное общество не могло расширяться и процветать бесконечно, поскольку рано или поздно ресурсы себя исчерпывают. Капитал, пригодный для инвестирования, был ограничен. Любое нововведение, требующее больших капиталовложений, обычно погибало на корню, поскольку люди не располагали ресурсами, позволяющими все сломать, переучить работников и начать заново. До нашего времени ни одна культура не могла позволить себе постоянных инноваций, которые для нынешнего Запада являются нормой. Каждое следующее поколение расширяет запас знаний по сравнению с предыдущим, а технический прогресс стал нормой. Мы ориентированы в будущее, нашим правительствам и общественным институтам приходится заглядывать вперед и разрабатывать подробные планы, которые затронут и следующее поколение. Очевидно, что наше общество – продукт стройного, целенаправленного, рационального мышления. Это дитя логоса, который всегда устремлен вперед, обогащается новыми знаниям и опытом, а также расширяет нашу власть над окружающей средой. Однако создать подобное агрессивно-инновационное общество без современной экономики было бы не под силу никакому рациональному мышлению. Западное общество способно постоянно менять инфраструктуру под новые изобретения, поскольку постоянные реинвестиции капитала повышают базовые ресурсы, поддерживая необходимый для технического прогресса уровень. При аграрной экономике это было невозможно, поскольку все силы уходили на то, чтобы сохранить добытое и достигнутое. Следовательно, консервативный характер премодернистского общества объяснялся не фундаментальной боязнью перемен, а трезвой оценкой ограничений, которые накладывала данная культура. Так, например, образование в основном сводилось к зубрежке, оригинальность мышления не поощрялась. Обучение не было нацелено на воспитание новаторов, поскольку общество не приняло бы радикально новых идей, которые грозили попросту подорвать его устои. При традиционном укладе социальная стабильность и порядок важнее свободы самовыражения.
В отличие от современного человека, заглядывающего в будущее, представители премодернизма искали поддержки и вдохновения в прошлом. Никто не ждал прогресса, предполагалось, что следующее поколение может легко регрессировать. Развитие общества не рассматривалось как стремление к новым высотам и достижениям, считалось, что оно неуклонно деградирует по сравнению с примордиальным идеалом. Этот мнимый золотой век считался эталоном и государством, и гражданами, ведь только в приближении к нему общество способно раскрыть свой потенциал. Цивилизация таила в себе заведомую опасность. Все знали, что развитое общество может вмиг скатиться в варварство, как уже случилось с Западной Европой после падения Римской империи в V в. В исламских странах в начале Нового времени еще жива была память о монгольских нашествиях XIII в. Люди с ужасом вспоминали кровавую резню, бегство целых народов от диких орд, разрушение одного за другим великих мусульманских городов. Уничтожались также библиотеки и образовательные учреждения, а с ними – столетиями по крупицам добываемые знания. Мусульманам удалось оправиться от удара благодаря суфийским мистикам, возглавившим духовное возрождение, целительное воздействие которого было сродни лурианской каббале, и наглядным свидетельством этого возрождения стали три образовавшиеся империи. Османская и Сефевидская династии были связаны с колоссальным сдвигом эпохи монгольских нашествий – обе они зародились в воинствующих сообществах «газу», возглавляемых военными вождями и часто связанных с суфийскими орденами, возникшими на разгромленных землях. Своей силой, красотой, культурным развитием эти империи демонстрировали состоятельность исламских ценностей и несокрушимость мусульманской истории.
Однако после подобной трагедии естественный консерватизм, присущий премодернистскому обществу, должен был только окрепнуть. Люди бросили все силы на медленное и мучительное восстановление утраченного, вместо того чтобы вырабатывать новшества. В суннизме – основном направлении ислама, например, приверженцами которого было большинство мусульман и который являлся государственной религией Османской империи, – считалось, что «врата иджтихада (независимого мышления) затворились»[78]. Прежде мусульманским правоведам позволялось выносить собственные суждения по вопросам, на которые ни Коран, ни устоявшиеся правила и традиции не давали четкого ответа. Однако к началу Нового времени в стремлении сохранить почти разрушенные традиции сунниты перестали видеть необходимость в независимом мышлении. Все ответы уже были найдены, законы шариата четко расписывали принципы построения и существования общества, а следовательно, нужда в иджтихаде отпадала, и он делался излишним и нежелательным. Мусульманам предлагалось безоговорочное подчинение авторитетам прошлого – таклид. Вместо того чтобы искать новые пути, они должны были подчиниться правилам, выведенным в сводах традиционных законов. Нововведения (бида) в области законов и религии считались в начале Нового времени у суннитов такими же опасными и разрушительными, как ереси в доктринах христианского Запада.
Трудно представить настрой, более противоположный иконоборческому, ориентированному на поиск истины духу современного Запада. Теперь намеренное табу на независимые суждения кажется нам неприемлемым. Как мы увидим в следующей главе, современная культура развивалась только в том случае, когда люди начинали сбрасывать с себя эти оковы. Если западный модерн – это порождение логоса, несложно догадаться, насколько созвучным традиционному духу премодернистского общества был миф. Мифологическое мышление обращено назад, не вперед. В центре мифа – священные начала, сотворение мира или основы человеческой жизни. Вместо того чтобы искать новое, он сосредоточен на незыблемом и постоянном. Он не несет «новостей», а рассказывает о том, что существовало всегда; все самое важное в его трактовке уже достигнуто и придумано. Мы живем по заветам предков, по сказанному в священных текстах, в которых содержится все, что необходимо знать. Такова духовность традиционной эпохи. Культ, ритуалы, мифологические сюжеты не только давали людям ощущение смысла, созвучного глубинам их подсознания, но и подкрепляли жизненно необходимые для существования аграрной экономики установки и внутренние ограничения. Как наглядно продемонстрировало фиаско Шабтая Цви, миф не способен вызвать практические перемены. Он учит приспосабливаться к существующему порядку вещей и смиряться с ним – в соответствии с насущными потребностями общества, которое разрушилось бы под натиском инноваций.
Если представителям Запада, сжившимся с постоянными переменами, трудно (даже невозможно) в полной мере оценить роль мифологии, то людям, воспитанным в рамках традиционного сознания, невероятно тяжело (даже невозможно) принять устремленную вперед современную культуру. Человеку эпохи модерна чрезвычайно сложно понять людей, выросших на традиционных мифологических ценностях. В современном исламском мире, как мы еще увидим, некоторых мусульман беспокоят два аспекта. Во-первых, их отталкивает секуляризм западного общества, в котором религия отделена от политики, а церковь от государства. Во-вторых, многие мусульмане предпочли бы, чтобы их общество управлялось согласно священному закону ислама, шариату. У человека, воспитанного в модернистском духе, это не укладывается в голове, поскольку он опасается, и не без оснований, что клерикальный социум будет тормозить постоянный прогресс, без которого он здоровое общество не мыслит. Западный человек воспринимает отделение церкви от государства как освобождение и содрогается при мысли о том, что инквизиторский институт может «затворить врата иджтихада». Точно так же представление о божественном происхождении закона в корне несовместимо с современной этикой. Для современного секулярного сознания неприемлемо понятие незыблемого закона, полученного человечеством от сверхсущества. Для него закон – продукт не мифа, а логоса, он рационален и прагматичен, и время от времени его надлежит менять в соответствии с меняющимися обстоятельствами. Таким образом, из-за разницы в понимании этих ключевых вопросов между человеком Нового времени и мусульманским фундаменталистом лежит огромная пропасть.
Однако в период расцвета шариатского государства его уклад не казался чем-то вопиющим. Это была заслуга Османской империи, авторитет которой строился на верности исламскому закону. Султану воздавались почести за то, что он защищает шариат. Несмотря на то что у султана и правителей в различных частях страны имелись свои «диваны», церемонии публичного суда, в шариатских судебных ведомствах (впервые ставших таковыми именно в Османской империи) председательствовали кади, шариатские судьи, чьи решения имели в глазах людей полную юридическую силу. Кади со своими советниками-муфтиями и богословами, обучавшими исламскому законоведению (фикху) в медресе, были в Османской империи государственными чиновниками. Правительство нуждалось в них не меньше, чем в военном и административном аппарате. В арабских землях гегемонию турок насаждали через улемов – богословов, за которыми стояла священная власть исламского закона. Улемы служили важным связующим звеном между султаном и его подданными, между Стамбулом и дальними провинциями. Они могли передавать жалобы на рассмотрение султану и обладали полномочиями призвать к порядку его самого, если он нарушит нормы исламского закона. Султаны большей частью не противились ограничениям, накладываемым на них духовенством, поскольку союз с ним укреплял их власть[79]. Никогда прежде шариат не играл такой важной роли в повседневной жизни государства, как в Османской империи, и, судя по тому, как она процветала в XVI в., приверженность исламскому закону себя вполне оправдывала. Османы уловили фундаментальные принципы тогдашнего существования.
Любое традиционное общество, как уже отмечалось, оглядывается на золотой век. Для суннитов Османской империи таким веком была эпоха пророка Мухаммеда (ок. 570–632 гг. н. э.) и четырех праведных халифов, его непосредственных преемников. Они правили по исламскому закону, не отделяя государство от религии. Мухаммед был одновременно пророком и политическим главой общины. В Коране – священном писании, которое он принес арабам в начале VII в., говорилось, что первая обязанность мусульманина – создать справедливое, основанное на равенстве общество, где будут уважать бедных и слабых. Для этого требовался джихад (это скорее «усилия», «старания», а не «священная война», как привыкли считать на Западе) по всем фронтам: духовному, политическому, социальному, личному, военному и экономическому. Отдавая во всем жизненном устройстве приоритет Господу и претворению в жизнь его планов относительно человечества, мусульмане в личной и социальной сфере превращались в общность, по их мнению, живущую по законам Аллаха. Отгородить какую-то сферу жизни и объявить ее неподвластной этим религиозным «стараниям» было бы вопиющим нарушением принципа единства (таухида) – ключевой добродетели ислама. Такое отделение приравнивалось бы к отрицанию самого Бога. Поэтому для верного мусульманина политика – это, как сказали бы христиане, таинство. Этот вид деятельности должен быть сакрализован так, чтобы он стал проводником божественного.
Забота об умме, мусульманском народе, глубоко прописана в «столпах» (рукн) – пяти основных предписаниях ислама, объединяющих всех мусульман, будь они суннитами или шиитами. Если у христиан истинная вера выражается в ортодоксии («правильной вере»), то у мусульман, как и у иудеев, – в ортопраксии («правильном поведении»), обрядовом единстве, а вера имеет второстепенное значение. Пять «столпов» требуют от каждого мусульманина провозглашать шахаду (заявить о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его), совершать ежедневную пятикратную молитву, совершать пожертвование (закят) для справедливого распределения богатств в обществе, соблюдать пост в Рамадан в напоминание о лишениях бедняков и совершить хадж в Мекку, если позволят жизненные обстоятельства. В предписаниях закята и поста в Рамадан забота о социальном здоровье мусульманской общности очевидна, однако не менее важную роль она играет и в хадже, который имеет общественное значение и во время которого паломники носят одинаковые белые одежды, подчеркивающие единство уммы и стирающие различия между богатыми и бедными.
Главная цель хаджа – священный куб Каабы, расположенный в центре Мекки, которая находится в Саудовской Аравии, на территории под названием Хиджаз. Кааба была святыней еще во времена Мухаммеда и изначально посвящалась, скорее всего, Аль-Иляху, верховному божеству языческого арабского пантеона. Мухаммед исламизировал древний ритуал ежегодного паломничества к Каабе, придав ему монотеистический смысл. Хадж по сей день дарит мусульманам сильнейшее чувство общности. Геометрическая форма Каабы, согласно учению психолога К. Юнга (1875–1961), имеет архетипическое значение. Святыни, находящиеся в центре древнейших городов, обеспечивали связь с божественным, что считалось главным для обеспечения долговечности поселений. Святыня привносила в преходящую и ненадежную городскую среду обитания смертных людей изначальное могущество божественного мира. В описаниях таких классиков, как Плутарх, Овидий и Дионисий Галикарнасский, святыня имела либо круглую, либо квадратную форму, воспроизводящую, как считалось, структуру Вселенной. Это был символ порядка, создавшего космос из хаоса, подарившего ему жизнь и реальность. Юнг полагал, что выбор между квадратом и кругом не принципиален, поскольку геометрическая фигура, воплощающая космический порядок – основу всей действительности, представляла собой квадрат, вписанный в круг[80]. Обряды, совершаемые у святыни, напоминали молящимся об их обязанности спасти мир от потенциального хаоса и катастрофы, привнося в него этот божественный порядок, то есть подчиняясь фундаментальным законам и принципам Вселенной, чтобы их цивилизация продолжала существовать и не пала жертвой иллюзий. Кааба в Мекке соответствовала этому архетипу в полной мере. Паломники делают семь ритуальных кругов вокруг гранитного куба, ориентированного по сторонам света, повторяя путь Солнца вокруг Земли. Лишь путем экзистенциального подчинения («ислам») своего существования основным ритмам жизни мусульманин («покорный», «примирившийся») становится полноценным членом общества.
Таким образом, обряд хаджа, который по сей день является вершиной религиозного опыта любого мусульманина, совершающего это паломничество, был пропитан традиционным духом. Беря начало в подсознательном мире мифологического архетипа, как и все подлинные мифы, он обращает внимание мусульман на реальность столь фундаментальную, что за ее рамки невозможно выйти. Он помогает им на более глубоком уровне, чем сознательный, подчиниться исконному ходу вещей и не искать личной независимости. Вся рациональная деятельность сообщества – политическая, экономическая, коммерческая, социальные отношения – происходит в этом мифологическом контексте. Кааба, расположенная в самом сердце города, а затем ставшая сердцем мусульманского мира, придает этой рациональной деятельности смысл и перспективу. Такую же традиционную этику внушает и Коран. В нем неустанно повторяется, что он не несет человечеству новую истину, а открывает основополагающие законы человеческой жизни. Это «напоминание», повторение уже известной истины[81]. Мухаммед не считал, что создает новую религию, он принес исконную религию человечества своему арабскому племени, которое прежде не знало пророков и не имело священного писания на собственном языке. Со времен Адама, который в Коране фигурирует как первый пророк, Господь посылал всем народам на земле своих вестников, чтобы они рассказали людям, как следует жить[82]. В отличие от зверей, рыб и растений, являющихся мусульманами от природы, поскольку инстинктивно подчиняются божественному порядку, люди обладают свободой воли и могут этот порядок нарушить[83]. Попирая эти основополагающие законы существования, создавая тиранические общества, где притесняются слабые и неравномерно распределяются богатства, цивилизации приходит в упадок. Эту мысль повторяют, согласно Корану, все великие пророки прошлого: Адам, Ной, Моисей, Иисус и многие другие. И теперь Коран передает то же самое божественное веление арабам, заповедуя стремиться к социальной справедливости и равенству, которые приведут их к гармонии с основополагающими законами существования. Подчиняясь божьей воле, мусульманин ощущает созвучность с истинным порядком вещей. Нарушение божьего закона воспринимается как нечто неестественное – как если бы рыба попыталась жить на суше.
Ошеломляющий расцвет Османской империи в XVI в. должен был служить для подданных подтверждением правильности подчинения этим фундаментальным принципам. Вот почему это общество функционировало столь впечатляюще. Беспрецедентный авторитет шариата в Османском государстве должен рассматриваться в контексте консерватизма. Мусульмане в начале Нового времени не считали божественный закон ограничением своих свобод; он был ритуальным и культовым воплощением мифологического архетипа, который, по их представлениям, позволял прикоснуться к священному. Мусульманский закон складывался постепенно, в течение столетий после смерти Мухаммеда. Простор для творчества был большой, поскольку в Коране законодательного содержалось очень мало, а мусульмане, не прошло и столетия со смерти пророка, уже правили огромной империей, простирающейся от Гималаев до Пиренеев, которая, как и любое общество, нуждалась в сложной законодательной системе. Со временем в исламском законодательстве сложились четыре школы, очень похожие между собой и в равной степени почитаемые. Закон основывался на личности пророка Мухаммеда, совершившего идеальное деяние ислама, когда получил божественное откровение. Собранные свидетельства о высказываниях и деяниях пророка (хадисы) были затем в течение IX в. тщательно отфильтрованы и явили собой Сунну – подлинный жизненный путь Мухаммеда, отражающий его учение и религиозные действия. Законотворческие школы воспроизвели это учение в своих сводах законов, чтобы мусульмане по всему миру подражали пророку в речи, приеме пищи, мытье, любви и молитве. Подражая пророку в этих внешних проявлениях, они надеялись воспроизвести и его внутреннее подчинение божественному[84]. В подлинно традиционном духе мусульмане строили свое поведение по лекалам прошлого.
Мусульманский закон мифологизировал историческую личность Мухаммеда, вынув его из контекста той эпохи, в которой он жил, и воскрешая в каждом правоверном мусульманине. И одновременно эти культовые повторения делали мусульманское общество воистину исламским, сближая с Мухаммедом-человеком, который в своем идеальном подчинении Богу служил образцовым примером того, каким человек должен быть. К началу монгольских нашествий XIII в. мусульманский мир – как суннитский, так и шиитский – глубоко вобрал в себя эту шариатскую духовность. Не потому что ее навязывали халифы и улемы, а потому что она несла людям приобщение к божественному и наполняла их жизнь смыслом. Однако обращенность культа в прошлое вовсе не означала, что образ жизни людей тоже обречен был оставаться на уровне VII в. Османская империя в начале XVI столетия входила в число самых передовых государств мира. Для своего времени она была необычайно развитой державой, располагала государственным аппаратом нового типа, и интеллектуальная жизнь в ней била ключом. Османы были открыты к восприятию других культур. Они восторгались развитием навигационной науки и открытиями западных исследователей, с готовностью внедряли у себя такие военные изобретения Запада, как порох и огнестрельное оружие[85]. Вписыванием этих нововведений в магометанскую парадигму мусульманского закона занимались улемы. Изучение юриспруденции (фикх) не сводилось к простому штудированию древних текстов, требуя временами решения очень непростых задач. Однако в ту эпоху особой несовместимости между Западом и исламским миром не наблюдалось. В Европе тоже властвовал дух традиционности и консерватизма. Гуманисты эпохи Возрождения пытались создать новую культуру путем обращения назад, к истокам, ad fontes. Как мы уже видели, простым смертным полностью размежеваться с религией не представлялось возможным. Несмотря на все изобретения и открытия, вплоть до XVIII в. в Европе главенствовал традиционный этос. И только с приходом западного модерна, вытеснившего обращенное в прошлое мифологическое сознание и заменившего его устремленным в будущее рационализмом, европейский уклад начал вызывать у некоторых мусульман отторжение.
Кроме того, не стоит считать, что традиционное общество было целиком статично. В мусульманской истории имелись и реформистские движения (ислах), и обновленческие (тадждид), проявления которых были зачастую достаточно революционными[86]. Реформатор Ахмад ибн Таймия из Дамаска (1263–1328), например, отказывался признавать «врата иджтихада» закрытыми. Он жил в эпоху монгольских нашествий, после которых мусульмане всеми силами восстанавливали порушенное, стараясь оправиться от понесенных утрат. Реформаторские движения чаще всего возникают в период культурных перемен либо после крупной политической катастрофы. Подобные события делают привычные ответы неактуальными, и реформаторы, вооружившись рационализмом иджтихада, пытаются ответить на вызовы времени. Ибн Таймия хотел осовременить шариат, чтобы тот продолжал отвечать действительным потребностям мусульман в радикально изменившихся обстоятельствах. Он был революционером, однако действовал традиционными по самому своему существу методами. Ибн Таймия считал, что преодолеть кризис мусульманам поможет возвращение к истокам, к Корану и Сунне. Он хотел отвергнуть более поздние теологические наслоения и вернуться к основам. Поэтому в стремлении возродить исконно мусульманский архетип он во многом пересмотрел средневековую юриспруденцию (фикх) и философские доктрины, обретшие статус священных. Правящие круги такого святотатства не допустили, и ибн Таймия закончил свои дни в тюрьме. Умер он глубоко несчастным, тюремщики отказывались дать ему даже перо и бумагу. Однако простые люди любили его, они видели по проводимым им либеральным и радикальным реформам в законодательной сфере, что он действует прежде всего в интересах народа[87]. Его похороны стали демонстрацией народного признания. И таких реформаторов в исламской истории было много. Как мы увидим, и в наше время среди мусульманских фундаменталистов есть те, кто действуют в этой традиции ислаха и тадждида.
Для других мусульман источником свежих религиозных идей и обрядов стали эзотерические движения, которые от широких масс держались в тайне – практикующие опасались быть неправильно понятыми. Однако противоречий между своей верой и верой большинства они не находили. Приверженцы эзотерики считали, что их движение полностью согласуется с Кораном, соответствует требованиям времени и вполне правоверно. Три основные разновидности эзотерического ислама были представлены мистическим учением суфизма, рационалистической фальсафой и политизированным шиизмом, который мы еще рассмотрим более подробно в этой главе. Однако при всей инновационности этих эзотерических разновидностей ислама и радикальных расхождениях с господствующим шариатом эзотерики считали, что в своих исканиях возвращаются ad fontes, к истокам. Последователи фальсафы, пытавшиеся применить принципы греческой философии к коранической религии, хотели вернуться к исконной универсальной вере в вечные истины, которые, по их убеждению, предшествовали появившимся впоследствии религиям. Суфии считали, что в своем мистическом экстазе переживают заново духовные откровения пророка во время ниспослания ему Корана, таким образом они оставались в рамках магометанского архетипа. Шииты утверждали, что они единственные питают тягу к социальной справедливости, лежащей в основе Корана и попранной порочными мусульманскими правителями. Никто из эзотериков не стремился к «оригинальности» в нашем понимании, и все они были оригинальны в выборе традиционного пути в своем стремлении к фундаментальным основам. Других путей к процветанию и человеческому идеалу они не видели[88].
В этой книге мы подробно рассмотрим ситуацию в двух мусульманских странах, и одной из них будет Египет, вошедший в Османскую империю в 1517 г., после завоевания Селимом I в ходе сирийской кампании. В Египте воцарился шариат. Великий каирский университет Аль-Азхар стал основным центром изучения фикха на суннитских землях, однако за столетия османского владычества Египет начал отставать от Стамбула и в конце концов утратил былое значение. О развитии этой страны в начале Нового времени нам известно чрезвычайно мало. С 1250 г. регионом правили мамлюки – военная каста, в которую набирали пленных черкесов, обращенных в юном возрасте в ислам. Из таких же рабов состоял костяк войск Османской империи – янычары. В период расцвета мамлюкского правления жизнь в Египте и Сирии била ключом, Египет входил в число самых развитых стран мусульманского мира. Однако со временем внутренние противоречия аграрной цивилизации взяли свое, и к концу XV в. Мамлюкский султанат пришел в упадок. Это, однако, не означало, что власть мамлюков в Египте закончилась. Османский султан Селим I завоевал страну, заключив союз с Хаир-беем, мамлюкским правителем Алеппо. После отхода османских войск Хаир-бей был назначен наместником.
Поначалу османам удавалось держать мамлюков в узде, подавив два их восстания[89]. Однако к концу XVI в. возможности осман начали таять. Суровая инфляция привела к расшатыванию административного аппарата, и мало-помалу, после нескольких восстаний, мамлюкские военачальники (беи) снова стали фактическими правителями Египта, хотя и подчинялись формально Стамбулу. Беи составляли военную элиту, сумевшую поднять мамлюков в османской армии на бунт против турецкого правителя, заменив его в итоге выходцем из своих рядов. Султан подтвердил это назначение, и власть над страной осталась у мамлюков (за исключением короткого периода в конце XVII в., когда ее захватили янычары). Однако правление мамлюков было нестабильным. Беи были разделены на два клана, поэтому не обходилось без кровопролитной междоусобицы[90]. Страдал от этих постоянных мятежей прежде всего египетский народ, который лишали имущества, грабили и душили непосильными налогами. Люди не чувствовали своей общности с правителями, ни с турецкими, ни с черкесскими, которые, будучи иноземцами, нисколько не пеклись об их благополучии. Египтяне все больше проникались доверием к улемам, своим соотечественникам, несущим священный шариатский уклад, и те становились подлинными властителями народных масс. Когда конфликт между беями в XVIII в. обострился до предела, мамлюкские предводители были вынуждены воззвать к улемам, чтобы укрепить свое господство в народном сознании[91].
Улемы были учителями, богословами и интеллектуальной прослойкой египетского общества. В каждом городе имелось от 1 до 7 медресе (школ исламского закона и богословия), готовивших учителей для страны. Их интеллектуальный уровень был невысок. Завоевав Египет, султан Селим I забрал многих ведущих улемов с собой в Стамбул, прихватив заодно и самые ценные рукописи. Египет превратился в отсталую провинцию Османской империи. Османы не покровительствовали арабским богословам, а египтяне не контактировали с внешним миром, и египетская философия, астрономия, медицина и точные науки, бурно развивавшиеся в эпоху мамлюков, начали хиреть[92].
Однако, выступая основным связующим звеном между правителями и народом, улемы обрели невероятный авторитет. Многие из них происходили из крестьян-феллахов, поэтому в сельских районах они пользовались ощутимым влиянием. В богословских школах и медресе они руководили всем образовательным процессом, а поскольку основными вершителями правосудия служили шариатские суды, законодательство тоже было монополией улемов. Кроме того, они занимали важные политические должности в диване[93] и, как хранители шариата, могли составлять принципиальную оппозицию правительству. Великие медресе Аль-Азхара располагались рядом с базаром, улемы часто состояли в родстве с купеческим сословием. Пожелай они восстать против политики правительства, достаточно было бы одного воззвания с минарета Азхара, чтобы закрыть базар и вывести людей на улицы. В 1794 г., например, шейх аш-Шаркави, ректор Азхара, возглавил протест против нового налога, объявив его непосильным и антиисламским. Через три дня налог был отменен[94]. Однако возглавить исламскую революцию и свергнуть правительство улемы не грозили. Беям обычно удавалось приструнить их, отбирая имущество, а повстанцы не могли долго противостоять мамлюкским войскам[95]. И тем не менее авторитет улемов придавал египетскому обществу отчетливо религиозный характер. Ислам служил единственной надежной опорой и защитой египетскому народу[96].
Защищенности в конце XVIII в. на Ближнем Востоке очень не хватало. Османская империя была на грани распада. Отлаженный правительственный аппарат XVI в. сменился некомпетентными чиновниками, особенно на окраинах империи. Запад переживал стремительный подъем, и османы уже не могли тягаться с европейскими государствами на равных. Они не выдерживали соперничества, не только из-за собственной политической слабости, но и потому, что развивающееся в Европе новое общество не имело еще аналогов в мировой истории[97]. Султанат пытался приспособиться, но ограничивался поверхностными изменениями. Султан Селим III, правивший с 1789 по 1807 г., например, видел лишь военный аспект западной угрозы. Безуспешные попытки реформировать армию по европейскому образцу проводились и до него, в 1730-х гг., но, взойдя в 1789 г. на трон, Селим открыл ряд военных училищ с преподавателями-французами, где учащиеся осваивали европейские языки и изучали математику, навигацию, географию и историю по западным материалам[98]. Однако изучения нескольких военных приемов и поверхностного знакомства с современными науками было недостаточно, чтобы противостоять западной угрозе, поскольку у европейцев развивался совершенно новый образ жизни и мышления, позволявший им оперировать совсем другими нормами. Чтобы состязаться с ними на равных, османам требовалось развить культуру рационализма в полном объеме, сокрушить исламскую структуру общества и оборвать все священные связи с прошлым. Даже если бы отдельные представители правящей верхушки решились на такие кардинальные перемены (занявшие в Европе без малого три столетия), донести необходимость этих перемен до проникнутых традиционным духом народных масс не представлялось возможным.
На окраинах империи, где острее всего чувствовался упадок, народ реагировал на перемены и волнения привычным способом – религиозным. На Аравийском полуострове Мухаммад ибн Абд-аль-Ваххаб (1703–1792) сумел выйти из-под власти Стамбула и создать собственное государство в регионе Персидского залива и центральной Аравии. Абд-аль-Ваххаб был типичным исламским реформатором. Пути преодоления кризиса он искал в Коране и Сунне, решительно отвергая средневековое законоведение, мистицизм и философию. Оттоманских султанов, отвернувшихся, в его понимании, от истинного ислама, Абд-аль-Ваххаб объявил отступниками, недостойными подчинения верных и заслуживающими лишь смерти. Их шариатское государство далеко от исконного образца. Взамен Абд-аль-Ваххаб пытался создать анклав чистой веры, построенный по принципам первой мусульманской общины VII в. Действовал он агрессивно, навязывая свои взгляды силой. Некоторые из жестких и насильственных методов ваххабитского движения были пущены в ход фундаменталистскими исламскими реформаторами в XX в., в эпоху еще более радикальных перемен и смуты[99].
Марокканский реформатор-суфист Ахмад ибн Идрис (1780–1836) придерживался прямо противоположного подхода, у которого в наши дни тоже находятся свои последователи. Его способ борьбы с начавшимся на окраинах Османской империи развалом состоял в повышении образованности людей и укреплении их тем самым в мусульманской вере. Он много путешествовал по Северной Африке и Йемену, обращаясь к людям на их собственном диалекте, обучая их ритуалу совместной молитвы и пытаясь привить им отвращение к аморальным поступкам. Это было народное движение снизу. Ибн Идрис не принимал ваххабитских методов, считая, что действовать нужно путем образования, а не грубой силой. Убивать людей во имя религии – неприемлемо. Другие реформаторы придерживались похожих принципов. И Ахмад аль-Тиграни (ум. 1815) в Алжире, и Мухаммад ибн Абд-аль-Карим Самим (ум. 1775) в Медине, и Мухаммед ибн Али ас-Сануси (ум. 1832) в Ливии несли веру непосредственно народу, минуя улемов. Их реформы были популистскими, они выступали против религиозной верхушки, которую считали элитой, оторвавшейся от народа, и в отличие от Абд-аль-Ваххаба не гнались за чистотой доктрины. Возвращение людей к исконному культу и ритуалам, внушение им необходимости соблюдения моральных принципов могли оздоровить общество куда лучше, чем сложная система фикха.
Веками суфии учили своих прихожан воспроизводить магометанскую парадигму в собственной жизни и утверждали, что путь к Богу ведет через творческое и мистическое воображение: человек обязан создавать богоявление собственными силами, и созерцательные дисциплины суфизма должны ему в этом помочь. В конце XVIII – начале XIX в. эти реформаторы, так называемые «неосуфии», сделали еще один шаг вперед. Они стали учить простой народ полагаться исключительно на собственные познания, не руководствуясь мнением богословов и ученых клириков. Ибн Идрис дошел до того, что оспаривал авторитет всех мусульманских мудрецов и святых до единого, за исключением Пророка. Таким образом он побуждал мусульман ценить новое и избавляться от привычки преклонения перед авторитетами. Целью этих мистических исканий было не единение с Богом, а глубинная идентификация с Пророком-человеком, сумевшим идеально раскрыться навстречу божественному. В этом подходе ощущались зачатки эпохи модерна. Несмотря на то что неосуфии по-прежнему обращались в прошлое, к архетипической личности Пророка, они порождали новую, гуманистически, а не трансцендентно ориентированную веру и побуждали своих учеников ценить не только старое, но и новое. Ибн Идрис никак не контактировал с Западом, ни разу в своих трудах не упоминал Европу и знаниями о Западе, равно как и интересом к нему, не отличался. Тем не менее к некоторым принципам европейского Просвещения он пришел сам, постигая их с помощью мистических дисциплин суннитского ислама[100].
То же самое происходило в Иране, история которого за этот период документирована гораздо лучше египетской. После завоевания Сефевидами в начале XVI в. официальной государственной религией Ирана стал шиизм. До тех пор шиизм был интеллектуальным и мистическим эзотерическим движением, и шииты из принципа отказывались от участия в политике. В Иране всегда существовало несколько значимых шиитских центров, однако большинство шиитов были арабами, не персами. Таким образом, сефевидский эксперимент в Иране стал неожиданным новшеством. Разногласий в доктрине между суннитами и шиитами не имелось, разница проходила в области ощущений. Сунниты смотрели на мусульманскую историю в целом оптимистично, тогда как шииты рассматривали ее в более мрачном свете: судьба потомков пророка Мухаммеда стала символом космической борьбы добра и зла, правосудия и тирании, в которой зло пока брало верх. Если сунниты мифологизировали бытие самого Мухаммеда, шииты мифологизировали жизнь его потомков. И чтобы разобраться в основах шиитской веры, без понимания которых невозможно касаться таких, например, событий, как Иранская революция 1978–1979 гг., давайте вкратце рассмотрим историю развития шиизма.
Пророк Мухаммед, умерший в 632 г., не оставил после себя преемника, поэтому первым халифом большинством голосов уммы был избран его друг Абу Бакр. Некоторые, однако, полагали, что сам Мухаммед пожелал бы видеть преемником своего ближайшего родственника – двоюродного брата, зятя и сподвижника Али ибн Абу Талиба. Однако Али постоянно проигрывал выборы – до 656 г., когда он, наконец, стал четвертым халифом. Тем не менее шииты, не признавая власти первых трех халифов, провозгласили Али первым имамом («предводителем»). Благочестие Али не вызывало сомнений, и в воодушевляющих посланиях своим чиновникам он постоянно подчеркивал необходимость справедливого правления. Его трагическая гибель в 661 г. от руки мусульманского экстремиста оплакивается и шиитами, и суннитами. Его соперник Муавийя, захватив трон, основал династию Омейядов, более светского характера, со столицей в Дамаске. Старший сын Али Хасан, которого шииты называют вторым имамом, отошел от политики и умер в Медине в 669 г. Однако в 680 г., когда умер халиф Муавийя, в иракском городе Куфа прошли массовые выступления в поддержку второго сына Али – Хусейна. Спасаясь от преследования Омейядов, Хусейн бежал в Мекку, но новый халиф Язид послал в священный город своих эмиссаров, чтобы убить соперника, осквернив святую землю. Хусейн, третий шиитский имам, решил дать отпор этому несправедливому и неправедному правителю. Он двинулся на Куфу с небольшим отрядом из 50 соратников в сопровождении жен и детей, надеясь, что сам вид семьи Пророка, выступившей против тирании, заставит умму вернуться к исконному исламу. Однако на 10-й день месяца Мухаррам по арабскому календарю, в священный пост Ашура, войска Омейядов окружили маленький отряд Хусейна на равнине Кербелы близ Куфы и перебили всех. Последним, держа на руках малолетнего сына, погиб Хусейн[101].
Трагедия в Кербеле породила свой собственный культ и стала мифом, вневременным событием в личной жизни каждого шиита. Язид с тех пор выступает символом тирании и несправедливости, а день поста Ашура к X в. превратился в ежегодный день массовой скорби шиитов по мученической гибели Хусейна – с рыданиями, самобичеванием и провозглашением неослабевающего протеста против коррумпированности мусульманской политики. Поэты слагали эпические плачи в честь мучеников Али и Хусейна. Так у шиитов сформировался протестный культ вокруг кербельского мифа. В нем сохранялось горячее стремление к социальной справедливости, лежащее в основе шиитского мировоззрения. Выступая торжественной процессией во время ритуалов Ашуры, шииты провозглашают готовность следовать за Хусейном до конца и даже сложить голову в борьбе против тирании[102].
Миф и культ складывались постепенно. В первые годы после расправы на равнине Кербелы сын Хусейна Али, выживший в этой трагедии, и внук Мухаммед (известные теперь как четвертый и пятый имамы) вернулись в Медину и участия в политике не принимали. Тем временем первый имам, Али, превратился в символ порядочности для многочисленных противников правления Омейядов. Когда в 750 г. клан Аббасидов все-таки сверг Омейядский халифат и положил начало собственной династии (750–1260), сперва они называли себя шиитами Али (участниками «партии Али»). Кроме того, шиизм ассоциировался с другими, скорее сумасбродными верованиями, которые большинство мусульман считали «крайними» (гулув). В Ираке мусульмане сталкивались с более древними и сложными религиозными воззрениями, а некоторые испытывали влияние христианской, иудейской и зороастрийской мифологии. В одних шиитских сектах Али почитался как воплощение Бога, подобно Иисусу; шиитские бунтовщики верили, что их предводители не умерли, а скрываются (находятся «в сокрытии») и в один прекрасный день вернутся, чтобы повести своих сторонников к победе. Других вдохновляла концепция Святого Духа, снисходящего на человека и открывающего ему божественную мудрость[103]. Все эти мифы в видоизмененной форме лягут в основу эзотерического шиитского мировосприятия.
Культ Хусейна превратил исторические события в миф, ставший ключевым для религиозного мировоззрения шиитов. Он заострял внимание на непрестанной и незримой борьбе добра и зла, на которой строится жизнь человечества; ритуалы изымали Хусейна из конкретного исторического контекста и делали его присутствие осязаемым – он становился символом глубинной истины. Однако шиитская мифология не подлежала практическому применению. Даже придя к власти, такие шииты, как Аббасиды, не могли править согласно возвышенным шиитским идеалам – мешали суровые политические реалии. Халифы Аббасидской династии вполне преуспевали в светском понимании, но, оказавшись на троне, вскоре отбросили шиитский радикализм и стали обычными суннитами. Правили они ничуть не справедливее, чем Омейяды, однако бунтовать истинные шииты не видели смысла, поскольку любое восстание жестоко подавлялось. Сам миф о Хусейне приводил к выводу, что всякая попытка противостоять тирану обречена на провал, какое бы благочестие и жажда справедливости ее ни питали.
Шестой шиитский имам Джафар ас-Садик (ум. 765), осознавая это, формально отказался от вооруженной борьбы. Несмотря на то что, как потомок Пророка, он является единственным законным правителем (имамом) уммы, его истинная задача, как заявил он сам, не ввязываться в бесполезный конфликт, а направлять шиитов в мистической интерпретации священных книг. Каждый имам из рода Али, утверждал он, является духовным лидером своего поколения. Каждый из имамов был избран своим предшественником, открывшим ему тайное знание (ильм) божественной истины. Таким образом, имам становится безупречным духовным наставником и идеальным судьей. После этого шииты ушли из политики и превратились в мистическую секту, вырабатывающую медитативные приемы постижения тайной (батин) мудрости, скрывающейся за каждым словом Корана. Не удовлетворяясь буквальным смыслом Писания, шииты получали, отталкиваясь от него, новые откровения. Концепция богодухновенного имама отражала шиитское представление о божественном присутствии, которое мистики ощущали как непреложное и достижимое для восприятия в бурном, полном опасностей мире. Доктрина не предназначалась для масс, которые могли неправильно ее интерпретировать, поэтому шииты должны были хранить свои духовные и политические убеждения в тайне. Мифология имамата, разработанная Джафаром ас-Садиком, была творческим мировоззрением, выходящим за рамки буквального и фактического смысла Писания и исторических событий и обращенным к вневременной, исконной действительности незримого (аль-гайб). Там, где непосвященный видел лишь человека, погруженный в созерцание шиит способен был разглядеть божественный след[104].
Имамат символизировал также крайнюю сложность внедрения Божьей воли в трагические и несовершенные условия повседневной жизни. Джафар ас-Садик успешно отделил веру от политики, превратив религию в частное дело. Он сделал это, чтобы защитить религию, помочь ей выжить во враждебном к ней мире. Эта секуляризация была продиктована глубоко духовными намерениями. Шииты знали, как опасно смешивать политику с религией. Столетие спустя это еще раз подтвердили трагические события. В 836 г. аббасидские халифы перенесли столицу в Самарру, расположенную в 60 милях к югу от Багдада. К этому времени власть Аббасидов уже рушилась, и хотя халиф номинально оставался правителем всех мусульманских земель, настоящая власть принадлежала местным эмирам и главам кланов, на которые распадалась широко раскинувшаяся империя. Халифы чувствовали, что в эти тревожные времена нельзя давать слишком большую волю имамам, потомкам Пророка, и в 848 г. халиф аль-Мутаваккил вызвал десятого имама, Али аль-Хади, из Медины в Самарру и поместил под домашний арест. Контакты с шиитами имам вместе со своим сыном, одиннадцатым имамом Хасаном аль-Аскари, поддерживал с помощью посредника (вакила), проживавшего в купеческом квартале Багдада Аль-Карх и занимавшегося для отвода глаз торговлей, чтобы не привлекать внимание аббасидских властей[105].
В 874 г. умер одиннадцатый имам – не исключено, что его отравили по приказу халифа. Его содержали в такой строгой изоляции, что шиитам о нем было известно крайне мало. Был ли у него сын? Если нет, кому становиться преемником? Если род вымер, значит ли это, что шииты остались без мистического наставника? Шииты терялись в догадках, однако самая популярная теория утверждала, что сын у Хасана аль-Аскари все-таки имелся – Абу аль-Касим Мухаммад, двенадцатый имам, вынужденный скрываться, чтобы спасти свою жизнь. Такое решение проблемы было очень удобным, поскольку позволяло ничего не менять. Два последних имама не имели доступа к народу, теперь и сокрытый имам будет продолжать общаться с людьми через посредника, вакила по имени Усман аль-Амри, которому предстоит отдавать духовные наставления, собирать пожертвования закята, толковать священные книги и вершить суд. Однако долго так продолжаться не могло. Когда прошли все мыслимые сроки жизни двенадцатого имама, шииты снова начали беспокоиться, пока в 934 г. вакил Али ибн Мухаммад ас-Самарри не принес весть от сокрытого имама. Имам не умер, он тайно сокрыт Господом и вернется незадолго до Судного дня, чтобы основать царство справедливости. Он по-прежнему остается бессменным наставником шиитов и единственным законным правителем уммы, но общаться с верными через посредников-вакилов или напрямую он больше не сможет. Скорого его возвращения шиитам ожидать не стоит. Они увидят его лишь «по прошествии долгого времени, когда земля переполнится тиранией»[106].
Миф о «сокрытии» сокрытого имама не поддается рациональному объяснению. Он обретает смысл только в контексте мистицизма и ритуальных действий. Если же рассматривать эту историю с точки зрения логоса, интерпретировать ее буквально, как простую констатацию факта, возникает множество вопросов. Куда именно подевался имам? На Земле он или где-то в промежуточном пространстве? Как он там живет? Стареет ли? Как он может наставлять верных, если они его больше не видят и не слышат? Однако шииту, занятому проработкой батина, тайного смысла Писания, руководствующемуся не разумом, а более интуитивными средствами сознания, эти вопросы показались бы неуместными. Шииты не толковали священные книги и доктрины буквально. Вся их духовность превратилась в символические поиски незримого (аль-гайб), что лежит за пределами области открытого (захир). Шииты поклонялись невидимому, непостижимому Богу, искали скрытый смысл в строках Корана, участвовали в бесконечной, но невидимой борьбе за справедливость, ждали сокрытого имама и вырабатывали эзотерическую разновидность ислама, которую нужно было таить от остального мира[107]. Только на почве подобной интенсивной созерцательной практики сокрытие обретало смысл. Сокрытый имам стал мифом; изъятие из конкретно-исторических реалий освобождало его от пространственно-временных ограничений, и, как ни парадоксально, его присутствие в жизни шиитов делалось более осязаемым и зримым, чем во времена его человеческого существования в Медине или Самарре. Сокрытие – это миф, в котором священное выражается как ускользающее и соблазнительно-неуловимое. Оно присутствует в мире, но оно не от мира сего; божественная мудрость неотделима от человечества (поскольку все сущее, включая Бога, мы воспринимаем только со своей, человеческой точки зрения), однако простирается дальше обычных человеческих умозаключений. Как и к любому мифу, к мифу сокрытия нельзя подходить с дискурсивной логикой, как к факту либо самоочевидному, либо поддающемуся логическому доказательству. Однако этот миф – с религиозной точки зрения – воплощал истину.
Как и любая эзотерика, шиизм в те дни был доступен лишь избранным. Он привлекал более интеллектуально раскрепощенных мусульман, обладавших талантом и потребностью мистического созерцания. Однако и в политических взглядах шииты отличались от остальных мусульман. Если ритуалы и учения суннизма помогали его адептам принять жизнь такой, какая она есть, и подчиниться архетипическим нормам, шиизм, напротив, выражал божественную неудовлетворенность ею. В ранних традициях, сложившихся сразу после появления доктрины сокрытия, чувствуется отчаяние и бессилие, ощущавшееся многими шиитами в X в.[108] Этот век был назван шиитским, поскольку многие местные правители, обладавшие достаточной властью в том или ином регионе исламской империи, питали склонность к шиизму, однако в конечном итоге это ни на что не повлияло. Для большинства жизнь оставалась такой же несправедливой, несмотря на учение Корана. И действительно, все имамы пострадали от правителей, которых шииты считали незаконными и порочными: по преданию все без исключения имамы после Хусейна были отравлены омейядскими и аббасидскими халифами. В своем желании более справедливого и мягкого социального устройства шииты выработали эсхатологию, основанную на ожидании последнего явления (зухуре) сокрытого имама перед Страшным судом – имам сразится с силами зла, и до Судного дня воцарится золотой век справедливости и мира. Однако это ожидание конца не означало, что шииты отвергли традиционный этос и стали смотреть в будущее. Архетипический идеал – представление о том, как должен быть устроен мир, – настолько прочно закрепился в их сознании, что смириться с существующей политикой они не могли. Сокрытый имам не принесет в мир ничего нового, он должен просто исправить историю, чтобы человеческие дела наконец пришли в соответствие с фундаментальными принципами бытия. Точно так же «явление» имама просто проявит нечто и без того существовавшее, поскольку сокрытый имам присутствует в жизни шиитов постоянно, являя собой ускользающий божий свет в темном тираническом мире и единственный источник надежды.
Миф о сокрытии завершил мифологизацию шиитской истории, начавшуюся, когда шестой имам отошел от политики и отделил политику от религии. Миф не диктует схему прагматичных политических действий, он дает верным способ восприятия окружающей действительности и саморазвития. Миф о сокрытии раз и навсегда оторвал шиитов от политики. Шиитам не было смысла идти на неоправданный риск, выступая против бренных правителей. Образ справедливого имама, который не может существовать в имеющихся условиях и вынужден скрываться, отражал отчуждение шиитов от общества. С этой точки зрения любое правительство рассматривалось как незаконное, поскольку узурпировало власть сокрытого имама, подлинного Властелина Времени. От земных правителей, соответственно, ничего хорошего не ожидалось, но, чтобы выжить, шиитам приходилось как-то подстраиваться под властей предержащих. Им предстояло искать утешения в духовной жизни, ожидая справедливости, которая вернется на землю перед Страшным судом «по прошествии долгого времени». Единственные, кто остался для шиитов авторитетом, – это улемы, пришедшие на смену «посредникам» имамов. Благодаря своей учености, духовности и знанию божественного закона улемы стали проводниками воли сокрытого имама и говорили от его имени. Однако в силу незаконности любого правительства улемы не должны были занимать политические должности[109].
Таким образом, шииты негласно потворствовали полной секуляризации политики, которая нарушала ключевой исламский принцип таухида, единства, запрещавшего подобное отделение религии от государства. Но мифология этой секуляризации зиждилась на религиозных представлениях. Легенда об имамах, убиваемых, отравленных, заточенных, изгнанных и в конечном итоге истребленных халифами, отражала принципиальную несовместимость религии и политики. Политика принадлежит сфере логоса, она обращена в будущее, прагматична, способна на компромиссы, планирование и организацию общества на рациональной основе. Она должна уравновешивать безусловные требования религии и суровые реалии земной жизни. Премодернистское аграрное общество основывалось на фундаментальном неравенстве: оно пользовалось плодами труда крестьян, которые не могли взамен воспользоваться благами цивилизации. Все великие конфессиональные религии осевого времени (800–200 гг. до н. э.) были озабочены этой дилеммой и пытались с ней справиться. В условиях недостатка ресурсов, а также там, где трудно было поддерживать власть ввиду слабого развития техники и коммуникаций, политика ужесточалась и делалась более агрессивной. Поэтому любому правительству было бы крайне тяжело соответствовать исламскому идеалу или мириться с существованием имама как воплощения божественной мудрости, подчеркивающим его (правительства) недостатки. Религиозные лидеры могли сколько угодно порицать, критиковать и протестовать против вопиющих злодеяний, однако священное они отодвигали в неком трагическом смысле на второй план либо старались держать в узде, как халифы, заточившие имамов в крепости Аскари в Самарре. Тем не менее шииты исповедовали благородное поклонение идеалу, которое необходимо было поддерживать, даже если, подобно сокрытому имаму, оно не выставлялось напоказ и в данный момент не способно было ничего изменить в мире тирании и порока.
Превращение шиизма в мифологическую веру не означало его иррационализма. Наоборот, шиизм стал более рационалистической и интеллектуальной ветвью ислама, чем суннизм. Шииты обнаружили сходство с суннитскими богословами-мутазилитами, пытавшимися рационализировать доктрины Корана. Мутазилиты, в свою очередь, тяготели к шиизму. Как ни парадоксально, иррационалистическая доктрина сокрытия давала шиитским улемам возможность использовать свое рацио в мире прагматических действий более свободно, чем улемам суннитским. Ввиду недоступности сокрытого имама им приходилось полагаться на собственный разум. Однако не стоит забывать, что в шиизме «врата иджтихада» никогда, в отличие от суннизма, не провозглашались закрывшимися[110]. Поначалу, лишившись имама, шииты действительно растерялись, но к XIII в. выдающиеся религиозные ученые достигли звания муджтахидов, достойных самостоятельно интерпретировать Коран и Сунну.
Таким образом, шиитский рационализм отличался от современного нам светского западного рационализма. Шииты часто мыслили критически. Например, ученых XI в. Мухаммада аль-Муфида и Мухаммада аль-Туси беспокоила достоверность некоторых хадисов (свидетельств) о Пророке и его соратниках. Они полагали, что недостаточно в поддержку доктрины просто процитировать некое непроверенное предание – клирики должны полагаться на логику и разум. Однако современного скептика их рациональные аргументы все равно бы не убедили. Туси, например, «обосновывал» доктрину имамата тем, что, поскольку Бог добр и желает нашего спасения, резонно полагать, что он послал бы человечеству безупречного наставника. Люди вполне способны сами себе объяснить потребность в социальной справедливости, однако божественное вмешательство придает ей больший вес. Но даже Туси зашел в тупик, пытаясь рационализировать доктрину сокрытия[111]. Тем не менее шиитов это не смутило. Миф и логос, откровение и разум не враждовали, а просто различались и дополняли друг друга. Если мы с современным западным подходом не рассматриваем мифологию и мистицизм как источник истины и полагаемся исключительно на разум, такие мыслители, как Туси, принимали ценность и необходимость обоих подходов. Туси пытался показать, что доктрины, самоочевидные для мистика в процессе медитации, в исламском контексте столь же обоснованны, как и постигаемые разумом. Интроспективные техники медитации обеспечивают озарения, которые несут истину своими средствами, однако не могут быть доказаны логически, как математическое уравнение, являющееся продуктом логоса.
К концу XV столетия, как мы уже видели, шиитами были в основном арабы и наибольшую силу шиизм обрел в Ираке, особенно в двух священных городах – Наджафе и Кербеле, посвященных соответственно имаму Али и имаму Хусейну. Большинство иранцев были суннитами, хотя иранский город Кум всегда был средоточием шиизма и значительное число шиитов проживало в Рее, Кашане и Хорасане. Поэтому среди иранцев нашлись те, кто с радостью воспринял появление 19-летнего шаха Исмаила, главы сефевидского суфийского ордена. Завоевав в 1501 г. Тебриз, шах Исмаил за последующие 10 лет подчинил остальные иранские земли и провозгласил шиизм официальной религией новой Сефевидской империи. Исмаил называл себя потомком седьмого имама, что, как он полагал, делало его власть, в отличие от власти других мусульманских правителей, законной[112].
Однако это расходилось с шиитской традицией. Большинство шиитов-двунадесятников (так их называют за поклонение 12 имамам) не считали законным никакое правительство в отсутствие сокрытого имама[113]. Откуда же тогда взяться государственному шиизму? Однако это не смущало Исмаила, который почти не разбирался в канонах двунадесятников. Мистическое братство сефевидского ордена, основанное после монгольского нашествия, изначально было суфийским, однако переняло много «крайних» (гулув) идей от древних шиитов. Исмаил верил в божественность имама Али и в то, что шиитский мессия вскоре вернется, чтобы положить начало золотому веку. Не исключено даже, что он сам назвался перед своими последователями сокрытым имамом, вернувшимся из сокрытия. Сефевидский орден был маргинальной, популистской революционной группировкой, весьма далекой от возвышенно-эзотерических шиитских кругов[114]. Исмаила ничто не смущало в создании шиитского государства, но вместо того, чтобы найти цивилизованный способ сосуществования с суннитским большинством, как делали шииты со времен Джафара ас-Садика, он фанатично ему противостоял. И в Османской, и в Сефевидской империях начинался раскол, сходный с разногласиями католиков и протестантов, развивавшимися в это же время в Европе. В предыдущие столетия напряженность между суннитами и шиитами несколько поутихла, однако в начале XVI в. османцы задались целью маргинализировать в своих владениях шиитов, и точно так же по отношению к суннитам был настроен воцарившийся в Иране Исмаил[115].
Сефевиды, впрочем, довольно скоро обнаружили, что мессианская, «крайняя» идеология, так хорошо служившая им в оппозиции, совершенно не годится для правящего класса. Шах Аббас I (1588–1629), задавшись целью искоренить старую теологию гулув, удалял «экстремистов» из своего чиновничьего аппарата и приглашал арабских улемов-шиитов, чтобы те распространяли ортодоксальную доктрину «Двенадцати имамов». Он построил для них медресе в своей новой столице Исфахане и в Хилле, даровал на их нужды собственность (вакф) и осыпал щедрыми дарами. На начальном этапе эта поддержка значила многое, поскольку улемы были иммигрантами, полностью зависевшими от шахов. Однако природа шиизма при этом неизбежно менялась. Последователи шиизма всегда составляли меньшинство. У них никогда не было своих медресе, вся учеба и дискуссии велись по домам друг у друга. Теперь шииты оказались у власти. Исфахан стал официальным средоточием шиитской схоластики[116]. Шииты всегда держались подальше от правительства, однако теперь в руках улемов оказались и образование, и иранская правовая система, а также определенные правительственные обязанности в области религии. Административный аппарат состоял из иранцев, по-прежнему преданных суннизму, поэтому перед ними ставились более светские задачи. Фактически в иранском правительстве наметился раскол на светскую и религиозную сферы[117].
Однако улемы по-прежнему относились к сефевидскому государству настороженно, отказываясь от официальных чиновничьих постов и предпочитая числиться подданными. Таким образом, они стояли на отличной от османских улемов позиции, но обладали большей потенциальной властью. Щедрость и покровительство шахов дали улемам финансовую независимость. Если османцы и их преемники давили на улемов угрозами лишить их субсидий или собственности, с шиитскими улемами такая манипуляция не проходила[118]. По мере распространения шиизма среди иранцев авторитету улемов способствовало и то, что они, а не шахи, оказывались единственными истинными глашатаями сокрытого имама. Первым Сефевидам, впрочем, еще удавалось приструнить улемов, и подлинную власть духовенство обрело только в XVIII в., когда в шиизм обратился весь иранский народ.
Но власть развращает. Постепенно обживаясь в Сефевидской империи, улемы становились слишком авторитарными, вплоть до фанатизма. Некоторые самые привлекательные стороны шиизма уходили в небытие. Проводником этого нового жесткого направления стал Мухаммад Бакир Меджлиси (ум. 1700), один из самых авторитетных и влиятельных улемов за все время. Столетиями шииты приветствовали инновационный подход к Писанию. Меджлиси, напротив, крайне враждебно относился и к мистической духовности, и к философским размышлениям, на которых строился исконный эзотерический шиизм. Он начал безжалостные гонения на оставшихся в Иране суфиев, пытаясь подавить и философский рационализм (фальсафу), и мистицизм, насаждавшийся в Исфахане. Именно с его подачи иранский шиизм проникся глубочайшим недоверием к мистицизму и философии, которое сохраняется в нем по сей день. Вместо того чтобы углубиться в эзотерическое изучение Корана, шиитским богословам предлагалось направить все силы на изучение фикха, исламского права.
Кроме того, Меджлиси изменил смысл ритуальных процессий в честь мученика Хусейна[119]. Процессии стали выглядеть более замысловато, теперь на верблюдах с зелеными попонами ехали рыдающие женщины и дети, изображающие родных имама; солдаты стреляли в воздух, а за гробами, в которых якобы покоились имам и его погибшие соратники, шли правитель, знать и толпа мужчин, с рыданиями режущих себя ножами[120]. Изложенные с высоким эмоциональным накалом иракским шиитом Ваизом Кашифи (ум. 1504) события кербельской трагедии – «Раудат аш-Шухада» – пересказывались на особых собраниях под названием «Рауда-хани» («Речитативы Раудата») под скорбные вопли и плач. Эти ритуалы всегда прежде были проникнуты революционным духом, демонстрируя готовность народа бороться с тиранией не на жизнь, а на смерть. Теперь же Меджлиси и его духовенство вместо того, чтобы представлять Хусейна как пример для подражания, учили людей видеть в нем покровителя, который обеспечит им пропуск в рай в обмен на преданность, выраженную в оплакивании его гибели. Таким образом, ритуалы упрочили статус-кво, побуждая народ поклоняться власть имущим и заботиться только о собственных интересах[121]. Происходили выхолащивание и деградация старого шиитского идеала, а также ослабление духа традиционности. Культ теперь не помогал людям принять основные законы и ритмы существования, а служил для того, чтобы держать народ в узде. Это очередное, другое свидетельство того, насколько губительной может оказаться для религии политическая власть.
Одной из главных мишеней Меджлиси была школа мистической философии, разработанной в Исфахане Миром Димадом (ум. 1631) и его учеником муллой Садрой (ум. 1640) – мыслителем, который окажет большое влияние на будущие поколения иранцев[122]. Мир Димад и мулла Садра категорически не принимали намечающуюся нетерпимость улемов. Они видели в этом извращение основ шиизма и, в принципе, религии вообще. В прежние времена, ища скрытый смысл в Писании, шииты негласно полагали, что божественная истина безгранична, свежие озарения бесконечны и единственного толкования Корана всегда будет недостаточно. Для Мира Димада и муллы Садры истинное знание не могло заключаться в интеллектуальном конформизме. Никакой мудрец и никакой религиозный авторитет, каким бы почетом он ни пользовался, не вправе монополизировать истину.
Так же четко они выражали консервативное убеждение, что и мифология, и рацио одинаково важны для полноценной человеческой жизни – друг без друга они многое теряют. Мир Димад был не только богословом, но и естествоиспытателем. Мулла Садра критиковал и улемов – за недооценку мистических озарений, и суфиев – за умаление важности рационального мышления. Истинный философ должен сравняться по рационализму с Аристотелем, но затем превзойти его в экстатическом, творческом постижении истины. Оба мыслителя подчеркивали роль бессознательного, которое они изображали как состояние между областью чувственного восприятия и сферой интеллектуальных абстракций. Прежде суфийские философы называли эту часть психического «алам аль-митхаль», миром чистых образов. Это было царство видений, рожденных тем, что мы сейчас называем подсознанием, проявляющихся на сознательном уровне в сновидениях и под гипнозом, но достижимых также с помощью определенных упражнений и интуитивных практик, которыми владеют мистики. И Мир Димад, и мулла Садра утверждали, что эти видения – не просто игра воображения, а объективная реальность, пусть даже не поддающаяся логическому анализу[123]. Вместо того чтобы отвергать их как воображаемые и, следовательно, не имеющие отношения к реальности, как сделал бы современный рационалист, мы должны уделять внимание и этому измерению нашего существования. Пусть оно слишком глубоко для осознания, однако оказывает огромное влияние на наше поведение и восприятие. Наши сны реальны, они стремятся нам что-то поведать, в них мы переживаем происходящее в воображении. Мифология была попыткой организовать переживания бессознательного в образах, которые помогут человеку установить связь с фундаментальными областями своего существования. Сегодня с той же целью – проникнуть в глубины подсознания – люди обращаются к психоаналитикам. Исфаханская мистическая школа, возглавляемая Миром Димадом и муллой Садрой, утверждала, что истина – это не только то, что воспринимается посредством логики, открыто и согласно правилам, у нее есть еще и внутренняя область, непостижимая для обычного бодрствующего сознания.
Такая позиция привела к неизбежному конфликту с улемами, исповедовавшими новоявленный непримиримый шиизм, и их стараниями мулла Садра был выдворен из Исфахана. Десять лет он вынужден был жить в крохотной деревушке близ Кума. За время этого затворничества он осознал, что при всей преданности мистической философии к религии он по-прежнему подходит с позиции разума. Исламский закон (фикх) и богословие дают лишь сведения о религии, не принося озарений и личного преображения, которые являются конечной целью религиозных поисков. Только когда мулла Садра начал всерьез упражняться в мистических приемах сосредоточения и погружаться в глубины алама аль-митхаля внутри себя, его душа «загорелась», «свет божественного мира озарил меня… и открылись мне тайны, которых прежде я не понимал», как объяснял он позже в своем великом труде «Аль-асфар-уль-арбаа» («Четыре путешествия духа»)[124].
Благодаря своему мистическому опыту мулла Садра убедился, что человек может достичь совершенства и на этом свете. Однако, в полном соответствии с традиционным духом, постигнутое им совершенство состояло не в переходе на новую, более совершенную ступень, а в возвращении к исконному чистому образу Ибрагима и других пророков, возвращении к Богу, источнику всего сущего. Но это не означало, что мистик порывал с мирским. В «Четырех путешествиях духа» мулла Садра описывает мистическое странствие харизматичного политического лидера. Сперва он должен проделать путь от человека к Богу. Далее он путешествует в божественной сфере, созерцая по очереди божественные атрибуты, пока не приходит на интуитивном уровне к выводу об их неизменном единстве. Взирая на лик Бога, он преображается и заново переосмысляет значение монотеизма, обретая озарение сродни тому, которое испытывают имамы. В третьем путешествии герой возвращается обратно в мир людей и видит его совершенно по-новому. Четвертый и последний его путь – нести слово Бога людям, отыскивая новые способы учреждения божественного закона и реорганизации общества в соответствии с Божьей волей[125]. С этой точки зрения совершенство общества связывалось с одновременным духовным развитием. Без мистической и религиозной основы добиться равенства и справедливости здесь, на земле, не представлялось возможным. Учение муллы Садры объединяло политику и духовную жизнь, разделенные у шиитов-двунадесятников, ибо он считал рациональные действия, необходимые для преобразования общества в физическом мире, неотделимыми от мифологического и мистического контекста, наделявшего их смыслом. Таким образом, мулла Садра предложил новую модель шиитского руководства, которая окажет основательное влияние на политику Ирана уже в наши дни.
Мистический глава государства из видений муллы Садры обладал божественным откровением, но это не означало, что он может силой навязывать свое мнение и религиозные ритуалы остальным. В таком случае, по мнению Садры, он отрицал бы саму суть религиозной истины. Садра решительно отвергал растущую власть улемов, и особенно его беспокоила новая для Ирана концепция, постепенно укоренявшаяся в XVII в. Среди улемов зародилось мнение, что мусульмане в большинстве своем неспособны самостоятельно толковать основные положения веры (усуль); поскольку единственными официальными глашатаями сокрытого имама являются улемы, простому народу надлежит выбрать себе муджтахида, имеющего право практиковать иджтихад (самостоятельное мышление) и строить свою жизнь по его указаниям. Подобные требования усулитов, как называли приверженцев этой точки зрения, возмущали Садру[126]. Он считал, что любая религия, основанная на таком рабском подражании (таклиде), заведомо «гнилая»[127]. Традиции (акбар) пророков и имама вполне доступны пониманию любого шиита, и человек может сам для себя найти решения с помощью разума и духовных озарений, полученных через молитвы и ритуалы.
На протяжении XVII в. конфликт между усулитами и их оппонентами постепенно обострялся. Власть Сефевидов слабела, в обществе намечался раскол. Улемы в глазах народа были единственными, кто способен навести порядок, однако суть своего авторитета улемы понимали по-разному. К этому времени большинство иранцев отвернулись от усулитов и обратились к так называемым ахбаритам, опиравшимся на прежние традиции. Ахбариты отвергали иджтихад и провозглашали необходимость сугубо буквального прочтения Корана и Сунны. Они требовали, чтобы любой суд выносил решение, руководствуясь точными цитатами из Корана, пророков или имамов. В случае если таковых цитат не обнаруживается, мусульманский юрист, не имея права полагаться на собственное суждение, должен передать дело в светский суд[128]. Усулиты отличались более гибким подходом. Юрист может использовать собственные доводы, чтобы вынести приемлемое решение, основываясь на законодательных принципах, освященных исламской традицией. С их точки зрения, ахбариты рисковали сильно завязнуть в прошлом, настолько, что исламское законодательство не в силах будет справиться с новыми задачами. Без сокрытого имама, утверждали они, ни один юрист не может вынести окончательный вердикт, и никакой прецедент не может стать руководством к действию. Дошло до того, что они призывали верных подчиняться указаниям ныне живущего муджтахида, а не почитаемых авторитетов прошлого. Обе стороны пытались сохранить традиционный дух на фоне социальных и политических неурядиц, и обе заботились в первую очередь о законе божественном. Ни усулиты, ни ахбариты не требовали интеллектуального подчинения – верные должны следовать букве Писания либо указаниям муджтахида лишь в поступках и религиозных действиях. Тем не менее кое-что обе стороны упускали. Ахбариты путали исконную божественную волю, выраженную в законе, с исторически сложившимися традициями прошлого – став буквалистами, они полностью утратили связь с традиционным для шиитской религии символизмом. Вера в их понимании оказалась набором прямых указаний. Усулиты больше доверяли человеческому мышлению, которое по-прежнему обусловливалось религиозной мифологией. Однако, требуя от верных полагаться на свои суждения, они утрачивали постулат муллы Садры о священной свободе личности.
К концу XVII в. назрела острая необходимость в твердой руке, которая компенсировала бы слабость государства. Упадок торговли повлек за собой экономическую нестабильность, а неумелое правление следующих шахов сделало государство уязвимым. В 1722 г. Исфахан позорно сдался напавшим на него афганским племенам. Иран охватил хаос, и в какой-то период казалось даже, что он может вообще прекратить свое существование как единое государство. С севера наступали русские, с запада – османцы, а на юге и востоке закрепились афганцы. Однако Тахмасп II, третий сын шаха Султан-Хусейна, уцелевший после осады Исфахана, с помощью полководца Надир-хана, предводителя тюркского племени афшаров, сумел дать врагам отпор и выдворить их из страны. В 1736 г. Надир-хан, избавившись от Тахмаспа, сел на трон сам. Он правил жестоко, но твердо – пока не погиб от рук наемного убийцы в 1748-м. Последовал период смуты и междувластия, закончившийся воцарением в 1794 г. Ага-Мухаммед-хана из тюркского племени каджаров[129]. Каджарская династия продержалась у власти до начала XX в.
За эти годы смуты в религиозной сфере произошли две существенные подвижки. Надир-хан безуспешно пытался вернуть в Иран суннизм, в результате чего ведущие улемы покинули Исфахан и укрылись в священных городах Наджафе и Кербеле, расположенных в османском районе Ирана. В конечном итоге это поражение сыграло улемам на руку, поскольку в Кербеле и Наджафе они обрели еще большую автономию. В политическом отношении они оказались вне досягаемости шаха, обладали финансовой независимостью и постепенно получили статус альтернативной власти, успешно противостоящей двору благодаря своему удачному местожительству[130]. Второй существенной переменой стала победа усулитов, достигнутая в результате весьма жестокой политики выдающегося богослова Вахида Бехбехани (1705–1792), который четко определил роль иджтихада и обязал юристов к нему прибегать. Шииты, отказывающиеся принимать позицию усулитов, провозглашались неверными, и любая оппозиция безжалостно подавлялась. В Кербеле и Наджафе вспыхивали стычки, в которых погибли несколько ахбаритов. Исфаханская мистическая философия также попала под запрет, а суфизм подавлялся с такой жестокостью, что сын Бехбехани Али получил прозвище «истребителя суфиев». Однако, как мы уже видели, принуждение в религиозных вопросах обычно имеет обратный эффект: мистицизм ушел в подполье, где продолжал влиять на умы диссидентов и интеллектуалов, ведущих борьбу со сложившимся положением вещей. Победа Бехбехани стала политической победой иранских улемов. Доктрина усулитов завоевала популярность в народе во время междуцарствия, поскольку обеспечивала ему уверенность в источнике харизматичной власти, вносившей в царящий хаос некое подобие порядка. Муджтахиды сумели воспользоваться политическим вакуумом и не потерять власти над народом. Однако победа Бехбехани, достигнутая тираническими методами, стала одновременно религиозным поражением, поскольку оказалась далека от идеалов и одобрения имамов[131].
К концу XVIII в. и в Османской, и в Иранской империях царил хаос. Их постигла неизбежная участь аграрной цивилизации, исчерпавшей свои ресурсы. Начиная с осевого времени традиционный дух помогал людям принять ограничения подобной цивилизации на глубинном уровне. Это не значит, что в традиционном обществе царили неподвижность и фатализм. Подобная духовность способствовала крупным политическим и культурным достижениям исламского мира. До XVII в. исламские страны были сильнейшими державами. Однако весь этот политический, интеллектуальный и художественный прогресс совершался в мифологическом контексте, чуждом ценностям новой западной культуры, развивающейся в это время в Европе. Многие современные европейские идеалы тем не менее пришлись бы мусульманам по нраву. Как мы видели, стандарты, выработанные у них благодаря вере, вполне сходны с теми, что пропагандируются современным Западом: равенство, социальная справедливость, эгалитаризм, свобода личности, ориентированная на человека духовность, светская форма правления, религия как частное дело, культивация рационального мышления. Однако в новой Европе были и другие аспекты социального устройства, которые человеку, взращенному в традиционном обществе, трудно принять. К концу XVIII в. мусульмане начали отставать от Запада в интеллектуальной сфере, и исламские империи ввиду своей политической ослабленности оказались уязвимыми для европейских государств, отвоевывающих мировое господство. Британия уже захватила Индию, Франция готовилась создать собственную империю. 19 мая 1798 г. Наполеон Бонапарт отплыл из Тулона на Ближний Восток с 38-тысячной армией и 400 кораблями, собираясь оспорить британское владычество на Востоке. Французский флот пересек Средиземное море, и Наполеон, высадившись 1 июля у Александрии с войском в 4300 человек, к рассвету взял город и закрепился в Египте[132]. Наполеон привез с собой ученых, библиотеку современной европейской литературы, научную лабораторию и печатный станок с арабским шрифтом. Новая научная, светская культура вторглась в мусульманский мир, отрезав ему все пути к прошлому.
3. Христиане. Дивный новый мир (1492–1870)
Пока иудеи боролись с трагическими последствиями изгнания из Испании, а мусульмане строили три великие империи, христиане Запада вступали на путь, который уведет их далеко от догм и святынь старого мира. Это был восхитительный, но и очень тревожный период. В XIV–XV вв. треть населения христианских стран выкосила чума, а из европейских стран высосала все соки Столетняя война между Англией и Францией и итальянская междоусобица. Европейцам пришлось пережить потрясения: завоевание османцами Византии в 1453 г., а после папских скандалов – Авиньонского пленения пап и Папского раскола, когда преемниками святого Петра провозгласили себя сразу три понтифика одновременно, у многих сильно пошатнулось доверие к официальной церкви. Люди мучились тайными страхами и верить по-старому больше не могли. Эта же эпоха стала периодом расширения горизонтов и освобождения. Иберийские мореплаватели открыли новые земли; астрономы дотягивались до звезд, новые технологии давали европейцам большую, чем когда-либо прежде, власть над окружающей средой. В отличие от традиционного духа, не велящего выходить за четко очерченные рамки, новая культура западного христианского мира демонстрировала, что преодоление границ известного и знакомого не только не вредит, но и, напротив, ведет к процветанию. В итоге приверженность старой мифологической религии стала невозможной, поскольку, судя по всему, враждебный настрой к вере закладывался в западном модерне изначально.
Однако на ранних этапах преобразования западного общества этого еще не наблюдалось. Многие путешественники, ученые, мыслители, находящиеся в авангарде своего времени, думали, что не отвергают религию, а, наоборот, находят новые пути к ней. Некоторые из этих путей и их глубинное значение мы рассмотрим в данной главе. Однако важно четко понимать, что главные провозвестники эпохи модерна не сами ее придумали. К XVI в. в Европе, а позднее и в американских колониях уже разворачивались сложные процессы, преобразующие мышление людей и способ познания мира. Перемены шли постепенно и зачастую незаметно, исподволь. Изобретения и нововведения происходили одновременно в различных областях и даже не казались современникам определяющими и ключевыми, однако в совокупности приводили к разительным изменениям. Все эти открытия отличались прагматичностью, научной основой, которая постепенно вытесняла прежний мифологический, консервативный этос и благодаря которой все больше людей начинали воспринимать Бога, религию, государство, личность и общество по-новому. В Европе и американских колониях политический контекст преобразований окажется различным. Сама эпоха, как и любой период далекоидущих социальных перемен, отличалась жестокостью – множество разрушительных войн и революций, насильственные переселения, разорение сельского хозяйства, страшные религиозные конфликты. В течение трех сотен лет модернизация в Европе и Америке велась весьма кровавыми методами. Это и гонения, и инквизиция, и массовые казни, и эксплуатация, и рабство, и насилие. Точно такие же кровавые встряски переживают сейчас развивающиеся страны, проходящие тот же мучительный процесс модернизации.
Несмотря на то что рационализация сельского хозяйства составляла лишь небольшую часть этого процесса, повышение урожайности и развитие ветеринарии не могло не отразиться на благополучии общества. Были и другие, более узконаправленные улучшения. Люди научились делать точные приборы – компас, телескоп, увеличительное стекло помогали раздвигать горизонты и способствовали развитию картографии и навигации. В XVII в. голландский натуралист Антоний ван Левенгук сконструировал микроскоп, в который впервые в мире рассмотрел бактерии, сперматозоиды и другие микроорганизмы – впоследствии эти наблюдения помогут многое прояснить в процессах зарождения жизни и разложения. Прагматическое значение этих открытий состояло не только в борьбе с заболеваниями, но и в устранении мифологической составляющей из таких базовых понятий, как жизнь и смерть. Начала развиваться медицина, и, несмотря на то что в терапии вплоть до XIX в. основным оставался метод проб и ошибок, уже в XVII столетии началась забота о гигиене и впервые были точно идентифицированы некоторые болезни. Постепенно складывались геологические дисциплины, наука лишила мифологического флера такие явления природы, как землетрясения и извержения. Совершенствовались механические приборы. Более точными стали часы, что также способствовало секуляризации понятия времени. Применение математических и статистических методик позволило по-другому взглянуть на будущее: в 1650–1660-х слово probable («вероятный») начало обретать новое значение. Если прежде, в традиционную эпоху, оно значило «одобренный властями», теперь под ним понималось «возможный по имеющимся данным». Эта независимость и уверенность в будущем способствовали поиску научных доказательств, а также бюрократической рационализации. Британские статистики Уильям Петти и Джон Граунт активно исследовали продолжительность жизни, и к началу XVIII в. в Европе появилось страхование[133]. Все это планомерно подрывало традиционный этос.
Ни одно из перечисленных открытий не было решающим само по себе, однако в совокупности они вели к радикальным переменам. К XVII в. нововведения в Европе достигли такого гигантского размаха, что прогресс уже был необратим. Открытие в одной области зачастую влекло за собой открытия в других. Развитие шло полным ходом. Если раньше миром правили незыблемые фундаментальные законы, то теперь оказалось, что природа поддается исследованию и преобразованию, приводящему к ошеломляющим результатам. Европейцы могли отныне управлять окружающей средой и удовлетворять свои материальные потребности в невиданных прежде масштабах. Постепенно люди осваивались с этим новым укладом, и логос набирал силу, а миф терял. Крепла уверенность людей в будущем. Новации можно было без опаски вводить в обиход. Например, у деловых людей твердая уверенность в том, что дела будут идти в гору, выработала готовность реинвестировать капитал по мере постоянного изменения условий. Благодаря этому капиталистическому подходу Запад смог бесконечно возобновлять свои ресурсы и избавиться от ограничений прежнего аграрного общества. К XIX в., когда рационализация и механизация производства привели к индустриальной революции, жители Запада уже настолько привыкли к бесконечному прогрессу, что перестали оглядываться в прошлое в поисках вдохновения и стали воспринимать жизнь как триумфальный марш к еще большим достижениям в будущем.
Процесс этот требовал и социальных изменений, вовлекая в модернизацию все большее количество участников на самом скромном уровне. Самые обычные люди становились печатниками, станочниками, фабричными рабочими, и им тоже приходилось в той или иной степени усваивать современные стандарты производительности. От все большего количества людей требовались хотя бы начатки образования. Рабочие учились грамоте, а научившись, неизбежно стремились к большему участию в общественных делах. Назревала потребность в более демократичной форме правления. Поскольку модернизация и увеличение производительности труда требовали участия всех человеческих ресурсов, постольку прежде отвергаемые и сегрегированные группы – например, иудеев – тоже включали в процесс. Образованные по требованиям нового времени наемные работники уже не подчинялись прежним иерархиям. Идеалы демократии, толерантности, всеобщих прав человека, ставшие священными ценностями в светской западной культуре, появились в результате многогранного процесса модернизации. Это был не просто плод мечтаний государственных деятелей и политологов; по крайней мере отчасти эти идеалы были продиктованы нуждами современного государства. В Европе начала Нового времени социальные, политические, экономические и духовные перемены были взаимосвязаны, один процесс обусловливал другие[134]. Наиболее эффективным и продуктивным способом организации модернизированного общества оказалась демократия – как продемонстрировали на своем отрицательном примере восточноевропейские страны, которые, не приняв демократические нормы и вовлекая бывшие меньшинства в общий процесс насильственными, драконовскими методами, начали отставать в развитии[135].
Бок о бок с ошеломляющими открытиями шли мучительные политические перемены, и люди искали поддержки в религии. Прежние средневековые догмы больше не несли утешения, поскольку теряли смысл в изменившихся обстоятельствах. Религия тоже требовала модернизации и рационализации, подобно Реформации католицизма в XVI в. Однако религиозные реформы раннего Нового времени показывали, что, несмотря на идущую полным ходом в XVI столетии модернизацию, европейцы по-прежнему проникнуты традиционным духом. Деятельность реформаторов-протестантов, как и уже проанализированные нами усилия мусульманских реформаторов, в эту эпоху перемен была обращена в прошлое. Мартин Лютер (1483–1546), Жан Кальвин (1509–1564) и Ульрих Цвингли (1484–1531) обращались ad fontes, к истокам христианства. Точно так же, как ибн Таймия отвергал средневековую теологию и фикх, ища чистый ислам в Коране и Сунне, Мартин Лютер выступал против средневековых схоластов и пытался вернуться к аутентичному христианству Библии и отцов Церкви. Как и консервативные реформаторы-мусульмане, реформаторы-протестанты были одновременно реакционерами и революционерами. Они не принадлежали к новому, зарождающемуся миру и были укоренены в старом.
Однако и они тоже были людьми своей эпохи, эпохи перемен. Как будет видно на протяжении всей книги, модернизация нередко сопряжена с большими волнениями. Мир вокруг меняется, вызывая растерянность и дезориентацию. Наблюдая ситуацию изнутри, люди не могут отследить, в каком направлении развивается общество, однако отдельные разрозненные аспекты медленного преобразования непременно их коснутся. Когда старая мифология, служившая опорой и смыслом жизни, вдруг начинает рушиться под влиянием перемен, люди переживают болезненную утрату своего «Я» и впадают в отчаяние. Как мы еще увидим, самые распространенные ощущения, которыми сопровождаются перемены, – беспомощность и боязнь истребления, которые в экстремальных случаях могут вылиться в агрессию. Примерно так происходило с Лютером. В молодости его преследовали мучительные депрессии. Средневековым обрядам и религиозным действиям не удавалось прогнать то, что он называл tristitia (тоска), ужас перед смертью, которую он представлял как исчезновение с лица земли без остатка. Когда наваливалась эта черная тоска, Лютер не мог заставить себя читать Псалом 90, где подчеркивается бренность человеческой жизни и описывается гнев и ярость, которые Господь обрушивает на людей. До самой старости Лютер считал смерть порождением господнего гнева. Его доктрина оправдания верой изображала человека абсолютно не способным позаботиться о собственном спасении и полностью зависящим от божьей милости. Только осознав свою беспомощность, он сможет спастись. Чтобы как-то бороться с депрессиями, Лютер развил кипучую деятельность, задавшись целью принести как можно больше блага миру, но в то же время его обуревала ненависть[136]. Гнев Лютера на папу, турок, евреев, женщин, бунтующих крестьян – не говоря уже о его богословских оппонентах – вполне типичен и для реформаторов наших дней, мучающихся от неприятия нового мира и разрабатывающих религиозную доктрину, в которой любовь к Господу зачастую соседствует с ненавистью к себе подобным.
Цвингли и Кальвину тоже пришлось пережить отчаянное бессилие, прежде чем прийти к новому религиозному видению, которое помогло им возродиться. Они тоже были убеждены, что ничем не могут способствовать своему спасению и бессильны перед жизненными испытаниями. Оба (как и многие современные фундаменталисты) подчеркивали всевластие Господа[137]. Как и Лютер, Цвингли и Кальвин тоже перекраивали религиозное мировоззрение, иногда прибегая к крайним мерам и даже к насилию, заставляя свои доктрины заявить о себе в условиях нового мира, который неявно, но неудержимо тянулся к радикальным переменам.
Как представители своей эпохи, реформаторы отражали происходящие перемены. Их отмежевание от Римско-католической церкви стало самой первой декларацией независимости, которых с этого момента в истории Запада будет предостаточно. Как мы увидим, новый этос требовал автономии и полной свободы, и именно этого добивались в условиях изменившегося мира протестантские реформаторы для христиан – свободы читать и толковать Библию по своему усмотрению, без указующего (и карающего) перста Церкви. При этом все трое отличались крайней непримиримостью к тем, кто выступал против их учения: Лютер призывал сжигать «еретические» книги, а Кальвин и Цвингли считали приемлемым убийство инакомыслящих. Все три доктрины демонстрировали, что прежнее, символическое понимание религии в этот век рационализма начинает рушиться. В традиционной духовности символ был частью божественного, люди находили святость в земном, соответственно, символ и сакральное были неразделимы. В эпоху Средневековья христиане видели божественное в мощах святых, а хлеб и вино для причастия мистически идентифицировали с Христом. Реформаторы же объявили поклонение мощам идолопоклонничеством, а причастие «лишь символом», и литургия из культового воспроизведения Крестного Пути превратилась в простой ритуал «напоминания». Реформаторы начали рассматривать религиозные мифы с точки зрения логоса, и, судя по тому, сколько у них нашлось сторонников, отказ от мифологического восприятия шел среди европейских христиан полным ходом.
По мере медленной, но верной секуляризации Европы протестантская Реформация, несмотря на свою сильнейшую религиозную подоплеку, тоже обретала светские черты. Реформаторы утверждали, что возвращаются к первоначальному источнику, к Библии, однако читали они ее уже в духе эпохи модерна. Новый христианин должен был общаться с Богом один на один, опираясь только на собственную Библию, которая появилась у него в личном пользовании в связи с развитием книгопечатания и которую он смог прочитать благодаря распространению грамоты. Священное Писание все больше трактовалось буквально, как источник неких сведений, по аналогии с остальными текстами, которые учились читать протестанты-модернизаторы. Это самостоятельное чтение способствовало освобождению христиан от традиционных толкований и от указки религиозных наставников. Упор на индивидуальную веру субъективизировал истину, приводя к появлению еще одной характерной черты современного западного менталитета. Однако, провозглашая важность веры, Лютер одновременно яростно отрицал разум. Он словно чувствовал, что в дальнейшем разум станет непримиримым врагом веры. В его трудах (у Кальвина этого нет) отчетливо видно, что прежнее представление о взаимодополняемости разума и мифа постепенно сходит на нет. Лютер с привычной яростью поносил Аристотеля и Эразма Роттердамского, считая их труды квинтэссенцией разума, которым, вне всякого сомнения, была вымощена дорога к атеизму. Выталкивая разум из религиозной сферы, Лютер одним из первых среди европейцев способствовал его секуляризации[138].
Поскольку в глазах Лютера Бог был абсолютно таинственным и неведомым, в мире физическом ничего божественного быть не могло. Присутствие лютеровского Deus Absconditus не обнаруживалось ни в общественных институтах, ни в материальной действительности. Для средневековых христиан источником священного служила церковь, объявленная Лютером вертепом Антихриста. Познать Бога путем наблюдения за восхитительным устройством Вселенной по примеру схоластов (также яростно раскритикованных Лютером) тоже не дозволялось[139]. В трудах Лютера Бог начал исчезать из материального мира, не имеющего теперь никакой религиозной значимости. Кроме того, Лютер секуляризировал политику. Поскольку мирское резко противопоставлено духовному, церковь и государство должны существовать независимо, не вторгаясь в чужую область[140]. Вот так благодаря своей истовой религиозности Лютер и стал одним из первых европейцев, ратующих за отделение церкви от государства. В очередной раз секуляризация политики началась с поисков новых путей религии.
Разграничение религии и политики у Лютера было продиктовано отвращением к насильственным методам Римско-католической церкви, насаждавшей с помощью государства свои догмы и правила. Кальвин его взглядов об обезбоженном мире не разделял. Как и Цвингли, он считал, что для христианина выражением веры должно быть участие в политической и социальной жизни, а не уход в монастырь. Кальвин способствовал укреплению зарождающейся капиталистической рабочей этики, провозглашая труд священным призванием, а не божьей карой за грехи, как считалось в Средневековье. Тезис Лютера о том, что Бога в окружающем мире нет, он тоже отвергал, считая, что Бог проявляется в своем творении, и поощряя изучение астрономии, географии и биологии. Поэтому среди кальвинистов начала Нового времени насчитывалось немало хороших ученых. Кальвин не видел противоречия между наукой и Священным Писанием. Он пришел к выводу, что Библия излагает не сухие географические и космологические данные, а облекает несокрушимую истину в понятные простым недалеким людям слова. Библейский язык – «детский язык», он намеренно упрощает истину, которая в противном случае будет слишком сложна для понимания[141].
Великие ученые начала Нового времени разделяли точку зрения Кальвина и воспринимали свои исследования и научные споры в мифологическом, религиозном контексте. Польский астроном Николай Коперник (1473–1543) считал свою науку «скорее божественной, чем человеческой»[142]. И тем не менее его гелиоцентрическая система нанесла сокрушительный удар по прежним мифологическим представлениям. Гипотеза оказалась настолько поразительной и радикальной, что мало кому в то время удалось ее принять. Коперник предположил, что Земля вовсе не является центром Вселенной, а вместе с другими планетами вращается вокруг Солнца. Мы смотрим в небеса и думаем, что движутся небесные тела, а на самом деле это лишь обратная проекция вращения Земли. Теория Коперника осталась незавершенной, однако затем ее уточнил математическим путем немецкий физик Иоганн Кеплер (1571–1630), а пизанский астроном Галилео Галилей (1564–1642) подтвердил эмпирически, наблюдая за планетами в собственноручно усовершенствованный телескоп. Обнародованные в 1612 г. открытия Галилея вызвали небывалый ажиотаж. Европейцы принялись собирать собственные телескопы, чтобы самим исследовать звездное небо.
Инквизиция заставила Галилея замолчать и отречься от своих идей, однако отчасти в этих гонениях виновата воинственность и несдержанность самого ученого. В начале Нового времени среди религиозных людей не было инстинктивного неприятия науки. Папа римский одобрил изложенную в Ватикане коперниканскую теорию, и у Кальвина она тоже отторжения не вызывала. Сами ученые видели свои исследования как религиозные занятия. Кеплер, открывая тайны, доселе недоступные ни одному человеку, чувствовал себя одержимым «божественным неистовством», а Галилей был убежден, что его работа осенена благословением свыше[143]. Научный рационализм по-прежнему вполне уживался с религиозным мировоззрением, логос согласовывался с мифом.
Тем не менее гипотеза Коперника совершила революционный переворот, и люди больше не смогут воспринимать самих себя и доверять своим ощущениям как раньше. До этого человек всецело полагался на свои органы чувств. Во внешних проявлениях мирского он пытался отыскать Незримое, уверенный в том, что эти внешние проявления соответствуют действительности. Мифы, излагающие его представление о фундаментальных законах, соотносились с увиденным вокруг воочию. У древних греков в элевсинских мистериях миф о Персефоне связывался воедино с чередованием периодов сбора урожая, которые они наблюдали собственными глазами; мусульмане, обегающие вокруг священного куба Каабы, символически отождествляли свои действия с вращением небесных тел вокруг Земли и тем самым обретали гармонию с основополагающими принципами существования. Однако открытие Коперника посеяло зерно сомнения. Оказалось, что Земля, представлявшаяся неподвижной, на самом деле движется с огромной скоростью, а планеты ходят по небу лишь в человеческом восприятии. Казавшееся прежде объективным обернулось субъективностью. Гармония разума и мифа распалась; укрепляющийся логос, порождаемый учеными, обесценивал обывательские наблюдения и заставлял человека все больше полагаться на науку. Если миф связывал человеческие действия с основополагающими законами бытия, то новая наука неожиданно отодвинула человека на периферию космического устройства. Человек из центра мироздания превратился в обитателя неприметной планетки, и Вселенная больше не вращалась вокруг него. Эта обескураживающая концепция, возможно, требовала нового мифа, который наделил бы новую космологию прежней духовной значимостью.
Однако современная наука начинала дискредитировать мифологию. Британский ученый сэр Исаак Ньютон (1642–1727) обобщил открытия своих предшественников, строго следуя развивающимся научным методам эксперимента и дедукции. Ньютон представил силу тяготения универсальной силой, связующей все космические тела и предотвращающей их столкновение. Эта система, утверждал он, доказывает существование Бога, великого «Механика», поскольку такое сложное космическое устройство не могло возникнуть случайно[144]. Как и другие ученые начала Нового времени, Ньютон открывал людям новые и абсолютно, по его мнению, точные сведения об устройстве мира. Он не сомневался в том, что его «система» полностью соответствует объективной действительности и способствует небывалому расширению человеческих знаний. Однако полное погружение в мир логоса не позволило ему представить, что для постижения истины существуют и другие, более интуитивные формы познания. Мифологию и веру в великие таинства он считал примитивным, варварским сознанием. «Таков настрой легковерной и суеверной части человечества в отношении религии, – писал он в сердцах. – Они падки на тайны и поэтому любят то, что им наименее понятно»[145].
Желание очистить христианство от мистических доктрин было у Ньютона на грани одержимости. Он пришел к убеждению, что такие иррациональные догматы, как Боговоплощение и учение о Троице, появились в результате заговора, подтасовки фактов и надувательства. Работая над своим фундаментальным трудом «Математические начала натуральной философии» (1687), Ньютон начал сочинять парадоксальный трактат под заглавием «Философские основы языческого богословия», в котором утверждалось, что Ной основал религию, свободную от суеверий, в которой не было явленных писаний и таинств, а был только Бог, познаваемый через рациональное исследование окружающего мира. Впоследствии эта чистая истина была извращена, когда в IV в. бессовестные богословы добавили к ней ложные догматы Триединства и Боговоплощения. И действительно, Откровение Иоанна Богослова пророчествует о расцвете тринитаризма – «этой странной религии Запада», «культа трех равных богов» – как о мерзости запустения[146]. Ньютон по-прежнему оставался человеком религиозным и не чуждым консерватизму в своем стремлении вернуться к рациональной исконной религии. Однако выражать свою веру так же, как предыдущие поколения, он уже не мог. Он не ведал, что доктрину Триединства греческие восточные богословы IV в. придумали исключительно как миф (аналогично иудеям-каббалистам некоторое время спустя). Как следовало из объяснений Григория Нисского, три ипостаси – Отец, Сын и Святой Дух – представляют собой не объективную реальность, а «лишь термины» для описания того, как «неизрекаемая и невозгласимая» божественная сущность (усия) приспосабливается к ограниченности человеческого сознания[147]. Они не имеют смысла вне культового контекста молитвы, созерцания и литургии. Однако Ньютон рассматривал Троицу лишь с рациональной точки зрения, не понимал роль мифа и поэтому считал необходимым отвергнуть этот догмат. Неприятие многими западными христианами учения о Троице в наши дни свидетельствует, что они разделяют рационалистический подход Ньютона. Его позиция легко объяснима. Он одним из первых на Западе полностью освоил все методы и дисциплины научного рационализма. Это было величайшее достижение, не менее упоительное, чем религиозный экстаз. Возгласы «Господи! Я мыслю Твоими мыслями!»[148] не раз вырывались у Ньютона во время работы. Ему было в буквальном смысле не до интуитивного познания, которое только тормозило бы его работу. Впервые в истории человечества разум и миф оказались несовместимы, расколотые мощью и оглушительным успехом этого западного эксперимента.
К XVII в. прогресс стал настолько очевидным, что многие европейцы уже полностью ориентировались на будущее. Выяснилось, что поиски истины требуют от них разделаться с прошлым и начать все заново. Эта устремленность вперед составляла диаметральную противоположность продиктованному мифами возвращению в прошлое, лежавшему в основе традиционного сознания. Новая наука могла быть обращена только вперед, так она была устроена. Как только теория Коперника получила признание, птолемеева система мира была отправлена в отставку. Позже такая же участь постигнет и ньютоновскую систему мира – но не его методы. У европейцев складывалась новая концепция истины: истина не может быть абсолютной, поскольку новые открытия всегда будут приходить на место старых; истина должна иметь объективное выражение и проверяться практикой. Успехи науки в эпоху начала Нового времени наделяли ее авторитетом, который постепенно перевешивал прежнюю, мифологическую истину, не отвечавшую ни одному из этих критериев.
Это отчетливо прослеживалось в трактате «О пользе и успехе знания» (1605), сочиненном Фрэнсисом Бэконом (1561–1626), советником английского короля Якова I. Бэкон утверждал, что любая истина, даже самые сакральные религиозные доктрины, должна подвергаться строгому критическому анализу с помощью эмпирических научных методов. Все, что противоречит фактам и данным органов чувств, следует отмести. Никакие великие откровения прошлого не вправе препятствовать строительству светлого будущего человечества. Научные изобретения положат конец людским страданиям, считал Бэкон, и на земле наступит предсказанное пророками царство благоденствия. Сочинения Бэкона полны предвкушением грядущего золотого века. Философ был настолько в нем уверен, что не видел никакого конфликта между Библией и наукой, и задолго до преследования Галилея Церковью требовал полной интеллектуальной свободы для ученых, чьи труды слишком ценны для человечества, чтобы погибнуть от рук невежественных церковников. «О пользе и успехе знания» была декларацией независимости научного рационализма, стремящегося отделиться от мифа и провозглашающего себя единственным путем к истине.
Трактат стал важной вехой в развитии современной западной науки в том виде, в котором мы теперь ее знаем. До этого естественно-научные и гуманитарные исследования всегда велись в рамках всеохватывающей мифологии, объясняющей смысл полученных результатов. Научная работа оставалась под контролем доминирующего мифа, который в соответствии с требованиями традиционного общества тормозил их применение на практике. Однако к XVII в. европейские ученые начали освобождаться от старых оков. В них больше не было нужды, поскольку сдерживающие развитие пережитки аграрного общества постепенно преодолевались. Бэкон утверждал, что истина добывается лишь научными методами. Однако его представления о науке, надо сказать, сильно отличались от наших. Для Бэкона научный метод состоял главным образом в сборе фактов; роль предположений и гипотез в научных исследованиях он не признавал. Однако именно бэконовское понимание истины получит определяющее значение, особенно в англоязычных странах. Бэкон полагал, что абсолютно достоверными могут считаться лишь сведения, получаемые от пяти наших органов чувств, а все остальное – чистая фантазия. Философия, метафизика, богословие, искусство, воображение, мистицизм и мифология отбрасывались как ненужные суеверия, поскольку не подлежали эмпирической проверке.
Приверженцам этого нового рационализма, желающим совместить его с религиозностью, приходилось искать новые пути взаимоотношений с Богом и духовной жизнью.
Гибель мистического подхода мы наблюдаем и в философии французского ученого Рене Декарта (1596–1650), который говорил только рациональным языком логоса. Однако его точка зрения отличалась уникальностью. Для Декарта Вселенная была безжизненной машиной, материальный мир – инертным и мертвым. Этот мир не дает нам никаких сведений о божественном. Единственное, что в универсуме есть живого, – человеческое сознание, которое может увериться в чем-то, просто обратившись внутрь себя. Мы даже не знаем наверняка, существует ли вообще в мире что-то помимо наших мыслей и сомнений. Убежденный католик, Декарт хотел найти для себя подтверждение существования Бога, однако никак не через возвращение к доисторическому воображаемому прошлому мифов и культа. Полагаться на откровения пророков и священные тексты он тоже не собирался. Как человек новой эпохи, он отвергал чужие, готовые идеи – сознание ученого должно быть tabula rasa, чистым листом. Истину можно найти лишь в математических расчетах либо в неизменно верных коротких тезисах типа «сделанного не воротишь». Поскольку назад пути не было, Декарту оставалось лишь пядь за пядью с огромным трудом продвигаться вперед.
Однажды вечером, сидя у дровяной плиты, Декарт вывел максиму Cogito, ergo sum – «Я мыслю, следовательно, существую». Это, полагал он, самоочевидно. Единственное, в чем мы можем быть уверены, – это испытываемое нами сомнение. Однако оно выявляет ограниченность человеческого разума, тогда как само понятие ограниченности теряет смысл без предшествующего понятия идеала. Если же идеала не существует, налицо противоречие в терминах. Следовательно, высший идеал – Бог – должен существовать[149]. Это «доказательство», которое вряд ли покажется убедительным современному неверующему, демонстрирует бессилие чистого разума в решении подобных вопросов. Рациональное мышление необходимо человеку, чтобы успешно функционировать в окружающем мире. Оно показывает себя во всей красе, когда направлено на решение прагматической задачи или когда, подобно Декарту, мы добиваемся наивысшей объективности, размышляя над чем-то абстрактным. Однако когда мы задаемся вопросами, почему существует мир (и существует ли вообще!), имеет ли жизнь смысл, от разума мало толку, и сам предмет наших размышлений может показаться странным. Декарт, ищущий у дровяной плиты спасения от холодного пустого мира, одолеваемый сомнениями, изрекающий «доказательство», больше напоминающее хитроумную головоломку, воплощает собой духовную дилемму современного человека.
Таким образом, в то время как наука и раскрепощенная рациональность настойчиво продвигались вперед, жизнь постепенно теряла смысл для все большего количества людей, которым впервые за всю историю человечества пришлось обходиться без мифологии. Британский философ Томас Гоббс (1588–1679) верил, что Бог существует, однако для достижения практических целей можно действовать так, как если бы Его и не было. Как и Лютер, Гоббс отрицал присутствие божественного в материальном мире. По мнению Гоббса, Бог есть Первопричина человеческой истории и во второй раз явится лишь при ее Конце. До тех пор человек вынужден обходиться своими силами, дожидаясь Второго пришествия во тьме[150]. Французскому истово верующему математику Блезу Паскалю (1623–1662) пустота и «вечное безмолвие» бесконечной Вселенной, открытое современной наукой, внушало неподдельный ужас: «Видя ослепление и жалкое состояние человека, узревая, что Вселенная безмолвна, а человек лишен света, предоставлен самому себе, как бы заблудился в этом уголке мира, не зная, кто и для чего его привел сюда и что с ним будет после смерти, – представляя все это, я прихожу в ужас подобно человеку, которого сонного перенесли на пустынный, дикий остров и который, проснувшись, не может понять, где он находится, и лишен возможности убежать с этого острова. Удивительно, как люди не приходят в отчаяние от такого ужасного положения!»[151]
Благодаря разуму и логосу жизнь людей в современном мире делалась лучше в массе практических аспектов, однако основополагающие вопросы, которыми человек задается по природе своей и которые до сих пор находились в ведении мифа, ставили их в тупик. В результате в жизнь современного человека входили отчаяние и отчуждение, описанные Паскалем.
Но так происходило не со всеми. Джону Локку (1632–1704), одному из первых философов Просвещения XVIII в., экзистенциальный страх Паскаля был неведом. Он обладал непоколебимой верой в жизнь и человеческий разум. Локк не сомневался в существовании Бога, даже сознавая, что доказательство существования божества, находящегося за рамками нашего чувственного восприятия, не пройдет бэконовскую эмпирическую проверку. Религия британского философа, целиком опирающаяся на разум, напоминала деизм, выработанный некоторыми иудеями-марранами. Локк нисколько не сомневался в том, что окружающий мир сам служит доказательством существования Создателя, и если разуму позволить развернуться в полную силу, каждый сам откроет истину для себя. Ложные идеи и суеверия проникли в этот мир только потому, что священники вколачивали свои догматы в головы людей жестокостью и силой (достаточно вспомнить инквизицию). Следовательно, ради истинной религии государство должно обладать веротерпимостью, а также ограничиваться исключительно административными вопросами жизни общества. Церковь необходимо отделить от государства, и в дела друг друга они вмешиваться не должны. Наступил Век Разума, считал Локк, который впервые с начала времен подарит людям свободу, а значит, и способность постичь истину[152].
Это радужное видение задало тон всей эпохе Просвещения и идеалам современного светского толерантного государства. Французские и немецкие философы-просветители также исповедовали рационалистический деизм, а прежние мифологические, основанные на откровениях религии считали изжившими себя. Поскольку единственный критерий истины – разум, прежние верования, основанные на умозрительном понятии «откровения», – просто наивные разновидности этой естественной религии и должны быть отвергнуты. Вера должна основываться на разуме, доказывали радикал, британский богослов Мэтью Тиндал (1655–1733) и ставший деистом католик ирландец Джон Толанд (1670–1722). Единственный надежный инструмент постижения сакральной истины – наш природный разум, поэтому все мистическое, сверхъестественное и «чудесное» из христианства следует изъять. В откровениях нет нужды, поскольку любой человек может прийти к истине силами собственного мышления, без посторонней указки[153]. Как подчеркивал Ньютон, из размышлений над устройством материальной Вселенной следуют неоспоримые доказательства существования Творца и Первопричины. Немецкий историк Герман Самуил Реймарус (1694–1768) утверждал, что Иисус никогда не претендовал на божественное происхождение и преследовал сугубо политические цели. Иисуса следует почитать как великого учителя и родоначальника «замечательной, простой, возвышенной и практической религии»[154].
Старые истины мифологии теперь толковались в духе логоса – абсолютно новая тенденция, которая в конечном итоге грозила обернуться разочарованием.
Вопреки всем этим богословам, философам и историкам, провозглашавшим превосходство разума, немецкий рационалист Иммануил Кант (1724–1804) подрывал тенденции Просвещения. С одной стороны, Кант создал еще одну декларацию независимости начала Нового времени: человек должен мужественно преодолеть зависимость от учителей, церквей и властей и искать истину сам. «Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине, – писал Кант. – Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого»[155]. Однако, с другой стороны, в «Критике чистого разума» (1781) Кант оспаривал возможность утверждать наверняка, что прослеживаемый нами в природе, как нам кажется, порядок действительно существует в реальности. Этот «порядок» есть лишь порождение нашего собственного сознания; даже так называемые научные законы Ньютона, возможно, больше отражают человеческую психологию, чем устройство Вселенной. Получая данные об окружающем материальном мире от органов чувств, разум осмысливает их, неизменно преобразуя согласно своему внутреннему укладу. Кант не сомневался в способности разума составить собственное продуктивное для себя самого представление о вещах, однако в то же время он ясно давал понять, что абсолютной истины не существует, поскольку человеку не под силу освободиться от влияния собственной психологии. Все наши идеи субъективны и зависят от человеческих предзаданных познавательных возможностей. Если Декарт представлял человеческий разум одиноким обитателем мертвой Вселенной, то Кант рвал связь между человеком и окружающим миром начисто, запирая человека в его собственной голове[156]. Освобождая человека из темницы «несовершеннолетия», он тут же сажал его в другую. Как часто бывает, модерн одной рукой лечил, другой калечил. Разум нес просвещение и свободу, но в то же время отчуждал людей от того мира, который они так успешно осваивали.
Если абсолютной истины нет, что тогда происходит с Богом? В отличие от других деистов Кант считал, что доказать существование Господа невозможно, поскольку он не постижим человеческими органами чувств, а значит, недоступен человеческому сознанию[157]. Перед лицом абсолюта чистый разум терялся. Единственное утешение, которое мог предложить Кант, – невозможность, в силу тех же обстоятельств, опровергнуть существование Бога. Сам Кант был верующим и не считал свои теории антирелигиозными. Он полагал, что они лишь освободят веру от неуместной опоры на разум. Немецкий философ был глубоко убежден, как он писал в конце «Критики практического разума» (1788), в существовании внутри каждого из нас нравственного закона, который, подобно величию небес, наполняет человека благоговением и восторгом. Однако в качестве единственного рационального аргумента в пользу существования деистского Бога он мог привести лишь сомнительный довод, что без существования Бога и без загробной жизни трудно понять, почему человек не преступает законы морали. Такое доказательство тоже не годится[158]. Бог Канта был просто вторичной идеей, уступкой общепринятому. Кроме внутренней убежденности, никакой другой причины, по которой рационалист должен был бы уверовать, не предлагалось. Как деист и человек разума, Кант не прибегал к традиционным символам и обрядам, пробуждавшим прежде в людях чувство священного независимо от разума. Кант отвергал идею божественного закона, варварски, по его мнению, отрицавшего человеческую автономию, и не видел смысла в мистицизме, молитвах и ритуалах[159]. Без культа любое понятие религии и божественного становится неубедительным, ненужным и несостоятельным.
И тем не менее, как ни парадоксально, превращение разума в единственный критерий истины в западном мышлении совпало со всплеском религиозного иррационализма. Великая охота на ведьм XVI–XVII вв., бушевавшая во многих протестантских и католических странах Европы и охватившая ненадолго даже американские колонии, показала, что культ научного рационализма не всегда способен сдержать темные силы. Мистицизм и мифология учили людей отношениям с миром бессознательного. Наверное, неслучайно именно в то время, когда религия начала из этой сферы уходить, подсознательное вышло из-под контроля. Охота на ведьм описывалась как коллективная истерия, охватившая и простых людей, и инквизиторов по всему христианскому миру. Люди верили, что вступают в сексуальную связь с демонами и летают по ночам на сатанинские шабаши и оргии. Ведьмы якобы поклоняются дьяволу, а не Богу, участвуя в черных мессах, как извращенной форме божественной литургии. В этих представлениях, вероятнее всего, выражался распространяющийся подсознательный бунт против традиционной веры. Бог стал казаться таким чужим, требовательным и далеким, что в глазах некоторых просто демонизировался: подсознательные страхи и желания проецировались на воображаемую фигуру дьявола, являвшего собой монструозный образ человечества[160]. Охота на ведьм унесла жизни тысяч мужчин и женщин, сожженных и повешенных по обвинению в колдовстве. Новый научный рационализм, не затрагивавший глубинные слои сознания, был не в силах прекратить эту истерию. Массовое, устрашающее, разрушительное мракобесие тоже стало частью истории эпохи модерна.
По обе стороны Атлантики западные страны переживали страшные времена. Реформация оказалась страшным расколом, разделившим Европу на различные враждебные лагеря. В Англии протестанты с католиками истребляли друг друга, во Франции раскол привел к гражданской войне (1562–1563) и массовой расправе с протестантами в 1572 г. Затем по Европе прокатилась опустошающая Тридцатилетняя война (1618–1648), в которую втягивались одна страна за другой, – это был передел власти с сильной религиозной подоплекой, уничтоживший все надежды на воссоединение Европы. Внутренняя политическая обстановка тоже отличалась сильной нестабильностью. В 1642 г. гражданская война разгорелась и в Англии – итогом стала казнь Карла I (1649) и установление республики во главе с лидером парламентской пуританской коалиции Оливером Кромвелем. После восстановления монархии в 1660-м ее власть была ограничена парламентом. В крови и муках на Западе рождались и другие демократические институты. Еще более катастрофичной стала Французская революция 1789 г., после которой страна находилась под властью террора и военной диктатуры до самого прихода Наполеона. Наследие Французской революции оказалось для современной эпохи двояким: с одной стороны, просветительские идеалы свободы, равенства и братства, а с другой – неизгладимые воспоминания о государственном терроре, что было не менее важно. В американских колониях дела обстояли не лучше: Семилетняя война (1756–1763), в которой Британия с Францией боролись за свои имперские владения, разорила и основательно потрепала восточное побережье. Непосредственным ее продолжением стала Война за независимость (1775–1783) и создание первой в современном мире светской республики. На Западе, наконец, зарождалось более справедливое и толерантное социальное устройство, однако его установлению предшествовали два столетия кровавых войн.
Смятение и хаос побуждали людей обратиться к религии, и некоторые обнаруживали, что в изменившихся условиях прежние верования больше их не устраивают. Антиномианисты, подобно более поздним саббатианам в иудаизме, пытались порвать с прошлым и беспорядочно искали чего-то нового. В Англии XVII в. после Гражданской войны Джекоб Ботумли и Лоренс Кларксон (1615–1667) проповедовали начальные формы атеизма. Отдельный, далекий бог – это идол, утверждал Ботумли в «Темной и светлой сторонах бога» (1650); Бог воплощался не только в Иисусе, и божественное присутствует во всем, даже в грехе. У Кларксона в «Единственном оке» грех представал человеческой выдумкой, а зло – божественным откровением. Баптист-радикал Абиезер Копп (1619–1672) вовсю нарушал сексуальные табу и сквернословил на людях. Вскоре, считал он, вернется «всемогущий уравнитель» Иисус и свергнет прогнивший и лицемерный порядок[161]. В американских колониях, например в Новой Англии, тоже имелись свои антиномианисты. Джон Коттон (1585–1652), известный пуританский проповедник, прибывший в Массачусетс в 1635 г., утверждал, что добрые дела бессмысленны и праведная жизнь бесполезна: Господь спасет всех и так, без этих выдуманных человеком требований. Его ученица Анна Хатчинсон (1591–1643) заявляла, что получает личные откровения от Господа, поэтому ей нет нужды читать Библию или совершать добрые дела[162]. Таким образом, судя по всему, эти бунтари пытались выразить ощущение, что прежние правила в новом мире, где жизнь так кардинально меняется, больше не актуальны. В эпоху постоянных перемен кто-то неизбежно должен был призвать к религиозной и этической независимости и нововведениям в этой сфере.
Другие пытались выразить идеалы новой эпохи в религиозной форме. Джордж Фокс (1624–1691), основатель Религиозного общества друзей, проповедовал духовное просвещение, во многом схожее с тем, что позже опишет Кант. Его последователям, квакерам, надлежало искать свет в собственной душе, Фокс учил их «опираться на собственные суждения, не следуя чужой указке»[163]. Вера, считал он, в этот научный век должна быть «экспериментальной», подтверждающейся не повелением свыше, а личным опытом[164]. Общество друзей исповедовало новый демократический идеал: все люди равны. Квакер не должен снимать шляпу ни перед кем. Вместо того чтобы лебезить перед клириками с учеными степенями, необразованный люд должен открыто выражать собственные взгляды. Похожим путем шел Джон Уэсли (1703–1791), пытавшийся применить к духовной сфере научно-системный подход. Его «методисты» жили по строгому распорядку: молитвы, чтение Библии, пост, благотворительность. Как и Кант, Уэсли приветствовал отделение веры от разума и провозглашал религию не доктриной в голове, а светом в душе. Возможно, даже к лучшему, считал он, что рациональные и исторические доводы в пользу христианства в последнее время стали «запутанными и туманными». Тем самым люди обретут свободу, вынужденные «заглянуть в себя и внимать свету, сияющему в их сердцах»[165].
Между христианами намечался раскол: одни, следуя идеям мыслителей, пытались демистифицировать и рационализировать свою веру, другие отторгали разум полностью. Перспективы выходили тревожные, особенно в американских колониях. Одним из последствий раскола станет развитие фундаментализма в Соединенных Штатах конца XIX в. Поначалу большинство колонистов, за исключением пуритан Новой Англии, относились к религии равнодушно; казалось, что концу XVII в. в колониях произошла почти полная секуляризация[166]. Однако в начале XVIII в. возродилось протестантское вероисповедание, и христианство в Новом свете стало еще более строгим, чем в Старом. Даже такие диссидентские секты, как квакеры, баптисты и пресвитериане, изначально отрицавшие церковную власть и отстаивавшие право следовать собственным убеждениям, создали в Филадельфии ассамблею, которая бдительно следила за местными общинами, руководила священнослужителями, проверяла благонадежность проповедников и боролась с ересями. Всем трем деноминациям эта насильственная, но модернизирующая централизация принесла процветание и массовый приток прихожан. В это же самое время в Мэриленде появилась англиканская церковь, и пейзажи Нью-Йорка, Бостона и Чарльстона украсились изящными церковными зданиями[167].
Однако если с одной стороны намечалась тенденция к ужесточению контроля и дисциплины, с другой стороны – со стороны низов – шло яростное неприятие этих рационализированных ограничений. Традиционная религия всегда рассматривала мифологию и разум как взаимодополняющие понятия, которые друг без друга обеднеют. То же самое происходило в религиозных вопросах, где разуму всегда отводилась хоть и второстепенная, но важная роль. Однако прослеживающаяся в новых протестантских движениях тенденция выводить разум из игры или отбрасывать вовсе (корни ее надо искать у Лютера) вела к пугающему иррационализму. Квакеры получили свое прозвище за бурное выражение своих религиозных взглядов: они тряслись, выли и кричали, заставляя – по свидетельству очевидца – собак заходиться лаем, коров носиться кругами, а свиней визжать[168]. Пуритане, радикальные кальвинисты, начавшие с противостояния «папизму» англиканской церкви, также отличались буйством и экстремистскими взглядами. Их «второе рождение» зачастую было мучительным, многих терзали чувство вины, страх, одолевали сомнения до решающего шага, после которого они попадали в благословенные объятия Господа. Обращение давало им огромные силы и определяло на ведущие роли в начале Нового времени. Они становились успешными капиталистами и зачастую хорошими учеными. Однако случалось и так, что благодать улетучивалась и пуритане снова впадали в отчаяние, хроническую депрессию и, бывало, даже сводили счеты с жизнью[169].
В традиционной религии, как правило, подобной истерии не наблюдалось. Ее обряды и культ предназначались для того, чтобы примирить людей с реальностью. Разумеется, случались и вакханалии, и лихорадочный экстаз, но они имели единичный, а не массовый характер. Мистицизм не предназначался для масс. В мистическом процессе адепт находился под строгим наблюдением, не дававшим ему впасть в нежелательное психическое состояние. Погружение в глубины подсознания требовало большого мастерства, интеллекта и дисциплины. Без надлежащего руководства результаты могли оказаться плачевными. Буйное невротическое поведение некоторых христианских святых времен Средневековья, объяснявшееся некомпетентным духовным наставничеством, наглядно иллюстрирует опасность безответственного выхода в измененные состояния сознания. Реформы Терезы Авильской и Иоанна Крестного были как раз направлены на борьбу с подобными злоупотреблениями. Мистические искания массового порядка могли привести к массовой же истерии, к саббатианскому нигилизму и психической неуравновешенности, наблюдавшейся у некоторых пуритан.
В XVIII в. американская религиозная жизнь уже не обходилась без религиозных эксцессов. Особенно это стало заметно во время первой волны Великого Пробуждения, зародившегося в Нордхэмптоне, штат Коннектикут, в 1734 г. и описанного в хрониках образованным священником-кальвинистом Джонатаном Эдвардсом (1703–1758). До Пробуждения, объяснял Эдвардс, обитатели Нордхэмптона не были особенно верующими, но потрясение, вызванное внезапной гибелью в 1734 г. двух молодых людей (и подкрепленное горячими проповедями самого Эдвардса), повергло город в фанатичную религиозность, которая затем перекинулась на Массачусетс и Лонг-Айленд. Люди бросали работу и целыми днями читали Библию. За полгода три сотни горожан пережили мучительное «второе рождение». Они испытывали головокружительные взлеты и падения, иногда чувствуя себя настолько подавленными, что «падали в пропасть, придавленные чувством вины и лишенные, как им уже казалось, божьей милости». А потом «разражались смехом и слезами, которые невозможно было остановить и которые перемежались громкими рыданиями»[170]. Волна уже постепенно сходила на нет, когда проповедник-методист Джордж Уайтфилд (1714–1770), поездив по колониям с проповедями, вызвал вторую волну. Во время проповедей люди теряли сознание, рыдали и разражались воплями, церкви сотрясались от возгласов тех, кто вообразил себя спасенными, и от стенаний тех несчастных, кто счел себя навеки проклятым. Нельзя сказать, что в подобный экстаз впадали одни невежды и простаки. До такого же исступления Уайтфилд доводил слушателей в Гарварде и Йеле, а закончил он свой тур в 1740 г. проповедью перед 30 000 человек в городском парке Бостон-Коммон.
В своей хронике Пробуждения Эдвардс показал, насколько опасна подобная экзальтация. Когда в Нортхэмптоне волна пошла на спад, один из жителей покончил жизнь самоубийством, сочтя исчезновение экстатического восторга свидетельством обреченности на адские муки. В других городах «множеству людей… словно внушали, словно кто-то нашептывал им на ухо: „Перережь себе горло, сейчас самое время! Давай!“» Двое пали жертвами «странных восторженных видений» и повредились рассудком[171]. Эдвардс утверждал, что большинство стали спокойнее и миролюбивее, чем до Пробуждения, однако его апология свидетельствует, насколько опасно представлять религию сугубо высокодуховным делом. Если вера понимается как область иррационального и если отбрасываются внутренние сдержки лучших проявлений традиционной духовности, человек рискует пасть жертвой всякого рода маний. Культовые обряды были тщательно продуманы, с тем чтобы помочь человеку преодолеть душевную травму и выйти невредимым. Это отчетливо видно в обрядах лурианской каббалы, где мистику разрешалось выплескивать горе и скорбь, но закончиться бдение должно было на радостной ноте. Точно так же и массовые шиитские процессии плача по Хусейну давали выход людской ярости и скорби, но в ритуализированной форме, поэтому люди не срывались с цепи после церемонии и не изливали свой гнев на богачей и власть. Однако в Нортхэмптоне подобного культа, помогавшего человеку пройти испытание, не существовало. Людям давали бесконтрольно упиваться своими эмоциями. Для некоторых это закончилось трагично.
Тем не менее Эдвардс был убежден, что Пробуждение – промысел Божий. Оно показало, что в Америке начинается новая эпоха, которая наступит затем и во всем мире. Посредством таких волн Пробуждения, считал Эдвардс, христиане установят Царствие Божие на земле, в устройстве общества отразится божья истина и справедливость. Ничего политически радикального в Пробуждении не было. Эдвардс и Уайтфилд не призывали слушателей восставать против английского владычества, не агитировали за демократическое правительство и не требовали равного распределения благ. Тем не менее Пробуждение подготовило почву для Американской революции[172]. Экстатические переживания оставили многим американцам, которые не смогли бы принять просвещенческие деистские идеалы революционеров, память о блаженном чувстве свободы. Словом «свобода» часто назывался экзальтированный восторг обращения, а также освобождение от горестей и невзгод обычной жизни. И Уайтфилд, и Эдвардс внушали своим слушателям, что их экстатическая вера выше веры сильных мира сего, которые не пережили «второго рождения» и смотрели на разыгравшееся безумие с презрением рационалистов. Многие из тех, кто помнил высокомерие клириков, порицавших Пробуждение, прониклись глубоким недоверием к институциональным властям – таким настроением отличались христианские воззрения многих американских кальвинистов. Пробуждение стало первым массовым движением в истории Америки, наделив людей опытом участия в переломных событиях, которые, по их убеждению, должны были изменить ход истории[173].
Однако Пробуждение внесло раскол и в ряды кальвинистов в американских колониях. Те, кого стали называть «старосветники», – например, бостонские священники Джонатан Мейхью (1720–1766) и Чарльз Чонси (1705–1787), – считали, что христианство должно быть рациональным и просвещенным. Их возмущала истерия «вторых рождений», а их антиинтеллектуальная подоплека вызывала недоверие[174]. «Старосветники» происходили из более зажиточных слоев общества, тогда как низшие классы тяготели к отколовшимся церквям «новосветников», отличавшихся более эмоциональной формой благочестия. В 1740-х гг. свыше 200 приходов вышли из существующих деноминаций и основали собственные церкви[175]. В 1741 г. пресвитерианские «новосветники» откололись от пресвитерианского синода и открыли собственные колледжи для обучения священников – в частности, Нассау-Холл в Принстоне, штат Нью-Джерси. Впоследствии раскол был преодолен, однако за это время «новосветники» уже прониклись сепаратистскими настроениями и чувством собственной институциональной идентичности, которые станут ключевыми моментами при зарождении фундаменталистского движения в конце XIX в.
Пробуждение встряхнуло всех, и с тех пор даже «старосветники» норовили увидеть апокалиптические предзнаменования в текущих событиях. Джонатан Мейхью после ряда одновременных землетрясений, произошедших в ноябре 1755 г. в разных частях света, утверждал, что «грядут великие революции». Он также предрекал «кардинальные перемены в политическом и религиозном устройстве мира»[176]. Семилетнюю войну между протестантской Британией и католической Францией за колониальные владения в Америке и Канаде Мейхью интуитивно воспринимал в эсхатологическом свете. Эта борьба, считал он, приблизит Второе Пришествие Христа, ослабив власть Папы – Антихриста, великого самозванца конца времен[177]. «Новосветники» также полагали, что в Семилетней войне Америка сражается на передовой космической битвы с силами зла. Как раз в эту пору вошло в традицию 5 ноября (в День папы) помимо чучела Гая Фокса сжигать и чучело понтифика[178]. В эти страшные и кровавые времена американцы по-прежнему искали в старой мифологии жизненный смысл и объяснение трагедиям, выпавшим на их долю. В то же время они чувствовали приближение перемен, и у них складывалась новая религия, проникнутая ненавистью к Франции и католической церкви, которая представлялась им сатанинской и в корне противоречащей праведному американскому этосу[179]. Культивируя эти апокалиптические фантазии, они, судя по всему, верили, что никакого искупления, спасения, свободы и тысячелетнего Царствия Божия не будет, пока не уничтожено папство. Рождению нового мира должно предшествовать очищение кровью. Как мы еще увидим, подобная теология ненависти будет нередко развиваться как реакция на распространение идеологии эпохи модерна. Американцы чувствовали, что перемены не за горами, но пока еще идентифицировали себя со старым миром. Экономические последствия Семилетней войны заставили британское правительство ввести для американских колонистов новые пошлины, тем самым спровоцировав революционный кризис, вылившийся в 1775 г. в Войну за независимость. Во время этой затянувшейся борьбы и началось мучительное отмежевание американцев от прошлого – ключевая составляющая этоса эпохи модерна, – и немалую роль в этом отмежевании сыграет та самая религия ненависти.
Лидеры Американской революции – например, Джордж Вашингтон, Джон и Самуэль Адамсы, Томас Джефферсон и Бенджамин Франклин – относились к революции как к явлению светскому. Они были рационалистами, представителями Просвещения, вдохновленными модернистскими идеалами Локка, Шотландской школы здравого смысла и идеологией так называемых радикальных вигов. Кроме того, они были деистами, отличаясь от более ортодоксальных христиан своими взглядами на откровение и божественную природу Христа. Лидеры вели борьбу против имперских властей, вполне прагматического и умеренного характера, очень медленно и неохотно приближаясь к революции. Они ни в коем случае не считали себя участниками космической битвы против легионов Антихриста. Когда разрыв с Британией стал неизбежным, их задача получила вполне земное и практическое выражение: «эти соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами». Декларация независимости, составленная Джефферсоном с поправками Джона Адамса и Франклина и одобренная Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 г., была документом Просвещения, основанным на идеале естественных прав человека, обсуждавшихся Локком. Эти права определялись в декларации как «жизнь, свобода и стремление к счастью». Декларация апеллировала к современным идеалам независимости, автономии и равенства во имя деистского Творца природы. Однако в ней не было политического радикализма – утопических положений о перераспределении богатств и основании тысячелетнего царства. Это был практический, рациональный логос, обрисовывающий масштабную, но вполне жизнеспособную программу действий.
Однако отцы-основатели американской республики были аристократической элитой, поэтому их идеалы нельзя назвать массовыми. Подавляющее большинство американцев исповедовали кальвинизм и не разделяли этот рационалистический этос. И действительно, многие считали деизм сатанинской идеологией[180]. Поначалу большинство колонистов так же слабо горели желанием оторваться от Англии, как и руководители. Революционную борьбу поддержали не все. Около 30 000 человек сражались на стороне британцев, а после окончания войны от 80 000 до 100 000 колонистов покинули созданные штаты и эмигрировали в Канаду, Вест-Индию и Британию[181]. Теми же, кто выбрал борьбу за независимость, в равной степени двигали старые мифы и милленаристские христианские упования, с одной стороны, и секуляристские идеалы отцов-основателей – с другой. По сути, стало сложно отделить религиозную подоплеку от политической. Секуляристская и религиозная идеология творчески смыкались, позволяя колонистам с их далеко не одинаковыми представлениями о будущем Америки выступать сообща против имперской мощи Англии. Похожий альянс религиозного и секуляристского идеализма возникнет во время Исламской революции в Иране (1978–1979), который тоже превратится в антиимпериалистическую декларацию независимости.
В первое десятилетие революционной борьбы людям претила мысль о том, чтобы резко порвать с прошлым. О разрыве отношений с Британией даже подумать было страшно, к тому же многие надеялись, что британское правительство еще изменит свою политику. Никто не летел в будущее на всех парусах и не мечтал о новом мировом порядке. Большинство американцев бессознательно демонстрировало прежнюю, премодернистскую реакцию на кризис: они оглядывались назад и искали в идеализированном прошлом опору, которая поддержала бы их в настоящем. Борцы за свободу и приверженцы секуляристской идеологии радикальных вигов вдохновлялись примером борьбы саксов против захватчиков-норманнов в 1066 г., а также относительно недавней борьбой пуритан-индепендентов во время английской Гражданской войны. Кальвинисты Новой Англии оглядывались на собственный золотой век, вспоминая борьбу пуритан против тиранических английских властей в Старой Англии. В Новом Свете они искали свободы и независимости от гнета, создавая новое богоугодное общество в американской глуши. В проповедях и революционных речах той поры (1763–1773) подчеркивалось желание сохранить ценные достижения прошлого. Радикальные перемены пугали упадком и разрухой. Колонисты – в полном соответствии с традиционным духом – стремились сберечь свое наследие. Прошлое представлялось идиллическим, будущее – полным разных ужасов. Борцы за свободу утверждали, что своими действиями пытаются предотвратить катастрофу, которая неминуемо последует, если решительно порвать с традицией. О возможных последствиях британской политики они говорили с опаской, используя апокалиптический библейский лексикон[182].
Однако затем все изменилось. Британцы упрямо продолжали свою враждебную имперскую политику, и колонистам пришлось сжечь мосты. После Бостонского чаепития (1773) и Конкорд-Лексингтонского сражения (1775) пути назад уже не было. Декларация независимости отражала новоявленную мужественную решимость порвать со старым порядком и двигаться вперед в неизвестное будущее. В этом отношении Декларация была документом эпохи модерна, выражавшим в политических терминах интеллектуальную независимость и бунтарство, характерные для научной революции в Европе. Однако большинство колонистов скорее вдохновлялось христианскими пророчествами, чем учением Джона Локка. Идеи современной политической автономии им нужно было преподносить в знакомой мифологической обертке, созвучной их глубочайшим внутренним убеждениям и дающей им психологическую опору для этой нелегкой метаморфозы. Как мы еще не раз увидим, религия часто служит спасительной соломинкой, облегчающей мучительный переход к модерну.
Так священники многих основных церквей (даже англиканской) христианизировали революционную риторику таких популистских лидеров, как Сэм Адамс. Они говорили о том, как важна добродетель и ответственность в правительстве, и тем самым разъясняли народу смысл гневных речей Адамса, порицающих коррумпированность британских властей[183]. Великое Пробуждение еще раньше настроило кальвинистов-«новосветников» против властей предержащих и помогло почувствовать себя внушительной движущей силой. Говоря о «свободе», революционные лидеры использовали термин, уже наполненный религиозным смыслом: он ассоциировался с божьей милостью, евангельской свободой и «сынами Божьими». Он был связан с темами «Царствия Божия», в котором не будет места гнету, и «избранного народа», с помощью которого Бог будет вершить преобразование мира[184]. Тимоти Дуайт (1752–1817), ректор Йельского университета, с воодушевлением говорил о том, что революция приближает «Царствие Иммануилово» и что Америка «становится главным оплотом того особенного Царствия, которое будет дадено святым Всевышнего»[185]. В 1775 г. проповедник из Коннектикута Эбенезер Болдуин утверждал, что военные лишения лишь ускорят планы Господа, касающиеся Нового Света. Иисус возгласит свое славное Царствие в Америке: свобода, религия, образование уже вытеснены из Европы и переместились на запад, на другую сторону Атлантики. Начавшийся кризис готовит почву для конца времен, когда падет существующий порочный порядок. Для проректора-священника Уильяма Смита из Филадельфии колонии представляли собой «избранный Богом оплот свободы, искусства и священного знания»[186].
Однако не одни церковники сакрализировали политику, светские лидеры тоже пользовались лексиконом христианской утопии. Джон Адамс считал основание Америки исполнением божьего замысла по духовному просвещению всего человечества[187]. Томас Пейн был убежден, что «в нашей власти начать мир заново. Ситуации, подобной нынешней, не случалось со времен Ноева потопа. Рождение нового мира не за горами»[188]. Одного рационального прагматизма лидеров борьбы за независимость было бы недостаточно, чтобы помочь людям совершить пугающий переход в неизведанное будущее и отречься от земли предков. Воодушевление, образность и мифология христианской эсхатологии придавали смысл революционной борьбе и помогали как секуляристам, так и кальвинистам решительно и бесповоротно порвать с традицией.
Той же цели служила теология ненависти, зародившаяся во времена Семилетней войны. Подобно тому, как Америка станет для иранцев «великим сатаной» во время Исламской революции, британские власти в эпоху революционного кризиса тоже представлялись колонистам исчадиями ада. «Злоумышленников» – инициаторов скандально знаменитого Закона о гербовом сборе (1765) – лордов Бьюта, Гренвиля и Норта – в патриотических стихотворениях и песнях изображали приспешниками сатаны, вознамерившимися завлечь американцев в вечное царство лукавого. Печать гербового сбора называли «печатью Зверя», которая, согласно Откровению Иоанна Богослова, проявится у всех подчинившихся Антихристу в Последние Дни. Чучела британских министров несли вместе с изображениями сатаны во время демонстраций протеста и вешали во всех колониях на «деревьях свободы»[189]. В 1774 г. Антихриста стали подозревать в короле Георге III, который дал религиозную свободу французским католикам на канадской территории, завоеванной Англией во время Семилетней войны. Его портреты украсили «деревья свободы» вместе изображениями папы-Антихриста и дьявола[190]. Даже самые образованные колонисты испытывали страх перед тайным вселенским заговором. Ректоры Гарварда и Йеля верили, что колонисты сражаются с силами сатаны, и ожидали скорого и неизбежного поражения папства – «религии, наиболее потакающей произволу властей». Война за независимость стала частью божьего замысла свержения папы-Антихриста, возглашая приближение тысячелетнего Царствия Божия в Америке[191]. Эти паранойяльная вера во всеобщий заговор и стремление видеть в обычном политическом конфликте вселенскую битву между силами добра и зла, к сожалению, нередки, когда народ ведет революционную борьбу на пороге нового мира. Сатанинская мифология помогала колонистам решительно отмежеваться от Старого Света, к которому они еще питали какие-то теплые чувства. Демонизация превращала Англию в антитетическое «иное», прямую противоположность Америке, тем самым позволяя колонистам выработать для себя другое самосознание и сформулировать черты нового порядка, за который они сражались.
Таким образом, религия сыграла ключевую роль в создании первой светской республики. Однако после Американской революции, когда обретшие независимость штаты составляли свои конституции, Бог упоминался в тексте лишь вскользь. В 1786 г. Томас Джефферсон лишил статуса государственной англиканскую церковь в Вирджинии; в его билле говорилось, что насилие в вопросах веры – это «грех и тирания», что истина восторжествует, если людям позволят иметь собственное мнение, и что между религией и политикой следует возвести «разделительную стену»[192]. Билль поддержали баптисты, методисты и пресвитерианцы Вирджинии, давно возмущавшиеся привилегированным положением англиканской церкви в штате. Вслед за Вирджинией и другие штаты принялись отделять свои церкви от государственной власти – последним это сделал Массачусетс в 1833 г. В 1787-м, когда на Филадельфийском конвенте разрабатывался проект государственной конституции, Бог не упоминался вообще; в Билле о правах (1789) в первой поправке к конституции религия официально отделялась от государства: «Конгресс не будет издавать законов, относящихся к установлению какой-либо религии или запрещающих ее свободное исповедание». С этого момента вера становилась в Соединенных Штатах делом частным и добровольным. Этот революционный шаг провозглашался одним из величайших достижений века Разума. Однако, несмотря на стоящую за ним идеологию Просвещения, отцы-основатели руководствовались и более прагматическими соображениями. Сознавая, что государственная конституция необходима для сохранения единства штатов, они учитывали и другое: если федеральное правительство отдаст статус государственной религии какой-то из протестантских деноминаций, конституция одобрена не будет. Массачусетские конгрегационалисты, например, никогда не примут конституцию, провозглашающую государственной англиканскую церковь. По той же причине в третьем разделе шестой статьи конституции отменялся экзамен по религии для претендентов на должность в федеральном правительстве. Решение отцов-основателей отделить церковь от государства и секуляризировать политику соответствовало их идеалам, ведь новая нация ни в коем случае не могла строить свою идентичность лишь на одном каком-то веровании, отвергнув остальные, поскольку в этом случае она рисковала потерять преданность своих граждан. Современное государство, в силу своих потребностей, должно было быть толерантным, а значит, светским[193].
Как ни парадоксально, к середине XIX в. недавно созданные светские Соединенные Штаты превратились в сугубо христианскую страну. В 1780-х и тем более в 1790-х церкви, вновь набирая силу[194], начали сопротивляться просвещенческой идеологии отцов-основателей. Теперь они сакрализировали независимость Америки, утверждая, что новая республика – это Промысел Божий. Революционная борьба, по их заявлению, была битвой рая с адом[195]. До сих пор только древнему Израилю пришлось испытать прямое вмешательство Господа в ход своей истории. Пусть Бог и не упоминается в конституции, саркастически отмечал Тимоти Дуайт, однако, поучал он своих студентов, «всмотритесь внимательно в историю своей страны, и вы не найдете более удивительных и благостных свидетельств Господней любви и искупления, чем явленные народу израильскому в Египте»[196]. Священники уверенно предрекали, что американцы станут более набожными; расширение фронтира (границы поселенческих земель) знаменовало для них скорое наступление Царствия Божия[197]. Демократия дала людям суверенитет, чтобы они стали более благочестивыми – если новые штаты хотят избежать опасностей, которыми чревата народная власть. Американский народ необходимо оградить от деизма его политических руководителей. Церковники видели в деизме новое сатанинское зло, сваливая на него вину за все неизбежные тяготы молодой нации. От деизма, утверждали они, рукой подать до атеизма и материализма, ведь деисты поклоняются природе и разуму, а не Иисусу Христу. Паранойяльный страх внушал мистический орден Баварских иллюминатов – атеистов и франкмасонов, замышляющих свергнуть христианство в Соединенных Штатах. Когда в 1800 г. свою кандидатуру в президенты выдвинул Томас Джефферсон, началась вторая антидеистская кампания, в ходе которой утверждалось, что Джефферсон связан с атеистами-якобинцами безбожной Французской революции[198].
Союз свежесозданных штатов был довольно хрупок. Американцы видели будущее страны по-разному – кто-то секуляристским, кто-то протестантским. Жизнеспособными оказались оба взгляда. Американцы по-прежнему чтят свою конституцию и отцов-основателей и в то же время считают себя «богоизбранным народом». Как мы еще убедимся, некоторые протестанты все так же видят в «светском гуманизме» зло почти сатанинских масштабов. После революции в американском народе существовал раскол и шла суровая внутренняя борьба за то, какой должна быть американская культура. По сути, в Америке начала XIX в. происходила вторая революция. Мучительно, но мужественно американцы прощались с прошлым – они составили новаторскую конституцию и произвели на свет новую нацию. Однако такие процессы не обходятся без усилий, напряжения и противоречий. Народу в целом еще предстояло определить, на каких условиях страна войдет в современный мир, многие из менее привилегированных колонистов готовились оспорить культурную гегемонию аристократической просвещенческой элиты. Обычным американцам после свержения британского господства еще только предстояло осознать, что значит для них революция. Что лучше принять – холодный, цивилизованный, утонченный рационализм отцов-основателей или более приземленное, близкое массам протестантское самосознание?
Отцы-основатели и духовенство основных церквей общими усилиями создали современную светскую республику, однако во многих ключевых аспектах и те и другие по-прежнему принадлежали к старому традиционному миру. Они были аристократией, считали себя избранными, полагая своей задачей – задачей просвещенных государственных деятелей – руководить нацией сверху. Они даже не задумывались о том, что инициатива перемен может идти снизу. Им казалось, что великие трансформации вершатся великими личностями – вроде древних пророков, которые вершили историю и наставляли человечество на путь истинный. Лидеры нации еще не осознали, что общество зачастую развивается благодаря безликим силам и процессам – природным, экономическим и социальным, – которые способны нарушить планы самого авторитарного руководителя[199]. В 1780–1790-х гг. велось много споров о природе демократии. Какой властью должен обладать народ? Джон Адамс, второй президент Соединенных Штатов, крайне подозрительно относился к любой форме правления, которая привела бы к власти толпы и обеднению богатых[200]. Однако более радикально настроенные джефферсонианцы задавались вопросом, как может элита говорить от имени масс. Они протестовали против «тирании» правительства Адамса, утверждая, что нужно прислушиваться к гласу народа. Успех революции придал многим американцам сил, продемонстрировав, что власть не является несокрушимой. Джинна выпустили из бутылки, и обратно его было уже не загнать. Джефферсонианцы считали, что обычный народ должен в той же мере почувствовать свободу и автономию, проповедуемую «умниками». Новые газеты высмеивали врачей, юристов, священников и прочих «экспертов», утверждая, что нельзя доверять им безоговорочно. Юриспруденция, медицина, религия должны быть подвластны простому здравому смыслу и стать доступными для всех и каждого[201].
Особенно эта точка зрения процветала на фронтирах, где люди чувствовали себя обойденными республиканским правительством. К 1790 г. около 40 % американцев жили на территории, отвоеванной белыми колонистами 30 годами ранее. Поселенцы возмущались правящей элитой, которая, не испытав на своем опыте их тягот, дерет с них такие же пошлины, как англичане, и покупает землю на фронтире ради инвестиций, не собираясь отказываться от благ цивилизации Восточного побережья. В их лице нашли отзывчивых слушателей новые проповедники, вызвавшие еще один всплеск религиозного возрождения, получивший название Второго Великого Пробуждения. Оно отличалось еще большим радикализмом, чем Первое. Проповедники занимались уже не столько спасением душ, сколько разворачиванием общества и религии в совершенно отличную от намерений отцов-основателей сторону.
Эти новые ревайвалисты, в отличие от Джонатана Эдвардса и Джорджа Уайтфилда, учившихся в Йеле и Оксфорде, вовсе не принадлежали к образованному слою. Они ненавидели научное сообщество и утверждали, что каждый христианин имеет право толковать Библию по своему разумению, не спрашивая мнения богословов. Эти проповедники не были рафинированными людьми, они говорили на понятном простым людям языке, сдабривая свою речь сальными шутками, сленгом, сопровождая ее энергичной жестикуляцией. Их проповеди не отличались чинностью и благопристойностью, они проходили бурно, шумно, с бурей эмоций. Проповедники переделывали христианство на новый, популярный лад, неизмеримо далекий от рафинированного этоса века Просвещения. Они водили факельные шествия, собирали толпы народа, ставили огромные шатры за городом, их собрания напоминали обширный палаточный лагерь. Появившиеся в это время как новый музыкальный жанр евангельские песни (госпел) доводили толпу до экстаза, люди рыдали, яростно качались взад-вперед, издавали восторженные вопли[202]. Проповедники апеллировали не к разуму – напротив, они делали упор на сны и видения, знаки и чудеса – все то, что порицали ученые и философы Просвещения. И тем не менее, как и джефферсонианцы, они отказывались рассматривать прошлое как кладезь премудрости. Они не были традиционалистами, они были людьми эпохи модерна и считали, что человека нельзя сковывать схоластической традицией. Люди как сыны Божьи свободны, и, вооружившись здравым смыслом, они сами могут извлечь для себя истину из простых фактов Священного Писания[203]. Новые проповедники ополчились на аристократию, властей предержащих и ученое духовенство. Они акцентировали внимание на эгалитаристских настроениях Нового Завета, утверждавшего, что в христианском сообществе последние станут первыми, а первые – последними. Господь дарует озарение людям простым и необразованным – ведь ни Иисус, ни апостолы университетов не кончали.
Религия и политика составляли одно мировоззрение. Лоренцо Доу – длинноволосый, с горящими глазами – походил на современного Иоанна Крестителя. Ураган он воспринимал как деяние Бога, а озарение черпал из снов и видений. Перемена погоды могла означать приближение Судного Дня – помимо всего прочего, Доу приписывал себе пророческий дар. То есть в общем и целом он представлял собой полную противоположность эпохе модерна. Тем не менее он нередко начинал проповедь с цитаты из Джефферсона или Томаса Пейна и, как истинный представитель эпохи Нового времени, призывал людей сбросить оковы невежества и предрассудков, не поддаваться внушениям образованной верхушки и думать самостоятельно. В молодых Соединенных Штатах политика и религия оказались двумя сторонами одной медали, взаимно влияющими друг на друга, что бы там ни утверждала конституция. Так, Элайас Смит (1769–1846) сменил политические убеждения во время президентской кампании Джефферсона, став радикальным поборником равноправия. Однако на этом он не остановился и основал новую, более демократичную церковь. Джеймс О'Келли сражался за независимость и побывал в плену у британцев. Он был достаточно хорошо подкован политически, желал видеть Церковь более равноправной и, отойдя от основного направления христианства, возглавил собственную республиканско-методистскую деноминацию. Бартон Стоун (1772–1844), порывая с пресвитерианцами, назвал свой уход «декларацией независимости». Александр Кэмпбелл (1788–1866), получивший университетское образование, отрекся, перебравшись в Америку, от шотландской пресвитерианской церкви и основал секту, приближающуюся по духу к эгалитаристской Простой церкви[204]. Еще большим радикалом был Джозеф Смит (1805–1844), который, не удовлетворившись чтением Библии, утверждал, что открыл совершенно новое Писание. «Книга мормона» попала в число самых красноречивых выражений социального протеста в XIX в., вызвав яростное негодование богатых, именитых и ученых[205]. Смит с семьей годами прозябал на грани нищеты, они чувствовали, что им нет места в этой дивной новой республике. Первые новообращенные мормоны были такими же отчаявшимися бедняками-маргиналами, готовыми вслед за Смитом совершить исход из Америки, отрекшись от нее. Впоследствии мормоны основали свои независимые общины – сперва в Иллинойсе, затем в Юте.
Правящие круги относились к Доу, Стоуну и Джозефу Смиту с презрением, считая их пустозвонами, которым нечего предложить современному миру. Проповедники представлялись им пережитками варварского прошлого, останками отжившего нецивилизованного мира. Реакция духовенства главных церквей и американской аристократии на этих новоявленных пророков во многом напоминает отношение либералов и секуляристов к сегодняшним фундаменталистским лидерам. Однако противники проповедников их определенно недооценивали. Таких людей, как Доу и Джозеф Смит, следует воспринимать как гениев из народа[206]. Они смогли изложить современные революционные идеи демократии, равенства, свободы слова и независимости простым и понятным для необразованных масс языком. Эти новые идеалы, без которых нельзя было обойтись в новом мире, зарождавшемся в Америке, преподносились непривилегированному большинству в мифологическом контексте, который давал людям опору в смутные времена революционных пертурбаций. Новые пророки требовали признания – и получали его, если не у сильных мира сего, то в народе, а значит, откликались на насущную потребность. Им недостаточно было обратить в свою веру отдельных людей, как проповедникам Первой волны Пробуждения, они жаждали преобразовать общество в целом. Они сумели объединить людей в общегражданские массовые движения, искусно пользуясь популярной музыкой и новыми средствами связи. Вместо того чтобы навязывать этос Нового времени сверху, как отцы-основатели, они внедряли его снизу, поднимая народ на борьбу с истеблишментом, который был также носителем идеологии Нового времени. И они преуспели. Секты, основанные Элайасом Смитом, О'Келли, Кэмпбеллом и Стоуном, слились в единую церковь «Учеников Христа». К 1860 г. она насчитывала около 200 000 последователей, став пятой по величине протестантской деноминацией в Соединенных Штатах[207]. Подобно мормонам, «Церковь Христа» институционализировала народное недовольство, которое власти уже не могли игнорировать.
Однако это радикальное христианское выступление против научного рационализма Просвещения имело и более глубинные последствия. Второе Великое Пробуждение увело многих американцев от классической республиканской модели отцов-основателей к более вульгарной демократии и грубому индивидуализму, характерным для сегодняшней американской культуры. Его участники бросили вызов правящим силам и одержали весомую победу. В американском менталитете есть черта, гораздо более близкая к популизму и антиинтеллектуализму проповедников XIX в., чем к бесстрастному этосу века Просвещения. Шумные, зрелищные собрания Второго Великого Пробуждения наложили неизгладимый отпечаток на характерный стиль политики Соединенных Штатов, непривычный для европейцев, – массовые выступления, неприкрытые эмоции, яркая харизматичность. Как и многие нынешние фундаменталистские движения, эти проповедники помогали тем, кто чувствовал себя в новом государстве притесненным и эксплуатируемым, заставить более привилегированные слои прислушаться к своему мнению и голосу. Эти движения давали людям, как говорил Мартин Лютер Кинг, «чувство собственной значимости»[208] – примерно так же, как современные фундаменталистские группировки. Как и фундаменталистские движения, все эти новые секты оглядывались на изначальное устройство христианского общества и намеревались возродить исконную веру; все опирались на Писание, трактуя его по-новому, буквально и зачастую упрощенно. Кроме того, все они отличались диктаторским характером. Как ни парадоксально, и в Америке XIX в., и в фундаменталистских движениях конца XX столетия стремление к независимости, автономии и равенству заставляло большие массы людей невольно подчиняться религиозным демагогам. Тот самый Джозеф Смит, что столько разглагольствовал о гражданских правах, на самом деле создал религиозную диктатуру, а Александр Кэмпбелл, ратовавший за равноправие и общинные идеалы Простой церкви, стал самым богатым человеком в Западной Вирджинии и держал свою паству в ежовых рукавицах.
Второе Великое Пробуждение иллюстрирует, чем спасаются люди, когда общество проходит через тяготы модернизации. Подобно современным фундаменталистам, пророки Второго Великого Пробуждения поднимали бунт против просвещенного рационализма правящих классов и отстаивали более религиозное мировоззрение. В то же время они доносили смысл этоса Нового времени до народа, не имевшего возможность ознакомиться с трудами Декарта, Ньютона и Джона Локка. Американские пророки добились своим протестом прочных успехов в Соединенных Штатах, а значит, современных фундаменталистов в ныне модернизирующихся странах не стоит недооценивать, считая преходящим поветрием «психоза». Правящим кругам новые американские секты тоже казались безумием, однако по сути своей они были порождением эпохи модерна и составляли неотъемлемую часть нового мира. Таким, несомненно, являлось милленаристское движение, инициированное нью-йоркским фермером Уильямом Миллером (1782–1849), который, проштудировав библейские пророчества, путем кропотливых подсчетов «доказал» в выпущенной в 1831 г. брошюре, что Второе Пришествие Христа произойдет в 1843-м. Миллер читал Библию, в том числе Откровение Иоанна Богослова, как истинный модернист, видя в ней не мистическое, символическое отражение вечности, а точное предсказание неминуемых событий, которые можно вычислить с математической достоверностью. Сейчас люди черпают из текстов информацию. Истина должна выдерживать логическую и научную проверку. Миллер обращался с мифами Писания как с логосом, неустанно (вместе со своим помощником Джошуа Хайнсом) подчеркивая систематичность и научность своих исследований[209]. Кроме того, движение имело демократический характер, ведь каждый волен толковать Библию на свой лад, и Миллер побуждал своих сторонников оспаривать его вычисления и выдвигать собственные теории[210].
При всей своей невероятности и необычности миллеризм моментально обрел последователей. Убежденными миллеритами стали около 50 000 американцев, и еще многие тысячи поддерживали движение, не вступая в его ряды[211]. Однако, как и следовало ожидать, миллеризм превратился в наглядный урок того, как опасно трактовать библейские мифы буквально. Второго пришествия в 1843 г., вопреки предсказанию, не случилось, и миллериты потерпели сокрушительное поражение. Однако оно вовсе не означало конец миллеризма, который оставался одним из основных увлечений американцев. «Великое разочарование» 1843 г. повлекло за собой рождение других сект – например, адвентистов Седьмого дня, – которые подправили эсхатологический график и, избегая точных прогнозов, предоставили новым поколениям американцев ждать своего неизбежного Конца истории.
Поначалу приверженцами этого новоявленного демократичного христианского течения были лишь беднейшие и необразованные слои, но в 1840-х гг. Чарльз Финней (1792–1875), одна из центральных фигур в американской религии, донес его и до средних классов. Он способствовал превращению этого «евангелического» христианства, основанного на буквальном прочтении Евангелия и нацеленного на воцерковление светской нации, в господствующую религию Соединенных Штатов к середине XIX в.[212] С помощью неуклюжих и нецивилизованных приемов, заимствованных у пророков-предшественников, Финней апеллировал уже к юристам, врачам и торговцам, призывая их познать Христа самостоятельно, без посредничества уполномоченных лиц, полагаться на собственный разум и противостоять засилью богословских догматов, внушаемых прочими протестантскими деноминациями. Кроме того, он побуждал внимающих ему представителей среднего класса вместе с другими евангелистами участвовать в социальном реформировании общества[213].
После революции государство провозгласило независимость и от религии – и одновременно христиане всех деноминаций начали отдаляться от государства. Они почувствовали разочарование в революции, которая не принесла с собой Царства справедливости. Протестанты отстаивали собственное религиозное «пространство», отличное от правительственного республиканского деизма. Их сообщество принадлежит Господу, а не федеральным властям. Протестанты по-прежнему верили, что народ Америки – народ праведный, и общественная добродетель все больше принимала внеполитический характер[214]; приветствовалась независимая от государства работа над возрождением общества – в церквях, школах и многочисленных реформаторских ассоциациях, появившихся в северных штатах в 1820-х, после Второго Пробуждения. Христиане начали работать над созданием лучшего общества. Они организовывали кампании против рабства, пьянства и притеснения маргинализованных слоев. Многие миллериты состояли в обществах трезвости, в феминистских и аболиционистских организациях[215]. Во всем этом, несомненно, присутствовал элемент социального заказа. Кроме того, в упоре на протестантские добродетели бережливости, трезвости и порядочности просматривалась, к сожалению, антииммиграционная подоплека. Протестантов сильно беспокоил массовый наплыв в Соединенные Штаты иммигрантов-католиков. Во времена Революции Америка была протестантской, католики составляли не больше 1 % от общего населения. Однако к 1840-м в Америке насчитывалось уже свыше 2,5 млн католиков, а католицизм стал самой крупной из христианских деноминаций[216]. У народа, который долгое время видел в папе Антихриста, это вызывало неприятие. Поэтому некоторые из евангелистских реформ представляли собой неприкрытую попытку ослабить влияние католицизма. Например, пропаганда трезвости была направлена против алкогольных пристрастий польских, ирландских и итальянских иммигрантов[217].
Тем не менее эти евангелистские реформаторские движения имели положительный, модернизирующий характер. В них подчеркивалась ценность каждого человека. Например, активная пропаганда равноправия помогла воспитать неприятие рабства в северных штатах, но не в южных, которые Второе Великое Пробуждение почти не затронуло и где даже после Войны между Севером и Югом надолго сохранилось премодернистское социальное расслоение[218]. Благодаря реформаторским движениям люди (по крайней мере северяне) встраивали современный идеал неотъемлемых прав человека в контекст христианских добродетелей. Движения в поддержку феминизма, а также образовательной и тюремной реформ, возглавляемые христианами-евангелистами, также имели прогрессивный характер. Реформаторские объединения сами по себе приобщали людей к духу модерна. Человек осознанно и добровольно вступал в ассоциацию, учился планировать, организовывать, идти к четко намеченной цели современным, рациональным путем. Впоследствии христиане-евангелисты образуют костяк партии вигов, преемниками которой станут по большому счету нынешние республиканцы, тогда как их противники («старосветники» и католики) тяготеют, скорее, к Демократической партии. Виги-республиканцы хотели создать в Америке «праведную империю», основанную на евангельских, а не на просвещенческих ценностях.
Таким образом, к середине XIX в. евангелисты уже не были притесняемыми и маргинализованными группами. Они бросили вызов светскому истеблишменту и заставили прислушаться к себе, начали христианскую реконкисту американского общества, которое вознамерились вернуть в рамки сугубо протестантской этики. Евангелисты гордились своими достижениями. Они оставили неизгладимый след в американской культуре, сделав ее, несмотря на светский характер конституции Соединенных Штатов, более христианской, чем когда бы то ни было раньше. С 1780-х по 1860-е гг. шел беспрецедентный рост числа христианских объединений в Штатах, по скорости намного обогнавший скорость роста населения. В 1780-м таких союзов насчитывалось около 2500, к 1820 г. их было уже 11 000, а к 1860-му – 52 000, это более чем 20-кратное увеличение. Население же за это время выросло с 4 млн в 1780-м до 10 млн в 1820-м и до 31 млн в 1860 г. – менее чем в 8 раз[219]. В Европе религия все больше ассоциировалась с правящими классами, а простой народ обращался к альтернативным идеологиям, однако в Америке протестантизм вооружал людей против власти, причем тенденция эта сохранилась до сих пор, и в сегодняшней Америке сложно найти народное движение, никоим образом не связанное с религией. К 1850-м христианство в Америке процветало в преддверии грядущих побед.
В Европе все происходило совершенно по-другому. Там переход к представлениям эпохи модерна человеку помогали совершить не религиозные, а в основном светские идеологии, постепенно сосредоточивавшие внимание людей на земной жизни, а не на мире ином. Это отчетливо проявлялось в трудах Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–1831), спустившего трансцендентного Бога с небес на землю и очеловечившего его. Смысл жизни следовало искать в земном, а не в сверхъестественном. В гегелевской «Феноменологии духа» (1807) универсальный дух мог раскрыться во всей полноте, лишь ограничив себя пространственно-временными рамками, и наиболее полно он реализовал себя в человеческом сознании. Таким образом, и здесь людям предлагалось отказаться от прежней концепции трансцендентного бога и осознать, что человек божественен сам по себе. Этот миф, вариацию на тему христианской доктрины воплощения, можно рассматривать и как средство против неприятия окружающего мира, которое испытывали многие представители Нового времени. Он служил попыткой ресакрализировать мир, лишенный божественного, и повысить мнение о человеческом разуме, чьи возможности оказались ограниченными в философии Декарта и Канта. Однако прежде всего гегелевский миф отражал устремленную вперед динамику эпохи модерна. Оглядываться на золотой век было незачем, гегелевский мир постоянно возрождал сам себя. На смену традиционному убеждению, что все уже сказано, Гегель привел диалектику, в процессе которой люди постоянно разрушают прежние, когда-то сакральные и неопровержимые догмы. Согласно этой диалектике, каждое состояние неизбежно вызывает к жизни свою противоположность, эти противоположности борются и «снимаются» в новом, более полном синтезе, затем процесс начинается снова. Никакого возвращения к фундаментальным основам, только постоянное развитие, движение к новой, неизведанной истине.
В гегелевской философии отражался оптимизм эпохи модерна, окончательно оставившей позади дух традиции. Однако некоторые не понимали, зачем Гегель в принципе берется рассуждать о Боге. Религия и мифология в глазах отдельных европейцев становились не просто пережитками прошлого, но и весьма вредными пережитками. Считалось, что они не только не помогают преодолеть чувство отчуждения, но, наоборот, усиливают его. Противопоставляя Бога и человечество, ученик Гегеля Людвиг Фейербах (1804–1872) утверждал, что религия есть «отчуждение сущности человека… Бог совершенен, человек несовершенен; Бог вечен, человек смертен; Бог всемогущ, человек бессилен»[220]. Для Карла Маркса (1818–1883) религия была симптомом болезни общества, опиумом, позволяющим мириться с прогнившей социальной системой и притупляющим желание искать методы борьбы, переключая все внимание с земного мира на мир иной[221].
Постепенно атеизм демонстрировал свое моральное превосходство. Особенно это проявилось после публикации в 1859 г. «Происхождения видов путем естественного отбора» Чарльза Дарвина (1809–1882), ознаменовавшего новый этап развития современной науки. Вместо сбора фактов, как предписывал Бэкон, Дарвин выдвинул гипотезу: животные, растения и человек (вопреки тому, что следовало из Библии) не были созданы в неизменном виде, а развивались постепенно, приспосабливаясь к условиям окружающей среды в процессе эволюции. В «Происхождении человека» (1871) Дарвин предположил, что homo sapiens произошел от той же протообезьяны, от которой ведут свой род орангутанги, гориллы и шимпанзе. Однако, несмотря на то что в фундаменталистских кругах имя Дарвина стало синонимом атеизма, «Происхождение видов» являло собой не антирелигиозное выступление, а трезвое обстоятельное изложение научной теории. Сам Дарвин был агностиком, однако с уважением относился к религиозным верованиям. И тем не менее «Происхождение видов» стало переломной вехой. В первый же день было продано 1400 экземпляров. Этот и последующие труды Дарвина, несомненно, нанесли очередной удар по человеческому самолюбию. Коперник лишил человека статуса центра Вселенной, Декарт с Кантом отдалили его от материального мира, а теперь Дарвин низводил его до одного уровня с животными, утверждая, что он не является божьим творением, а развивался в ходе эволюции вместе с остальными видами. Места для Бога в этом процессе не оставалось, и мир с его «законами джунглей» потерял всякое божественное предназначение.
Тем не менее в первые годы после выхода «Происхождения видов» в свет реакция религиозных кругов оставалась вялой. Гораздо больший ажиотаж вызвала публикация в следующем, 1860 г. сборника Essay and Review семи англиканских священников, знакомившего широкую публику с новейшей библейской критикой[222]. С конца XVIII в. немецкие ученые исследовали библейский текст с помощью передовых методов литературного анализа, археологической науки и сравнительной лингвистики. Они утверждали, что первые пять книг Библии, традиционно приписываемые Моисею, на самом деле составлены гораздо позже и не одним автором; Книга пророка Исайи также имеет по меньшей мере двойное авторство, и псалмы, вероятнее всего, сочинены не царем Давидом. Большинство описанных в Библии чудес являют собой иносказание, литературный прием и не должны пониматься буквально; многие из библейских событий определенно не подкреплены историческими фактами. Британские священники в Essay and Review утверждали, что Библия не заслуживает особого отношения и требует к себе такого же строгого критического подхода, как и другие тексты[223]. Эта новая тенденция, «высший критицизм», знаменовала собой победу рационального дискурса логоса над мифом. Наука, эта квинтэссенция разума, подвергла исследованию библейские мифы и пришла к выводу о несостоятельности некоторых притязаний Библии. Библейские сюжеты – это просто мифы, то есть, на доступном народу языке, выдумки. Высший критицизм станет пугалом для христианских фундаменталистов, представляясь массированной атакой на религию, однако происходило это лишь потому, что Запад утратил изначальное чувство мифологического, подходя к доктринам и писаниям как к логемам – текстам, претендующим на фактическую достоверность, и явлениям, выдерживающим научную проверку. Однако демонстрируя невозможность полностью буквального прочтения Библии, высший критицизм одновременно служил здоровым противовесом растущей тенденции придавать «научный» характер современной христианской вере.
Очевидное противоречие дарвиновской гипотезы первой главе Книги Бытия заставляло некоторых христиан, например, американского друга и коллегу Дарвина Эйсу Грея (1810–1888), искать способы примирить естественный отбор с буквальным прочтением Библии. Впоследствии креационисты зайдут еще дальше в попытках водрузить Книгу Бытия на научный фундамент. Однако в этом не было смысла, поскольку библейская история творения как миф представляла собой не летопись, а скорее духовные размышления о ценности жизни как таковой, которые в компетенцию логоса не входят.
Вопреки намерениям Дарвина «Происхождение видов» все-таки вызвало стычки между наукой и религией, но первыми открыли огонь не религиозные деятели, а более агрессивно настроенные секуляристы. Томас Гексли (1825–1895) в Англии, в континентальной Европе Карл Фохт (1817–1895), Людвиг Бюхнер (1824–1899), Якоб Молешотт (1822–1893) и Эрнст Геккель (1834–1919) популяризировали теорию Дарвина, выступая с лекциями перед широкой аудиторией и доказывая, что религия и наука несовместимы. По сути, они начинали крестовый поход против религии[224].
Гексли определенно ввязался в нешуточный бой. Единственным критерием истины, доказывал он, должен быть разум. Людям придется выбирать между мифологией и наукой. Компромисс невозможен: «сколько продлится борьба, неизвестно, однако в итоге либо та, либо другая сторона должна будет сдаться»[225]. Научный рационализм был для Гексли новой светской религией, которая требовала полного и безоговорочного обращения. «В интеллектуальном отношении всецело полагайтесь на свой разум, без оглядки на другие соображения, – призывал он своих слушателей. – И наоборот, в том же интеллектуальном отношении, не признавайте достоверными недоказанные и недоказуемые выводы»[226]. Гексли поддерживал весь пласт современной прогрессивной культуры, которая, достигнув таких впечатляющих результатов, могла теперь отвоевывать право единолично распоряжаться истиной. Однако истина, сузившись до «доказанного и доказуемого», исключала не только религию, но и такие творческие сферы, как изобразительное искусство или музыка. Для Гексли альтернативы не существовало: истиной владеет лишь разум, а религиозные мифы ложны. Это была окончательная декларация независимости от мифологических рамок традиционной эпохи. Над разумом больше не стояла никакая верховная власть, он больше не сдерживался моралью, но должен идти до конца «без оглядки на другие соображения». Крестоносцы континентальной Европы шли в своих военных действиях против религии еще дальше. Бюхнер в своем бестселлере «Сила и материя» (достаточно сыром сочинении, вызывавшем неприятие у самого Гексли) утверждал, что Вселенная не имеет цели, что весь мир развился из одной-единственной клетки и что лишь идиот может верить в Бога. Однако, судя по значительному числу читателей этой книги и огромным толпам слушателей на лекциях Геккеля, процент европейцев, жаждавших услышать, что наука раз и навсегда ниспровергла религию, был достаточно велик.
Происходило это потому, что своим отношением к религиозным истинам как к рациональным логемам современные ученые, критики и философы переместили их в область невероятного. В 1882 г. Фридрих Ницше (1844–1900) провозгласит, что Бог умер. В «Веселой науке» он рассказывает о безумном человеке, который однажды утром выбегает на рыночную площадь с воплем: «Я ищу Бога!» Собравшиеся, глумясь, начинают спрашивать, куда же Бог делся, может, убежал или эмигрировал. «Где Бог? – гневно переспрашивает безумец. – Мы его убили – вы и я! Мы все его убийцы!»[227] В определенном – и важном – смысле Ницше был прав: без мифа, культа, ритуалов и молитвы чувство священного, несомненно, умирает. Превратив Бога в отвлеченную истину, желая постичь божественное одним голым рассудком, как попытались сделать некоторые модернисты, человек Нового времени убивал Бога в своей душе. Сама динамика устремленной в будущее культуры делала традиционный способ постижения священного психологически невозможным. Как когда-то иудеям-марранам, оказавшимся в силу различных обстоятельств в религиозном тупике, многим представителям эпохи модерна религиозные истины казались неубедительными, вздорными и не поддающимися пониманию.
Ницшеанский безумец полагал, что гибель Бога оторвала человечество от его корней, свернула Землю с орбиты и отправила блуждать во Вселенной без руля и ветрил. Все служившие когда-то человеку ориентиры исчезли. «Есть ли еще верх и низ? – вопрошал безумец. – Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто?»[228] Леденящий ужас, чувство бессмысленности и распада станут спутником современного существования. Ницше писал в те времена, когда бьющее через край ликование эпохи модерна сменялось непонятным, не имеющим названия ужасом. Эти переживания выпали на долю не только европейских христиан, но и мусульман, и иудеев, также вовлеченных в процессы модернизации и повергнутых ими в такое же смятение.
4. Евреи и мусульмане модернизируются (1700–1870)
У мусульман и евреев модернизация проходила еще более мучительно, чем у европейских и американских христиан. Мусульмане воспринимали модерн как чуждую захватническую силу, неразрывно связанную с колонизацией и иностранным господством. Они будут вынуждены приноравливаться к цивилизации, сделавшей своим девизом независимость, оставаясь при этом сами (в политическом аспекте) в подчиненном положении. Этос модерна отличался неприкрытой враждебностью к иудаизму. При всей своей толерантности на словах мыслители эпохи Просвещения по-прежнему считали евреев людьми низшего сорта. Франсуа-Мари Вольтер (1694–1778) в своем «Философском словаре» (1764) называл их «абсолютно невежественным народом, который издавна сочетает самую отвратительную жадность с самыми презренными суевериями и с самой неодолимой ненавистью ко всем народам, которые их терпят». Барон Гольбах (1723–1789), один из первых среди европейцев открыто объявивший себя атеистом, называл евреев «врагами рода человеческого»[229]. Кант и Гегель считали иудаизм рабской, вырожденной верой, полной противоположностью рационализма[230], а Карл Маркс, несмотря на свое еврейское происхождение, утверждал, что именно евреи породили капитализм, который в его глазах был корнем всех мировых зол[231]. Таким образом, трудности адаптации к требованиям эпохи модерна усугублялись для евреев этой атмосферой всеобщей неприязни.
В Америке события XVIII–XIX вв. разделили христиан-протестантов на два противоборствующих лагеря. Схожая тенденция наметилась примерно в это же время у восточноевропейских евреев. Польские, галицкие, белорусские и литовские иудеи раскололись на враждующие партии, которым предстояло сыграть ключевую роль в становлении иудаистского фундаментализма. Хасиды, схожие в чем-то с американскими кальвинистами-«новосветниками», появились как раз в то время, когда те переживали Первое Великое Пробуждение. В 1735 г. бедный корчмарь по имени Исраэль бен Элиэзер (1698–1760) после явившегося ему откровения провозгласил себя Баал Шемом («Владеющим именем Божьим» – так называли целителей и изгоняющих дьявола, бродивших в Польше по городам и весям и творящих чудеса врачевания именем Господа). Однако вскоре Исраэль обрел особую славу, поскольку врачевал не только физические, но и душевные раны бедняков, и стал известен как Бешт – акроним титула Баал Шем Тов, что в буквальном переводе означает «Владеющий Благим именем Божьим» – то есть непревзойденный специалист. В истории польского еврейства это были черные дни. Народ еще не оправился от саббатианских событий, и еврейские общины вдобавок к экономическим тяготам, последовавшим за трагедией 1648 г., переживали духовный кризис. Заботясь о собственном выживании, зажиточные евреи не стремились к более справедливому распределению налогового бремени, и социальная пропасть между богатыми и бедными продолжала шириться. Власть над кехиллой (общинами), оттеснив слабых в сторону, захватили сильные, вхожие в дома знати. Хуже того, многие раввины сами участвовали в этом притеснении, ничуть не заботясь о бедняках и тратя свои умственные силы на казуистические препирательства о мелких деталях Закона. Следствием стало чувство отверженности у бедняков, духовный вакуум, упадок общественной морали и расцвет суеверий. Народные проповедники пытались нести знания в наиболее нуждающиеся массы, отстаивали интересы бедняков и порицали жирующих раввинов за неисполнение своего долга. Зачастую эти хасиды («благочестивые») образовывали отдельные от синагог общины и молитвенные группы. Именно к таким хасидам примкнул в 1735 г. Бешт, объявив себя Баал Шемом, и его сделали раввином[232].
Бешт стал коренным преобразователем хасидизма, стремившимся вырвать власть у зарвавшихся раввинов и удовлетворить духовные нужды народа. К 1750-м хасидские общины возникли в большинстве городов Подолья, Волыни, Галиции и Украины. Согласно свидетельству современника, к концу жизни у Бешта было около 40 000 последователей, молившихся в собственных, отдельных синагогах[233]. К началу XIX в. хасидизм обрел ведущую роль в большинстве еврейских общин Польши, Украины и Восточной Галиции, закрепился во многих белорусских и румынских городах и начал проникать в Литву.
Подобно протестантизму «новосветников», хасидизм стал массовой оппозицией религиозному истеблишменту. Хасиды образовывали собственные объединения, так же, как «новосветники», основывали собственные церкви. Оба движения были народными, с фольклорными элементами. Если радикальные протестанты порицали научные и теологические догмы, на которые опиралась элита, то хасиды выступали против сухой зубрежки Торы, насаждаемой раввинами. Бешт провозглашал революционную мысль – молитва должна предшествовать изучению Торы. Веками евреи полагались на авторитет раввинов, основанный на изучении Торы, но поскольку раввины, судя по всему, пытались скрыться в священных текстах от насущных социальных проблем общины, хасиды осудили эту выхолащивающую зубрежку, что не мешало им изучать священные тексты самим, руководствуясь собственным подходом.
Однако если протестантизм «новосветников» был духовно модернизирующим течением, то хасидизм представлял собой типичное традиционно-реформаторское движение. В основе его мифологии лежал лурианский образ божественных искр, запутавшихся в материи во время первичной катастрофы, но Бешт сумел придать ему более оптимистичный смысл – вездесущести Господа. Божью искру можно отыскать везде и всюду, нет такого места, которое Господь не отметил бы своим присутствием. Самые одухотворенные хасиды приобщались к этой скрытой божественной области путем духовного сосредоточения и близости («двекут») к Богу. Любое занятие, даже самое мирское и плотское, является богоугодным. Бог везде и всюду, общаться с ним хасид может во время еды, питья, плотских утех и управления делами. Хасиды должны демонстрировать свою осведомленность в этом божественном присутствии. Хасидские молитвы с самого начала были шумными и экстатическими, хасиды сопровождали ее непривычными, исступленными движениями, помогавшими вовлечь в процесс всего человека целиком. Они хлопали в ладоши, мотали головой взад-вперед, молотили ладонями по стенам, раскачивались из стороны в сторону. Хасид должен был постичь на более глубинном, подсознательном уровне, что все его существо подчиняется непосредственно воздействующим на него божественным силам, как пламя свечи, колеблющееся от дуновения воздуха. Некоторые хасиды даже крутили в синагоге сальто, изображая переворот сознания в полном подчинении Господу[234].
Хасидские нововведения, как ни странно, коренились в прошлом и предлагались как возрождение древней истины. Бешт утверждал, что в божественные мистерии его посвящал учитель пророка Илии Ахия Силомский и что в нем воплотился дух пророка Илии[235]. Бешт и его последователи исповедовали прежний, мистический подход к Писанию – хасиды не подвергали Библию критическому анализу и не добывали из текста информацию, изучение Торы было для них сугубо духовной дисциплиной. «Я расскажу вам, как лучше всего учить Тору, – говорил Бешт своим ученикам. – Забыть о себе, обратиться в слух, в большое ухо, которое внимает окружающим звукам, но остается немо»[236]. Хасид должен был распахнуть душу навстречу тексту, отринув собственное эго. Этот выход за пределы собственного «Я» представлял собой разновидность экстаза, требовавшего от хасида дисциплинированного управления своим сознанием – весьма существенное отличие от необузданного экстаза американских ревайвалистов-«возрожденцев». Бешт не занимался буквальным прочтением священных книг, он пытался разглядеть божественное сквозь текст на странице и точно так же учил своих хасидов вглядываться сквозь поверхностное в суть предметов окружающего мира и видеть там Присутствие. По преданию, однажды к Бешту пришел Дов-Бер (1710–1772), образованный проповедник и каббалист, который впоследствии возглавит хасидское движение в качестве преемника Бешта. Между ними состоялась беседа о лурианском тексте про ангелов, и Бешт счел буквальную интерпретацию Дов-Бера правильной, однако недостаточной. Бешт попросил его встать – из почтения к ангелам, – и как только Дов-Бер поднялся на ноги, «весь дом наполнился светом, повсюду вспыхнул огонь, и оба ощутили присутствие ангелов, о которых только что шла речь». «Простое прочтение будет именно таким, как говоришь ты, – сказал Бешт, – но в нем не хватает души»[237]. Сугубо рациональный подход, без настроя и культовых действий вроде молитвы, не позволит хасиду проникнуть в ту незримую действительность, на которую указывает текст.
Во многих смыслах хасидизм являл собой антитезу духу европейского Просвещения, которое к концу жизни Бешта как раз распространилось на территории Восточной Европы. Если думающие люди и ученые полагали, что лишь разум может быть инструментом постижения истины, Бешт вместе с рациональным подходом пропагандировал и мистическую интуицию. Хасидизм отвергал разделения эпохи модерна – отделение религии от политики, священного от мирского – и придерживался холистического подхода, усматривая святость везде и всюду. Если наука лишала мир чудес и изымала божественную составляющую из космологии, хасидизм провозглашал имманентность божественного присутствия. Кроме всего прочего, несмотря на свою обращенность к народу, хасидизм был далек от демократичности. Бешт полагал, что обычный хасид не может достичь единения с Богом сам, напрямую. Помочь ему в этом должен цаддик («праведник»), постигший двекут – мистическое постоянное осознание присутствия Бога, недостижимое для большинства простых людей[238]. Таким образом, хасид полностью зависит от своего цаддика – именно такое существование Кант порицал, называя «несовершеннолетием». Установки хасидизма в корне отличались от установок Просвещения, и многие хасиды не приняли их, когда те начали проникать в Восточную Европу.
Если Бешта раввинат при жизни не принимал всерьез, то новый лидер, образованный Дов-Бер, оказался человеком другого склада, и под его руководством движение существенно расширилось. Достигнув Литвы, оно привлекло внимание весьма влиятельного персонажа – Элияху бен Шломо Залмана (1720–1797), Виленского гаона (главы). Гаона возмутил хасидский подход, особенно по отношению к Торе, изучению которой он сам придавал первоочередное значение. Однако его работа с текстом отличалась от казуистики жирующих польских раввинов и имела глубоко мистическую основу. По рассказам его сыновей, он просиживал над Торой всю ночь, погрузив ступни в ледяную воду, чтобы не заснуть. Процесс изучения Торы отличался у гаона куда большей суровостью, чем у хасидов. Ему доставляло удовольствие вкладывать «усилия» в учебу, и, судя по всему, это напряжение мысли помогало ему подняться на новый уровень сознания. Когда он все-таки позволял себе поспать, Тора проникала в его сны, даря мистическое вознесение в область божественного. Таким образом, Тора была местом встреч с Богом. Как объяснял его ученик рабби Хаим из Воложина (1749–1821), с которым мы встретимся чуть ниже: «тот, кто изучает Тору, общается с Богом, ведь Бог и Тора едины»[239]. Однако гаон не ограничивался Торой, оставляя место и для современных наук, весьма преуспев в астрономии, анатомии, математике и иностранных языках. Хасидизм он считал ересью и обскурантизмом. Конфликт накалялся. Сторонники гаона, которых хасиды называли «миснагдим» («противники»), облачались в траур, если кто-то из них становился хасидом, скорбя по нему как по усопшему. Хасиды, в свою очередь, не считали миснагдимов истинными иудеями. В итоге в 1772 г. гаон предал анафеме (херему) хасидов Вильны и Брода, нанеся тем самым смертельный удар Дов-Беру.
Когда дни гаона уже были сочтены, рабби Шнеур Залман (1745–1813), хасидский украинско-белорусский духовный лидер, сделал попытку добиться примирения, но гаон отказался с ним разговаривать. Более того, выход в свет книги «Тания» (1791), написанной Залманом, повлек за собой новое отлучение. Это было прискорбно. Залман развивал новую ветвь хасидизма, под названием Хабад[240], по духу близкую учению миснагдимов, поскольку отправной точкой для духовных исканий в ней была рациональная мысль. Залман был готов принять и некоторые идеалы Просвещения, которые он пытался встроить в мистические рамки. Он считал, что одно рациональное мышление к Богу не приведет; если полагаться лишь на органы чувств – как призывают ученые и философы, – божественного в окружающем мире действительно обнаружить не удастся. Однако мистик может с помощью интуиции выйти на другой уровень восприятия, открывающий имманентное присутствие Бога везде и всюду. Залман не отвергал разум, он лишь отстаивал традиционную точку зрения, что рациональное мышление не является единственным способом восприятия и разум с мистической интуицией могут взаимодействовать. Погружаясь в размышления, сферу рацио, и изучая современные светские дисциплины, утверждал Залман, иудей сознает ограниченность возможностей своего разума и пытается преодолеть ее с помощью экстатической молитвы[241]. По наущению Залмана хабадские хасиды вводили себя в транс с помощью неистовых телодвижений, предложенных Бештом. Сам Залман для вхождения в транс катался по земле или пускался в дикий пляс, как простолюдины[242]. Однако почвой для этого экстаза служили занятия науками и дисциплинированное сосредоточение. Хабадские хасиды учились овладевать своим бессознательным, погружаясь все глубже в его пучину, пока, подобно мистикам всех великих вероучений, не находили божественное присутствие в основе своего существа.
Конфликт между хасидами и миснагдимами обострялся. По доносу миснагдимов Залману как мятежнику пришлось несколько лет просидеть в петербургской тюрьме. Однако в первые годы XIX в. трения пошли на спад. Участники конфликта осознали, что им куда больше следует опасаться третьих лиц, чем друг друга, и поэтому разумнее объединить усилия в борьбе против них. Наибольшие опасения вызывала Хаскала – еврейское Просвещение, которое как раз добралось до евреев Восточной Европы и воспринималось как ересь и хасидами, и миснагдимами.
У истоков Хаскалы стоял Моисей Мендельсон (1729–1786), замечательный сын бедного переписчика свитков Торы из немецкого города Дессау, отправившийся в 14-летнем возрасте в Берлин вслед за своим любимым учителем. Там он влюбился в современную светскую науку и с головокружительной скоростью освоил немецкий, французский, английский, латынь, математику и философию. Он жаждал приобщиться к немецкому Просвещению, стал близким другом Канта и все свободное время проводил за книгами. В своем наиболее известном сочинении «Федон» (1767) он попытался выстроить рациональное доказательство бессмертия души, не обращаясь к специфически иудейской тематике. Тем не менее Мендельсону вопреки своим намерениям пришлось вступаться за иудаизм, столкнувшись с враждебностью Просвещения к иудейской вере. В 1769 г. швейцарский пастор Иоганн Каспар Лафатер бросил Мендельсону вызов: опровергнуть рациональные доводы в пользу христианства и в случае неудачи отказаться от своей веры и принять крещение. Антисемитизмом было проникнуто и сочинение прусского государственного деятеля Кристиана Вильгельма фон Дома «Об улучшении гражданского состояния евреев» (1781). Для того чтобы успешно и продуктивно развиваться в современном мире, доказывал фон Дом, страна должна мобилизовать как можно больше своих талантов, поэтому необходимо дать евреям независимость и активнее интегрировать их в общество, хотя предоставлять им гражданство и допускать к государственным должностям по-прежнему не стоит. Между строк читалось, что евреи недостойны доверия и религия у них варварская.
Мендельсон не мог оставить такое без ответа и в 1783 г. издал «Иерусалим, или О религиозной власти и иудаизме». Немецкое Просвещение относилось к религии благосклонно, а вера самого Мендельсона, пожалуй, приближалась к мирному деизму Локка, хотя опознать в ней иудаизм было бы довольно затруднительно. Мендельсон считал существование милостивого Бога само собой разумеющимся, однако утверждал, что разум должен предшествовать вере. Мы можем принять авторитет Библии, лишь подтвердив ее истину рациональными методами. Такой подход переворачивал с ног на голову постулаты традиционной, консервативной веры, в которой разум априори не мог подтвердить истинность мифов, содержащихся в Писании. Мендельсон также ратовал за отделение церкви от государства и за признание религии частным делом – что весьма импонировало евреям, мечтавшим сбросить оковы гетто и приобщиться к доминирующей европейской культуре. Сделав веру своим личным делом, они смогут оставаться иудеями и при этом европеизироваться. Мендельсон доказывал рационализм иудейской веры, утверждая, что она полностью отвечает духу времени; ее доктрины основаны на разуме. Явившись Моисею на горе Синай, Бог дал еврейскому народу закон, а не набор доктрин. Следовательно, основная забота иудаизма – мораль и поведение людей, а их ум остается свободным. Мендельсон, судя по всему, имел слабое представление о мистических и мифологических составляющих иудаизма. Он был первым в ряду тех, кто пытался приспособить иудейскую веру к эпохе модерна, втискивая ее в чуждые ей – как и любой другой религии – рационалистические рамки.
Идеи Мендельсона, разумеется, казались ересью и миснагдимам, и хасидам Восточной Европы, равно как и наиболее ортодоксальным западным иудеям. К нему относились как к новоявленному Спинозе – еретику, предавшему свою веру и переметнувшемуся к гоям. Это не могло не удручать Мендельсона; несмотря на то, что многое в традиционном иудаизме казалось ему не стоящим доверия и чуждым, он совсем не собирался отрекаться от иудейского бога и своего иудаизма. Однако учеников у него было в избытке. Со времен Шабтая Цви евреи уже не раз демонстрировали желание преодолеть стесняющие их рамки традиционного иудаизма. Они с готовностью следовали примеру Мендельсона: общаться с гоями, изучать новые науки, считать веру своим личным делом. Мендельсон одним из первых нашел способ выбраться из гетто в Европу модерна без необходимости для иудеев отказываться от своего народа и культурного наследия.
Помимо участия в интеллектуальной жизни Просвещения, некоторые из этих маскилим («просвещенных», «уразумевших») принялись изучать свое наследие с более светской точки зрения. Одни, как мы еще увидим, будут исследовать историю еврейского народа современными, научными методами, другие примутся читать и писать на иврите, священном языке, который у ортодоксальных иудеев служил лишь для молитвы и поклонения. Маскилим начали создавать литературу на иврите, секуляризируя священный язык. Они искали новые способы оставаться иудеями, отбросив то, что им казалось суеверными пережитками прошлого, и сделав иудаизм приемлемым для просвещенного общества.
Возможность приобщиться к доминирующей культуре тем не менее оставалась сильно ограниченной извне: у евреев не было официально признанного гражданства, они не могли участвовать в политической жизни страны и по-прежнему считались людьми второго сорта. Однако маскилим возлагали большие надежды на Просвещение. От них не укрылось, что после Американской революции евреи получили гражданство в светском государстве Соединенных Штатов. Когда к власти во Франции пришел проникнутый духом Просвещения Наполеон Бонапарт и начал строить могущественную империю, на какое-то время евреям показалось, что и в Европе после многовекового притеснения их наконец начнут уважать и наделят равными правами.
Свобода была боевым лозунгом Французской революции и девизом правления Наполеона. К невероятной радости тех евреев, которые жаждали вырваться из гетто, Наполеон объявил, что французские иудеи станут полноправными гражданами республики. 29 июля 1806 г. евреи – деловые люди, банкиры и раввины – прибыли в парижскую ратушу Отель-де-Виль, где принесли присягу на верность государству. Несколько недель спустя Наполеон созвал еврейских старейшин на «Великий синедрион» – синедрионом назывался Верховный суд в Иудее, не заседавший со времен разрушения иерусалимского Храма в 70 году н. э. Созван он был с целью одобрения религиозными лидерами решений предыдущего собрания. Евреи ликовали. Раввины провозгласили Французскую революцию «вторым законом Моисеевым», «исходом из Египта» и «современным Песахом», утверждая, что «новое общество свободы, равенства и братства знаменует наступление мессианской эры»[243]. Шагая со своей армией по Европе, Наполеон насаждал те же принципы в каждой завоеванной им стране – Нидерландах, Италии, Испании, Португалии и Пруссии. Одно за другим его владения вынуждены были дать евреям свободу.
Однако даже во время первого собрания в 1806 г. враждебность Просвещения к еврейскому народу дала о себе знать в виде оскорбительного обращения графа Луи Моле, наполеоновского префекта. До него дошли сведения, что еврейские ростовщики в Эльзасе уклоняются от воинской обязанности и обирают население. Таким образом, перед еврейскими делегатами ставилась задача возродить гражданское сознание, утраченное за долгие века «деградации»[244]. 17 марта 1808 г. Наполеон ввел экономические ограничения для евреев, впоследствии известные как «Позорный указ». За три года, что они действовали, многие еврейские семьи постиг крах. Как подметил американский историк Норман Кантор, Наполеон предложил евреям «фаустовскую сделку»: продать уникальную еврейскую душу за свободу[245]. Несмотря на все воодушевляющие девизы, централизованное государство эпохи модерна не способно было мириться с такими автономными аномальными образованиями, как гетто. Просвещенное государство требовало юридической и культурной однородности, а евреи представляли собой «проблему», которую необходимо было рационально разрешить. Евреи должны были ассимилироваться, стать добропорядочными французскими буржуа, отказаться от своей обособленности и признать свою веру частным делом. Иудеям следовало исчезнуть как иудеям.
По французскому пути освобождения евреев пошли и другие европейские страны. Новоявленная толерантность была лучше прежней сегрегации, однако способствовал ей не столько благородный идеализм эпохи Просвещения, сколько требования государства эпохи модерна. Схожими прагматическими причинами, как мы уже видели, объяснялся конституционно закрепленный плюрализм, восторжествовавший в Соединенных Штатах. Чтобы не проиграть в испытаниях требованиями мира модерна и построить процветающее общество, власти должны были использовать все находящиеся в их распоряжении человеческие ресурсы. Какая бы религия ни являлась в государстве официальной, новые программы промышленного и экономического развития требовали участия и иудеев, и протестантов, и католиков, и секуляристов. Знаменитая еврейская оборотистость и деловая хватка оказалась как нельзя кстати, и государство стремилось сделать так, чтобы они работали на его нужды[246].
Но прежние предубеждения еще не были изжиты. Везде, кроме Франции и Голландии, после поражения Наполеона при Ватерлоо (1815) и падения империи евреи вновь лишились обретенных прав. Их загнали назад в гетто, вернули прежние ограничения, кроме того, возобновились погромы. Однако потребности государства эпохи модерна постепенно вынуждали одно правительство за другим наделять евреев полными гражданскими правами, при условии принятия ими фаустовской сделки. Страны, даровавшие евреям равноправие и гражданство, – такие как Британия, Франция, Голландия, Австрия и Германия – процветали[247], тогда как восточноевропейские страны, отказывавшиеся от демократизации и пытающиеся сохранить преимущества модерна для элиты, отставали от них. К 1870 г. эмансипация евреев наблюдалась по всей Западной Европе, в Восточной же Европе и России, где правительство искореняло еврейскую обособленность более жесткими методами, миллионы евреев отворачивались от модернистского государства и цеплялись за раввинизм и хасидские традиции[248].
Однако в первые годы после аннулирования прав, полученных при Наполеоне, многие молодые евреи почувствовали себя преданными и выброшенными из жизни. Они получили хорошее светское образование и были готовы участвовать в жизни современного общества, однако теперь им закрыли туда дорогу. Мендельсон показал им выход из гетто, Наполеон поманил свободой, и они уже не могли вернуться к прежнему образу жизни. От отчаяния многие немецкие иудеи обращались в христианство, чтобы ассимилироваться с доминирующей культурой. Остальные приходили к убеждению, что для спасения иудаизма необходимо принимать решительные меры, чтобы прекратить этот поток обращений в иную веру. В Германии возникли два родственных движения, порожденных еврейским просвещением. Маскилим полагали, что смогут послужить связующим звеном между гетто и миром модерна. Они хорошо знали немецкий, имели друзей среди гоев и вполне соответствовали европейскому образу жизни. В их кругах зародилась идея реформировать иудаизм как таковой, чтобы помочь ему встроиться в современный мир.
Реформистский иудаизм был почти целиком прагматическим движением, поэтому развивался согласно принципам логоса. Цель движения действительно состояла в том, чтобы избавиться от иудейских мифов. Исраэль Якобсон (1768–1828) полагал, что если иудаизм станет менее чуждым немецкому народу, шансы на эмансипацию евреев возрастут. Филантроп и светский человек, он основал в Зезене, у горной гряды Гарц, школу, где наряду со светскими изучались и религиозные, иудейские дисциплины. Кроме того, рядом со школой он построил синагогу, службы в которой больше напоминали протестантские, чем иудейские: молитвы произносились на национальном языке, а не на иврите; исполнялись немецкие церковные гимны, хор был смешанный, на немецком велись и проповеди, которым теперь в службе отводилась более важная роль. Традиционные ритуалы уходили в небытие. В 1815 г. Якобсон вместе с другими сторонниками реформистского иудаизма перенес эту модернизированную веру в Берлин, где открыл частные «храмы» (темпель), отличие которых от традиционных синагог подчеркивалось даже в самом названии. В 1817 г. Эдвард Клей основал новый храм в Гамбурге, где реформы носили еще более радикальный характер. Молитвы о пришествии Мессии и возвращении в Сион сменились молитвами общечеловеческого характера: не могли же евреи молиться о восстановлении земли обетованной в Палестине, если они хотели стать гражданами Германии. К 1822 г. для детей начали проводиться миропомазания по протестантскому образцу, упразднили разделение мужчин и женщин на службе. Гамбургский раввинат осудил это реформаторское движение и даже добился воззванием к прусскому правительству закрытия реформистских храмов в Берлине[249]. Вследствие чего большое количество еврейской молодежи, которая могла бы принять такой реформированный иудаизм, перешло в христианство. Однако гамбургский темпель не закрылся, и кроме него открылись новые – в Лейпциге, Вене и Дании. В Америке реформистский храм, открытый сценаристом Исааком Харби, появился в Чарльстоне. Реформирование нашло поддержку у еврейской молодежи Америки, и к 1870 г. по крайней мере некоторые из реформированных обрядов были введены в двух сотнях американских синагог, что составляло весьма существенную долю[250].
Реформистский иудаизм полностью соответствовал требованиям эпохи модерна – рациональный, прагматичный, с сильной тенденцией к признанию веры частным делом. Реформаторы хотели – отчаянно желали – резко порвать с прошлым и избавиться от традиционных доктрин и обрядов. Они уже не воспринимали изгнание как экзистенциальную трагедию, диаспора стала для них родным домом. В иудаизме подчеркивались идеалы модерна, он пропагандировался как основанная на разуме, либеральная, гуманистическая, готовая отказаться от архаичных особенностей и стать универсальной вера[251]. Реформаторы не оставляли места для иррационального, мистического, таинственного. Если старые воззрения и ценности мешают евреям полноценно участвовать в современной жизни, значит, долой такие воззрения. Поначалу реформаторы действовали исключительно из практических побуждений, однако к 1840-м гг. реформистский иудаизм привлек внимание ученых и раввинов, занявшихся научной критикой истории еврейского народа. Леопольд Цунц (1794–1886), Захария Франкель (1801–1875), Нахман Крохмаль (1785–1840) и Авраам Гейгер (1810–1874) подвергли священные иудаистские источники современному научному анализу. В их научной школе, получившей название «наука о еврействе», иудаистика, четко прослеживалось влияние философии Канта и Гегеля. Иудаизм, утверждали ученые, не есть раз и навсегда явленная людям вера, он развивался постепенно, все больше рационализируясь и осознавая себя. Религиозные переживания, которые до этого выражались в видениях, теперь можно было концептуализировать и рассмотреть через призму критического мышления[252]. Другими словами, мифы превращались в логос.
Ученые пытались нащупать баланс между различными иудейскими воззрениями. Крохмаль и Франкель, например, соглашались с традиционалистами, что Тора была явлена Моисею как единый текст на горе Синай, однако при этом, к возмущению традиционалистов, они отрицали божественное происхождение Галахи – обширного свода законов, выведенного из Торы. Франкель доказывал, что Галаха полностью рукотворна, является порождением разума, а значит, ее можно менять под требования новой эпохи. Крохмаль утверждал, что иудаизм, как демонстрирует еврейская история, всегда заимствовал идеи из других культур и именно благодаря этому выжил. Почему бы в таком случае евреям, изучив мир модерна, не перенять некоторые из его новых ценностей? На самом деле другого способа предотвратить поголовное обращение евреев в христианство, чтобы приобщиться к благам и задачам нового типа общества, не существовало. По мнению Гейгера, Мендельсон открыл еврейскому народу новую эпоху; реформистский иудаизм послужит освобождением для веры, впрыснув в нее здоровую дозу философии Просвещения.
Однако реформистское движение подвергалось и критике со стороны науки о еврействе. Так, например, Крохмаль хранил верность традиционным обрядам, которые реформаторы пытались упразднить. Франкель и Цунц считали крайне опасным отказываться от всей традиции разом. В 1849 г. Цунц написал статью, в которой еврейские ритуалы представлялись внешними проявлениями фундаментальных истин. Кулинарные и пищевые ограничения, накладывание филактерий (тфилин) за долгие столетия стали неотъемлемой частью еврейского самосознания; без этих ритуалов иудаизм сведется к системе абстрактных доктрин. Цунц сумел разглядеть ключевую роль культа, без которого все мифы и постулаты религии теряют смысл. Франкель также сознавал, насколько ритуалы способствуют выработке у верующих правильных духовных воззрений. Он опасался, что реформаторы чрезмерно уходят в область рацио, забывая про сферу чувств. Разум не способен в одиночку удовлетворить эмоциональную потребность, вызвать радость и восторг, которые традиционный иудаизм в лучшие свои годы неизменно пробуждал. Было бы неправильно отказываться от сложных древних ритуалов Иом-Киппура или прекратить всякое упоминание о мессианском возвращении в Сион, поскольку эти образы формировали еврейское самосознание, порождали благоговение и помогали не утратить надежду во времена невзгод[253]. Некоторые изменения, безусловно, требовались, однако реформаторы зачастую плохо понимали роль эмоций в богопочитании. Цунц и Франкель сознавали мифологическую в основе своей составляющую религии и не поддавались модернистской тенденции считать разум единственным путем к истине. Гейгер, напротив, был рационалистом до мозга костей и ратовал за радикальные реформы. Однако по прошествии лет реформаторы, признав правоту Цунца и Франкеля, вернули некоторые из традиционных обрядов, поняв, что без эмоциональной, мистической составляющей вера и религиозное поклонение лишаются души.
Как реформаторов, так и ученых, занимающихся наукой о еврействе, заботило выживание их религии в мире, который, пусть невольно, вознамерился, казалось, ее уничтожить. При виде собратьев-иудеев, бегущих к крестильной купели, их охватывала тревога за будущее иудаизма, и они отчаянно искали способы отстоять его, не дать ему погибнуть. Как нам еще предстоит убедиться, эту тревогу разделяли многие верующие Нового времени. Во всех трех монотеистических религиях периодически возникали опасения, что традиционная вера в смертельной опасности. Боязнь уничтожения – одна из самых фундаментальных человеческих фобий, и именно она послужила толчком к появлению многочисленных религиозных движений, которые мы наблюдаем в мире модерна. По мере того как набирали силу светские тенденции и господствующий рационализм проникался все большей враждебностью к религии, верующие ожесточались, и их духовный настрой становился все более воинственным.
К началу XIX в. иудеи-традиционалисты, которых реформаторы называли «альтглаубиген» (староверы), отчетливо почувствовали свою обособленность. Даже после эмансипации они продолжали жить так, будто их по-прежнему не выпускали из гетто. Они отдавали все силы и время изучению Торы и Талмуда и считали модерн злом, которого нужно избегать. Гойские науки представлялись им несовместимыми с иудаизмом. Одним из ведущих идеологов этих «староверов» был раввин Моше Софер из Прессбурга (1763–1839). Он отвергал любые перемены и попытки приспособиться к требованиям новой эпохи – Господь ведь не меняется; запрещал своим детям читать книги Мендельсона, не позволял им получить светское образование и препятствовал какому бы то ни было их участию в жизни общества модерна[254]. То есть, по сути, его инстинктивная реакция состояла в том, чтобы удалиться от мира. Однако другие традиционалисты пытались найти более творческий подход к борьбе с секуляристскими, рационализирующими тенденциями.
В 1803 г. рабби Хаим из Воложина, ученик Виленского гаона, совершил решительный шаг, изменивший традиционную иудейскую веру, основав в литовском городе Воложине иешиву (высшее религиозное учебное заведение) «Эц Хаим». Вслед за ней в течение XIX в. иешивы появились и в других городах Восточной Европы – в Мире, Тельшяе, Слободке, Ломже и Новогрудке. Прежде иешивой (в буквальном переводе с иврита – «сидение», «заседание») называлась череда каморок за синагогой, где ученики читали Тору или Талмуд. Как правило, административно она принадлежала местной общине. Однако воложинская иешива была совсем другой. Сюда со всей Европы стекались сотни одаренных учеников, чтобы заниматься под руководством прославленных светил с международной известностью. Программа была суровой, учебный день долгим, поступление тоже весьма нелегким. Рабби Хаим преподавал Талмуд по методике, перенятой от гаона, анализируя текст и подчеркивая важность логической непротиворечивости, однако приводящей к духовной встрече с божественным. Целью изучения было не просто познакомиться с Талмудом; заучивание текстов наизусть, подготовка и оживленное обсуждение были не менее важны, чем окончательный вывод, сделанный в классе, поскольку процесс учебы оказывался сродни молитве, ритуалу, приобщающему учеников к священному. Погружение было полным. Ученики жили замкнуто, как в монашеской общине, и их духовная и интеллектуальная жизнь полностью контролировалась иешивой. Оторванные от родных и друзей, они полностью погружались в иудейские науки. Некоторым разрешалось в ограниченном объеме заниматься современной философией и математикой, но в целом считалось, что светские предметы лишь отнимают время от изучения Торы[255].
Задача иешив заключалась в противостоянии хасидизму – иешивы были сугубо миснагдимским начинанием, призванным возродить доскональное заучивание Торы. Однако со временем еврейское просвещение показалось миснагдимам куда более опасной угрозой, и они образовали с хасидами единый фронт против маскилим, которые представлялись им чем-то вроде Троянского коня, несущего зло светской культуры под стены еврейских общин. Постепенно иешивы становились оплотами ортодоксальной веры, первоочередной задачей которых стала борьба с растущей угрозой. Лишь изучение Торы могло предотвратить гибель истинного иудаизма.
Иешива стала определяющим институтом ультраортодоксального фундаментализма, который разовьется в XX столетии. Она оказалась одним из первых проявлений этой народившейся воинственной религиозности, поэтому может послужить для нас познавательным примером. Фундаментализм – не важно, иудейский, христианский или мусульманский – редко рождается в противостоянии внешнему врагу (в случае воложинской иешивы этим внешним врагом была бы гойская европейская культура); обычно он появляется как внутренняя борьба, в которой традиционалисты сражаются с собратьями по религии, идущими, по их мнению, на слишком большие уступки светскому миру. Инстинктивной реакцией фундаменталистов на посягательства модерна зачастую становится попытка создать анклав чистой веры – например, иешиву. Такие анклавы обеспечивали уход от безбожного мира в самодостаточную замкнутую общину, где верные пытались перекроить действительность в пику происходящим «снаружи» изменениям. То есть, по сути, мотивы были оборонительными. Однако этот уход таит в себе заряд для будущего контрнаступления. Выпускники иешивы, прошедшие одинаковую подготовку и исповедующие единую идеологию, становятся с большой долей вероятности влиятельными лицами в своей общине, и тем самым анклавы способствуют формированию контркультуры, альтернативной культуре модерна. Ректор иешивы («рош-иешива») был авторитетной фигурой, сравнимой с цадиком у хасидов, и пользовался огромным влиянием среди учеников. Он требовал абсолютного подчинения заповедям и традиции, тем самым пресекая любое творческое и самостоятельное мышление. Таким образом, этос, насаждаемый иешивой, оказывался прямо противоположным духу Нового времени с его ценностями независимости и новизны.
Однако основная задача воложинской иешивы и ей подобных состояла не в том, чтобы бороться со светской культурой Европы, а в том, чтобы спасать души подопечных молодых людей путем погружения их в традиции старого мира. Здесь, как ни странно, кроется парадокс, который в истории фундаментализма будет повторяться неоднократно. Несмотря на пропитанность традиционным духом, воложинская и прочие иешивы были, по сути, модернистскими и модернизирующими заведениями. Они стремились к организации централизованного изучения Талмуда методами разума. Кроме того, с их появлением родилась и свобода выбора: в гетто традиционный уклад жизни оставался неизменным, его ценности и обычаи воспринимались как данность и не оспаривались. Другого образа жизни для евреев не существовало. Теперь же поступление в иешиву и посвящение себя традиционному укладу стало для еврея добровольным, сознательным шагом. В мире, где религия превратилась в предмет личного выбора, воложинская иешива также стала заведением факультативным[256]. Таким образом, даже выступая против базовых ценностей эпохи модерна, фундаменталисты, как ни странно, оказывались проводниками в какой-то степени модернистской и инновационной веры.
Другие иудеи пытались придерживаться срединного пути. В 1851 г. 11 традиционалистов из франкфуртской общины, где уже господствовал реформистский иудаизм, попросили у муниципалитета позволения образовать собственное религиозное объединение. В качестве раввина они пригласили Самуэля Рафаэля Гирша (1808–1888). Тот при финансовой поддержке семьи Ротшильдов сразу же открыл начальную и среднюю школы, в которых изучались как светские, так и религиозные предметы. Как указывал Гирш, только в гетто евреи пренебрегали изучением философии, медицины и математики. В прошлом еврейские мыслители, наоборот, играли иногда ведущую роль в интеллектуальной жизни доминирующей культуры, особенно в исламских странах. В гетто же евреи оказались оторванными от природы, и поэтому изучение естественных наук ушло в небытие. Иудаизму, утверждал Гирш, незачем опасаться соприкосновения с другими культурами. Евреи должны как можно активнее приобщаться к достижениям современности, при этом не устраивая мятеж против традиций и авторитетов, как адепты реформистского иудаизма[257].
В молодости Гирш издал «Девятнадцать писем Бена Узиэля» (1836), где призывал к большей ортодоксальности, однако вину за широкомасштабное обращение иудеев к христианству и реформистскому иудаизму он возлагал на закосневших традиционалистов, отворачивающихся от модерна. Их буквалистский фундаментализм он тоже не принимал. Евреи, считал он, должны искать скрытый, внутренний смысл различных заповедей посредством дотошного, вдумчивого изучения и исследований. Законы, не поддающиеся рациональному объяснению, могут служить напоминанием, аллегорией. Так, например, обрезание напоминает нам о том, что необходимо держать тело в чистоте; запрет на смешивание мясного и молочного символизирует необходимость сохранять божественный порядок мироздания. Соблюдать необходимо все законы, поскольку они формируют характер и, делая еврейский народ благочестивым, позволяют ему выполнять свой моральный долг перед человечеством. Этот компромиссный путь, сформулированный Гиршем, получил название неоортодоксии, а сам Гирш в очередной раз продемонстрировал добровольный выбор религиозной ортодоксии в мире модерна. Когда-то традиция воспринималась как данность, теперь же ортодоксальные взгляды иудеям приходилось отстаивать в борьбе.
Мусульманские Египет и Иран переживали модернизирующее влияние Запада совсем по-иному. С наполеоновского вторжения в Египет 1798 г. началась новая стадия отношений между Западом и Востоком. Наполеон планировал создать оплот в Суэце, чтобы оттуда держать под контролем британские морские пути в Индию и, возможно, атаковать Османскую империю со стороны Сирии. Таким образом, Египет и Палестина превращались в поле битвы за мировое господство между Англией и Францией. Велась борьба за передел власти в Европе, однако Наполеон выступал перед египтянами как проводник прогресса и просвещения. Разбив мамлюкскую кавалерию в Битве у пирамид 21 июля 1798 г., Наполеон выпустил манифест на арабском, в котором обещал освободить Египет от иноземного гнета. Многовековой тирании черкесских и грузинских мамлюков настал конец. Наполеон просил улемов, которых считал представителями коренного египетского населения, не принимать его за нового крестоносца. Всякому, уверенному в том, что он намеревается разрушить местную религию, следует знать, заявлял Наполеон, что «я прибыл сюда лишь для того, чтобы освободить ваши права из-под власти тиранов, и что я больше, чем мамлюки, поклоняюсь Богу Всевышнему и почитаю Пророка Его и великий Коран… Передайте им, что перед Богом все равны и нет других различий между людьми, кроме ума, добродетели и учености»[258].
Однако освобождение и ученость пришли не сами, их несла современная армия. Египтяне своими глазами видели, как эта махина разгромила наголову мамлюков, потеряв лишь 10 французских солдат убитыми и 30 ранеными, тогда как мамлюки потеряли свыше 2000 человек, 400 верблюдов и 50 артиллерийских орудий[259]. У свободы определенно было лицо агрессора – как и у новоявленного научного Института Египта, который своими кропотливыми исследованиями истории региона обеспечил Наполеону возможность составить манифест на арабском и познакомил в разумных объемах с идеалами и институтами ислама. Учеба и наука стали средствами продвижения европейских интересов на Ближнем Востоке и подчинения его народов французской власти.
Улемы на пропаганду не поддались. «Все это лишь хитрые уловки, призванные нас околпачить. Бонапарт – христианин и сын христианина»[260]. Власть неверных вызывала у улемов тревогу. Коран учил, что, пока люди строят свою жизнь по божьим заветам, им ничего не грозит, однако исламские силы только что потерпели сокрушительное поражение от иноземной державы. Аль-Джабарти, глава медресе Аль-Азхар, полагал, что нашествие повлечет за собой «кровопролитные битвы, тревожные и пугающие события, страшные катастрофы, умножение зол… перелом течения времени, нарушение естественного хода вещей, подрыв возведенных человеком устоев»[261]. Ему, как и многим с приходом модернистских преобразований, казалось, что мир перевернулся. Однако, несмотря на витиеватость формулировок, опасения аль-Джабарти не были беспочвенными. С Наполеона началось наступление Запада на Ближний Восток, которое действительно перевернуло привычный уклад, заставив людей пересмотреть свои самые фундаментальные представления и ожидания.
Наполеон усилил власть улемов. Он хотел сделать их своими союзниками против турок и мамлюков, поэтому назначил их на самые высокие должности в правительстве, однако реакция улемов оказалась неоднозначной. Египтяне так долго находились под властью мамлюков и турок, что управление страной напрямую казалось им чуждым явлением. Одни улемы отказались от предложенных должностей, оставляя за собой прежнюю, консультативную роль. Ничего не понимая в обороне, в установлении закона и наведении порядка, они предпочитали заниматься привычными и знакомыми религиозными вопросами и вопросами мусульманского права. Большинство улемов, однако, пошли на сотрудничество – поняв, что выбор невелик, они заполнили образовавшийся вакуум и помогли восстановить порядок, выступая, как и прежде, посредниками между правительством и народом[262].
И, наконец, лишь некоторые из улемов вывели народ на бунт против французов в октябре 1798 г. и марте 1800-го, однако эти выступления были быстро подавлены.
Французы по-прежнему повергали в недоумение египтян, не понимающих наполеоновской просвещенческой идеологии свободы и независимости. Египтян и европейцев разделяла культурная пропасть. Аль-Джабарти, побывав в Институте Египта, восхищался увлеченностью и знаниями французских ученых, однако их эксперименты остались для него загадкой. В особенное недоумение его привел воздушный шар, накачиваемый нагретым воздухом. В его сознании подобный предмет просто не укладывался, поэтому он смотрел на него совсем другими глазами, чем европеец, имеющий за плечами 200-летний эмпирический опыт. «У них имеются странные предметы, – вспоминал он впоследствии, – действие которых нашим скромным умом не объять»[263].
В 1801-м британцам удалось выкинуть из Египта французов. В тот момент Британия стремилась сохранить целостность Османской империи, поэтому Египет вернули туркам, не пытаясь установить свое, британское владычество. Однако смена власти не способствовала порядку. Мамлюки отказались признавать нового турецкого наместника из Стамбула, и два года население дрожало от страха, глядя на кровопролитные стычки между мамлюками, янычарами и албанским гарнизоном, присланным османцами. Воспользовавшись смутой, власть захватил молодой албанский офицер Мухаммед Али (1769–1849). Улемы, устав от неразберихи и разочарованные некомпетентностью мамлюков, выступили в его поддержку. Возглавляемые выдающимся алимом Омаром Макрамом, улемы подняли народное восстание против турок и отправили делегацию в Стамбул, прося признать Мухаммеда Али пашой, то есть наместником в Египте. Султан, ко всеобщему восторгу жителей Каира, согласился. Как писал один французский обозреватель, ликующие толпы напомнили ему Париж времен Французской революции[264]. Для улемов настал звездный час. Мухаммед Али заручился их поддержкой, пообещав, что без их согласия не будет производить в стране никаких перемен. Все решили, что статус-кво восстановлен и что после нескольких лихих лет жизнь наконец вернется в спокойное русло.
Однако у Мухаммеда Али оказались другие планы. Сражаясь в Египте с французами и будучи впечатлен эффективностью современной европейской армии, он хотел осовременить и оснастить по последнему слову техники свою собственную, а также превратить Египет в передовое государство, независимое от Стамбула. Интеллектуальная революция, происходящая на Западе, Мухаммеда Али не интересовала. Он был необразованным выходцем из крестьян, который в свои 40 лет едва научился читать, – из книг ему требовались лишь сведения об управлении государством и военной тактике. Как и многие последующие реформаторы, Мухаммед Али хотел перенять от общества модерна лишь передовые технологии и военную силу, не отдавая себе отчета в том, как отразятся эти перемены на культурной и духовной жизни страны. И тем не менее Мухаммед Али был выдающимся человеком, много сделавшим для Египта. До своей смерти в 1849 г. он успел практически в одиночку вытащить отсталую, обособленную провинцию Османской империи в мир модерна. И на примере его власти мы можем наблюдать много ярких свидетельств того, какими трудностями чревато внедрение западного модерна в противоположное по духу общество.
Во-первых, не нужно забывать, что Запад двигался к модерну постепенно и своим ходом, без постороннего вмешательства. У европейцев и американцев ушло без малого три столетия на обретение опыта и технологий, которые в конечном итоге подарили им мировое господство. И даже в этом случае процесс модернизации был мучительным, кровопролитным и сопровождался духовными метаниями. А Мухаммед Али пытался провернуть эту трансформацию за каких-нибудь 40 лет. Оказалось, что для достижения своих целей ему придется объявить собственному народу самую настоящую войну. Египет находился в плачевном состоянии: все разграблено, разрушено; крестьяне-феллахи, побросав поля, бежали в Сирию; налоги неподъемные и бессистемные; остается опасность возвращения мамлюков. Как превратить эту растерзанную страну в сильное, централизованное государство с усовершенствованным аппаратом управления и передовой армией? Запад ушел далеко вперед. Как Египту догнать его, победить на собственном поле и предотвратить дальнейшие вторжения и агрессию?
Мухаммед Али начал строительство своей империи с уничтожения мамлюкских предводителей. В августе 1805 г. он попросту заманил верхушку мамлюкской армии в Каир, где из засады перебил всех, кроме троих. Оставшихся беев за последующие два года уничтожил его сын Ибрагим, пока Мухаммед Али разбирался с британцами, обеспокоенными его неожиданной хваткой. И наконец, поддавшись давлению османского султана, он снарядил поход для подавления бунта арабских ваххабитов, восставших против османского владычества. Во главе армии встал сын Мухаммеда Тассан, назначение которого на эту ответственную должность сопровождалось пышной церемонией в Каире. Пока торжественная процессия проходила по улицам города, люди Мухаммеда поймали и убили последних мамлюкских предводителей, после чего их дома были отданы на разграбление, а жены на поругание. В тот день была убита тысяча мамлюков, и мамлюкской касте в Египте настал конец[265]. В очередной раз модернизация началась с этнической чистки.
Судя по всему, иначе как кровавым путем привести народ в мир модерна невозможно. В отсутствие устойчивых демократических институтов добиться крепкой власти можно лишь насилием. Так же безжалостно Мухаммед Али обошелся и с экономикой. Ему хватило проницательности, чтобы понять: секрет западного успеха кроется в построенном по научным методам производстве. С 1805 по 1814 г. он последовательно прибирал к рукам каждый акр земли в стране. К уже перешедшим в его собственность мамлюкским владениям он добавил земли налоговых откупщиков, которые давно продемонстрировали свою нечистоплотность. И наконец, он забрал весь вакф – отписанные на религиозные нужды земли и имущество, годами приходившие в упадок, обязавшись лично выплатить все причитающиеся фондам огромные недоимки. Схожими волюнтаристскими методами он добился монополии на все торгово-промышленные предприятия страны. За десятилетие с небольшим он сделался единоличным землевладельцем, монополистом торговли и промышленности Египта. Египтяне, однако, не протестовали, поскольку взамен получали существенные блага. После многолетнего хаоса и неразберихи в стране наконец воцарились закон и порядок; судебные разбирательства велись справедливо, и каждый имел право обратиться с жалобой к Мухаммеду Али лично. Народ видел, что правитель не стремится набить собственные карманы, а пускает все доходы на развитие страны. Самым большим его достижением было возделывание хлопка, который стал ценным экспортным товаром и приносил большие доходы в валюте, позволявшие паше закупать машинное оборудование, оружие и промышленные товары из Европы[266].
Однако это ставило его в зависимость от Запада. Европейской модернизацией двигала потребность в автономии, поэтому она сопровождалась декларациями независимости в самых различных областях – интеллектуальной, экономической, религиозной и политической. Мухаммед Али, чтобы стать полновластным правителем Египта и обрести независимость от Европы, должен был, напротив, осуществлять тотальный деспотический контроль. Без прочного промышленного фундамента все его усилия были бы обречены на провал, поэтому он запустил сахаро-рафинадный завод, арсенал, медные рудники, хлопкопрядильное, чугунолитейное, красильное, стекольное производство, а также типографии. Однако индустриализация – дело небыстрое. Европейцы уже успели убедиться, что для обеспечения построенных предприятий кадрами все большему количеству простых людей приходится овладевать специальными знаниями и навыками. На это нужно время. Феллахам, работающим на фабриках Мухаммеда Али, не хватало технической подготовки и опыта; оторванные от своих полей, они с трудом приспосабливались к городской жизни. Чтобы активно участвовать в производстве, им требовалось образование, которое, в свою очередь, грозило масштабным и потому немыслимым социальным переворотом. В результате большинство индустриальных начинаний Мухаммеда Али провалилось[267].
Модернизация, как мы видим, действительно шла туго, проблемы оказались практически непреодолимыми. Если в Европе основным лозунгом стала инновация, то египтянами по-прежнему владел премодернистский дух традиционности. Поэтому единственный для Мухаммеда Али способ модернизировать свое государство заключался не в инновациях, а в подражании Западу. Политика подражания (в исламской терминологии «таклид»), в корне противоречащая сути модерна, внедрялась в административной, технологической и образовательной сферах. Как, без независимости и творческого мышления, ставших на Западе основными ценностями, мог Египет по-настоящему модернизироваться?
Однако у Мухаммеда Али не было выбора. Он создал аппарат управления по западному образцу, сажая в чиновничьи кресла в основном европейцев, турок и левантинцев, из которых сформировался совершенно новый класс египетского общества. Подающая надежды молодежь посылалась на учебу во Францию и в Англию. В Кассерлине были открыты два других военных училища на 1200 человек, обеспечение и обмундирование которых осуществлялось на средства самого паши. В Туре и Гизе также были основаны артиллерийские училища, преподаватели для которых набирались из европейцев или из египтян, отучившихся за границей. Студенты, становившиеся в стенах училища личной собственностью паши, изучали европейские языки, математику, а также западную военную науку. Благодаря этим училищам в стране появилось высокообразованное офицерское сословие. Однако начального образования для феллахов по-прежнему не было: они приносили стране больше пользы на полях, обеспечивая ее аграрный фундамент[268]. И последствия такого положения дел тоже оказались фатальными. В модернизирующейся восточной стране наиболее тесная связь с западной, европейской цивилизацией сформировалась у военных. Большая часть населения оказалась исключенной из процесса модернизации. В результате руководящие и правящие круги складывались из военных, и у восточного модерна появлялась военизированная окраска, также отличавшая его от западного.
Армия была главной заботой Мухаммеда Али. Без нее он не смог бы осуществить свои планы, поскольку на протяжении всего пребывания у власти ему приходилось держать оборону против британцев с одной стороны и турок-османцев – с другой. Полуавтономное государство Али-паши турки терпели только ради возможности привлечь его более отлаженную военную машину к участию в собственных кампаниях – против арабских ваххабитов или для подавления восстания в Греции (1825–1828). Однако уже в 1832 г. сын Мухаммеда Ибрагим-паша пошел войной на османские провинции Сирию и Палестину и, одержав несколько сокрушительных побед над турецкой армией, создал для своего отца могущественное государство в государстве. Египетская армия была, разумеется, организована по французскому образцу. Пытаясь воспроизвести дисциплину и оперативность, виденную в наполеоновских войсках, Мухаммед Али действительно создал силу, способную с легкостью одолеть превосходящие силы противника. Однако достигнуто все это было ценой страданий собственного народа. Сперва Мухаммед Али начал муштровать около 20 000 новобранцев из Судана, разместив их в огромных казармах в Асуане. Однако суданцы попросту не выдерживали. Они отворачивались к стене и умирали, несмотря на все усилия военных врачей (выпускников медицинского училища Мухаммеда Али в Абу-Забеле). Паша был вынужден набрать рекрутов из феллахов, отрывая их от дома, родных и земли. Как правило, им не давали времени даже подготовиться к разлуке, семьи зачастую оставались без кормильца, и женщинам приходилось идти на панель. Необходимость приспосабливаться к совершенно чуждому военному укладу повергала феллахов в такой ужас, что некоторые прибегали к членовредительству, отрезая себе пальцы, вырывая зубы и даже лишая себя зрения, чтобы не служить в армии[269]. За отлаженную военную машину было заплачено человеческими жизнями. Кроме того, от воинской повинности страдали не только сами феллахи, но и сельское хозяйство, оставшееся без крестьян.
У любой необходимой реформы есть оборотная сторона. Экономическая политика Мухаммеда Али способствовала проникновению в Египет европейских товаров – но в ущерб местному производству. Став монополистом в торговле, паша фактически уничтожил коренное торговое сословие[270]. Он много вкладывал в строительство оросительных каналов и водных коммуникаций, однако каторжные условия труда рабочих повлекли за собой гибель около 23 000 человек[271]. Несмотря на насильственное разрушение прежних социальных устоев, образ жизни и мировоззрение большинства египтян оставались неизменными – премодернистскими и традиционными. Постепенно в Египте формировались два параллельно существующих общества – модернизированное, состоящее из административной и военной верхушки, и немодернизированное, живущее по диаметрально противоположным законам.
Улемам наступление модерна, конечно же, виделось губительным. Когда Мухаммед Али стал пашой, они обладали весомым авторитетом. Али-паша умаслил их разными обещаниями, и на три года между правителем и духовенством воцарилась идиллия. Однако в 1809 г., когда улемы лишились своего традиционного статуса персон, освобожденных от налогообложения, Омар Макрам начал подстрекать их на выступление против Мухаммеда Али с целью заставить его отменить новые налоги. Улемы редко выступали единым фронтом, и паше удалось переманить значительную часть из них на свою сторону. Макрама выслали из страны, а с ним исчезла и последняя возможность для улемов противостоять Мухаммеду Али. Кроме того, его изгнание означало поражение улемов как сословия. Как мусульманин, Али-паша демонстрировал показное уважение к богословам и медресе, но на деле методично маргинализировал их и оттеснял все дальше от власти, а непокорных шейхов смещал с должности. В конце концов, по свидетельству Джабарти, большинство улемов вынуждены были смириться с новой политикой. Кроме того, паша вытянул из них все финансовые соки. Забрав себе доходы с вакфа (собственности, отписанной на религиозные нужды), он лишил улемов основного источника средств к существованию. К 1815 г. огромное количество богословских школ оказалось разорено. Через 60 лет бедственное положение исламской верхушки достигло апогея: нечем было платить жалованье учителям, мечети не могли позволить себе содержать муэдзинов, чтецов Корана и смотрителей. Главные мамлюкские постройки пришли в упадок, и даже Аль-Азхар находился в плачевном состоянии[272].
В результате всех этих притеснений египетские улемы прониклись реакционным духом. Их традиционную роль советников при правительстве взяли на себя иностранные специалисты, в большинстве своем не питающие особенного уважения к местным традициям. Улемы не пошли по пути прогресса, и паша предоставил им копаться в книгах и рукописях. Не сумев открыто противостоять переменам, улемы отгородились от них своими богословскими традициями. Такой позиция улемов в Египте и останется. Они не рассматривали модерн как интеллектуальный вызов, воспринимая его лишь как череду неприятных и разрушительных перемен, лишение власти и богатства, а также болезненную утрату авторитета и влияния[273]. Таким образом, сталкиваясь с новыми западными идеями, египетские мусульмане, оставшиеся без духовного руководства, вынуждены были искать его на стороне.
Веками улемы сотрудничали с правящей верхушкой. Мухаммед Али разорвал эти отношения и принялся резко насаждать светские порядки, не имевшие идеологической подоплеки, спущенные сверху как данность. На Западе у людей было время привыкнуть к постепенному отделению церкви от государства и даже создать мирскую духовность, тогда как для большинства египтян секуляризация оставалась явлением чуждым, навязанным и непонятным.
Похожие модернизирующие реформы проходили и в Османской империи, однако в Стамбуле лучше представляли себе те идеи, которые двигали кардинальными преобразованиями на Западе. Османцы становились в Европе дипломатами и общались с европейскими государственными деятелям при дворе султана. В 1820–1830-х выросло новое поколение, знакомое с миром модерна и настроенное на реформирование империи. Отец Ахмеда Вефик-паши, который впоследствии стал великим визирем, работал в турецком посольстве в Париже; сам Ахмед читал Гиббона, Юма, Адама Смита, Шекспира и Диккенса. Мустафа Решид-паша, также изучавший в Париже политологию и литературу, пришел к убеждению, что Османская империя не сможет существовать в современном мире, если не станет централизованным государством с современной армией, новой законодательной и административной властью, признающей равенство всех граждан. Христиане и евреи должны получить те же права, что и мусульмане, избавившись от статуса «зимми» (защищенного меньшинства). Преобладание таких европейских взглядов облегчило султану Махмуду II введение в 1826 г. указов, положивших начало Танзимату («упорядочению»). В его рамках были расформированы янычарские войска, начата модернизация армии и внедрялись технические новинки. Султан полагал, что этого будет достаточно, чтобы затормозить стремительный развал империи, однако непрерывный натиск европейских держав, проникающих на исламские территории как в экономическом, так и в политическом отношении, постепенно дал понять, что необходимы более фундаментальные перемены[274].
В 1839 г. султан Абдул-Меджид (с подачи Решида-паши) выпустил Гюльханейский рескрипт, который, подчеркнуто провозглашая неприкосновенность исламского закона, тем не менее ставил абсолютную монархию султана в зависимость от контрактных отношений с подданными. Рескрипт подготавливал почву для фундаментальных перемен в государственном управлении, чтобы упорядочить его и сделать более эффективным. В течение трех последующих десятилетий были реструктурированы центральная и местные администрации, созданы уголовный и хозяйственный кодексы, основаны суды. В 1856 г. новым рескриптом (хатт-и хумаюн) религиозным меньшинствам были дарованы полные гражданские права. Однако эти реформы вели к неизбежному конфликту с улемами, видевшими в нововведениях подрыв устоев шариата[275]. Следовательно, приверженцам реформ приходилось задаваться все более мучительным вопросом: как мусульманам стать частью мира модерна, не избавляясь от своего исламского наследия. Исламу предстояло измениться в ближайшие десятилетия точно так же, как изменилось и продолжало меняться под влиянием модернизации и просвещенческой мысли христианство.
Проблема требовала срочного решения, поскольку с каждым годом отставание мусульманских стран по сравнению с Западом становилось все разительнее. Мухаммед Али успешно противостоял султану, однако в 1840 г. европейские власти вынудили его уступить завоеванные сирийские, аравийские и греческие территории. От этого жестокого удара он так до конца и не оправился. Внук Мухаммеда Аббас (1813–1854), унаследовавший титул египетского паши в 1849 г., ненавидел Европу и все западное. Он был военным и, в отличие от османских реформаторов, не получил либерального образования. Для него Запад означал эксплуатацию и унижение: он возмущался привилегиями, полученными европейскими управленцами и бизнесменами в Египте, а также авантюрными прожектами, на которые европейцы ради собственной финансовой выгоды подбивали его деда. Он распустил флот Мухаммеда Али, сократил численность армии и закрыл новые школы. Однако Аббас также не снискал народной любви и был убит в 1854 г. Его преемником у власти стал Мухаммед Саид-паша (1822–1863), четвертый сын Мухаммеда Али, который был полной противоположностью Аббаса – франкофилом, перенявшим западный образ жизни, любившим общество иностранцев и возродившим армию. Однако к концу правления Саида некоторые европейские компании и предприятия своими нечестными методами и сомнительными махинациями даже его настроили против себя.
Самым грандиозным из подобных европейских проектов было строительство Суэцкого канала. Мухаммед Али упорно отвергал все планы соединить Красное море со Средиземным, опасаясь, что Египет в таком случае снова попадет в поле зрения европейских держав и начнется новая волна вторжений и попыток захвата власти Западом. Саида-пашу, однако, идея постройки канала привела в восторг, и он с радостью предоставил концессию своему старому другу – французскому консулу Фердинанду де Лессепсу (1805–1894), убедившему его, что канал поможет Египту противостоять Англии и обойдется даром, поскольку строиться будет на французские деньги. Саида обвели вокруг пальца – подписанная 30 ноября 1854 г. концессия обернулась для Египта катастрофой. Ее пытались оспорить и султан, и лорд Пальмерстон со стороны Англии, но Лессепс не сдавал позиций. Он основал собственную компанию и предложил акции Соединенным Штатам, Британии, России, Австрии и Османской империи. Однако они остались невыкупленными, и их обеспечил паша – в дополнение к своим собственным средствам, вложенным в строительство. Работы начались в апреле 1859 г.
Почти все средства, рабочую силу и материалы (не считая предоставленных безвозмездно двух сотен квадратных миль египетской территории) обеспечивал Египет. После смерти Саида-паши в 1863 г. власть перешла к его племяннику Исмаилу (1830–1895), который также приветствовал строительство канала, однако передал концессию в арбитраж французского императора Наполеона III, надеясь выторговать более выгодные для Египта условия. В 1864 г. у компании было отозвано право на использование бесплатного труда египтян, и часть территории была возвращена Египту, но в качестве компенсации египетское правительство должно было возместить компании издержки в размере 84 млн франков (более 3 млн фунтов). Исмаил был вынужден принять условия, и строительные работы возобновились. По случаю открытия канала состоялись пышные празднества. Приезд и пребывание высоких гостей финансировались принимающей стороной, на сцене новой каирской оперы ставилась заказанная Джузеппе Верди к церемонии открытия опера «Аида», а для визита гостей к пирамидам была проложена отдельная дорога[276]. Целью такой расточительности было убедить международную общественность в финансовой состоятельности Египта и склонить к дальнейшим инвестициям. На самом же деле Египет находился на грани банкротства.
Строительство канала, несомненно, подорвало и без того хрупкую египетскую экономику, однако возлагать всю вину только на Исмаила было бы неправильно. Его правление снова показывает нам, какой неподъемной ценой давалась модернизация незападным странам. Исмаил хотел независимости, его задачей было освободить Египет от османского владычества. Несмотря на вполне модерные представления об автономии, он добился обратного – пагубной зависимости, а затем и подчинения власти Европы. В отличие от Мухаммеда Али, который как воин отстаивал свою свободу в бою, Исмаил пытался получить ее за деньги. 8 июня 1867 г. он купил у султана персидский титул хедива («вице-султана»), возвышающий его над другими османскими пашами. За эту привилегию он обязался выплачивать дополнительные 350 000 фунтов к ежегодной дани Стамбулу[277]. Прибавим к этому расходы по строительству канала; обвальное падение цен на хлопок, взлетевших ранее во время американской Войны между Севером и Югом; а также финансирование амбициозных проектов по модернизации, включавших прокладывание 900 миль железнодорожных путей, строительство 430 мостов и рытье 112 каналов для ирригации около 1 373 000 акров бесплодной ранее земли[278]. При хедиве Египет развивался быстрее, чем при любом из предыдущих правителей; кроме того, в планы хедива входило образование для обоих полов, научные и географические исследования. Каир стал современным городом с великолепными зданиями, широкими бульварами и парками отдыха. К сожалению, все это оказалось Исмаилу не по карману. Чтобы пополнить казну, он ввел систему быстрых займов и занимал огромные средства, большая часть которых оседала в карманах европейских брокеров, банкиров и предпринимателей, подстрекавших его к дальнейшим расходам. Хедив стал жертвой кредиторов, а случившийся в октябре 1875 г. обвал османских ценных бумаг на Лондонской бирже, потянувший за собой и египетские, добил его окончательно.
Суэцкий канал придал Египту совершенно новое стратегическое значение, поэтому допустить его полного краха европейские державы не могли. Защищая собственные интересы, Британия и Франция установили над Египтом финансовый контроль, который грозил перерасти в политический. Мухаммед Али был прав в своих опасениях, что канал поставит под удар независимость Египта. Европейские министры получали портфели в египетском правительстве, чтобы осуществлять надзор над финансовыми вопросами, а когда в апреле 1879 г. Исмаил освободил их от должности, ведущие державы Европы – Британия, Франция, Германия и Австрия – сообща надавили на султана, заставив его сместить хедива. Преемником Исмаила стал его сын Тауфик (1852–1892), молодой человек, полный благих идей, однако оказавшийся лишь марионеткой в руках европейских держав и поэтому не любимый ни армией, ни народом. Когда в 1881 г. египетский офицер Ахмед-бей Ораби (1840–1911) поднял восстание, требуя назначения египтян на более важные должности в армии и правительстве, и сумел захватить управление страной в свои руки, британцы, вмешавшись, установили в Египте военную оккупацию. Исмаил мечтал сделать Египет европейской страной, но вместо этого превратил его в европейскую колонию.
Мухаммед Али отличался жестокостью и безжалостностью, его преемники – наивностью, жадностью и недальновидностью. Однако справедливости ради нужно отметить, что они пытались совершить невыполнимое. Во-первых, цивилизация, которой они пытались подражать, представляла совершенно незнакомый им тип. Неудивительно, что эти люди, плохо знавшие Европу, не догадывались, что нескольких военных реформ и технологических нововведений будет недостаточно, чтобы сделать Египет «современной» страной. Для этого требовалась перестройка всего общества, создание независимой индустриальной экономики на прочном фундаменте и замена традиционного консервативного сознания новым менталитетом. Цена неудачи была велика, поскольку Европа к тому моменту уже стала достаточно могущественной. Европейским державам удалось заставить Египет вложиться в постройку Суэцкого канала, а потом оставить без единой акции. Во время так называемого Восточного кризиса (1875–1878) одна из великих держав (Россия) сумела проникнуть в самое сердце Османских владений, и остановить ее удалось лишь силами других европейских стран, не самих турок. Даже великая Порта, последний оплот мусульманской власти, оказалась не в состоянии справиться со своими провинциями. Это стало ясно со всей горькой очевидностью, когда в 1881 г. Франция оккупировала Тунис, а Британия в 1882-м – Египет. Европа захватывала исламские владения и начинала разрушать империю.
Во-вторых, даже не соверши египетские правители своих роковых ошибок, эти отстающие исламские страны не стали бы «современными» в европейском и американском понимании, поскольку модернизирующие процессы в незападных странах шли совершенно другим путем. В 1843 г. французский писатель Жерар де Нерваль, посетив Каир, с иронией подметил, что исламскому городу прививаются французские буржуазные ценности. Дворцы Мухаммеда Али строились как казармы, обставлялись мебелью красного дерева и украшались портретами, писанными маслом, сыновей паши в новехонькой военной форме. Дышащий восточной экзотикой Каир в глазах Нерваля «покрыт пылью и пеплом, поверженный в прах современным духом с его нуждами. Через 10 лет пыльный и унылый старый город прорежет сетка европейских улиц… Переливается огнями и тянется вширь Французский квартал – город англичан, мальтийцев и марсельских французов»[279].
Здания нового Каира, выстроенные Мухаммедом Али и Исмаилом, представляли собой архитектуру доминиона. Особенно это бросалось в глаза во времена британской оккупации, при виде пестрой мешанины, которую сочли бы невозможной в Европе, построенных в разных частях Каира посольств, банков, вилл и памятников разных стилей и эпох, отражающих вклад европейцев в эту ближневосточную страну. Как отмечает британский антрополог Микаэль Гилсенан, «Каиру не довелось пройти те стадии поступательного развития, которые Европа на пути к капитализму уже преодолела». Он не превращался в промышленный центр, не двигался целенаправленно от традиционного уклада к модерну и не обретал урбанистической общности: «Скорее, его превращали в зависимый местный центр, с помощью которого можно управлять и помыкать обществом. Его пространственные формы вырастали из отношений, строящихся на силе и мировом экономическом порядке, где ключевую роль в данном случае играла Британия»[280].
Весь опыт модернизации на Ближнем Востоке в корне отличался от западного: там – сила, автономия и инновации, здесь же – лишения, зависимость и хаотичное слепое подражание.
Для огромного большинства людей, не вовлеченных в процесс, этот опыт нес с собой отчуждение. Город «модерна», такой как Каир Мухаммеда Али, строился совсем по иным принципам, чем те, к которым привыкли жители египетских городов. Как свидетельствует Гилсенан, туристов, колонизаторов и путешественников восточные города часто повергали в смятение и даже в страх: безымянные непронумерованные улицы, петляющие закоулки, сплошная путаница и беспорядок. Западные гости терялись и не могли сориентироваться на местности. Точно такими же чуждыми оказались для большей части колонизированных народов Ближнего Востока и Северной Африки новые перестроенные на западный манер города, совершенно не отвечающие их инстинктивным представлениям о том, каким должно быть городское пространство. В результате они терялись на собственной территории. Зачастую эти чужеродные вестернизированные районы врезались как центральные деловые кварталы в «старый город», который по сравнению с ними казался темным, пугающим, не вписывающимся в рационально организованное пространство мира модерна[281]. Египтянам в таком случае приходилось обитать в двух мирах сразу: в западном модерном и в традиционном. Этот дуализм вел к жестокому кризису идентичности и, как и в других историях модернизации, к неожиданным религиозным порывам.
Иран пока оставался в стороне от модернизационных процессов, хотя с приходом Наполеона на Ближний Восток европейское вмешательство не обошло и эту страну. Наполеон намеревался с помощью российского императора вторгнуться в британскую Индию, поэтому в глазах европейских держав Иран обретал совершенно новое стратегическое значение. В 1801 г. Британия подписала соглашение со вторым шахом династии Каджаров Фетх Али-шахом (годы правления 1797–1834), обещая в обмен на сотрудничество обеспечить Иран британским военным оборудованием и технологиями. Иран тоже стал пешкой в игре европейских держав, которая продолжалась еще долгое время после падения Наполеона. Британия стремилась взять под контроль Персидский залив и юго-восточные районы Ирана, охраняя тем самым подступы к Индии, тогда как Россия пыталась закрепиться на севере. Ни та ни другая страна не планировали колонизацию Ирана, обе собирались сохранить его независимость, но в действительности шахи из боязни навлечь на себя гнев сильных держав пытались угодить и той и другой. Европейцы провозглашали себя проводниками прогресса и цивилизации, однако в действительности и Британия, и Россия продвигали только выгодные для себя достижения, препятствуя таким, которые, будучи благом для иранского народа, шли вразрез с их собственными стратегическими планами, – например, строительству железных дорог[282].
В начале XIX в. крон-принц Аббас, генерал-губернатор Азербайджана, видя потребность государства в современной армии, начал отправлять юношей учиться в Европу для приобретения необходимой подготовки. Однако в 1833 г. он умер, так и не взойдя на трон. После него каджарские шахи предпринимали лишь спорадические попытки модернизации. Ощущая собственную слабость и находясь под прикрытием Британии и России, шахи не видели необходимости создавать собственную армию, понимая, что европейцы в случае нужды обеспечат им защиту. Они не испытывали той острой потребности вооружаться, которая двигала Мухаммедом Али. Однако, справедливости ради, нужно отметить, что Ирану модернизация далась бы куда тяжелее, чем Египту. Огромные расстояния, труднопреодолимый рельеф, автономия кочевых племен – все это сильно затрудняло бы централизацию, делая ее практически неосуществимой без технологий XX в.[283]
Иран, можно сказать, попал между молотом и наковальней. От колонизации он получил только пагубную зависимость и никаких преимуществ в виде серьезных вложений. В первой половине XIX в. Британия и Россия установили в Иране так называемый режим капитуляций, также подорвавший суверенитет османских султанов. Капитуляции наделяли российских и британских торговцев на иранской территории особыми привилегиями, освобождая их от местной юрисдикции, а ввозимые товары от пошлин. Эти привилегии вызывали возмущение иранцев. Преференции позволяли европейцам творить на иранской земле все, что заблагорассудится, а консульские суды, в которых рассматривались жалобы, могли спустить на тормозах даже серьезное преступление. Капитуляции вредили местному производству, поскольку дешевые западные промышленные товары вытесняли изделия иранских ремесленников. Были категории товаров, производителям которых торговля с Западом пошла на пользу, – это хлопок, опиум и ковры, экспортировавшиеся в Европу. Однако из-за зараженного шелкопряда, ввезенного одной европейской фирмой, погибло шелковое производство; упали международные цены на серебро, на котором держалась иранская валюта; а в 1850-х по мере усиления своего экономического влияния в Иране европейские державы начали требовать предоставления им концессий для собственных частных нужд. Так, для улучшения связи между Англией и Индией в конце 1850-х британцы получили от Ирана концессию на постройку телеграфных линий. В 1847 г. британский подданный барон Юлиус фон Рейтер (1816–1899) добился монопольного права на строительство железных дорог, трамвайных путей и новых ирригационных сооружений в Иране, на всю добычу минеральных полезных ископаемых, управление национальным банком и ведение различных промышленных проектов. Эту концессию он получил при содействии первого министра мирзы Хусейн-хана, который, приветствуя реформы, видимо, счел шахов недостаточно компетентными для их проведения и решил отдать модернизацию на откуп британцам. Он просчитался. Обеспокоенные придворные и улемы, подстрекаемые женой шаха, выразили бурный протест против предоставленной Рейтеру концессии, и мирзе пришлось уйти в отставку. Тем не менее к концу XIX в. и Британия, и Россия имели в Иране весьма лакомые экономические льготы и концессии, в некоторых районах перераставшие даже в политический контроль. Торговцы, видевшие положительную сторону модернизации, но закономерно опасавшиеся усиливающегося иностранного влияния, начали кампанию против властей[284].
Их поддержали улемы, которые, в отличие от египетских, пользовались достаточным влиянием. Победа усулитов в конце XVIII в. дала муджтахидам в руки мощное оружие, поскольку, по существу, от их решений зависел даже шах. Каджары нуждались в их поддержке, поэтому о притеснении и маргинализации речь не шла. У улемов имелась прочная финансовая база; кроме того, они сосредоточивались в османской части Ирака, в священных городах Наджафе и Кербеле, вне досягаемости Каджаров. Королевская столица Ирана Тегеран не имела почти ничего общего с шиитским священным городом Кумом. Таким образом достигалось естественное и надежное разделение религии и политики. В отличие от Мухаммеда Али каджарские шахи не располагали современной армией и централизованным управленческим аппаратом, чтобы диктовать улемам свою волю в вопросах образования, юриспруденции и собственности (вакфа), остававшихся прерогативой духовных лидеров. Однако от политики те, храня верность шиитским традициям, в начале XIX в. по-прежнему держались в стороне. Шейх Муртаза Анзари, первым из муджтахидов получая статус единственного и верховного марджи ат-таклида («образца для подражания»), заместителя сокрытого имама, обошел другого, более сведущего кандидата, который по собственному почину «занимался людскими проблемами», консультируя по коммерческим и личным вопросам торговцев и паломников к святыням. Подразумевалось, что верховным судьей верных мусульман должен служить ученый-богослов, а не деловой человек[285].
Однако по мере расширения коммерческого влияния европейцев в Иране все больше торговцев и ремесленников обращалось за советом к улемам. Духовенство, торговцы и базарные кустари, так называемые bazaari, объединенные общими религиозными идеалами и зачастую кровным родством, были союзниками по природе своей. Во второй половине XIX в. улемы подвели под недовольство торговцев иностранным вторжением теоретическую базу: Иран, утверждали они, перестанет быть исламской страной, если шахи и впредь будут давать столько власти неверным.
Шахи попытались отмести эти протесты, апеллируя к религии народа – в первую очередь посредством ассоциаций с траурной церемонией по Хусейну. У них имелись собственные чтецы-роузеханы, ежедневно декламирующие сказание о кербельской трагедии; в Тегеране была построена королевская сцена для ежегодной мистерии (тазии) в память о гибели Хусейна, которая игралась на протяжении пяти вечеров в священный месяц Мухаррам на парадном дворе королевского дворца. В спектакле разыгрывалась битва между Хусейном и Язидом, гибель имама и его сыновей, а в ночь священного поста Ашуры – годовщину кербельской трагедии – устраивалась траурная процессия, с изображениями мучеников (включая их усыпальницы в натуральную величину) и детскими хорами, за которой шли следом простые люди, ударяя себя в грудь. В течение всего месяца Мухаррам все мечети завешивались черными тканями, а на площадях ставились будки для роузеханов, которые читали скорбный плач. К тому времени в стране уже существовали признанные роузеханы, состязавшиеся друг с другом в популярности.
Эти траурные церемонии стали основным институтом иранского самосознания при Каджарах. Помимо ассоциирования монархии с Хусейном и Кербелой и тем самым легитимизации Каджарской династии они служили чем-то вроде аварийного клапана, через который народ мог выпустить пар недовольства и несогласия. Его участие в церемониях не было пассивным – и чтения, и спектакли сопровождались его живым откликом. Как отмечал один французский наблюдатель, «все зрители откликаются слезами и горькими вздохами»[286]. Во время батальных сцен зрители рыдали и голосили, ударяя себя в грудь и обливаясь слезами. Если актеры выражали свое горе и страхи посредством текста, задача дополнить драматическую атмосферу бурным переживанием возлагалась – и возлагается – на зрителей. Они одновременно находились и на Кербельской равнине – символически, – и в собственном мире, оплакивая свои страдания и боль. Как объясняет американский ученый Уильям Биман, зрителей по сей день учат оплакивать собственные прегрешения и невзгоды, напоминая себе, что Хусейну приходилось еще хуже[287]. Таким образом происходило отождествление с кербельской трагедией, посредством этих драматических ритуалов она переносилась в настоящее, и исторические события обретали вневременной характер мифа. Самобичующиеся представляли жителей Куфы, бросивших Хусейна и тем самым опорочивших себя, в то же время олицетворяли и всех мусульман, не сумевших помочь имамам построить справедливое общество. Шииты устраивают Хусейну символическую погребальную церемонию взамен настоящей, которой он не удостоился, оплакивая его идеалы, ведь их так и не удалось претворить в жизнь. По сей день иранцы, по их словам, во время Мухаррама вспоминают вместе со страданиями Хусейна страдания своих родных и друзей. И благодаря этим переживаниям приближаются к осознанию проблемы добра и зла: почему хорошие страдают, а плохим достается все? Стеная, ударяя себя по лбу, сотрясаясь в рыданиях, участники мистерий разжигают в себе то самое стремление к справедливости, которое лежит в основе шиитской религии[288]. Чтения и мистерии ежегодно напоминают верующим о том, что в мире еще много зла, и укрепляют их веру в конечное торжество добра.
Народная вера, как мы видим, сильно отличалась от формального, рационалистичного шиизма муджтахидов. И, кроме того, обладала явным революционным потенциалом. С ее помощью легко было открывать народу глаза на недостатки общества и выявлять сходство между действующим правителем и Язидом. Однако при Каджарах, так же как и при Сефевидах, этот бунтарский элемент приглушался и на первый план выносились страдания Хусейна, рассматриваемые как искупительная жертва, плата за людские грехи. В XIX в. народный протест выражался не через тазию, отдушиной служили два развившихся в то время мессианских движения.
Во главе первого стоял каджарский князь Хадж Мухаммед Карим-хан Кирмани (1810–1871), кузен и приемный сын Фатха Али-шаха, отец которого управлял беспокойной провинцией Кирман. Именно там Карим-хан проникся радикальным мистическим учением шайхизма, вступив в секту, основанную шейхом Ахмадом аль-Ахсаи (1753–1826) из Кербелы. Тот находился под большим влиянием мистицизма муллы Садры и исфаханской школы, которую пытались подавить усулитские муллы. Ахсаи и его преемник Сайид Казим Решти (1759–1843) учили, что каждый из пророков и имамов в совершенстве отражал божественную волю, своей жизнью и примером постепенно приближая человечество к идеалу. Сокрытый имам скрывается не в этом мире, он перенесен в царство чистых архетипов (алам аль-митхаль), где через своих земных представителей, которые знают, как проникнуть в это мистическое пространство, продолжает вести людей к тому рубежу, за которым им уже не понадобятся законы шариата, поскольку вместо следования набору внешних правил они сделают волю божью своим внутренним устремлением и будут подчиняться ей напрямую. Разумеется, муджтахиды этого принять не могли. Ахсаи учил, что в мире всегда существовали «совершенные шииты» – люди редкой безупречности, способные связаться с сокрытым имамом путем интуитивно постигнутой практики созерцания. Подразумевалось, что вера муджтахидов, несовершенная, формальная и проникнутая буквализмом, не идет ни в какое сравнение с мистическими откровениями Ахсаи и его учеников[289].
Шайхизм, как его называли, пользовался большой популярностью в Ираке и Азербайджане, однако оставался скорее философией, концепцией, чем политической программой. И только Карим-хан, возглавивший движение после смерти Решти, превратил его в протест против муджтахидов. Он публично порицал их узкий формальный подход, бескрылый буквализм и отсутствие интереса к новым идеям. Мусульманин не должен считать единственной своей обязанностью таклид – подражание законникам. Толковать священный текст способен любой. Муджтахиды просто цедят по капле избитые истины, тогда как миру давно нужно что-то новое. Человечество постоянно меняется и развивается, каждый следующий пророк превосходит предыдущего. В каждом поколении совершенные шииты все глубже постигают эзотерическое значение Корана и шариата, погружаясь в их сокровенные тайны посредством постоянного откровения. Верные должны внимать этим мистическим наставникам, которые были назначены самим имамом, но чью власть захватили муджтахиды.
Карим-хан был убежден, что это поступательно развивающееся откровение вот-вот исполнится. Человек вскоре достигнет совершенства. Здесь определенно чувствовался отклик на те перемены, что несли Ирану европейцы. Карим-хан не был демократом, как и все премодернистские мыслители, он придерживался элитистских и абсолютистских взглядов, а раздраженный разнобоем в мнениях муджтахидов, стремился навязать людям свое мнение. И тем не менее Карим-хан одним из первых иранских религиозных лидеров приобщился к новым европейским идеям. Если улемы-ортодоксы попросту отвергали все коммерческие притязания русских и британцев, то Карим-хану хватило проницательности присмотреться к западной науке и секуляризму повнимательнее. В свободное время он изучал астрономию, оптику, химию и лингвистику, гордясь своими научными знаниями. В 1850–1860-х, когда мало кто из иранцев сталкивался с Европой напрямую, Карим-хан уже понимал, что западная культура представляет большую угрозу для иранской. Страна переживала переходный период, и Карим-хан видел, что отразить эту беспрецедентную угрозу помогут только свежие решения. Отсюда и эволюционная теология, допускавшая выход за стандартные рамки, и интуитивное ожидание неизбежных радикальных перемен.
Однако шайхизм все же брал начало в старом мире, где знание считалось привилегией избранных. Кроме того, натиск индустриализованного Запада придавал ему оборонительный характер. Карим-хан активно выступал против Дар-уль-Фунуна, первого светского тегеранского университета, основанного министром-реформатором Амир-Кабиром. Преподавательский штат набирался в основном из европейцев, которые с помощью переводчиков учили студентов естествознанию, высшей математике, иностранным языкам и современному военному делу. Карим-хан считал эти университеты частью заговора по расширению европейского влияния и уничтожению ислама. Вскоре, доказывал он, улемов заставят замолчать, мусульманских детей будут учить в христианских школах и иранцы превратятся в псевдоевропейцев. Предвидя грядущее отчуждение и аномию, он занимал непримиримую сепаратистскую позицию по отношению к надвигающейся европеизации. Его мистическую идеологию можно рассматривать как попытку открыть сознание иранцев для новых путей, однако, хорошо это или плохо, западное присутствие в Иране уже стало частью действительности, и реформы, не принимающие его во внимание, были обречены на провал. Когда пошли слухи, что Карим-хан собирается создать собственное религиозное правительство, его вызвали ко двору и 1,5 года держали под наблюдением. В 1850–1860-х он постепенно отошел от общественной жизни, научился хранить свое мнение при себе и умер поверженным и озлобившимся[290].
Второе мессианское движение также опиралось на дух традиции, однако готово было принять и некоторые западные ценности. Его основатель, Сайид Али Мухаммад (1819–1850), был участником шайхистского движения в Наджафе и Кербеле, но в 1844 г. провозгласил себя «вратами мессии» (Баб), которые улемы объявили затворившимися во времена сокрытия имама[291]. К его движению примыкали исфаханские, тегеранские и хорасанские улемы, знать и зажиточные торговцы. В Кербеле огромные толпы собирала его блестящая ученица Куррат аль-Айн (1814–1852), а его главные последователи мулла Садик (известный как Мукаддас) и Мирза Мухаммад Али Барфуруши (ум. 1849), получивший звание кудси (священного), проповедовали, по сути, новую религию: именем Баба созывали на молитву, молиться предполагалось обращаясь лицом к дому Баба в Ширазе. Совершив в 1844 г. хадж в Мекку, Баб, стоя перед Каабой, объявил себя воплощением сокрытого имама. Через 15 месяцев Баб, как Джозеф Смит в Америке, произвел на свет новое священное Писание, «Байан». Все старые священные тексты отменялись. Баб был провозглашен совершенным человеком своего времени, воплотившим в себе всех великих пророков прошлого. Человечество приближалось к совершенству, и старые верования уже не годились. Как и «Книга мормона», «Байан» призывал к новому, более справедливому социальному устройству и поддерживал буржуазные ценности эпохи модерна: производительный труд, свободу торговли, сокращение налогов, гарантии частной собственности, улучшение положения женщин. Кроме того, Баб усвоил истину XIX в., гласящую, что другого мира, кроме физического, у человека нет. Шииты привыкли сосредоточиваться на трагедиях прошлого и на мессианском будущем. Баб делал упор на «здесь и сейчас». Не будет никакого Страшного суда, не будет «иного мира». Рай нужно искать в земной жизни. Вместо того чтобы сложа руки ожидать искупления, внушал Баб иранским шиитам, нужно строить лучшее общество на земле и искать спасения при жизни[292].
Во многих аспектах бабизм напоминал учение Шабтая Цви. Сам Баб вызывал такой же ажиотаж, как в свое время Шабтай. Когда власти арестовали его, перевозка из одного места заключения в другое превратилась в торжественную процессию, поскольку за ним следовали огромные толпы народа. Тюрьмы, в которых он содержался, становились местами паломничества. Даже за решеткой, откуда он писал желчные письма Мухаммед-шаху, каджарскому «узурпатору», ему разрешалось устраивать большие собрания своих последователей. В последнем пристанище Баба, замке Чехрик близ Урмийи, зал не вмещал всех собравшихся, поэтому толпы слушателей выстраивались на улице. В общественных банях, когда их посещал заключенный, его преданные поклонники покупали воду, в которой он омывался. Летом 1848-го его привезли на суд в Тебризе, где его появление вызвало большой ажиотаж – в зал суда он вошел с триумфом, провожаемый восторженными толпами. Во время слушаний поклонники дожидались за порогом, предвкушая, как Баб сокрушит всех врагов и начнется новая эра справедливости, процветания и мира. Однако, как и в случае с Шабтаем, развязка получилась трагической. Бабу не удалось продемонстрировать превосходство над судьями – наоборот, он имел весьма бледный вид, поскольку обнаружил большие пробелы в знании арабского, теологии и фальсафы, в новых науках он также разбирался слабо[293]. Как может такой человек быть имамом, кладезем священного знания (ильма)? Суд отправил Баба обратно в тюрьму, серьезно недооценивая его опасность для властей, поскольку к этому времени бабизм требовал не только реформ в морально-этической и религиозной сферах, но и смены существующего социально-политического строя.
Подобно саббатианству, охватывающему все социальные слои, Баб сумел привлечь массы своим мессианством, философствующих и эзотериков – мистической идеологией, а революционеров с более светскими убеждениями – социальными доктринами. Иранцы, как и иудеи в свое время, чувствовали, что старый порядок уходит и традиционные постулаты больше не действуют. В июне 1848 г. бабидские лидеры провели массовое собрание в Хорасане, где официально отменили Коран, а шариат оставили временно – пока Баб не получит мирового признания. До тех пор верные должны следовать велению собственной совести и учиться сами отличать добро от зла, не оглядываясь на улемов. Законы шариата при необходимости можно нарушить. Проповедница Куррат аль-Айн в знак того, что с подчиненным положением женщины покончено и старая мусульманская эпоха отжила свое, сняла чадру. Все «нечистое» отныне провозглашалось «чистым». Истина не может открыться сразу, в один момент. Заветы Господа будут передаваться массам постепенно, через избранных. Как и Шабтай, бабиды стремились к новому религиозному плюрализму – при новом порядке все ранее явленные религии станут едины[294].
Многие бабиды, пришедшие на собрание в Хорасане, ужаснувшись такому радикализму, бежали в страхе. Другие верные мусульмане набросились на еретиков, и собрание закончилось потасовкой. Однако работа предводителей движения только начиналась. Они поодиночке вернулись в Мазендеран, где бабидский лидер мулла Хусейн Бушруи (ум. 1849) выступил перед двумя сотнями собравшихся с пламенной речью: бабиды должны отказаться от земных сокровищ и строить свою жизнь по образу имама Хусейна. Только мученичеством они приблизят Новый День, когда Баб возвысит униженных и одарит богатством бедных. Не пройдет и года, как Баб завоюет мир и соединит все религии в одну. Бушруи проявил себя блестящим полководцем – его маленькая армия обратила в бегство королевские войска, «будто стадо овец, спасающихся от волков», как свидетельствуют дворцовые анналы. Бабиды зверствовали, мародерствовали, жгли и убивали. Верующие внушали себе, что участвуют в битве, более важной, чем Кербельская, но самые лучшие партизаны получались из бедняков, присоединившихся по более прозаическим причинам. Впервые за все время с ними считались, обращаясь если не как с равными, то хотя бы как с ценными соратниками.
В конце концов восстание было подавлено властями, однако в 1850 г. вспыхнули новые беспорядки в Язде, Найризе, Тегеране и Зенджане. Бабиды лютовали не на шутку. К ним примкнули политические диссиденты и учащиеся местных университетов. Женщины, облачившиеся в мужскую одежду, доблестно сражались в боях. Движение объединило всех, кого не устраивал существующий строй: мулл, притесняемых заносчивыми муджтахидами; торговцев, негодующих по поводу продажи иранских ресурсов иностранцам; bazaari, землевладельцев и крестьянскую бедноту. Все встали плечом к плечу с религиозными бабидами. Шиизм долго взращивал в иранцах стремление к социальной справедливости, и когда наконец появился подходящий предводитель с философией, отвечавшей их чаяниям, все недовольные сплотили ряды под религиозным знаменем[295].
На этот раз правительству удалось усмирить повстанцев. Баба казнили 9 июля 1850 г., остальные руководители тоже были казнены, подозреваемые схвачены и преданы смерти. Некоторые бабиды бежали в османский Ирак, и там в 1863 г. движение раскололось. Политическим целям восстания остались верны последователи Мирзы Яхья Сабх-и-Азаля (1830–1912), назначенного преемником Баба. Впоследствии многие из этих «азалитов» отказались от бабидского мистицизма и стали секуляристами или националистами. Как и в саббатианстве, ниспровержение табу, нарушение прежних законов и бунтарский дух помогли им отказаться от религии вовсе. Мессианское движение снова послужило мостиком к секуляризму. Однако большинство оставшихся в живых бабидов последовало за братом Сабх-и-Азаля, мирзой Хусейном Али Нури Бахауллой (1817–1892), который отказался от политики и создал новую религию – бахаизм, впитавшую современные западные идеалы равноправия, плюрализма, толерантности, разделения религии и политики[296].
Бабидское восстание можно считать одной из величайших революций Нового времени. В Иране оно заложило основу для подражания. В XX в. духовным и светским лидерам, секуляристам и мистикам, верующим и атеистам еще не раз придется плечом к плечу выступать против диктатуры иранских властей. Битва за справедливость, которая стала святой для шиитов, будет вдохновлять последующие поколения иранцев на противостояние войскам шаха в борьбе за лучшую жизнь. По крайней мере дважды шиитская идеология позволит иранцам основать у себя в стране современные политические институты. Бабидская революция в очередной раз продемонстрировала, что религия может примирить человека с идеалами модерна, переводя их с инородного языка на близкий и понятный, на язык мифа и их собственной духовности. Если даже у западных христиан модерн вызывал отторжение и принимался с трудом, что уж говорить об иудеях и мусульманах.
Внедрение модерна требовало усилий, борьбы – в исламской терминологии «джихада», который со временем мог перерасти в священную войну.
Часть вторая Фундаментализм
5. Линии фронта (1870–1900)
К концу XIX в. стало ясно, что созревшее на Западе новое общество не является, вопреки чаяниям некоторых, универсальной панацеей. Оптимизм, питавший философию Гегеля, сменился тревогой и сомнениями. С одной стороны, Европа непрестанно развивалась и крепла, вселяя уверенность и пьянящее ощущение превосходства, поскольку промышленная революция наделила некоторые государства невиданными доселе властью и благополучием. Однако, с другой стороны, в равной степени чувствовались и обособленность, тоска и меланхолия, выраженные Шарлем Бодлером в «Цветах зла» (1857), мучительные сомнения, высказанные Альфредом Теннисоном в In Memoriam (1850), губительное безразличие и неудовлетворенность флоберовской мадам Бовари (1856). Людей терзал смутный страх. С этих пор, наслаждаясь достижениями современного общества, люди в то же время станут чувствовать пустоту, вакуум, лишающий жизнь смысла, многим в этом сложном и запутанном мире модерна будет недоставать уверенности, некоторые начнут проецировать свои страхи на воображаемых врагов и подозревать вселенский заговор.
Все эти признаки будут наблюдаться в фундаменталистских движениях, развившихся параллельно с культурой модерна во всех трех монотеистических религиях. Людям необходимо сознавать, что, несмотря на все обескураживающие доказательства обратного, в жизни есть конечный смысл и ценность. В прежнем мире ощущение священной значимости жизни, спасавшее от бездны, давали мифология и обряды, а также великие произведения искусства. Однако научный рационализм, источник западного могущества и процветания, дискредитировал миф и провозгласил свое монопольное право на истину. При этом он не мог ответить на вечные вопросы, которые всегда оставались вне компетенции логоса. В результате все большее количество людей Запада оставалось без традиционной веры.
Австрийский психолог Зигмунд Фрейд (1856–1939) придет к выводу, что для человека влечение к смерти служит не менее сильным мотиватором, чем эрос и продолжение рода. Современная культура все больше проникалась очевидно извращенной энергией – тягой к самоуничтожению, будто одновременно загипнотизированная страхом перед ним. Люди отшатывались в ужасе от созданной ими цивилизации, не переставая пользоваться ее несомненными благами. Благодаря современной науке на Западе увеличилась продолжительность жизни, улучшилось здравоохранение; демократические институты обеспечивали относительное равенство. Американцы и европейцы по праву гордились своими достижениями. Однако мечта о всеобщем братстве, вдохновлявшая мыслителей эпохи Просвещения, оказалась утопией. Франко-прусская война (1870–1871) выявила устрашающую мощь современного оружия, и люди постепенно начали осознавать, что наука может нести и зло. Разочарование усиливалось[297]. В эпоху революций начала XIX в. казалось, что до светлого будущего уже рукой подать. Однако эти надежды так и не сбылись. Промышленная революция породила новые проблемы, новую несправедливость и новые способы эксплуатации. Диккенс в «Тяжелых временах» (1854) изобразил промышленный город адом, показав, что современный прагматичный рационализм разрушает мораль и личность. Новые мегаполисы порождали невероятную двойственность. Поэты эпохи романтизма, проклиная «темные фабрики сатаны»[298], бежали от городской жизни, томимые тоской по чистой сельской идиллии. Британский критик Джордж Стейнер обращает внимание на любопытное направление в живописи, развивающееся в 1830-х, которое можно считать «антимечтой модерна». Современные города – Лондон, Париж, Берлин, воплощавшие великие достижения Запада, – изображались в руинах, погибшими от какой-то невероятной катастрофы[299]. Люди начинали вынашивать мечты о разрушении цивилизации и предпринимали практические действия для их воплощения.
После франко-прусской войны европейские государства начали лихорадочную гонку вооружений, которая неизбежно подталкивала их к Первой мировой. Война стала рассматриваться как дарвиновская борьба за выживание, в которой победит сильнейший. У современной страны должна быть самая большая армия и самое смертоносное оружие, на которое только способна наука. Европейцы мечтали о войне как о катарсисе, который очистит душу народа. По подсчетам британского писателя И. Ф. Кларка, с 1871-го по 1914-й ни один год не обошелся без публикации в какой-нибудь европейской стране литературного произведения, описывающего грядущую страшную войну[300]. «Следующая великая война» представлялась ужасным, но неизбежным испытанием: из руин и пепла народ должен был возродиться к новой, лучшей жизни. Однако в самом конце XIX в. британский писатель Г. Уэллс в своей «Войне миров» (1898) показал, куда ведут подобные утопические мечты, изобразив опустошенный биологической войной Лондон и заполненные беженцами дороги Англии. Он хорошо представлял себе опасность перетягивания военных технологий в сферу компетенции точных наук. И не ошибся. Гонка вооружений привела к битве на Сомме, а когда в 1914 г. разразилась Первая мировая, европейские народы, 40 лет мечтавшие о войне, которая положит конец всем войнам, с энтузиазмом ввязались в потасовку, грозившую обернуться массовым самоубийством. Несмотря на все достижения Нового времени, людьми владело нигилистическое влечение к смерти, и европейские народы вынашивали патологическую мечту о самоуничтожении.
В Америке некоторые из наиболее традиционалистски настроенных протестантов испытывали похожие настроения, однако у них этот кошмарный сценарий принимал религиозные формы. Соединенным Штатам также пришлось пережить внутренний конфликт и последующее разочарование. Гражданская война между Севером и Югом (1861–1865) вызывала у американцев апокалиптические ассоциации. Северяне полагали, что конфликт послужит очищению нации: солдаты распевали «Боевой гимн Республики» – «как во славе сам Господь явился нам»[301], проповедники толковали о грядущем Армагеддоне, где сойдутся в битве свет и тьма, свобода и рабство. Они готовились к приходу Нового человека и Нового царствия, которые, пройдя горнило испытаний, восстанут из пепла, подобно фениксу[302]. Однако и в Америке дивного нового мира ждали напрасно. Война окончилась разрушением целых городов, расколом в семьях, яростной реакцией белых южан. Вместо утопии северным штатам предстоял стремительный и нелегкий переход от аграрного общества к индустриальному. Строились новые города, старые росли как на дрожжах. Из Южной и Восточной Европы в страну повалили орды эмигрантов. Капиталисты сколачивали огромные состояния на железе, нефти и стали, в то время как рабочие мучились в нечеловеческих условиях. На предприятиях эксплуатировался труд женщин и детей – к 1890 г. работать приходилось каждому пятому ребенку. Условия были суровыми, рабочий день длинным, а оборудование – небезопасным. Кроме того, ширилась пропасть между городом и сельской местностью, поскольку огромные территории Соединенных Штатов, особенно на юге, оставались аграрными. Если под процветающей Европой разверзалась бездна, то Америка лишалась самой своей внутренней сути[303].
Светский жанр описаний «грядущей войны», завораживавший европейцев, более религиозных американцев не вдохновлял. Вместо этого у некоторых разгорался интерес к эсхатологии, мечтам о решающей битве Господа с Сатаной, которая положит заслуженный конец окружающему злу. Новые апокалиптические представления, зародившиеся в Америке в конце XIX в., получили название премилленаризма, поскольку рисовали возвращение Иисуса до установления своего тысячелетнего царства. (Согласно более давнему и оптимистичному постмилленаризму эпохи Просвещения, по-прежнему культивируемому либеральными протестантами, человечество должно было установить Царствие Божие собственными силами – Иисус в таком случае вернулся бы к людям уже после наступления этого Царствия). Проповедником премилленаризма в Америке стал англичанин Джон Нельсон Дарби (1800–1882), который у себя на родине последователей практически не имел, однако в Америке с 1859 по 1877 г. выступал шесть раз с огромным успехом. Мир, утверждал он, не видя в окружающей действительности ничего хорошего, катится в пропасть. Вместо того чтобы стать более добродетельным, как надеялись мыслители Просвещения, человечество погружалось в такую бездну разврата, что Господу в скором времени придется вмешаться и сокрушить нечестивцев, обрекая человеческий род на неслыханные муки. Однако из этого горнила испытаний верные христиане выйдут победителями и восславят окончательное торжество Христа и наступление Царствия Божия[304].
Дарби не искал мистического смысла в Библии, считая ее источником, содержащим фактическую истину. Пророки и автор Откровения не думали изъясняться метафорами, они давали точные прогнозы, которые в скором времени сбудутся в точном соответствии со сказанным. Древние мифы обретали характер фактических логизмов, единственной формы истины, понятной западным людям эпохи модерна. После тщательного изучения Библии Дарби разбил всю историю спасения на семь периодов, или «диспенсаций». Каждая диспенсация, объяснял он, завершалась тем, что человечество, погрязнув в грехах, вынуждало Господа прибегнуть к наказанию. Завершением предыдущих диспенсаций служили такие катастрофы, как грехопадение, Потоп, распятие Христа. Сейчас человечество проживает шестую, предпоследнюю диспенсацию, которую Господь вскоре закончит беспрецедентно жестокой карой. Лжеспаситель, Антихрист, чье пришествие перед концом света было предсказано апостолом Павлом[305], заманит человечество в свои сети, а затем устроит время скорбей. Семь лет Антихрист будет вести войну, истребит несметное число людей, уничтожит всех противников, но в конце концов Христос явится на землю, победит Антихриста, вступит в решающую битву с Сатаной и силами зла на Армагеддонской равнине близ Иерусалима, и начнется седьмая диспенсация. После тысячелетнего царства Христа история человечества завершится Страшным судом. Так выглядела религиозная версия европейских фантазий на тему грядущей войны. Подлинный прогресс в ней оказывался неотделимым от конфликта и почти полного уничтожения. Несмотря на мечты о божественном искуплении и тысячелетнем рае, она оставалась нигилистическим выражением модернистского влечения к смерти. Христиане в навязчивых подробностях рисовали себе гибель общества модерна, испытывая к ней болезненное стремление.
Однако имелось одно существенное различие. Если в воображении европейцев через горнило грядущей великой войны должны были пройти все без исключения, у Дарби избранным предлагался способ ее избежать. На основании слов, выхваченных из Первого послания к фессалоникийцам апостола Павла, который писал, что мы, христиане, живущие во времена Второго Пришествия, «восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем»[306], Дарби утверждал, что страстям будет предшествовать вознесение прошедших через «второе рождение» христиан и они, попав на небеса, избегнут ужасных страданий конца света. Вознесение премилленаристы представляли в конкретных буквальных подробностях: самолеты, автомобили и поезда внезапно потеряют управление, поскольку прошедшие через «второе рождение» водители, машинисты и пилоты вознесутся на небеса. Рынок ценных бумаг рухнет, правительства падут. Оставшиеся на земле осознают, что обречены и что с самого начала правы были истинно верующие. К страстям, которые этим несчастным придется пережить, добавится осознание того, что их ждут вечные муки в аду. Премилленаризм был фантазией жаждущих мести. Избранные воображали, как будут наблюдать свысока за страданиями тех, кто глумился над их верой, игнорировал, высмеивал и унижал верующих, а теперь с запозданием осознают свое заблуждение. Среди современных протестантских фундаменталистов популярностью пользуется картина, изображающая мужчину, который стрижет газон и с изумлением смотрит на окна верхнего этажа, из которых возносится на небеса его супруга. Как и многие буквалистские изображения мистических событий, эта сцена выглядит абсурдной, но действительность, которую она рисует, не становится от этого менее жестокой, трагичной и сеющей рознь.
Как ни странно, у премилленаризма оказалось больше общего с презираемыми им светскими философскими учениями, чем с подлинно религиозной мифологией. И Гегель, и Маркс, и Дарвин считали, что в основе развития лежит борьба противоположностей. Маркс также делил историю на периоды, и завершалась она утопией. В геологии, обнаружившей в отложениях и окаменелостях следы сменяющих друг друга эпох развития Земли, тоже имелись теории о катастрофическом завершении каждой эпохи. При всей кажущейся абсурдности премилленаристской картины мира она вполне созвучна научной мысли XIX в., своим буквализмом и демократичностью соответствуя духу модерна. В ней не было скрытых или символических смыслов, понятных лишь избранным мистикам. Любой христианин, обладая лишь рудиментарными начатками образования, мог открыть общедоступную библейскую истину. Писание нужно понимать буквально, тысячелетие – это десять веков, 485 лет – это именно столько; под «Израилем» пророки понимают не церковь, но еврейский народ; если автор «Откровения» предрекает битву между Иисусом и Сатаной на Армагеддонской равнине близ Иерусалима, значит, именно там она и произойдет[307]. Выход в свет в 1909 г. Учебной Библии Скофилда, моментально ставшей бестселлером, еще больше упростил премилленаристское прочтение Библии для обычного христианина. Сайрус Скофилд объяснял диспенсационный подход к истории спасения в подробных примечаниях к библейскому тексту, которые для многих фундаменталистов стали, пожалуй, не менее авторитетными, чем сам текст.
Премилленаризм воплощает ту самую жажду уверенности, возникающую как реакция на модерн, который осмотрительно оставляет вопросы открытыми и отрицает существование абсолютной истины. Американские протестанты издавна питали неприязнь к экспертам, обладавшим, как считалось, монополией на понимание принципов существования современного общества. К концу XIX в. все реалии перестали соответствовать сложившимся о них представлениям. Американскую экономику шатало во все стороны, приводя в замешательство привыкших к размеренности аграрного быта. Взлеты сменялись спадами, в одночасье рушившими огромные состояния, обществом правили таинственные, невидимые «рыночные силы». Социологи также утверждали, что человеческой жизнью движут экономические принципы, которые неподготовленный ум не в силах распознать. Дарвинисты учили, что в основе существования лежит биологическая борьба, невидимая невооруженным глазом. Психологи говорили о власти бессознательного. Представители «высшего критицизма» внушали, что и в Библии все не так, как представляется, и что простой на первый взгляд текст на самом деле составлен из разных источников и написан людьми, о которых никто никогда не слышал. Многие протестанты, у которых от этой сложной и запутанной действительности голова шла кругом, надеялись обрести в вере опору. Им нужна была вера, изъясняющаяся простым языком, понятным каждому.
Однако, поскольку к концу XIX в. главными лозунгами стали наука и рационализм, религии – чтобы ее принимали всерьез – тоже приходилось рационализироваться. Часть протестантов твердо намеревалась придать своей вере логичность и научную убедительность. Она должна была обрести ясность, доказуемость и объективность, присущие любому логосу. Однако для тех, кто жаждал твердой опоры, современная наука в своих основах оказывалась слишком зыбкой. Открытия Дарвина и Фрейда основывались на неподтвержденных гипотезах, которые протестантам более традиционного толка казались «ненаучными». Поэтому они обращались к ранним научным взглядам Фрэнсиса Бэкона, не игравшего с подобными догадками. Бэкон считал, что собственным чувствам мы можем доверять безоговорочно, поскольку лишь они способны снабжать нас достоверной информацией. Он был убежден, что мир создан всеведущим Господом по рациональным принципам и задача науки не в том, чтобы строить произвольные домыслы, а в том, чтобы каталогизировать явления и организовывать свои открытия в теории, основанные на всем очевидных фактах. Кроме того, протестантов привлекала философия шотландского Просвещения XVIII в., в противовес субъективистской эпистемологии Канта утверждавшая, что истина объективна и доступна любому честному носителю «здравого смысла»[308].
За этой тягой к точности крылось стремление заполнить пустоту, зиявшую в глубине опыта модерна, дыру на месте Бога, вырванного из сознания абсолютных рационалистов. Американский протестант Артур Пирсон попытался объяснить Библию «с совершенно беспристрастной научной точки зрения». Само заглавие его книги – «Множество неопровержимых доказательств» (1895) – показывает, какой достоверности он добивался от религии: «Приемлемая для меня библейская теология – не та, что начинается с гипотезы, затем подгоняет факты и философию под наши догмы. Я предпочитаю бэконианский подход, когда сперва собираются учения Слова Божия, а затем выводится некий общий закон, на основе которого можно выстроить факты»[309]. Вполне понятное желание, однако библейские мифологемы никогда не претендовали на фактологичность, которая требовалась Пирсону. С языка мифов не получается адекватного, без потери смысла, перевода на язык рационализма. В нем, как в поэзии, много ускользающих смыслов, которые трудно выразить по-другому. Теология, пытающаяся обернуться наукой, порождала лишь карикатуру на рациональный дискурс, поскольку ее истины не подлежат научному доказательству[310]. Этот поддельный религиозный логос неизбежно вел к еще большей дискредитации религии.
Бастионом такого научного протестантизма стала семинария пресвитерианцев-«новосветников» в Принстоне, Нью-Джерси[311]. Термин «бастион» здесь как нельзя кстати, поскольку апологеты борьбы за рациональное христианство активно пользовались военной терминологией. В 1873 г. Чарльз Ходж, заведующий кафедрой теологии в Принстоне, опубликовал первый том своего двухтомника под названием «Систематическая теология». Заглавие отражало претензию на научный подход. Задача теолога, утверждал Ходж, не в том, чтобы искать скрытый за словами смысл, а в том, чтобы выстроить ясные указания священного текста в систему общих истин. Каждое слово в Библии богодухновенно и должно приниматься за чистую монету, не следует искажать текст аллегорическими и символическими толкованиями. Сын Чарльза Арчибальд Ходж, сменивший отца на посту заведующего кафедрой в 1878 г., опубликовал в соавторстве со своим молодым коллегой Бенджамином Уорфилдом в «Принстонском обозрении» статью в защиту буквалистского понимания библейской истины. Статья стала классикой. Все библейские события и утверждения «абсолютно неопровержимы и требуют безоговорочной веры и подчинения». Все, что говорится в Библии, – «доподлинный факт». Если в Библии сказано, что она богодухновенна, значит, так оно и есть[312] – закольцованное доказательство, мало имеющее отношения к науке. Подобный подход не отличался рациональной объективностью, не принимал альтернативы и мог считаться стройным лишь в собственных рамках. Попытка положиться только на разум соответствовала духу модерна, однако утверждения принстонцев шли вразрез с фактами. «Христианство привлекает правильностью доводов, – заявлял Уорфилд в более поздней статье. – Только благодаря аргументации оно так далеко продвинулось на пути к вершине. И только благодаря аргументации оно сокрушит всех врагов»[313]. Однако даже беглого взгляда на историю христианства достаточно, чтобы понять: как и в любой премодернистской религии, аргументация и разум появлялись в христианстве лишь в мистическом контексте. Христианство опиралось скорее на мистицизм, интуицию и литургию, чем на «правильность доводов», которая к тому же никогда не выступала единственной причиной его притягательности. Нарисованная Уорфилдом воинственная картина, в которой разум сокрушает всех врагов веры, скорее всего, отражает внутреннюю неуверенность. Если постулаты христианства действительно настолько очевидны и не требует доказательств, почему столько людей отказываются их принимать?
Принстонская теология отдавала безысходностью. «Религии приходится бороться за жизнь с учеными самого разного толка», – заявлял в 1874 г. Чарльз Ходж[314]. Христиане, претендовавшие на научную позицию, чувствовали себя неуютно, когда теории ученых-натуралистов опровергали буквалистски понятые утверждения Библии. Именно поэтому Ходж написал «Что такое дарвинизм?» (1874) – первый в череде последующих религиозный выпад против эволюционной теории. Для бэконианца Ходжа дарвинизм просто хромал в научном отношении. Тщательно изучив «Происхождение видов», он не мог всерьез воспринимать предположение, что весь сложный окружающий нас мир получился случайно, без вмешательства Творца. Тем самым теолог обнаруживал косность зарождающегося протестантского фундаментализма: Ходж попросту не мог вообразить жизнеспособность каких-то других убеждений, отличных от его собственных. «В обычном сознании, – писал он, – не укладывается, что глаз не есть результат творения»[315]. Человеку вменялось в обязанность противостоять «всем сенсационным теориям и гипотезам» (вроде дарвиновской), «идущим вразрез с устоявшимися истинами». Это было воззвание к «здравому смыслу» – Господь наделил человека «безупречными интуитивными знаниями», и если Дарвин решил их оспорить, то его гипотеза несостоятельна и должна быть отвергнута[316]. Научное христианство, развивающееся в Принстоне, оказалось в затруднительном положении. Хожд пытался в старой традиционалистской манере наложить на разум ограничения, отказывая ему в праве на свободный поиск, характерный для эпохи модерна. Однако, сводя все мистические истины к уровню логоса, он противоречил и духовности, присущей прежнему миру. В итоге его теология хромала и в научном, и в религиозном плане.
Принстонский подход нельзя назвать типичным. Если Чарльз и Арчибальд Ходжи Уорфилд правильным убеждением считали только веру и делали основной упор на богословскую ортодоксию, другие протестанты, например ветеран аболиционистского движения Генри Уорд Бичер (1813–1887), придерживались более либеральных взглядов[317]. Догматы, по мнению Бичера, имели второстепенное значение, а наказывать других за религиозные представления, отличные от собственных, не по-христиански, считал он. Либералы не отгораживались от таких научных течений модерна, как дарвинизм и «высший критицизм». Для Бичера Господь не был некой отдельной далекой реальностью, Он присутствовал в естественных процессах здесь, на Земле, поэтому эволюцию можно было рассматривать как свидетельство неустанной заботы Создателя о своем творении. Выражение христианской любви было для Бичера куда важнее, чем буква доктрины. Либеральные протестанты отстаивали необходимость благотворительной деятельности в городских трущобах, убежденные, что своей целеустремленной филантропией поспособствуют установлению Царствия Божия справедливости на этом свете. Эта оптимистическая теология импонировала зажиточному среднему классу, которому положение позволяло наслаждаться благами модерна. К 1880-м эта Новая теология уже преподавалась во многих крупнейших протестантских школах северных штатов. Богословы – например, Джон Бескон в «Эволюции и религии» (1897) и Джон Фиске в книге «Через природу к Богу» (1899) – выражали убеждение, что науке и религии ни к чему враждовать. И та и другая обращаются к божественному, имманентно присутствующему в окружающем мире; в каждом биении сердца Вселенной ощущается присутствие Господа. Духовные представления человечества развивались на протяжении всей его истории, и теперь оно стоит на пороге нового мира, в котором людям предстоит осознать, что между так называемым «сверхъестественным» и мирским различия нет. Осознав свое глубинное родство с Богом, они будут жить в мире друг с другом.
Как и все милленаристские теории, эта либеральная теология была обречена на провал. Вместо того чтобы достичь согласия, американские протестанты обнаруживали все больше глубинных разногласий, которые грозили расколоть деноминации. Главным камнем преткновения в конце XIX в. оказалась не эволюция, а движение «высшего критицизма». Либералы считали, что пусть даже новые теории о Библии рушат какие-то старые представления, в конечном итоге они приведут к более глубокому пониманию священного текста. Однако для традиционалистов «высший критицизм» был кошмаром. Он символизировал все самое неприемлемое в индустриальном обществе модерна, все то, что выбивало старые привычные опоры картины мира. К этому времени популяризаторы уже успели донести свои идеи до широких масс, и христиане, к своему глубочайшему замешательству, выяснили, что Пятикнижие написано не Моисеем, авторство псалмов не принадлежит Царю Давиду, непорочное зачатие Христа – это лишь фигура речи, а десять казней египетских – это, скорее всего, природные катаклизмы, впоследствии истолкованные как чудеса[318]. В 1888 г. британская писательница миссис Хамфри Уорд (1851–1920) выпустила роман «Роберт Элсмер», повествующий о молодом священнике, чью веру настолько подорвал «высший критицизм», что он оставил сан и посвятил жизнь благотворительной работе в лондонском Ист-Энде. Книга быстро набрала популярность, что означало – душевные терзания героя знакомы многим. Как говорила жена Роберта: «Если Евангелие не соответствует исторической истине, я не понимаю, как оно может быть истинным в принципе и какой в нем толк»[319].
Рационалистический уклон мира модерна мешал многим западным христианам осознать роль и значение мифа. Вере надлежало стать рационалистической, миф должен был превратиться в логос. Под истиной понималась лишь истина научная и основанная на фактах. Ощущался сильный страх, что новые библейские теории подорвут устои христианства и ничего не останется. Бездна снова замаячила в опасной близости. «Если не иметь твердых устоев, – утверждал священник американской методистской церкви Александр Макалистер, – можно с таким же успехом не иметь их вовсе»[320]. Отнеситесь скептически к одному чуду, и логика потребует отрицать и остальные. «Если Иона на самом деле не провел три дня в чреве кита, мог ли Иисус воскреснуть из мертвых?» – спрашивал лютеранский пастор Джеймс Ременснайдер[321]. Если разбирать библейскую истину по косточкам, вслед за ней рассыплются и все истинные ценности. По мнению методистского проповедника Леандра Митчелла, именно «высший критицизм» следовало винить в распространении пьянства, безбожия и агностицизма[322]. Пресвитерианец М. Б. Ламбдин видел в нем причину растущего числа разводов, взяточничества, коррупции, преступлений, убийств[323].
«Высший критицизм» уже не подлежал рациональному обсуждению, поскольку пробуждал глубинные страхи. Когда либеральному пресвитерианцу Чарльзу Бриггсу пришлось в 1891 г. по обвинению в ереси предстать перед судом Нью-Йоркской пресвитерии за открытое выступление в защиту «высшего критицизма», новость освещалась на первой полосе The New York Times. Оправдательный приговор New York Tribune» провозгласила победой «высшего критицизма», однако затем генеральная ассамблея деноминации изменила вердикт, и Бриггса лишили сана. Суд проходил в накаленной обстановке, в результате разногласий деноминация раскололась надвое. Из 200 пресвитерианцев, опрошенных впоследствии, 90 выразили резкое неприятие взглядов Бриггса. И это только самый нашумевший из многочисленных процессов того времени по обвинению в ереси, по результатам которых одного либерала за другим изгоняли из деноминации.
К 1900 г. возмущение вроде бы поутихло. Идеи «высшего критицизма» обретали сторонников, либералы по-прежнему занимали высокие посты в большинстве деноминаций, а консерваторы потрясенно притихли. Однако тишина была обманчивой. Современники сознавали, что внутри почти каждой деноминации – пресвитерианской, методистской, баптистской, епископальной, «Учеников Христовых» – существовали две разные церкви, представляющие «старый» и «новый» взгляд на Библию[324].
Некоторые христиане уже начали собирать войска на предстоящую битву. В 1886 г. ревайвалист Дуайт Муди (1837–1899) основал Библейский институт Муди в Чикаго, чтобы бороться с «высшим критицизмом». Своей целью он ставил создание когорты «посредников», которые, работая как проводники идей между священниками и мирянами, будут бороться с ложными мнениями, поставившими, по его мнению, страну на грань катастрофы. Муди называют отцом американского фундаментализма, его Библейский институт, как и Принстон, станет бастионом консервативного христианства. Однако Муди куда меньше, чем отца и сына Ходжей и Уорфилда, интересовали догматы. Его концепция была простой и эмоциональной: грехи мира может искупить Христос. Основная задача Муди состояла в спасении душ, и он готов был объединиться с любыми христианами, независимо от убеждений, в деле спасения грешников. Он разделял взгляды либералов на социальные реформы – выпускники его института должны были отправляться миссионерами к беднякам. Однако при этом Муди был премилленаристом, убежденным в том, что современные ему безбожные идеологические концепции приведут к гибели мира. Жизнь не улучшается, как считают либералы, наоборот, она с каждым днем все хуже[325]. В 1886-м, в год основания Библейского института, произошла потрясшая страну трагедия на чикагской Хеймаркет-сквер. На демонстрации профсоюзов при столкновении демонстрантов с полицией от взрыва бомбы погибли семь полицейских и еще 70 человек получили ранения. Митинг на Хеймаркет, казалось, воплотил в себе все зло и опасность индустриального общества, и Муди рассуждал о нем исключительно в апокалиптических терминах. «Либо эти люди будут обращены в христианство, – пророчествовал он, – либо разгул коммунизма и безбожия, достигнув небывалого размаха, породит царство террора, которого наша страна еще не видела»[326].
Библейский институт станет основным оплотом фундаментализма. Подобно воложинской иешиве, он представлял собой анклав безопасности и святости в безбожном мире, готовящий кадры для будущего контрнаступления на общество модерна. По стопам Муди шли другие протестанты-традиционалисты, которые сыграют ведущие роли в зарождающемся фундаменталистском движении. В 1902 г. Уильям Белл Райли основал Нортвестернский библейский колледж, а в 1907-м нефтяной магнат Лайман Стюарт открыл Библейский институт в Лос-Анджелесе. Традиционалисты, чувствовавшие, что либералы обходят их в ведущих деноминациях, начинали крепить ряды. На исходе XIX в. были проведены первые библейские конференции по толкованию Священного Писания, на которых протестанты-традиционалисты, собравшись вместе, могли заниматься буквалистской интерпретацией Библии в духе «здравого смысла», отторгать выводы «высшего критицизма» и обсуждать свои премилленаристские концепции. Они вырабатывали собственную, особую идентичность, почувствовав на этих все более многолюдных собраниях свой потенциал как независимой силы.
Выработка особой идентичности была естественной реакцией на реалии модерна. Проходящие процесс индустриализации северные города оказались настоящим плавильным котлом. К 1890 г. четыре из пяти ньюйоркцев были либо недавними иммигрантами, либо детьми недавних иммигрантов[327]. Во времена Американской революции в Штатах преобладали приверженцы протестантизма. Теперь же белые англосаксонские протестанты, казалось, были сметены наплывом «папистов» – католиков. Как ни прискорбно, поиски особой идентичности часто неотделимы от террора по отношению к стереотипным «чужим», с которыми человек себя сравнивает. Реакцию на выбивающие из колеи модернизационные процессы по-прежнему будет сопровождать паранойяльный страх заговора, особенно заметный в фундаменталистских движениях, созданных иудеями, христианами и мусульманами, в каждом из которых выработается искаженный и зачастую фатальный образ врага, иногда представлявшегося как сатанинское зло. Американские протестанты издавна питали ненависть к католикам, заодно подозревая в заговоре деистов, масонов и мормонов, которые в то или иное время якобы подрывали устои христианского общества. В конце XIX в. эти опасения всколыхнулись вновь. В 1887 г. была образована Американская защитная ассоциация, ставшая крупнейшим в стране антикатолическим органом – число ее участников доходило до 2 250 000 человек. Она выпускала поддельные «пасторские письма» якобы от американских католических епископов, призывающих свою паству перебить всех протестантов и свергнуть еретическое правительство Соединенных Штатов. В 1885 г. вышла работа «Наша страна – ее возможное будущее и нынешний кризис» Джозайи Стронга, где «католическая угроза» объявлялась самой страшной напастью, грозящей нации. Наделение католиков правом голоса приведет к беззащитности Америки перед сатанинским влиянием – Штаты и без того переживают наплыв «этих папистов», вдвое превышающий по масштабности вторжение готов и вандалов, принесших гибель Римской империи в V в. Американцы рисовали в воображении картины полной разрухи и упадка – благодаря паранойяльным теориям заговора смутные и неопределенные страхи можно было перенести на конкретного врага и тем самым сделать их более управляемыми[328].
В Европе страхи конспирологического характера, связанные с формированием особой идентичности, приняли форму «научного расизма», который до Соединенных Штатов дошел только к 1920-м. В основном он был направлен против еврейского населения и представлял собой порождение научной культуры эпохи модерна, позволившей европейцам управлять окружающей средой с невиданным доселе мастерством. Современные области занятий, такие как медицина или садоводство, учили человека искоренять все вредное, некрасивое или бесполезное. В то время, когда национализм в европейских государствах становился основной идеологией, евреи отличались неизбывным космополитизмом. В научных теориях, определяющих необходимые биологические и генетические характеристики нации (das Volk), не нашлось места для евреев. Национальное самоопределение новых государств требовало «чужака», с которым можно было бы сравнивать самих себя, и евреи оказались как нельзя кстати. Этот модернистский расизм, стремившийся избавить общество от евреев, как садовник выпалывает сорняки или хирург вырезает раковую опухоль, представлял собой разновидность социальной инженерии, происходившей от убеждения, что некоторых людей невозможно изменить или контролировать. Он отталкивался от веками вынашиваемых христианских религиозных предрассудков, подводя под них научную базу.
В то же время понятие «еврей» стало пугалом, на которое люди могли повесить свои страхи и опасения, пробуждаемые социальной встряской модернизации. Перебираясь из гетто в христианские районы и добиваясь в условиях капиталистической экономики невиданного процветания, евреи, казалось, воплощали собой разрушение старых порядков. Кроме того, европейцам модерн являлся в виде пугающего «плавильного котла». Новый индустриализованный мир рушил старые барьеры, и некоторым это бесформенное общество, не имеющее четких границ, казалось анархичным и гибельным. Особенное замешательство вызывали евреи, вписавшиеся в господствующие тенденции развития общества. Значит ли это, что они стали «неевреями» и преодолели по-прежнему существовавший в сознании многих непреодолимый разделительный барьер?[329] Антисемитизм эпохи модерна давал всем напуганным перипетиями модернизации и кардинальным перетряхиванием социального уклада мишень для негодования и возмущения. «Определить» значило очертить какие-то рамки для этих пугающих перемен – пока одни протестанты искали опору в строгих религиозных определениях, другие спасались от бездны попытками восстановить прежние социальные разграничения.
К 1880-м рожденная Просвещением толерантность оказалась до трагичного поверхностной. В России после убийства в 1881 г. либерального царя Александра II евреям снова был ограничен доступ в профессиональные сферы. В 1891-м из Москвы выслали свыше 10 000 евреев, с 1893 по 1895 г. прошли массовые выселения из других краев и областей. Не обошлось и без погромов, инициированных или организованных министерством внутренних дел, – самым вопиющим из этой череды убийств и грабежей был кишиневский погром 1903 г., в котором погибли 50 евреев и 500 получили увечья[330]. Началось бегство евреев на Запад – в среднем по 50 000 человек в год переселялись в Западную Европу, Соединенные Штаты и Палестину. Однако появление в этих странах восточных евреев – в непривычной одежде, с непонятными обрядами – всколыхнуло старые предубеждения. В 1886 г. Германия выбрала в парламент первого депутата с откровенно антисемитской платформой, к 1893 г. таких было уже 16. В Австрии христианский социалист Карл Люгер (1844–1910) организовал мощное антисемитское движение и к 1895 г. занял пост бургомистра Вены[331]. Волна антисемитизма докатилась даже до Франции, первой европейской страны Нового времени, давшей своим иудеям свободу. 5 января 1895 г. капитан Альфред Дрейфус, единственный еврейский офицер генерального штаба, на основании сфабрикованных улик был под улюлюканье толпы «Смерть Дрейфусу! Смерть евреям!» осужден по обвинению в шпионаже в пользу Германии.
Одни евреи продолжали ассимилироваться – либо обращаясь в христианство, либо переходя на исключительно светский образ жизни (уходили в политику, становясь социалистами-революционерами в России и других восточноевропейских странах, либо возглавляли профсоюзы). Другие, не найдя места для иудея в обществе гоев, решали, что нужно возвращаться в Сион, на Святую Землю и строить там еврейское государство. Третьи выбирали путь религиозной модернизации – реформистский, консервативный или неоортодоксальный иудаизм. Четвертые, отворачиваясь от общества модерна, цеплялись за традиционную ортодоксию. Эти харедим – «боящиеся» (Бога), – тревожась за будущее иудаизма в современном мире, отчаянно пытались возродить прежний уклад. Даже в Западной Европе и Штатах они продолжали носить свои войлочные шляпы, черные брюки и сюртуки, как делали их отцы в России или Польше. Большинство отстаивало свою еврейскую идентичность во враждебном мире, боролось с угрозой уничтожения и пыталось отыскать некую абсолютную опору. Многие переживали тяжелые времена; стремление выжить пробуждало у некоторых агрессивность.
Квинтэссенцией этих настроений оказалось новое направление хабадского хасидизма, центром которого стало российское село Любавичи. Возглавили движение Шнеерсоны, потомки равви Шнеура Залмана. Пятый цаддик – Шолом Дов Бер (1860–1920), получивший это звание в 1893 г., был глубоко обеспокоен будущим иудаизма. Он много путешествовал, общался с литовскими миснагдимами и своими глазами наблюдал отход от религиозных традиций. В 1897 г. он основал в Любавичах хабадскую иешиву по образцу миснагдимских иешив в Воложине, Слободке и Мире. Он тоже хотел воспитать когорту молодых бойцов, способных бороться с «врагами Господа». Во враги записывались вовсе не царь и министры – любавический хасидизм превращался в фундаменталистское движение, которое, по обыкновению, началось с кампании против собратьев по религии. Для пятого цаддика врагами Господа были другие иудеи – маскилим, сионисты, еврейские социалисты и миснагдимы, которые, по его мнению, подвергали веру серьезной опасности. Учащихся его иешивы называли «тмимим» – «чистые». Им предстояло стать «бойцами армии цаддика», которые, «не давая врагам спуску», будут сражаться за истинный иудаизм и своей борьбой подготавливать почву для прихода мессии[332].
Самой амбициозной и творческой из всех реакций иудеев на эпоху модерна стал сионизм – движение, стремящееся объединить евреев на их исторической родине, в Палестине. Движение не было однородным. Сионистские лидеры черпали идеи из самых разных течений современной мысли – национализма, западного империализма, социализма и секуляристского еврейского просвещения. И хотя в конечном итоге главенствовать в сионистской идеологии будет трудовой сионизм Давида Бен-Гуриона (1886–1973), который стремился построить в Палестине социалистическое общество, сионистские предприниматели очень во многом полагались на капитализм. С 1880 по 1917 г. еврейские бизнесмены вложили миллионы долларов в покупку земли у арабских и турецких владельцев, имеющих участки на палестинской территории. Другие, например Теодор Герцль (1860–1904) и Хаим Вейцман (1874–1952), прибегали к политическому лоббированию (Герцль видел будущее еврейское государство европейской колонией на Ближнем Востоке). Третьи не хотели образования суверенного государства, рассматривая новую родину как объединение носителей еврейской культуры. Многие страшились растущей антисемитской угрозы – для того, чтобы спасти еврейский народ от истребления, считали они, нужно подготовить надежное убежище. Они боялись не разверзающейся под ногами моральной и духовной бездны, а физической расправы, на которую оказалась способна эпоха модерна.
Ортодоксы испытывали неприязнь к сионизму в любых проявлениях. В XIX в. было две попытки создать сионизм с религиозным уклоном, однако обе не нашли особой поддержки. В 1845 г. сефардский еврей из Сараево Иехуда Хай Алкалай (1798–1878) попытался превратить древний мессианский миф о возвращении в Сион в программу практических действий. Мессия в этом случае из человека делался процессом, «который начнется силами самих евреев – они должны объединиться и организоваться, выбрать руководителей и покинуть землю пленения»[333]. Двадцать лет спустя точно такую же точку зрения высказал польский еврей Цви Гирш Калишер (1795–1874) в своей книге «Дришат Цион» («Стремление к Сиону», 1862). И Алкалай, и Калишер, пытаясь рационализировать древнюю мифологию, приземляли ее, придавая ей светский характер. Однако для подавляющего большинства благочестивых, строго соблюдающих религиозные предписания иудеев подобное было ересью. Сионистское движение набирало ход, приобретая в последние годы XIX в. международный характер, – сионистские конференции в швейцарском Базеле собирали множество участников – однако ортодоксы поносили сионистов последними словами[334]. В премодернистской действительности миф не имел права ложиться в основу практической программы, посягая на прерогативу логоса. Миф должен был наполнять эту программу смыслом и давать ей духовную подпитку. Пример Шабтая Цви показал, насколько опасно переводить в область политики сюжеты и образы, принадлежащие незримому миру души. Со времен пережитого тогда потрясения давний запрет рассматривать мессианские мифы с точки зрения логоса, способного к практическому воплощению, обрел в сознании евреев форму табу. Любая попытка земного человека достичь искупления или «ускорить конец» конкретными шагами к установлению Царствия Божия на Святой Земле принималась в штыки. Евреям запрещалось даже чрезмерно усердствовать с молитвами о возвращении в Сион. Любая инициатива воспринималась как вызов Господу, кроме которого никто не властен даровать Спасение; любой, кто дерзнет, переходит на «другую сторону» – демоническую. Евреи должны сохранять политическую пассивность. Такие условия накладывало на них Пленение[335]. Подобно мусульманам-шиитам, евреи объявили политическую активность вне закона, наученные горьким историческим опытом, какими несчастьями может обернуться практическое воплощение мифа.
По сей день сионизм и еврейское государство, на создание которого было нацелено движение, вызывают больше разногласий среди евреев, чем сам модерн. Положительное или отрицательное отношение к сионизму и государству Израиль станет движущей силой еврейского фундаментализма в любых его проявлениях[336]. По большому счету именно благодаря сионизму проник в еврейскую жизнь светский модернизм и навсегда изменил ее. Первые сионисты благополучно превратили Землю Израильскую – один из священнейших символов иудаизма – в рациональную, обыденную, практическую действительность. Вместо того чтобы постигать ее мистическим путем или через Галаху, сионисты обживали эту землю физически, стратегически и в военном отношении. Большинство ортодоксов того времени видели в этом кощунство, глумление над святым, намеренное попрание вековой религиозной традиции.
Светские сионисты отрицали религию открыто и непримиримо. Их движение действительно бросало вызов иудаизму. Среди них было много атеистов, социалистов и марксистов, и очень немногие соблюдали заповеди Торы. Некоторые до глубины души ненавидели религию, которая, по их мнению, погубила еврейский народ, внушая ему, что он должен сидеть сложа руки и ждать прихода Мессии. Вместо того чтобы вдохновить на борьбу против притеснений и гнета, религия учила бежать от действительности посредством странных мистических упражнений или углубления в тексты, содержание которых темно. Рыдания евреев, цепляющихся за Стену Плача – единственную уцелевшую от иерусалимского Храма, – вызывали у многих сионистов досаду. Эта жажда зависимости от сверхъестественного противоречила всему, чего они пытались добиться. Сионисты хотели сформировать у евреев новую идентичность, создать нового иудея, свободного от нездоровых последствий заточения в гетто. Новый еврей будет независимым, хозяином собственной судьбы на собственной земле. Однако эта борьба за самоуважение и корни вылилась в декларацию независимости от иудаизма.
Сионисты были прежде всего прагматиками, а значит, полноправными представителями модерна. И тем не менее они сознавали взрывной потенциал Святой Земли как символа. В иудейской мистике Святая Земля была неотделима от двух самых священных понятий – Бога и Торы. В мистическом путешествии души, согласно каббале, Святая Земля символически связывалась с последним этапом погружения в себя и идентифицировалась с божественным присутствием, которое каббалист обнаруживал в основе своего бытия. Без Святой Земли иудей не мыслил себя. При всей прагматичности своего подхода сионисты понимали, что никакая другая земля не в силах «спасти» еврейский народ и дать ему успокоение. Перец Смоленскин (1842–1895), крайне воинственно настроенный против раввината, не видел другой подходящей территории для создания еврейского государства, кроме Палестины. Лев Пинскер (1821–1891) проникался этим убеждением медленно и неохотно, однако в конце концов вынужден был признать, что еврейскому государству место действительно в Палестине. Теодор Герцль чуть не лишился своего руководящего статуса в сионистском движении на Втором сионистском конгрессе в Базеле (1898), когда предложил создать государство в Уганде. Во искупление он вынужден был встать перед делегатами с поднятой рукой и процитировать слова псалмопевца: «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука!» Сионисты были готовы воспользоваться силой этого мифа, чтобы обеспечить своей светской и даже безбожной кампании твердую почву. Они преуспели, что свидетельствовало об их триумфе. Однако попытки перенести эту мистическую, священную топонимику в физическую реальность неизбежно проваливались. Первые сионисты плохо разбирались в истории земель Палестины за предыдущие 2000 лет, и их лозунг «Землю без народа – народу без земли!» полностью игнорировал то, что эта земля была занята палестинскими арабами, имевшими на эту территорию собственные планы. Преуспев в своем модернистском, прагматичном и узконаправленном стремлении создать светское еврейское государство, сионисты вовлекли израильский народ в затяжной конфликт, который – на момент написания этих строк – по-прежнему не угасает.
Египетским и иранским мусульманам, как мы уже убедились, эпоха модерна явилась в виде агрессии, насилия и эксплуатации. В наше время Запад уже привык к нападкам мусульманских фундаменталистов на западную культуру, к провозглашению западной политики сатанинскими кознями и порицанию таких ценностей, как секуляризм, демократия и права человека. Существует мнение, что Запад и ислам (в понимании Запада) несовместимы, их идеалы диаметрально противоположны, и все, что воплощает собой Запад, противоречит «исламу». Важно сознавать, что это совершенно не так. Как мы видели в главе 2, мусульмане сами, под влиянием собственной религии, пришли к идеям и ценностям, сходным с нашими современными. Они оценили разумность отделения религии от политики, выработали представления об интеллектуальной свободе личности, увидели необходимость культивирования рационального мышления. Восхваляемая Кораном жажда справедливости и равенства одинаково почитается и современной западной этикой. Поэтому неудивительно, что в конце XIX в. многих ведущих мусульманских мыслителей завораживал Запад. Они видели, что европейцев и мусульман объединяют общие ценности, хотя европейцы определенно строят более динамичное, продуктивное и созидательное общество, которое мусульмане хотели бы воспроизвести у себя.
В Иране второй половины XIX в. сложился круг мыслителей, политиков и литераторов, бурно восхищающихся европейской культурой[337]. Фатхади Ахундзаде (1812–1878), мирза Мальком-хан (1833–1908), Абдул-Рахим Талибзаде (1834–1911) и мирза Ага-хан Кирмани (1853–1896) в некоторых аспектах были такими же бунтарями, как сионисты. Они постоянно враждовали с улемами, хотели сделать политическое устройство государства полностью светским, а с помощью религии пытались добиться фундаментальных преобразований. Как и сионисты, они полагали, что традиционная вера – в их случае шиизм – удерживает людей в прошлом, тормозит прогресс и мешает свободной дискуссии, без которой не состоялось бы Великое западное преобразование. Особенно резко высказывался Кирмани. Если религия не имеет практического смысла, она бесполезна. Что толку оплакивать Хусейна, если справедливости бедняки по-прежнему не видят?
«В наш век социализма и борьбы за улучшение жизни бедных европейские умы изучают математику, естественные науки, политику с экономикой и права человека, а иранских улемов занимают вопросы чистоты и вознесения Пророка на небеса»[338].
Истинная религия, утверждал Кирмани, подразумевает разум, просвещение и равные права. Это «высокие здания, промышленные изобретения, фабрики, расширение средств связи, распространение знаний, общее благосостояние, введение справедливых законов»[339]. Кирмани, разумеется, заблуждался. Ничего подобного религия не делает, все эти достижения – прерогатива логоса, рациональной мысли, ставящей перед собой практические цели. Задача религии – наполнить эти практические действия конечным смыслом. Кирмани был прав в одном: когда называл шиизм тормозом прогресса. Одна из задач традиционной, премодернистской веры – помочь людям примириться с присущими их обществу ограничениями, поэтому, чтобы полноценным образом включиться в мир модерна, ориентированный на прогресс, иранцам следовало лишить религию этой функции. Исламу предстояло измениться. Но как именно?
Как и многие современные секуляристы, Кирмани и его сторонники винили во всех бедах своей страны религию. Им казалось, что навязанный арабами ислам принес иранцам сплошной ущерб, поэтому они пытались сформировать персидскую идентичность на базе своих скудных представлений о доисламском Иране. Их представления о Западе, основанные на отрывочных сведениях из европейских книг, отличались такой же наивностью и неполнотой[340]. Реформаторы плохо понимали сложную природу западного модерна, считая его институты своего рода «машиной» (в XIX в. это был символ прогресса, науки и власти), способной механически и бесперебойно выдавать на-гора европейский опыт. То есть, если перенять у Запада его светское законодательство (и заменить им уложения шариата) или европейскую систему образования, Иран тоже станет современным и прогрессивным. Они не понимали, насколько важна роль индустриализации и модернизированной экономики. Европейское образование, разумеется, открыло бы иранской молодежи новые дороги, однако, если инфраструктура общества останется неизменной, их образование негде будет применить. Модернизация в Иране находилась пока в зачаточном состоянии, иранцам предстояло пережить мучительный и трудный процесс превращения аграрного общества в индустриализированное, технологическое. Другого пути к либерализму, которого добивались реформаторы, – к социуму, где каждый волен развивать, записывать и обсуждать любые идеи, – не существовало. Аграрное общество не допускало подобной свободы. При всей пользе западных институтов они не могли сами по себе преобразовать менталитет народа, по-прежнему стиснутого рамками традиционализма.
Реформаторы и сами одной ногой стояли в прежнем мире – что неудивительно, учитывая, как мало им доводилось соприкасаться с обществом модерна. К своим прогрессивным идеям они пришли через бабизм – мистическую философию исфаханской школы – и суфизм, а также западную литературу. Благодаря этим шиитским воззрениям реформаторы обрели свободу и мужество разорвать оковы прежних ограничений, однако сделать это они собирались сугубо традиционалистским способом. Кирмани называл себя абсолютным рационалистом: «разум и научные доказательства – вот на чем зиждутся мои слова и поступки»[341], однако его рационализм был неотделим от мифологического и мистического мировоззрения. Он придерживался эволюционистского подхода к истории, но идентифицировал дарвинизм с учением муллы Садры о прогрессивном развитии всего сущего до состояния совершенства. Точно так же считал Мальком-хан. Они попросту расширяли старинное мусульманское понятие «ильма» (необходимого знания), включая в него западный научный рационализм. Реформаторы рассуждали скорее как представители средневековой фальсафы, чем философы Нового времени. Все они пропагандировали идеал конституционного правительства, которое ограничит власть шахов, – уже одно то, что они начали обсуждать эту тему, стало существенным вкладом с их стороны. Однако, как и любые премодернистские философы, они были элитистами и ни в коем случае не имели в виду правительство, выражающее волю большинства. Мальком-хан представлял себе скорее древний фальсафский идеал короля-философа, руководящего невежественной толпой, чем демократию в понимании современного политолога. Талибзаде не мог уловить смысл многопартийности – в его представлении роль оппозиции сводилась к тому, чтобы критиковать правящую партию из-за кулис, пока не представится возможность в случае кризиса выйти на авансцену[342]. Западу понадобились столетия экономических, политических, индустриальных и социальных преобразований, чтобы выработать свой демократический идеал, поэтому неудивительно, что реформаторы не могли его постичь. Они были – и ничем другим быть не могли – переходными фигурами, указывающими народу направление, в котором нужно двигаться к переменам, будучи сами еще не в силах сформулировать суть модерна.
Интеллектуалы вроде Кирмани и Мальком-хана будут и дальше играть важную роль в развитии Ирана, нередко вступая при этом в конфликт с улемами. Но к концу столетия исламское духовенство продемонстрировало готовность оторваться от древних текстов и вмешаться в политику, если ему покажется, что шахи ставят благополучие народа под угрозу. В 1891 г. шах Насер ад-Дин (1829–1896) предоставил британской компании монополию на выращивание и продажу табака в Иране. Каджарские шахи предоставляли подобные концессии уже не первый год, однако до сих пор это касалось лишь тех сфер деятельности, в которых сами иранцы не участвовали. Табак же был популярной в Иране сельскохозяйственной культурой, кормившей тысячи землевладельцев, лавочников и экспортеров. По всей стране прокатилась волна протеста, возглавленная bazaari и местными улемами. В декабре ведущий муджтахид Наджафа хадж Мирза Хасан Ширази своим указом (фетвой) запретил продажу и употребление табака в Иране. То был блестящий ход. Все бросили курить табак, даже не исповедующие мусульманство иранцы и жены шаха. Правительство было вынуждено сдаться и отозвать концессию[343]. Этот переломный момент выявил потенциальное влияние иранских улемов, которым как единственным говорящим от имени сокрытого имама подчинялись даже шахи. Фетва при всей своей рациональности, прагматичности и действенности работала только в старинном мифологическом контексте, подкрепленная авторитетом имама.
В Египте 1870-х современная Европа тоже вызывала восхищение и желание подражать и также представлялась созвучной исламскому духу, несмотря на трудности и муки модернизации. Этот энтузиазм четко прослеживается в сочинениях египетского писателя Рифаа ат-Тахтави (1801–1873)[344], который был пламенным поклонником Мухаммеда Али, учился в Азхаре и служил имамом в новой египетской армии, вызывавшей у него глубочайшее уважение как институт. Однако в 1826 г. Тахтави в числе первых студентов, отправленных Мухаммедом Али учиться за рубеж, попал в Париж. Жизнь там стала для него откровением. Пять лет он изучал французский, древнюю историю, греческую мифологию, географию, арифметику и логику. Особенно его покорили идеи европейского Просвещения, чей рационализм казался ему сходным с фальсафой[345]. Перед возвращением домой Тахтави опубликовал свой дневник, предоставив нам бесценную возможность взглянуть на становление современного Запада глазами иноземца. Тахтави нравилось не все. Отношение европейцев к религии казалось ему уничижительным, а современные французские мыслители – слишком высокомерными, раз они ставят свое рациональное видение выше мистических озарений пророков. Однако налаженность и комфорт парижской жизни вызывали у него одобрение. Он хвалил чистоту улиц, воспитанность французских детей, трудолюбие, отрицательное отношение к лени. Он восхищался рациональной тонкостью и точностью, присущими французской культуре, отмечая, что парижане, «не будучи пленниками традиций, стремятся выяснять у всего происхождение и истоки, искать доказательства». Его поразило, что даже простые люди обучены грамоте и могут «наравне со всеми участвовать в важных делах, каждый в меру своих способностей». Заинтриговала его и страсть к инновациям, этот основополагающий элемент модерна, заставляющий людей меняться и шевелиться – не затрагивая, однако, такие серьезные области, как политика. «Каждый, кто владеет ремеслом, желает изобрести что-то такое, чего еще не придумали, или усовершенствовать уже изобретенное»[346].
Вернувшись в Египет, он возглавил новое Бюро переводов, познакомившее египтян с сочинениями европейцев. Тахтави не уставал повторять, что египтянам нужно учиться у Запада. Пора отворить «врата иджтихада» (независимого мышления), улемы должны идти в ногу со временем, а шариат – адаптироваться к миру модерна. Врачи, инженеры и ученые должны пользоваться не меньшим почетом, чем мусульманские богословы. Современная наука не несет никакой угрозы исламу – европейцы изначально перенимали свои знания у испанских мусульман, поэтому, изучая западные науки, мусульмане просто вернут принадлежавшее им исстари. Правительство должно не подавлять прогресс и инновации, а наоборот, указать путь вперед, поскольку перемены стали основой жизни. Ключ к успеху – образование; простой народ можно учить, как его учат во Франции, девочек наравне с мальчиками[347]. Тахтави верил, что перед Египтом открывается великое будущее, перспективы модерна пьянили его настолько, что он написал хвалебную оду паровозу, а Суэцкий канал и трансконтинентальные железные дороги Соединенных Штатов представлялись ему подвигами инженерной мысли, способствующими единению и согласию разделенных расстоянием народов. Пусть британские и французские ученые и инженеры переселяются в Египет, тем самым ускоряя поступь прогресса![348]
В 1870-х в Каире сформировался кружок литераторов, в котором участвовали выходцы из нынешнего Ливана и Сирии[349]. В большинстве своем это были христиане, обучавшиеся во французских и американских миссионерских школах и таким образом приобщенные к западной культуре, придерживающиеся в работе новых журналистских методов. Обнаружив, что Каир времен хедива Исмаила предоставляет им больше свободы, чем османские владения, они начали издавать новые журналы, в которых публиковались статьи медицинской, философской, политической, географической, исторической, промышленной, сельскохозяйственной, этической и социологической направленности, знакомящие массового арабского читателя с ключевыми модернистскими идеями. Такие авторы оказывали огромное влияние на умы. В частности, эти арабы-христиане ратовали за секуляризацию мусульманских государств, настаивая, что в основе цивилизации должна лежать лишь наука и никоим образом не религия. Как и Тахтави, они были очарованы Западом и охотно делились своим воодушевлением с египтянами.
Очень полезно вспомнить об этом изначальном энтузиазме – с учетом неприязни, развившейся впоследствии. Тахтави и сирийским журналистам довелось застать недолгий период гармоничного сосуществования Востока и Запада. Древняя, еще от крестовых походов сохранившаяся воинственность в отношении ислама в Европе поутихла, и Тахтави определенно не видел политической угрозы со стороны Франции и Англии, несмотря на то что его пребывание в Париже совпало с насильственной колонизацией Алжира французами. Для Тахтави британцы и французы выступали просто носителями прогресса. Однако в 1871 г. в Каире появился иранец, испытывающий страх перед Западом, который, по его мнению, стремился завоевать мировое господство. Несмотря на свое иранское происхождение и шиитскую веру, Джамаль ад-Дин (1839–1897) называл себя аль-Афгани (афганец) – вероятно, надеясь привлечь больше сторонников на исламской земле как суннит[350]. Он получил традиционное образование в медресе, включавшее как фикх (юриспруденцию), так и эзотерические дисциплины фальсафы и мистицизма (ирфана), однако, посетив британскую Индию, он проникся убеждением, что ключ к будущему – современные естественные науки и математика. Тем не менее, в отличие от Тахтави, очарованного Парижем, Афгани не воспылал любовью к британцам. Его приезд в Индию совпал по времени с бунтом против британского владычества (1857), оставившим в Азии горькие воспоминания. Побывав в Аравии, Турции, России и Европе, Афгани начал всерьез опасаться всепроникающего влияния Запада, который, казалось, вот-вот подомнет и сокрушит исламский мир. В Каир в 1871 г. он приехал уже с великой целью: объединить мусульман под знаменем ислама и с помощью религии противостоять угрозе западного империализма.
Афгани был страстен, красноречив, горяч и вспыльчив. Временами он производил не самое лучшее впечатление, однако харизматичности ему было не занимать. В Каире Афгани быстро собрал кружок последователей, которым предстояло с его подачи распространять идеи панисламизма. Шли активные дискуссии на тему, каким преобразователи хотят видеть новый Египет. Сирийские журналисты пропагандировали светское государство, Тахтави полагал, что египтянам следует стать патриотами по западному образцу. Афгани не принимал ни того ни другого. По его мнению, без сильной религиозной составляющей мусульманское общество обречено на разрушение. Только реформировав ислам и храня верность собственным уникальным культурным и религиозным традициям, мусульманские страны снова окрепнут и построят свое общество модерна на научной основе. Он был убежден, что, если мусульмане не примут решительных мер, исламское сообщество (умма) вскоре прекратит свое существование. Время не ждет. Европейские империалисты с каждым днем все сильнее, и не успеет исламский мир оглянуться, как западная культура подомнет его под себя.
Религиозные взгляды Афгани зиждились на страхе уничтожения, который, как мы уже убедились, был распространенной реакцией на тяготы модерна. Афгани полагал, что модернизация вовсе не требует перенимать западный образ жизни. Мусульмане должны искать собственный путь. Бездумно подражая британцам и французам, пристегивая западные ценности к собственным традициям, они потеряют себя, превратившись в бледную копию, ни рыбу ни мясо, тем самым только усугубив свою слабую позицию[351]. Им нужна современная наука, которую нужно перенимать у Европы, что, утверждал Афгани, само по себе служит лишним доказательством «мусульманской отсталости. Мы идем к цивилизации путем подражания европейцам»[352]. Афгани удалось подметить главную сложность. Если западная культура модерна развивалась в основном за счет инноваций и оригинальных идей, то мусульмане могли модернизировать свое общество только путем подражания. В программе модернизации крылся неискоренимый и неизбежный просчет.
Таким образом, Афгани нащупал подлинную проблему, однако решение, которое он предлагал, при всей его внешней привлекательности, было несостоятельным, поскольку на религию возлагались неоправданно высокие надежды. Он не ошибся, предрекая, что потеря культурной идентичности приведет к слабости, нездоровью и моральному разложению. Прав он был и утверждая, что ислам должен преобразоваться, чтобы творчески взаимодействовать с радикально изменившимися условиями. Но одних религиозных реформ было бы недостаточно, чтобы модернизировать страну и справиться с западной угрозой. Без индустриализации, развития жизнеспособной современной экономики, преодоления ограничений аграрного строя никакая идеология не вывела бы Египет на европейский уровень. Запад своими принципами общества модерна – автономии, демократии, интеллектуальной свободы и толерантности – был обязан в равной степени как философам и политологам, так и экономическому развитию. Как вскоре покажут дальнейшие события, какими бы свободными и современными египтяне себя ни ощущали, слабость экономики делала их политически уязвимыми, ставя в зависимость от Запада, и это униженное положение еще больше мешало им проникнуться подлинным духом модерна.
Несмотря на свое жадное стремление к модернизму, Афгани, как и иранские интеллектуалы, с которыми он общался, по-прежнему во многих отношениях застрял в прежнем мире, будучи истовым мусульманином – молясь, соблюдая исламские ритуалы и живя по исламскому закону[353]. Он исповедовал мистицизм муллы Садры, проникнувшись его взглядами на эволюционный путь к переменам. Кроме того, Афгани передавал своим последователям эзотерическое учение фальсафы и зачастую строил аргументацию как средневековый философ. Как и другие религиозные мыслители того времени, он доказывал рациональность и научность своей религии. Коран, подчеркивал Афгани, учит мусульман не принимать ничего на веру бездоказательно, а значит, вполне отвечает требованиям современного мира. Он дошел до того, что приравнивал ислам к современному научному рационализму, утверждая, что явленный Пророку закон един с законами природы и что все постулаты ислама выдерживают проверку логикой и здравым смыслом[354]. Здесь мыслитель капитально ошибался. Как и любая традиционная вера, ислам отгораживался от логоса и полагался на пророческие и мистические откровения – именно так на самом деле воспринимал религию и Афгани. В другом настроении он мог так же красноречиво рассуждать об ограничениях науки, которая «при всей своей красоте и стройности… не может полностью удовлетворить человечество, жаждущее идеала и удаляющееся в невидимые далекие сферы, которые ни философам, ни ученым постичь не под силу»[355]. Подобно иранским интеллектуалам, Афгани, стремясь к новому миру, не мог оторваться от мира прежнего. Он хотел видеть свою веру полностью рациональной, но, как и любой мистик традиционалистского периода, понимал в глубине души, что религиозный миф дает человеку то, что наука дать не может.
Подобная непоследовательность была, наверное, неизбежна, поскольку Афгани представлял собой переходную фигуру. Однако немалую роль в этом сыграла и тревога. Время поджимало, мыслителю некогда было причесывать все нестыковки в своих рассуждениях. Мусульмане должны сделать своей главной целью стремление к рационализму. Они пренебрегали естественными науками и в результате отстали от Европы. Им велено было закрыть «врата иджтихада» и подчиниться руководству улемов и древних мудрецов, что, по утверждению Афгани, не имело ничего общего с истинным исламом. Это лишь воспитывало в мусульманах покорность и зависимость, которая противоречила не только духу модерна, но и «основополагающим чертам» мусульманской веры, которыми теолог считал «превосходство и главенство»[356]. Теперь же наукой «завладел» Запад, а мусульмане остались слабыми и уязвимыми[357]. Афгани понимал, что прежний, традиционный этос, символом которого служили затворенные «врата иджтихада», тормозит развитие мусульман. Однако, как любой реформатор, который пытается надеть на религиозный миф маску логоса, он рисковал породить, с одной стороны, неверный религиозный дискурс, а с другой – лженауку.
То же самое относится и к его политическим взглядам. Афгани верно подметил, что ислам – это вера, выражающая себя в действии. Он любил цитировать Коран: «Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя»[358]. Хватит прозябать в медресе; мусульманам, если они хотят спасти ислам, пора участвовать в политике. В мире модерна истина становилась прагматичной, она должна была проявлять себя в физических, эмпирических областях, и Афгани хотел доказать, что исламская истина ничуть не уступает в действенности современным ему западным идеологическим доктринам. Он понимал, что миром вскоре будет править Европа, и решительно намеревался заставить мусульманских правителей осознать эту опасность. Однако революционные программы Афгани зачастую оказывались саморазрушительными и сомнительными с точки зрения морали. Ни одна из них не принесла плодов, они лишь настроили против него власти. В 1879 г. Афгани за антиправительственную агитацию был выслан из Египта, в 1891 г. – из Ирана, и, хотя впоследствии ему разрешили проживание в Стамбуле, османские власти не спускали с него глаз. Попытка обратить религиозную истину в программу политических действий рискует обернуться нигилизмом и катастрофой, и Афгани не избежал обвинений в том, что «использовал» ислам как фальшивую платформу для своей непродуманной революционной программы[359]. Он определенно не сумел как следует интегрировать религиозный императив в свою политическую деятельность. Послав в 1896 г. одного из своих учеников убить шаха Насир ад-Дина, Афгани нарушил один из ключевых постулатов религии – об абсолютной неприкосновенности человеческой жизни. Тем самым он существенно очернил ислам в глазах общественности, придав ему аморальный облик.
На эти опрометчивые шаги его толкнуло отчаяние. Афгани был убежден, что империалистический Запад вот-вот сотрет исламский мир с лица земли. Живя в 1880-х в Париже, в работах филолога Эрнеста Ренана (1823–1892) он столкнулся с новым, «научно» обоснованным расизмом и подискутировал с автором о месте ислама в современном мире. Ренан считал семитские языки, иврит и арабский, неполноценными и отсталыми. Им, по его мнению, недоставало прогрессивных, необходимых для развития черт «арийских» языков, поэтому они обречены на вымирание. Точно так же и «семитские расы» не дали миру ни настоящего искусства, ни торговли, ни цивилизации. Особенно несовместим с модерном ислам, о чем свидетельствует очевидная отсталость мусульманских стран, несостоятельность их правительств и «умственное ничтожество» самих мусульман. Как и народы Африки, население исламских стран считалось умственно не способным к научному рационализму, оно не в состоянии выработать хотя бы одну оригинальную идею. По мере распространения европейской науки, уверенно предрекал Ренан, ислам захиреет и в ближайшем будущем прекратит существование[360]. Неудивительно, что Афгани опасался за судьбу ислама и излишне подчеркивал научную рациональность мусульманского мировоззрения. Мусульманство готовилось отразить новую угрозу: стереотипные и ложные представления об исламе в трудах мыслителей вроде Ренана служили оправданием колониальных захватов мусульманских стран.
Колониальную политику диктовали растущие потребности европейской капиталистической экономики. Как утверждал Гегель, индустриальное общество обречено на расширение, «выходит за рамки, прежде всего за рамки этого определенного общества, чтобы искать потребителей и необходимые средства к существованию у других народов». Эта погоня за новыми рынками «готовит почву для колонизации, к которой подталкивается развитая буржуазия»[361]. К концу века колонизация Ближнего Востока шла полным ходом. В 1830 г. Франция завоевала Алжир, через девять лет британским стал Аден. В 1881-м был оккупирован Тунис, в 1889-м – Судан, в 1912-м – Ливия и Марокко. В 1915 г., в предвкушении победы в Первой мировой войне, по соглашению Сайкса – Пико* земли умирающей Османской империи были поделены между Францией и Англией. Колониальный захват оказался для всех этих стран большим потрясением, разрушив традиционный для них образ жизни и моментально понизив их международный статус.
Колонизированная страна служила источником экспортного сырья, которое затем перерабатывалось молохом европейской индустриализации. Взамен она получала дешевые фабричные товары, губившие местное производство. Для того чтобы вписать новую колонию в технологичное устройство мира модерна, необходимо было реорганизовать на европейский манер полицию и армию, адаптировать финансовые, коммерческие и производственные аспекты экономики, а также приобщить «туземцев» к современным идеям. Население воспринимало подобную модернизацию как вторжение, насилие и расшатывание устоев[362]. Афгани хотел, чтобы мусульмане модернизировались по собственному почину, не давая превратить свое общество в неудачный слепок с европейского. Однако колониальная политика этому препятствовала. Ближневосточные страны, попавшие под владычество Запада, не могли следовать собственному пути развития. Колонизаторы превратили самобытную цивилизацию в зависимый блок, и эта зависимость воспитывала в угнетенном народе раболепие, в корне противоречащее духу модерна. Былая любовь и восхищение Европой, канонизированные Тахтави и иранскими реформаторами, сменились негодованием и горечью.
Пока Афгани жил в Каире, Египет постепенно опутывали колониальные сети, хотя по-настоящему колонией он так и не стал. Затратные реформы и проекты модернизации хедива Исмаила разорили страну, которая теперь полностью зависела от европейских займов. В 1875 г. хедив был вынужден продать Суэцкий канал британцам, а в 1876-м, как мы уже знаем, власть над египетской экономикой взяли европейские акционеры. Когда Исмаил сделал попытку сбросить гнет, британцы совместными усилиями с османским султаном сместили его, и титул хедива перешел к сыну Исмаила Тауфику. В 1881 г. офицеры египетской армии совершили переворот под предводительством Ахмада бей-Ораби. К ним присоединились последователи Афгани и другие, желающие установить в Египте современную конституционную власть. Ораби удалось отобрать власть у нового хедива, но, когда после этой победы египетский народ поднялся на восстание, британские власти решили вмешаться, чтобы защитить интересы акционеров. 11 июля 1882 г. британский военно-морской флот нанес удар по Александрии, а 13 сентября разгромил войска Ораби при Тель-эль-Кебире. Британцы ввели в Египте режим военной оккупации, и, хотя титул хедива был Тауфику официально возвращен, настоящим правителем Египта оказался британский проконсул Эвелин Баринг, лорд Кромер.
Лорд Кромер был типичным колонизатором. По его мнению, египтянам как заведомо отсталому народу колонизация была необходима и должна была пойти во благо. Как и Ренан, сравнивая мусульманские страны со своей собственной, более развитой родиной, он не сомневался в том, что Европа всегда находилась в авангарде прогресса. Лорд даже помыслить не мог, что Британия и Франция когда-то были такими же «отсталыми», как и Ближний Восток, и что Египет, представший его глазам, всего лишь жертва неудачной модернизации. Он приписывал жителям Востока неисправимую, врожденную отсталость. Однако в Египте Кромеру удалось совершить много полезного: стабилизировать экономику, усовершенствовать оросительную систему, увеличить производство хлопка. Кроме того, он упразднил поденщину – старую систему принудительного труда и внедрил грамотную судебную систему. Однако прогресс давался дорогой ценой. Несмотря на то что во главе правительства номинально стоял хедив, в каждом министерстве имелся английский «советник», чей голос в конечном итоге оказывался решающим. Кромер считал это необходимым, полагая, что европейцы всегда отличались рационализмом, добросовестностью и современным укладом, тогда как Восток изначально характеризуется нелогичностью, ненадежностью и порочностью[363]. Ислам в его глазах также «совершенно не оправдывал себя как социальное устройство» и не годился для реформ и развития. Невозможно было вдохнуть новую жизнь в «организм, который еще не погиб физически и может протянуть еще не одно столетие, но при этом в политическом и социальном отношении стоит на пороге смерти, и припарками модернизации его от медленной гибели не спасти»[364]. Кромер ясно дал понять, что хронически отсталая страна какое-то время не обойдется без прямого британского руководства.
Британская оккупация привела к появлению новых трещин в египетском обществе. В должности наставников и главных хранителей знания улемов сменили выпускники западных университетов. Суды шариата уступили место светской гражданской судебной системе, введенной лордом Кромером. Кроме того, пострадали ремесленники и мелкие торговцы. Из народившегося слоя вестернизированных чиновников и интеллектуалов складывалась новая верхушка общества, крайне далекая от народных масс. Однако, пожалуй, наиболее пагубной оказалась склонность самих египтян усваивать нелестное мнение колонизаторов о египетском народе. Ученика Афгани Мухаммада Абдо (1849–1905) оккупация повергла в отчаяние. Он описывал приход модерна как «ливень науки», в котором захлебывается религиозный человек традиционного общества: «Эта эпоха вынудила нас почувствовать себя перед лицом цивилизованных стран в тюремных оковах, открыв нам глаза на великолепие их жизни… и посредственность нашей, обнажив их блеск и нашу нищету, их славу и наш упадок, их силу и нашу слабость, их победы и наши промахи»[365].
Это разъедающее чувство собственной ничтожности проникло в религиозный уклад колонизированных народов, побуждая реформаторов вроде Абдо в пику нападкам колонизаторов доказывать, что ислам может не уступать западной системе в рационализме и продвижении по пути модерна[366]. Впервые мусульмане были вынуждены позволить завоевателям устанавливать свои интеллектуальные порядки.
После победы британцев Абдо выслали из страны за участие в перевороте, возглавленном Ораби. Он уехал в Париж и присоединился к Афгани, с которым у него было много общего. Изначально в круг Афгани его привлекла любовь к мистической религии (ирфану), которая, как он говорил, содержала «ключ к счастью»[367]. Однако Афгани познакомил своего ученика и с западными науками, а позже Абдо читал Гизо, Толстого, Ренана и Герберта Спенсера. В Европе вполне освоился и в обществе европейцев чувствовал себя свободно. Как и Афгани, он был убежден в том, что ислам совместим с модерном, доказывал, что эта вера в высшей степени рациональна, а традиция таклида вредна и неаутентична. Но, тоже подобно Афгани, Абдо не мог отделить рациональное мышление от мистики. Он еще не освободился окончательно от верований старого мира. В конце концов Абдо поссорился с Афгани на почве политики, считая, что реформы Египту принесут больше пользы, чем революция. Он мыслил глубже, чем учитель, и понимал, что короткого пути к модернизации и независимости не существует. Не собираясь поддерживать опасные и бессмысленные замыслы Афгани, он хотел разрешить самые острые проблемы страны с помощью образования, и в 1888 г. ему позволили вернуться. Абдо стал одним из самых почитаемых людей в стране, ладил и с британцами, и с египтянами и водил близкое знакомство как с лордом Кромером, так и с хедивом.
К этому времени страна уже погрузилась в апатию. Поначалу многие образованные египтяне вынуждены были признать, что, несмотря на нежелательность британской оккупации как таковой, правление лорда Кромера принесло стране больше пользы, чем власть хедива Исмаила. Однако к 1890-м отношения с британцами ухудшились. Британские чиновники мельчали и меньше стремились укреплять сотрудничество с египтянами, образовав собственный привилегированный колониальный анклав в районе Джезиры. Египетские госслужащие видели, что все карьерные перспективы у них отбирают молодые британцы, а кроме того, негодование вызывали привилегии, дарованные британцам и другим иноземцам оккупационным режимом, освобождавшим их из-под власти местного закона[368]. Все больше людей прислушивались к пламенным речам националиста Мустафы Камиля (1874–1908), требовавшего немедленного выдворения британцев. Абдо считал Камиля пустозвоном, понимая, что египтянам, прежде чем они смогут управлять независимым государством образца эпохи модерна, придется разрешить серьезные социальные проблемы, обостренные оккупацией.
По мнению Абдо, внедрение секуляристских идей и институтов проходило слишком стремительными для глубоко религиозной страны темпами. Людям не оставили времени освоиться. При всем уважении к европейским политическим институтам Абдо не считал, что их можно без изменений пересаживать на египетскую почву. Большая часть народа просто не в силах была постичь новое законодательство, чуждое ей буквой и духом, и Египет в итоге постепенно скатывался в беззаконие[369]. Поэтому Абдо планировал основательно пересмотреть исламское право и привести в большее соответствие с современной действительностью – программу эту воплотили в жизнь уже после смерти Абдо, в 1920-х, и получившаяся в результате законодательная система действует в Египте по сей день. Абдо понимал, что египетское общество распадается, и видел средство спасения в том, чтобы увязать правовые и конституционные достижения эпохи модерна с традиционными исламскими нормами. В противном случае подавляющее большинство египтян, не соприкасавшихся толком с западными идеями, просто не разберутся в новых институтах. Например, исламский принцип «шура» (консультация, совет) представлялся вполне совместимым с демократией, а иджма («единогласие» общины, без которого в исламском праве не могла быть «ратифицирована» доктрина или обычай) могла помочь людям понять конституционный строй, где власть правителя ограничивалась волей народа[370].
В срочном порядке требовалась реформа образования. Современная Абдо система представляла собой, как он заметил, три совершенно не связанные между собой ветви с совершенно разными задачами, способствующие непреодолимому разобщению народа. В религиозных школах и медресе, где по-прежнему царил дух консерватизма, у учеников отбивали охоту к независимому мышлению; в христианских миссионерских школах, поддерживающих колониальную политику, молодых мусульман отлучали от родины и религии. Хуже всего были государственные школы: качеством светского образования они сильно уступали европейским, а религия в них не преподавалась вовсе. Ученики улемов противились любым переменам, выходцы из западных школ, наоборот, любые перемены приветствовали, однако с европейской культурой знакомы были поверхностно, а от родной уже оторвались[371].
Став в 1899 г. муфтием, главным консультантом в стране по исламскому праву, Абдо твердо вознамерился реформировать традиционное религиозное образование. По его убеждению, в медресе должны были преподаваться и светские, точные науки, чтобы ученики могли в полной мере приобщаться к современному обществу. Университет Аль-Азхар в те времена, по мнению Абдо, являлся воплощением всего косного в исламе: отвернувшись от мира модерна, он превращался в воинствующий анахронизм. Однако улемы сопротивлялись реформам, которые пытался провести Абдо. Со времен Мухаммеда Али они воспринимали модернизацию как разрушительную силу, которая противостояла воле Аллаха в политике, праве, образовании и экономике. Они противились любым попыткам ввергнуть их в мир модерна и, в отличие от иранских улемов, серьезно отстали от жизни, идущей за стенами медресе. Абдо тоже не сумел с ними справиться. Ему удалось модернизировать руководство Аль-Азхаром, поднять жалованье и улучшить условия труда преподавателей. Однако и улемы, и студенты принимали в штыки любые попытки ввести в программу современные светские дисциплины[372]. Видя тщетность своих усилий, Абдо пал духом. В 1905 г. он снял с себя полномочия муфтия и вскоре после этого скончался.
Неудачи Абдо и Афгани свидетельствуют о том, как сложно было увязать веру, расцветшую в эпоху традиционного общества, с совершенно противоположным этосом мира модерна. Оба реформатора полностью сознавали резонную опасность слишком поспешной секуляризации. В период таких перемен, когда почва уходит из-под ног, ислам мог стать для людей необходимой опорой. Среди египтян началось разобщение, вестернизированные слои зачастую испытывали отчуждение от родной культуры, при этом не чувствуя себя своими ни на Востоке, ни на Западе. Без мистических и культовых практик, которые когда-то составляли смысл их жизни, они начинали скатываться в пустоту, которая зияла в самом сердце модерна. Прежние институты уничтожались, а новые были чуждыми и не до конца осмысленными. И Абдо, и Афгани сами по-прежнему черпали энергию из старого типа духовности. Утверждая, что религия должна быть рациональной, они были ближе к мулле Садре, чем к европейским рационалистам и ученым, которые отвергали любую истину, полученную религиозным путем. Называя разум единственным критерием истины и требуя, чтобы любая доктрина выдерживала рациональную проверку, реформаторы рассуждали как практикующие мистики. Воспитанные на традиционных нормах, они считали, что разум и интуиция дополняют друг друга. Однако последующие поколения, впитавшие больше западного рационализма, придут к выводу, что одним разумом чувства священного не добиться. Утрата трансцендентного смысла не компенсировалась, в отличие от западной действительности, благами свободы и независимости, поскольку именно Запад все сильнее насаждал свои порядки, даже в религиозной сфере.
Красноречивым примером того, сколько вреда и заблуждений приносило такое положение, стали события 1899 г., когда Касим Амин (1865–1908) выпустил свой труд «Тахрир аль-Мара» («Освобождение женщины»), где утверждалось, что угнетенное положение женщин (в частности, ношение чадры) – причина египетской отсталости. Чадра – это «непреодолимая преграда на пути женщины к свободе, а значит, и на пути страны к прогрессу»[373]. Книга наделала много шума – не потому, что сообщала что-то новое, а потому, что египетский писатель впитал и усвоил один из колониальных предрассудков. Годами египтяне агитировали за то, чтобы коренным образом изменить положение женщин. Сам Абдо доказывал, что в Коране мужчины и женщины представлены как равные пред Господом и что традиционные правила, касающиеся полигамии и разводов, не являются неотъемлемой принадлежностью ислама, а значит, их можно и нужно изменить[374]. Участь женщин несколько улучшилась. Мухаммед Али основал школу, где женщины могли проходить начальную медицинскую подготовку; к 1875 г. около 3000 молодых египтянок обучалось в миссионерских школах, а в 1873 г. правительство открыло первую государственную начальную школу для девочек, вслед за которой годом позже открылась средняя школа. Иностранцы отмечали, что египтянок теперь можно чаще увидеть на людях, некоторые даже ходили без чадры, а к концу века женщины публиковали статьи в журналах и пополняли ряды врачей и учителей. К моменту вторжения британцев положение уже сдвинулось с мертвой точки, и хотя процесс еще предстоял долгий, начало было положено.
Ношение чадры для женщин не было ни исконным, ни основополагающим требованием ислама. Коран не предписывает женщинам непременно покрывать голову, обычай закутывать женщину в чадру и закрывать в гаремах распространился в исламских странах лишь поколения через три после смерти Пророка, когда мусульмане стали копировать византийских христиан и персидских зороастрийцев, у которых подобное обращение с женщинами было в ходу уже давно. Однако чадру носили не все женщины, это был знак принадлежности к знатному сословию, крестьянкам не положенный. А меж тем книга Касима Амина возвела второстепенный по важности обычай ношения чадры в разряд самых животрепещущих вопросов модернизации. Амин утверждал, что, пока мусульмане не откажутся от чадры, преодолеть отсталость не удастся. Отчасти из-за всего этого ажиотажа вокруг «Тахрир аль-Мара» чадра стала для многих мусульман символом принадлежности к исламу, а для многих жителей Запада «доказательством» неискоренимого исламского женоненавистничества.
Амин был не первым, кто видел в чадре все зло ислама. Прибывших британцев этот обычай тоже ужаснул, хотя в то время большинство западных мужчин порицали феминизм, стремились надежно усадить своих жен дома и всячески противились получению женщинами образования и гражданских прав. Лорд Кромер был типичным носителем подобных взглядов – входил в число основателей Мужского комитета Антисуфражистской лиги, – однако в своем монументальном труде, посвященном Египту, выражал серьезную озабоченность положением мусульманок[375]. Оно было язвой на теле общества, начинавшей свою разрушительную работу с детства египтян, когда ребенок наблюдал угнетенное положение своей матери, и источившей всю систему ислама. Обычай ношения чадры выступал «роковой преградой», мешавшей египтянам «подняться до того уровня мышления и нравов, который необходим для знакомства с западной цивилизацией»[376]. Миссионеры также возмущались пагубным влиянием чадры, которая, по их мнению, хоронила женщину заживо и низводила до положения рабыни или заключенной. Чадра еще раз подтверждала, насколько египетский народ нуждался в полезном для него наставничестве западных колонизаторов[377].
Амин принимал это несколько циничное отношение европейцев к чадре за чистую монету. В «Тахрир аль-Мара» нет ничего феминистского – женщины там предстают грязными и невежественными; каким еще мог быть египетский народ, воспитанный такими матерями, как не отсталым и ленивым? Могут ли египтяне вообразить, «что европейцы, достигшие такого совершенства разума и подчинившие пар и электричество… те, кто ежедневно кладет жизнь на алтарь знаний и чести, ставя их превыше земных удовольствий… чьей эрудицией и духовной силой мы так восхищаемся… отказались бы от обычая носить чадру при условии, если б таковой у них был, когда бы видели в нем хоть какую-то пользу?»[378] Ничего удивительного, что этот неприкрытый подхалимаж дал обратный эффект. Арабские писатели восставали против такого мнения об окружающем их обществе, и в ходе бурных дискуссий чадра превратилась в символ противостояния колонизаторам. Таковым она остается по сей день. Сейчас многие мусульмане считают ношение чадры обязательным для всех женщин – для них это знак принадлежности к истинному исламу. Прибегая к феминистским доводам, не вызывавшим у большинства никакой симпатии, колонизаторы исказили представление о сути феминизма в мусульманском мире и пошатнули устои веры, создав конфликт по новому прецеденту[379].
Этос модерна вызывал перемены в религии. К концу XIX в. иудеев, христиан и мусульман охватывал страх, что их вера исчезнет с лица земли. Стратегии спасения различались. Одни отвергали общество модерна полностью и создавали собственные воинствующие институты, отводя им роль священных оплотов и убежищ; другие планировали контрнаступление, третьи начинали формировать собственную контркультуру и дискурс, чтобы бросить вызов секуляристскому уклону модерна. Росло убеждение, что религия должна стать такой же рациональной, как светская наука. В начале XX столетия эта оборонительная политика приведет к первым явным проявлениям воинствующей религиозности, которую мы сегодня называем фундаментализмом.
6. Основы (1900–1925)
Первая мировая война, вспыхнувшая в Европе в 1914 г. и превратившая Францию в гигантское пепелище, продемонстрировала гибельный и саморазрушительный характер духа модерна. Уничтожив самый цвет молодежи мужского пола, война нанесла Европе удар, от которого ей, казалось, уже не суждено было оправиться. Теперь ни один трезвый ум не возлагал искренних надежд на прогресс цивилизации. Самые цивилизованные и передовые страны Европы калечили друг друга с помощью новейших военных технологий, а война обернулась жестокой пародией на механизацию, принесшую людям достаток и процветание. Придя в движение, огромная сложная махина воинского призыва, передислокации войск и производства оружия начинала жить собственной жизнью, и ее уже было не остановить. Бессмысленная и бесперспективная окопная война, продиктованная вовсе не общественной необходимостью, противоречила рациональной логике эпохи. Запад оказался на краю той самой бездны, которая уже не первое десятилетие грозила разверзнуться под ногами. Западная экономика тоже переживала тяжелые времена – в 1910 г. наметился спад, который приведет к Великой депрессии 1930-х. Мир летел кубарем навстречу невообразимой катастрофе. Ирландский поэт Уильям Йейтс (1865–1939) представлял «Второе Пришествие» не торжеством мира и добродетели, а рождением безжалостной, кровавой эры:
Все рушится, основа расшаталась, Мир захлестнули волны беззаконья; Кровавый ширится прилив и топит Стыдливости священные обряды; У добрых сила правоты иссякла, А злые будто бы остервенились[380].И в то же время это были годы небывалого творческого взлета, подарившие миру удивительные шедевры науки и искусства, в которых обнаруживался настоящий расцвет модернистского духа. Творческие люди разных родов деятельности словно горели желанием воссоздать мир заново, сорвать оковы прошлого и обрести свободу. Человек модерна обладал теперь совершенно новой ментальностью и уже не мог смотреть на мир прежними глазами. Если в литературе XVIII–XIX вв. был принят принцип повествования, построенный на последовательном, линейном развитии сюжета, то модернистский сюжет дробился, оставляя читателя в состоянии неопределенности относительно причин и следствий. Художники, например Пабло Пикассо (1881–1973), безжалостно кромсали изображение или подавали его одновременно в двух разных ракурсах, словно намеренно обманывая ожидания зрителя, и провозглашали необходимость поиска новых форм. В искусстве и науке задавало тон желание вернуться к первоначалам, к незыблемому основанию, и выстроить все заново. Ученые занимались поисками атома и элементарных частиц, социологи и антропологи обращались к первобытным сообществам и доисторическим артефактам. Однако эта тенденция не имела ничего общего с традиционным возвращением ad fontes, к истокам, поскольку целью поисков было не возродить прошлое, а расщепить его, словно атом, и получить нечто совершенно новое.
За некоторыми из этих начинаний скрывались попытки создать духовность, не связанную с Богом или сверхъестественным. Живопись, скульптура, поэзия и драма начала XX в. отражали поиски смысла в меняющемся, хаотичном мире; творческие люди пытались нащупать новые формы восприятия и создать современные мифы. Таким поиском нового откровения и попыткой открыть тайный источник духовной силы был и созданный Зигмундом Фрейдом метод психоанализа, направленный на то, чтобы докопаться до самых глубинных слоев подсознания. Фрейда не интересовала традиционная религия, в которой он видел самого главного врага научного логоса[381]. Однако он пытался рассмотреть в современном ключе древнегреческие мифы и даже сочинял собственные. Переживаемые большинством людей эпохи модерна страх и ужас подстегивали поиски некого неуловимого смысла, способного уберечь человечество от отчаяния, однако не достижимого средствами обычного логического, дискурсивного мышления. При всей своей приверженности научному рационализму Фрейд показал, что разум – это лишь внешний слой сознания, под которым бурлит котел бессознательного, иррационального и первобытных инстинктов, влияющих на наше поведение, но практически неконтролируемых.
В области религии наблюдались схожие попытки выстроить новое мировоззрение на старом фундаменте. Самые прозорливые понимали, что человек модерна отныне уже не сможет веровать по старинке. Традиционная духовность, помогавшая смириться с существенными ограничениями и принять мир таким, какой он есть, оказывалась бесполезной в этой атмосфере иконоборчества и устремленности в будущее. Изменился весь уклад мысли и восприятия. Многие западные люди, получившие чисто светское образование, попросту не воспринимали те мифологические, мистические и культовые обряды, пробуждавшие у прежних поколений чувство ценности трансцендентного. Пути назад не было. Приверженцам религии предстояло выработать новые обряды, верования, ритуалы, способные вызвать отклик в душе в радикально изменившихся условиях. В начале XX в. люди искали новые пути к религии. Перед ними стояла задача, схожая с той, что выпала на долю представителей первого осевого времени (ок. 700–200 гг. до н. э.), обнаруживших нежизнеспособность язычества в обрушившихся на них переменах и выработавших взамен основные конфессиональные вероучения, – теперь это было второе осевое время, бросившее людям такой же вызов. Как и поиски решения любой творческой задачи, обретение модернистской (а затем и постмодернистской) веры продвигалось неимоверно тяжело. Эти искания продолжаются и по сей день, приемлемого или хотя бы удовлетворительного решения до сих пор не найдено. К разряду подобных поисков относится и та форма религиозности, которую мы называем «фундаментализм».
У протестантов в Соединенных Штатах потребность в обновлении назрела уже давно. К концу XIX в. деноминации по-прежнему враждовали, однако кризис 1890-х, с обвинениями в ереси и отлучениями, казалось, уже миновал. И либералы, и консерваторы начала века участвовали в социальных программах так называемой Эры прогрессивизма (1900–1920), направленных на решение проблем, вызванных стремительной и бесконтрольной урбанизацией и развитием промышленности. Несмотря на доктринальные разногласия, протестанты всех деноминаций оставались приверженцами идеалов прогресса и сообща работали в миссиях за границей, участвовали в антиалкогольных кампаниях и ратовали за улучшение образования[382]. Несмотря на огромные препятствия, возникающие у них на пути, большинство чувствовали уверенность в своих силах. «Америка христианизирована», – писал либеральный теолог Уолтер Раушенбуш в 1912 г.; теперь оставалось преобразовать промышленность и предпринимательство «замыслом и духом Христовым»[383].
У протестантов сложилось течение так называемого социального евангелизма, освящающего «безбожные» города и заводы. Это была попытка вернуться к тому, что они полагали основополагающими учениями иудейских пророков и самого Христа, убеждавшего своих последователей приходить в темницы, одевать нагих и кормить алчущих. Социальные евангелисты открывали «институциональные церкви», обеспечивающие помощь и досуг для бедных и недавних иммигрантов. Либеральные протестанты, например Чарльз Штельцле, основавший в 1911 г. Храм труда в одном из самых густонаселенных и бедных районов Нью-Йорка, пытались освятить социализм: вместо библейских перипетий прихожанам предлагалось разбираться с городскими и профсоюзными проблемами, борясь с таким злом, как детский труд[384]. В начале века христиане-консерваторы участвовали в социальных программах не менее активно, чем либеральные протестанты, однако идеологию исповедовали иную. Они могли рассматривать свой социальный поход как войну с Антихристом или как духовный вызов засилью материализма, однако низкая заработная плата, детский труд и плохие условия труда волновали их не меньше, чем либералов вроде Штельцле[385]. Позже консерваторы осудят социальный евангелизм, утверждая, что бесполезно пытаться спасти обреченный мир. Однако в начале века даже такие закоренелые консерваторы, как Уильям Райли, основавший Нортвестернский библейский колледж в 1902 г., не возражали против избавления Миннеаполиса от общественных пороков, работая плечом к плечу с социальными реформаторами. Хоть Райли и не одобрял методы социальных евангелистов вроде Штельцле, приглашавшего в свой храм читать лекции Льва Троцкого и Эмму Голдман, однако в то время консерваторы в своих политических воззрениях еще недостаточно уклонились вправо и вели собственные благотворительные кампании по всем Соединенным Штатам.
Все изменилось в 1909 г., когда Чарльз Элиот, почетный профессор Гарвардского университета, выступил с ужаснувшей консерваторов речью на тему «Будущее религии». Это была очередная попытка вернуться к простым ценностям. В новой религии, полагал Элиот, останется всего одна заповедь – любовь Божия, выражаемая в практическом служении людей друг другу. Не будет ни церквей, ни священных текстов, ни теологии греха, ни необходимости в молитве. Присутствие Господа будет настолько очевидным и всеобъемлющим, что нужда в литургии отпадет. Христиане утратят монополию на истину, поскольку идеи ученых, секуляристов и инаковерующих обретут не меньший вес. Своей заботой о человечестве религия будущего явит сходство с такими секулярными идеалами, как демократия, образование, социальные реформы и профилактическая медицина[386]. Это крайнее проявление социального евангелизма стало закономерным итогом доктринальных разногласий предыдущих десятилетий. В обществе, где ценилась только рациональная или научно доказуемая истина, догме пришлось нелегко. Теология запросто могла превратиться в фетиш, в идола, в высшую ценность саму по себе, вместо того чтобы служить символом неописуемой и непостижимой действительности. В поисках обходной доктрины Элиот пытался вернуться к тому, что считал основами – любовь Божия и любовь к ближнему. Социальную справедливость и заботу о слабом проповедовали все мировые религии. Предписанное в качестве долга и образца сострадание, выраженное в практической заботе, во всех религиях помогало приобщиться к священному (если не было продиктовано себялюбием). Элиот пытался разрешить вставшую перед христианами Нового времени дилемму, создавая вероучение, основанное в большей степени на практике, чем на ортодоксальных верованиях.
Консерваторов, однако, он поверг в ужас. Признать христианством веру, не основанную на непогрешимой доктрине, они не желали, поэтому сочли своим долгом бороться с этой либеральной угрозой. В 1910 г. пресвитерианцы Принстона, сформулировавшие доктрину непогрешимости Писания, опубликовали список пяти догм, которые они считали основополагающими: 1) непогрешимость Писания; 2) непорочное зачатие Христа; 3) искупление Христом наших грехов на кресте; 4) Его телесное Воскресение; и 5) объективная подлинность чудес. (Последний пункт впоследствии заменят премилленаристские учения[387].)Затем нефтяные миллионеры Лайман и Мильтон Стюарты, основавшие в 1908 г. Библейский колледж в Лос-Анджелесе, чтобы бороться с «высшим критицизмом», финансировали проект по обучению верующих ключевым положениям веры. С 1910 по 1915 г. они выпустили серию из 12 брошюр под общим заглавием «Основы», где ведущие консервативные теологи популярно разъясняли суть таких догматов, как Троичность, опровергали «высший критицизм» и подчеркивали важность распространения библейской истины. Все брошюры были бесплатно розданы – 3 млн экземпляров, они имелись у каждого американского пастора, профессора и студента богословия. Позже проект обретет огромное символическое значение, поскольку фундаменталисты станут рассматривать его как начало своего движения. Однако в то время брошюры не привлекали внимания критиков и написаны были в нейтральном ключе, без воинственных призывов[388].
Тем не менее во время Первой мировой войны в консервативном протестантизме появился элемент террористических настроений, и течение стало фундаменталистским. Американцы всегда были склонны рассматривать конфликты в апокалиптическом свете, и Первая мировая война подтвердила многим их премилленаристские убеждения. Бойня таких невероятных масштабов, решили они, возвещает не что иное, как начало Конца. Это и есть те битвы, что предсказаны в Откровении Иоанна Богослова. С 1914 по 1918 г. состоялись три конференции, посвященные толкованию Священного Писания, участники которых прочесывали Справочную Библию Скофилда в поисках других «знамений времен». Все указывало на то, что пророчества действительно вот-вот сбудутся. Согласно предсказаниям иудейских пророков, перед Концом Света народ израильский должен вернуться в свои земли, поэтому опубликованная британским правительством Декларация Бальфура (1917), обещающая поддержку в создании в Палестине национального очага для еврейского народа, повергла премилленаристов в священный трепет. Россия олицетворяла у Скофилда ту самую рать, которая «от пределов севера»[389] вторгнется в Израиль незадолго до Армагеддона; косвенным подтверждением тому служила Октябрьская революция 1917 г., сделавшая государственной идеологией атеистический коммунизм. Создание Лиги наций соответствовало пророчеству из Откровения (16:14) – о возрожденной Римской империи, которую вскоре возглавит Антихрист. Чем больше протестанты-премилленаристы наблюдали за мировыми событиями, тем больше политизировались. То, что в конце XIX в. не выходило за рамки доктринальных разногласий с либералами в своих же деноминациях, превращалось в борьбу за будущее цивилизации. Консерваторы видели себя на передовой битвы с сатанинской ратью, которая вскоре разрушит мир. Ходившие во время и сразу после войны слухи о зверствах немцев только убеждали консерваторов, насколько они были правы, отвергая народ, породивший «высший критицизм»[390].
Однако в основе этого видения лежала не отвага, а глубочайший страх. В консерваторах говорила ксенофобия, боязнь иностранного влияния, которое несли католики, коммунисты и адепты «высшего критицизма». В этой фундаменталистской вере выражено глубочайшее отвращение к современному миру. Консервативные протестанты прониклись крайней неприязнью к демократии, считая, что она приведет к «власти толпы», к «красной республике» и к «невиданному прежде разгулу власти дьявола»[391]. Миротворческие институты, например Лига наций, представали в их глазах абсолютным злом; лига, без сомнения, служила пристанищем Антихриста, который, как предсказывал апостол Павел, своим коварством сумеет обольстить всех и каждого. Библия предупреждала, что в Конце Времен человечество ждет война, а не мир, поэтому лига явно избрала ошибочный путь. В самом деле, почему бы Антихристу не прикинуться миротворцем?[392] Неприязнь к лиге и другим международным организациям, кроме того, выдавала глубокий страх фундаменталистов перед свойственной модерну централизацией и любыми попытками создания общемирового правительства. Напуганные универсализмом современного общества, некоторые инстинктивно искали спасения в трайбализме.
Эти страхи перед заговором, порождающие у человека ощущение, будто он борется за собственное выживание, могут легко перерасти в агрессию. Иисус уже не выступал любящим спасителем из проповедей Дуайта Муди. Как объяснял ведущий премилленарист Исаак Холдеман, Христос из Откровения «уже не ищет ни дружбы, ни любви… Его одежды в крови, чужой крови. Он нисходит на землю, чтобы пролить людскую кровь»[393]. Консерваторы приготовились к битве – и именно в этот ключевой момент в наступление перешли либеральные протестанты.
Либералам война тоже спутала все карты, поскольку противоречила их представлениям о том, что мир неизбежно движется к Царству Божьему. Им оставалось одно – объявить ее той самой войной, которая положит конец всем войнам, сделает мир безопасным и подготовит почву для демократии. Либералов ужасала жестокость премилленаристов с их не оставляющей камня на камне критикой демократии и Лиги наций. Их доктрины казались не просто антиамериканскими, но и отвергающими само христианство. Либералы решили нанести удар, и, вопреки учению о любви и сострадании, их кампания отличалась безжалостностью и разнузданностью. В 1917 г. теологи из Богословской школы Чикагского университета, теологического оплота либеральных христиан в Соединенных Штатах, выступили против Библейского института Муди в другом конце города[394]. Профессор Ширли Джексон Чейз обвинил премилленаристов в измене родине и продажности, поскольку те якобы получали деньги от немцев. Альва Тейлор сравнил их с большевиками, которые тоже хотели изменить мир в одночасье. Альфред Диффенбах, редактор Christian Register, назвал премилленаризм «вопиющим помрачением религиозной мысли»[395].
Сравнением истово верующих преподавателей Библейского института Муди с врагом, в котором премилленаристы видели не только политического соперника, но самого сатану, либералы нанесли удар ниже пояса. Консерваторы не остались в долгу. Редактор ежемесячного вестника Библейского института Муди ректор института Джеймс Грей заявил, что именно либералы со своим пацифизмом виноваты в проигрыше Соединенными Штатами гонки вооружений с Германией и подрыве военного потенциала[396]. Томас Хортон в премилленаристском издании The King's Business утверждал, что либералы действуют заодно с немцами, поскольку «высший критицизм», который они преподавали в своей Богословской школе, послужил утрате истинных ценностей в Германии и способствовал развязыванию войны[397]. В других статьях консерваторы возлагали на рационализм и теорию эволюции вину за бесчинства немцев[398]. Говард Келлог из Лос-Анджелесского библейского института подчеркивал, что именно эволюционная философия в ответе за «чудовище, добивающееся мирового господства, краха цивилизации и уничтожения христианства как такового»[399]. Эти злобные, противоречащие христианскому поведению выпады с обеих сторон явно задевали их за живое и пробуждали глубочайший страх уничтожения. О возможности примириться по вопросу «высшего критицизма» речь уже не шла, консерваторы теперь видели в нем абсолютное зло. Буквалистское понимание истины Священного Писания превратилось в вопрос жизни и смерти для христианства как такового. Нападки критиков на Библию сеют анархию и грозят привести к полному краху цивилизации, заявил баптистский священник Джон Стрейтон в знаменитой проповеди, озаглавленной «Погибнет ли Нью-Йорк, если не раскается?»[400]. Конфликт разгорался, и преодолеть раскол уже не представлялось возможным.
В августе 1917 г. Уильям Белл Райли вместе с Э. К. Диксоном (1854–1925), одним из редакторов «Основ», и ривайвелистом Рубеном Торри (1856–1928) решили основать ассоциацию с целью пропаганды буквалистского толкования Священного Писания и «научных» премилленаристских доктрин. В 1919 г. Райли созвал массовую конференцию в Филадельфии, на которой собралось 6000 консервативных христиан из всех протестантских деноминаций, и официально объявил о создании Всемирной ассоциации христианских фундаменталистов (ВАХФ). Сразу после конференции Райли вместе с 14 ораторами и хором исполнителей госпелов отправился в турне по Соединенным Штатам и посетил 18 городов. Либералы оказались не готовы к такому наступлению, а фундаменталисты вызвали столь живой отклик у аудитории, что Райли уже видел себя стоящим во главе новой Реформации[401]. Фундаменталисты рассматривали свою кампанию как борьбу, и их лидеры активно употребляли в своих воззваниях военную лексику. «Я полагаю, пришло время, – писал Э. Вуллам в Christian Workers Magazine, – всем евангелистским силам страны, особенно библейским институтам, не просто подняться на защиту веры, но сплотить силы в наступательной борьбе». В том же номере ему вторил Джеймс Грей, провозглашая необходимость создания «наступательного и оборонительного союза в лоне Церкви»[402]. На съезде Северной баптистской конвенции в 1920 г. Кертис Ли Лоз определил «фундаменталиста» как человека, который готов отвоевывать области, захваченные Антихристом, и «вступить в генеральное сражение за основы веры»[403]. Райли пошел еще дальше, говоря уже не о битве, а о «войне, с которой нельзя дезертировать»[404].
Следующей задачей фундаменталистов стало изгнание либералов из своих церквей. Большинство фундаменталистов были баптистами или пресвитерианами, поэтому самые ожесточенные сражения развернулись именно в этих деноминациях. В своей знаменитой книге «Христианство и либерализм» (1923) теолог-пресвитерианец Дж. Грешем Мейчен (1881–1937), самый эрудированный из фундаменталистов, называл либералов язычниками, которые, отрицая буквальную истину таких основополагающих доктрин, как непорочное зачатие, отвергают христианство как таковое. На генеральных ассамблеях деноминаций вспыхивали нешуточные бои, когда пресвитериане-фундаменталисты пытались навязать церкви свои пять пунктов. После одного особенно бурного диспута Райли вышел из Баптистской ассамблеи и основал собственный Баптистский библейский союз для таких же бескомпромиссных, как он сам. Другие баптисты фундаменталистского толка остались в основной деноминации, надеясь реформировать ее изнутри, чем вызвали смертельную ненависть Райли[405].
Кампании продолжились, накаляясь до такой степени, что любая попытка примирения только ухудшала ситуацию. Когда либеральный проповедник Гарри Эмерсон Фосдик (1878–1969), миролюбивая натура и один из самых влиятельных американских священников того времени, призвал к терпимости в проповеди, произнесенной в баптистской конвенции в 1922 г. (позже опубликованной в The Baptist под заголовком «Победа за фундаменталистами?»), ответное возмущение стало свидетельством глубочайшей ненависти, которую вызывали эти либеральные идеи[406]. Она распространилась и на другие деноминации. После проповеди в фундаменталистском полку начало прибывать – самые консервативные «Ученики Христовы», адвентисты Седьмого дня, пятидесятники, мормоны и Армия спасения поддержали дело фундаментализма. Даже методистов и прихожан Епископальной церкви, не участвующих в скандалах, свои же консерваторы побуждали сформулировать и сделать обязательными «основополагающие и вечные христианские истины»[407]. К 1923 г. стало казаться, что перевес действительно на стороне фундаменталистов и что им удастся избавить деноминации от либеральной опасности. Но затем умами завладела новая кампания, которая в конечном итоге скомпрометировала все фундаменталистское движение.
В 1920 г. член Демократической партии пресвитерианец Уильям Дженнингс Брайан (1860–1925) возглавил крестовый поход против преподавания эволюционной теории в школах и колледжах. По его мнению, в зверствах Первой мировой следовало винить не «высший критицизм», а именно дарвинизм[408]. Он пребывал под сильным впечатлением от двух книг, напрямую связывающих эволюционную теорию и немецкий милитаризм: The Science of Power («Наука власти») (1918) Бенджамина Кидда и Headquarter Nights («Штабные ночи») (1917) Вернона Келлога, где приводились интервью с немецкими офицерами, рассказывавшими, насколько дарвинизм якобы повлиял на решение Германии объявить войну. Если концепция, гласившая, что выжить может или должен только сильнейший, подготовила, по мнению Брайана, почву для самой кровопролитной войны в истории, то «та же самая наука, которая произвела на свет отравляющие газы, проповедует, что у человека были дикие предки, и вычеркивает из Библии все чудесное и сверхъестественное»[409]. В то же самое время в своей книге The Belief in God and Immortality («Вера в Бога и бессмертие») психолог Джеймс Лейба из колледжа Брин-Мор приводил статистику, «доказывающую», что высшее образование представляет опасность для веры. Дарвинизм воспитывал у молодежи неверие в Бога, недоверие к Библии и другим фундаментальным доктринам христианства. Брайан не был типичным фундаменталистом – он не принадлежал к премилленаристам и не пытался читать Писание в буквалистском ключе. Однако его «исследование» привело его к убеждению, что эволюционная теория несовместима с моралью, порядочностью и выживанием человеческой цивилизации. Выступая со своей лекцией «Угроза дарвинизма» в разных городах Соединенных Штатов, он собирал огромные залы и получал широкую огласку в прессе.
Несмотря на надуманность, наивность и ошибочность выводов Брайана, люди охотно его слушали. Первая мировая война положила конец романтическим представлениям о науке – теперь человек опасался ее губительного потенциала, а в некоторых кругах зарождалось желание держать ее в строгой узде. Дарвиновская теория выступила ярким примером настораживающей склонности некоторых научных экспертов бросать вызов «здравому смыслу». Приверженцы религии, изъясняющейся на доступном языке, с воодушевлением приняли правдоподобный и понятный им повод отвергнуть эволюционную теорию. Предоставив им такой повод, Брайан, кроме того, собственными руками вывел эволюционный вопрос в число самых злободневных для фундаментализма. Такая позиция отвечала новому фундаменталистскому этосу, поскольку дарвинизм противоречил буквалистской интерпретации истины Писания, а паранойяльные выводы Брайна о его влиянии всколыхнули новые страхи, порожденные Первой мировой. Как доказывал полувеком ранее Чарльз Ходж, дарвиновская гипотеза претила фундаменталистам с их бэконианским мышлением и привязанностью к научному мировоззрению начала Нового времени. Высоколобые интеллектуалы в Йеле, Гарварде и крупных городах Восточного побережья откликались на новые веяния с энтузиазмом, однако глубинке они были чужды, жители маленьких городков чувствовали наступление секуляризма на привычную им культуру. И все же антиэволюционистская кампания никогда не лишила бы «высший критицизм» статуса главного жупела для фундаменталистов, если бы не драматические события на Юге, который до тех пор держался в стороне от фундаменталистских сражений.
У южан не было нужды становиться фундаменталистами. В их краях и без того господствовал консерватизм, и либералов в южных деноминациях насчитывалось слишком мало, чтобы разворачивать серьезное противостояние. Однако южан беспокоило преподавание эволюционной теории в государственных школах. Они усматривали в этом посягательство чуждой идеологии, поэтому в законодательные собрания штатов Флорида, Миссисипи, Луизиана и Арканзас были внесены на обсуждение законопроекты, запрещающие преподавание дарвинизма. Особенно строгие антиэволюционистские законы были приняты в Теннесси. Чтобы проверить их в действии и привлечь внимание к удару, нанесенному по свободе слова и Первой поправке, Джон Скоупс, молодой учитель из городка Дейтон, признался, что нарушил закон, заменяя директора своей школы на уроке биологии. В июле 1925 г. он предстал перед судом. Защищать его взялся Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), выслав целую команду юристов во главе с атеистом и опытным адвокатом Кларенсом Дарроу (1857–1938). По просьбе Райли и других фундаменталистских лидеров на стороне обвинения согласился выступить Уильям Дженнингс Брайан. Участие Дарроу и Брайана превращало дело о нарушении гражданских свобод в состязание между религией и наукой.
В деле Скоупса схлестнулись две непримиримые позиции[410]. И Дарроу, и Брайан защищали ключевые американские ценности – Дарроу ратовал за свободу слова, а Брайан за права простых людей, которые давно уже с подозрением относились к доводам высоколобых ученых. Во всех политических кампаниях Брайана превозносился простой человек. В своей монографии In His Image («По образу Божию», 1922), бросающей вызов дарвинизму, Брайан заявлял, что «говорит от лица огромного числа людей, которые не могут высказаться сами. Другого глашатая у них, по сути, нет. Они – часть государства, а значит, от них нельзя отмахнуться или воспринимать исключительно как „невменяемых“»[411]. Все это, разумеется, соответствовало истине, однако, к сожалению, Брайан не смог адекватно выразить эти смутные, продиктованные неосведомленностью тревоги на суде. Если Дарроу блестяще отстаивал необходимость свободы, с тем чтобы наука могла развиваться и доводить свои выводы до широкой публики, пресвитерианец и бэконианец Брайан утверждал, что за неимением неопровержимых доказательств люди вправе отвергать «неподтвержденные гипотезы» вроде дарвинизма как порочные. Если сам Скоупс относился к процессу как к фарсу, Дарроу и Брайан на полном серьезе сражались за священные и незыблемые для каждого из них ценности[412]. Однако когда настала очередь Дарроу задавать вопросы обвинителям, он безжалостно растоптал Брайана, выставив его запутавшимся невеждой. Загнанный в угол Брайан был вынужден признать, что возраст мира, вопреки вычисляющемуся из библейского текста, составляет гораздо больше 6000 лет, что каждый из шести дней творения, упомянутых в Книге Бытия, длился существенно дольше обычных суток, что он не знаком с критическими материалами на тему происхождения библейских текстов, не интересовался иными вероучениями и, наконец, что он «не думает о том, о чем не думает», а о том, о чем думает, думает лишь иногда[413]. Это был провал. Дарроу вышел победителем, глашатаем чистой рациональной мысли, а пожилой Брайан, представший перед публикой обскурантистом с кашей в голове, скончался через несколько дней после пережитого.
Скоупса осудили, однако Союз борьбы выплатил штраф. Дарроу и современная наука праздновали в Дейтоне безоговорочную победу. В прессе Брайана и его сторонников затравили как безнадежных ретроградов. Так, журналист Г. Л. Менкен, например, объявил фундаменталистов позором страны. Это только справедливо, писал он, что Брайан закончил свои дни в «захолустной теннессийской деревне», раз он так любил весь простой народ, «включая дремучих деревенщин из глубинки». Фундаменталисты повсюду. «Это они наводняют трущобы за газовыми заводами, это их скудные умишки не могут осилить даже те крупицы знаний, что дают захудалые государственные школы»[414]. Фундаменталисты – пережиток прошлого, враги науки и интеллектуальной свободы, поэтому в современном мире им места нет. Как утверждал Мейнард Шипли в «Войне с современной наукой» (The War on Modern Science, 1927), если фундаменталистам удастся захватить власть в церквях и законодательно навязать американскому народу свои устои, Америка лишится значительной части своих культурных достижений и скатится назад в средневековье. Либеральные секуляристы, испугавшись, нанесли ответный удар. Культура – это всегда борьба, тут разные группы пытаются превратить свои собственные взгляды и представления в господствующие. В Дейтоне битву выиграли секуляристы, а затем, поливая фундаменталистов грязью, добили противника, показав, что его нельзя принимать всерьез. После «обезьяньего процесса» фундаменталисты притихли, господство в деноминациях перешло к либералам и накал борьбы пошел на спад. Уильям Белл Райли и его сторонники вроде бы отказались от борьбы – к концу десятилетия Райли уже не возражал против заседания с либералом Гарри Фосдиком в одной коллегии.
Однако на самом деле фундаменталисты никуда не исчезли. Наоборот, после процесса их взгляды стали еще более жесткими. Они затаили глубочайшую обиду на доминирующую культуру. В Дейтоне они попытались – безуспешно – опровергнуть представления радикальных секуляристов о том, что религия – это пережиток и значение имеет только наука. Они не смогли отстоять свои позиции и избрали неправильную площадку для выражения собственных взглядов. Антинемецкая фобия Брайана отдавала паранойей, а демонизация дарвиновского учения грешила неточностями. Однако человечеству важны моральные и духовные императивы религии, их нельзя бездумно выкинуть на свалку истории в угоду распоясавшемуся рационализму. Отношения между наукой и этикой оставались камнем преткновения. Однако проигравшим в Дейтоне фундаменталистам казалось, что их отправили на задворки общества и поливают презрением. Полувеком ранее «новосветники» составляли в Америке большинство, после «обезьяньего процесса» они стали отщепенцами. Тем не менее насмешки воинствующих секуляристов вроде Менкена оборачивались для либералов медвежьей услугой. Фундаменталистская вера зиждилась на глубочайшем страхе и тревоге, развеять которые рациональными доводами было невозможно. После Дейтона они ударились в экстремизм[415]. До процесса они относились к эволюционной теории более спокойно, и даже такие буквалисты, как Чарльз Ходж, допускали, что, вопреки сказанному в Библии, возраст мира может насчитывать более 6000 лет. Поборников так называемого креационизма, отстаивавшего научную точность всех деталей Книги Бытия, находилось немного. Но после Дейтона фундаменталисты зашорились еще больше, креационизм и несгибаемый буквализм в прочтении Библии заняли господствующие позиции в их мировоззрении. Кроме того, они сдвинулись на крайний правый фланг политического спектра. До войны фундаменталисты вроде Райли и Джона Стрейтона (1875–1929) охотно объединялись с представителями левого крыла в кампаниях за социальные реформы. Теперь же социальный евангелизм запятнал себя в их глазах сотрудничеством с либералами, подчинившими себе деноминации. Такое, как мы увидим, будет повторяться еще не раз: фундаментализм, мирно сосуществующий в симбиозе с агрессивным либерализмом или секуляризмом, в критической ситуации неизменно принимает самые крайние и чрезвычайно ожесточенные формы.
Дарроу и Менкен также ошибались, полагая, что фундаменталисты живут только прошлым. Наоборот, они были ярыми модернистами, но по-своему. Их попытки вернуться «к основам» ничуть не противоречили остальным интеллектуальным и научным течениям начала XX в.[416] Они выступали такими же приверженцами научного рационализма, как и остальные модернисты, но придерживались бэконианских, а не кантианских взглядов. Как объяснял в 1920 г. Э. К. Диксон, он называет себя христианином, потому что он «мыслитель, рационалист и ученый». Вера не означает «прыжок в неизвестность», она строится на «строгом наблюдении и правильном мышлении»[417]. Доктрины – это не теологические домыслы, а факты. Такое представление полностью соответствовало канонам развивающегося модерна, оставившего далеко позади премодернистскую духовность традиционного общества. Фундаменталисты пытались найти новый способ не изменять религии в эпоху, превыше всего ценившую научный логос. Только время покажет, насколько оправдались их действия в отношении религии, однако дейтонский процесс вскрыл всю научную несостоятельность фундаментализма и несоответствие научным стандартам XX в.
Пока фундаменталисты вырабатывали принципы модернистской веры, у пятидесятников складывалось «постмодернистское» видение, отражавшее неприязнь простого народа к рациональному просвещенческому модерну. Если фундаменталисты возвращались к тому, что считали доктринальной основой христианства, пятидесятники, не интересовавшиеся догмой, возвращались на еще более фундаменталистский уровень: к той неразвитой религиозности, которая существует вне вероучений. Если фундаменталисты полагались на Слово Писания, пятидесятники обходились без языка, который, как издавна утверждали мистики, не способен адекватно отобразить ту действительность, что лежит за пределами понятий и разума. Их религиозный дискурс не имеет ничего общего с логосом фундаменталистов, он существует вне слов. Пятидесятники практиковали глоссолалию, убежденные, что на них нисходит Святой Дух, как когда-то на Христовых апостолов в иудейский праздник Пятидесятницы, когда божественное присутствие, явив себя в языках пламени, наделило апостолов даром говорить «на иных языках»[418].
Первое крещение Святым Духом приняла группа собравшихся в крошечном лос-анджелесском домишке 9 апреля 1906 г. Руководил группой Уильям Джозеф Сеймур (1870–1915), родившийся в семье рабов, освобожденных после Гражданской войны. Он уже давно искал более прямую, неопосредованную форму поклонения, чем та, которую предлагали официальные белые протестантские деноминации. К 1900 г. он примкнул к движению Святых Вечернего Света, веривших в пророчество Иоиля, согласно которому незадолго до Судного дня к божьим людям вернутся дары исцеления, экстаза, «говорения на языках» и прорицания, свойственные ранней церкви[419]. Весть о сошествии Святого Духа на Сеймура и его товарищей распространилась со скоростью лесного пожара. Чернокожие и малоимущие белые повалили на следующую службу толпой, и Сеймуру пришлось перенести собрания в старый склад на улице Азуса. Через четыре года по всем Соединенным Штатам насчитывались сотни пятидесятнических групп, движение охватило 50 стран[420]. Первый подъем пятидесятничества представлял собой очередную волну народного Пробуждения, которые время от времени вспыхивали на протяжении Нового времени, когда люди «чуяли нутром» приближение больших перемен. Сеймур и первые пятидесятники не сомневались в том, что настают Последние Дни, вскоре вернется Иисус и установит более справедливый социальный порядок. Однако после Первой мировой войны, когда стало ясно, что в ближайшие годы ждать Второго Пришествия не стоит, пятидесятники придали своей глоссолалии иное значение – теперь они видели в ней новый способ общения с Господом. Как объяснял апостол Павел, когда христиане испытывают затруднения с молитвой, «Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»[421]. Пятидесятники тянулись к Господу, находящемуся за пределами возможностей человеческой речи.
На заре движения действительно казалось, что пятидесятнические службы приближают новый мировой порядок. Вокруг растет экономическая нестабильность и ксенофобия, а здесь белые молятся вместе с чернокожими и заключают друг друга в объятия. Сеймур проникался убеждением, что эта расовая интеграция – куда более верное знамение Последних Дней, чем глоссолалия[422]. Однако это не значит, что в пятидесятничестве царила сплошная идиллия. Там тоже не обошлось без соперничества и раскола на фракции; некоторые белые пятидесятники, отделившись, основали собственные церкви[423]. Однако стремительное распространение пятидесятничества в народе отражало массовое неприятие статус-кво. На пятидесятнических службах люди говорили на «ангельских языках», впадали в транс или экстаз, левитировали и ощущали, что их тела охвачены несказанной радостью. Они видели полосы яркого света в воздухе и распластывались на земле, валясь с ног под тем, что казалось им гнетом славы[424]. Этот дикий экстаз был опасен, однако тогда, в начале распространения пятидесятничества, люди по крайней мере не впадали в отчаяние и депрессию, как во время другой волны Великого Пробуждения. Чернокожие обладали большим опытом переживания экстатических состояний, а вот у белых пятидесятников позже, как мы еще увидим, будут отмечены случаи нездоровой опустошенности и апатии. В первоначальном пятидесятничестве подчеркивалась значимость любви и сострадания, накладывавших собственные обязательства. Сеймур неоднократно повторял: «Если вы обозлитесь, начнете сквернословить или огрызаться, мне все равно, на скольких языках вы говорите, крещение Святым Духом вас не коснулось»[425]. «Господь послал этот поздний дождь, чтобы собрать всех нищих и отверженных и заставить нас полюбить всех ближних своих, – объяснял в 1910 г. Д. Майланд, один из первых толкователей пятидесятничества. – Господь берет все самое низменное, самое презренное и восславляется в нем»[426]. Призыв к всеприятию и милосердной любви резко контрастировал с разобщением среди христиан-фундаменталистов. Если считать главным мерилом религиозности милосердие, пятидесятники далеко обогнали в нем всех остальных.
Как показал в своей исследовательской работе по пятидесятничеству американец Харви Кокс, движение было попыткой возродить многое из отринутого Западом в эпоху модерна опыта[427]. Его можно рассматривать как народный бунт против модернистского культа разума. Пятидесятничество зародилось в те времена, когда к науке начали проникаться недоверием, а верующие (к своей досаде) осознавали, что доверие только к разуму чревато опасными последствиями для веры, которая традиционно опиралась на интуитивные, творческие и эстетические практики. Фундаменталисты пытались сделать свою основанную на Библии веру полностью рациональной и научной – пятидесятники возвращались к истокам религиозности, определенным Коксом как «почти неизученное ядро психики, в котором идет бесконечная борьба за ощущение цели и значимости»[428]. Фундаменталисты, идентифицируя веру с рационально доказанной догмой, сводили религиозные переживания к мыслительной области сознания – пятидесятники углублялись в подсознательные источники мифов и религии. Фундаменталисты подчеркивали важность Слова и буквализма прочтения – пятидесятники обходили обычную речь стороной и пытались достичь первоначальной духовности, лежащей за пределами догм и доктрин. Этос модерна требовал сосредоточения на окружающем мире – пятидесятники демонстрировали тягу человечества к экстазу и трансценденции. Резкий всплеск интереса к этой форме веры показывал, что не все пребывают в восторге от модернистского научного рационализма. Инстинктивное отторжение примет модерна свидетельствовало о том, что дивный новый мир Запада многим казался не таким уж дивным.
Мы еще не раз увидим, что в религиозном поведении людей, не попадающих в число облагодетельствованных модерном, прослеживается сильная тяга к духовному, которое в секуляристском обществе либо исключается, либо маргинализируется. Американский критик Сьюзен Зонтаг отметила «вечное недовольство языком», проявляющееся как в восточных, так и в западных цивилизациях каждый раз, как «мысль достигает определенного, непосильного уровня сложности и духовной значимости»[429]. В такой момент люди начинают понимать мистиков, недовольных возможностями человеческой речи. Мистики, независимо от своей принадлежности к тому или иному вероучению, всегда подчеркивали невыразимость и неописуемость идеальной реальности. Кому-то на помощь приходили экстатические состояния, сходные с «говорением на языках» у пятидесятников, призванные вызвать у адепта ощущение, что священное и трансцендентное лишает смысла слова и выражаемые ими рациональные понятия. Так, например, тибетские монахи используют гудение на низких частотах, а индусские гуру – носовые всхлипы[430]. Пятидесятники с улицы Азуса неожиданно для себя открыли один из признанных в разных религиозных традициях способов не дать божественному замкнуться в темнице человеческого мышления. Фундаменталисты между тем двигались в прямо противоположном направлении. Однако и пятидесятники, и фундаменталисты, каждые по-своему, реагировали на беспрецедентную сложность, которой достиг к первым десятилетиям XX в. западный дискурс. На процессе по делу Скоупса Брайан отстаивал «здравый смысл» простого народа, выступая против тирании экспертов и специалистов. Пятидесятники бунтовали против гегемонии разума, однако, как и фундаменталисты, отстаивали право самых малообразованных слоев высказываться и быть услышанными.
Фундаменталисты, в полном соответствии со своим высокомерным и замкнутым вероучением, пятидесятников ненавидели. Уорфилд утверждал, что эпоха чудес закончилась, а пятидесятники, подобно католикам, упорствуют в своей вере, будто Господь способен и сегодня регулярно попирать законы природы. Иррационализм пятидесятников мешал фундаменталистам установить научную и вербальную власть над верой, чтобы помочь ей выжить в ополчившемся на нее мире. Другие фундаменталисты обвиняли пятидесятников в суеверности и фанатизме – один из этих обвинителей даже назвал их движение «последней блевотой Сатаны»[431]. Нетерпимость и злословие портили облик протестантского фундаментализма еще на раннем этапе, а после процесса над Скоупсом это осуждение всякого иного, крайне далекое от проповедуемого в Писании, проявится еще резче. Однако, несмотря на различия, и фундаменталисты, и пятидесятники искали способы заполнить пустоту, созданную триумфом разума в западном мире модерна. Пятидесятники с их призывами к любви и настороженным отношением к доктрине на этом раннем этапе были ближе к либеральным протестантам среднего класса, однако к середине столетия, как мы еще увидим, некоторые из них перейдут в непримиримый фундаменталистский стан, предав забвению идеи о том, что милосердие превыше всего.
У иудеев тоже намечалась тенденция к отходу от чрезмерно рациональных форм веры, сложившихся в XIX столетии. В Германии такие философы, как Герман Коген (1842–1918) и Франц Розенцвейг (1886–1929), сделали попытку сохранить ценности Просвещения, хотя Розенцвейг также пытался вдохнуть новую жизнь в мифологические идеи и ритуалы, переложив их на более близкий представителям модерна лад. Он представил различные предписания Торы, не всегда поддающиеся рациональному объяснению, символами, указывающими на божественное, ими обозначенное. Эти обряды создавали внутренний настрой, открывавший перед иудеем дорогу к священному, помогали выработать умение прислушиваться и ждать. Библейские истории творения и откровения предлагалось воспринимать не как факты, но как отражение духовной реальности нашего внутреннего мира. Другие мыслители, такие как Мартин Бубер (1878–1965) и Гершом Шолем (1897–1982), привлекали внимание к формам веры, обойденным вниманием историков-рационалистов. Бубер раскрывал богатство хасидизма, а Шолем исследовал мир каббалы. Однако эти древние формы духовности, оставшиеся в другом мире, вызывали все меньше понимания у проникающихся духом рационализма иудеев.
Откровенно секуляристская идеология сионистов зачастую выражалась способами, которые прежде назвали бы религиозными. Людям пришлось как-то заполнять духовный вакуум, чтобы избежать апатии и отчаяния. Раз привычная религия больше не отвечает их требованиям, они создадут секулярную духовность, наполняющую их жизнь трансцендентным смыслом. Сионизм, как и другие современные движения, стал возвращением к единственной, основополагающей ценности, предлагающей новый способ исповедания иудаизма. Вернувшись на Святую землю, евреи не только спасутся от антисемитской катастрофы, которую некоторые ощущали как неизбежную, но и получат душевное исцеление без помощи Бога, Торы или каббалы. Писатель-сионист Ашер Гинцберг (1856–1927), творивший под псевдонимом Ахад Га Ам («Человек из народа»), был убежден в том, что у евреев должно выработаться более рациональное и научное мировоззрение. Однако, как истинный модернист, он хотел вернуться к неразложимой сущности иудаизма, которую возможно будет обрести не ранее, чем иудеи вернутся к своим корням и осядут в Палестине. Религия, по мнению Гинцберга, представляла собой лишь внешнюю оболочку иудаизма. Новое национальное самосознание, которое разовьется у иудеев в Святой земле, сделает для них то же, что когда-то сделал Господь. Этот дух станет «проводником во всех жизненных делах», достигнет «самых глубин сердца» и «соединится с чувствами каждого»[432]. Возвращение в Сион окажется, таким образом, сродни путешествию в себя, предпринимавшемуся в свое время каббалистами, – погружением в глубины души с целью обрести внутреннее единство.
Сионисты, зачастую ненавидевшие религию, тем не менее неосознанно применяли по отношению к своему движению ортодоксальную терминологию. «Алия» – слово на иврите, которым сионисты называли репатриацию, изначально применялось для обозначения восхождения к высшей ступени бытия. Иммигрантов-репатриантов называли «олим» («те, кто восходят» или «пилигримы»). «Первопроходец», вступавший в сельскохозяйственную коммуну, звался «халуц» – это слово тоже несло в себе сильные религиозные коннотации спасения, освобождения и раскрепощения[433]. Прибывая в Яффу, многие сионисты целовали землю. Репатриацию они воспринимали как второе рождение и вслед за библейскими патриархами иногда даже меняли имена в знак обретения новых сил.
Духовность трудового сионизма наиболее красочно и ярко выразил Аарон Давид Гордон (1856–1922), прибывший в Палестину в 1904 г. и трудившийся в новом кибуце Дгания в Галилее. Там он пережил то, что религиозные иудеи назвали бы переживанием Шехины. Гордон был ортодоксальным иудеем и каббалистом, однако в то же время изучал Канта, Шопенгауэра, Ницше, Маркса и Толстого. Он пришел к выводу, что современное индустриализованное общество делает людей изгоями по отношению к самим себе. У них сложился слишком однобокий и чересчур рациональный подход к жизни. Чтобы противостоять этому, следует вырабатывать «хаваю» – непосредственное, мистическое ощущение священного, как можно теснее сливаясь с природой, поскольку именно там Бесконечное являет себя человеку. Иудею эту природу следует искать в Палестине. «Душа иудея, – утверждал Гордон, – рождена природной средой Земли Израильской». Только там иудей мог прочувствовать описанную каббалистами «прозрачность, глубину безоблачных небес, ясную перспективу и чистые росы»[434]. Посредством труда («аводы») первопоселенец приобщится к «божественному неизвестному» и возродится, как возрождались мистики в процессе духовных упражнений. Возделывая землю, «ущербный, расколотый, изломанный» выходец из диаспоры «превратится в цельного, гармоничного, верного себе»[435]. Гордон считал неслучайным, что когда-то словом «авода» – труд или служба – обозначалась литургия в храме. Святость и цельность сионисту предстояло обретать не в общепринятых религиозных обрядах, а в упорном труде на земле галилейской.
Одну из самых дерзких в иудаизме новаторских попыток одухотворить светское предпринял рабби Авраам Ицхак Кук (1865–1935), также иммигрировавший в Палестину в 1904 г., чтобы стать раввином нового поселения. Это было странное назначение. В отличие от большинства ортодоксов Кук проникся идеями сионизма, однако дошедшее до его ушей постановление, вынесенное делегатами Второго сионистского конгресса в Базеле в 1898 г., гласившее, что «сионизм не имеет ничего общего с религией»[436], повергло его в ужас. Он осудил постановление в самых хлестких выражениях, заявив, что оно «простерло жуткие черные крылья смерти над нашим юным и хрупким национальным движением, отсекая его от источника самой жизни и блеска его славы». Кук назвал постановление «позорным и гнусным», «ядом, который отравляет сионизм», «разлагая его и превращая в точимый червями труп». Оно «превратит сионизм в пустой сосуд… где поселится дух разрушения и раздора»[437]. Несмотря на выспренность, свойственную скорее древним пророкам, в речах Кука было много современного. Он одним из первых среди приверженцев религии предвидел, задолго до Первой мировой, что национализм может стать губительным и что политика, лишившись чувства святого, способна демонизироваться. Рабби приводил в пример Французскую революцию, которая началась с высоких идеалов, но затем скатилась к кровавой резне. Чисто секулярная идеология могла растоптать божественный образ, заключенный в человеке; если превыше всего окажется государство, ничто не помешает правителю истребить подданных, которые в его глазах мешают процветанию страны. «Когда национализм становится для людей доминирующей идеей, – предупреждал Кук, – он может как унизить и обезличить их дух, так и возвысить»[438].
Разумеется, существовали и светские идеологии, без отсылок к сверхъестественному воспитывающие в человеке глубочайшее чувство священной неприкосновенности ближнего. И наоборот, есть религии, не уступающие по кровожадности светским идеалам. Однако предупреждение Кука было своевременным, поскольку XX в., от начала до конца, был чередой актов геноцида, совершаемых светскими правителями-националистами. Кук боялся, что сионизм станет таким же тоталитарным и в Израиле воцарится опасный культ государства. В то же время он не сомневался в том, что любая попытка отделить израильское государство от Бога обречена на провал, поскольку иудеи, сами, возможно, того не ведая, экзистенциально связаны с божественным. Почти сразу по прибытию в Палестину Куку пришлось произнести надгробную речь по Теодору Герцлю, погибшему во цвете лет. К возмущению палестинских ортодоксов, которые видели в сионизме неискоренимое зло, Кук представил Герцля мессией из колена Иосифова, Искупителем по народной иудейской эсхатологии, который должен был явиться на заре мессианской эры и поразить врагов еврейского народа, а затем погибнуть у врат Иерусалима. Однако своими деяниями ему предстояло подготовить почву для последнего Мессии из колена Давидова, который и принесет Спасение. Именно так видел Герцля Кук. Среди его достижений были и конструктивные, однако там, где он пытался разделить идеологию и религию, его усилия только дискредитировали себя. Как и деяния мессии из колена Иосифова, его действия были обречены на провал. Однако Кук утверждал, что ортодоксы, противостоящие сионистам, наносят не меньший вред; выступая «врагами перемен в земной жизни», они ослабили еврейский народ[439]. Приверженцы религии и секуляристы нужны друг другу, друг без друга они не смогут существовать.
Тем самым Кук вызывал к жизни прежний, консервативный уклад, когда в премодернистском мире религия и разум занимали отдельные, но взаимодополняющие ниши. Религия и разум одинаково необходимы и друг без друга обеднели бы. Кук был каббалистом, его вдохновляли мифология и мистицизм традиционного общества. Однако, как и некоторые другие реформаторы, взгляды которых мы уже рассматривали, он был модернистом в своем убеждении, что перемены теперь стали законом жизни и что необходимо любой ценой сбросить оковы аграрной культуры. Он верил, что молодые сионистские поселенцы помогут еврейскому народу развиваться и в конечном итоге приведут к Спасению. Их безжалостно прагматичная идеология представляла собой логос, необходимый человеку, чтобы выжить и успешно существовать в этом мире. Однако без творческой связи с иудейским мифом он утратит смысл и отрезанный от источника жизни угаснет.
До прибытия в Палестину Кук с этими молодыми секуляристами не сталкивался. Несколькими годами ранее их отказ от религии его ужаснул, но, увидев их труды в Святой земле, он был вынужден пересмотреть свои взгляды. Кук обнаружил, что у секуляристов имеется собственная духовность. Наряду с дерзостью и своенравием им были присущи и хорошие качества – «доброта, честность, справедливость и милосердие… у них росла тяга к знаниям и идеализму». Что еще важнее, их бунтарский дух, так претивший «слабым, населяющим упорядоченный мир, управляемый и благопристойный», должен был способствовать прогрессу еврейского народа; без их динамизма Израилю не удастся исполнить свое предназначение[440]. Восхваляя сионистских первопоселенцев, Кук заострял внимание на качествах, которые показались бы неприемлемыми мудрецу премодернистского периода, когда человеку полагалось подчиняться ритмам и ограничениям существующего уклада и где незаурядная личность, выбившаяся из общего строя, могла нанести серьезный ущерб обществу[441]: «Их пылкая натура заявляет о себе, не давая загонять себя в рамки… Сильные знают, что их сила призвана исправить этот мир, возродить страну, человечество и весь свет. Лишь поначалу она являет себя как хаос»[442]. Разве раввины талмудистского периода не предсказывали «век дерзости и безрассудства»[443], когда молодежь восстанет против старейшин? Этот бунт – всего лишь «шаги Мессии… тяжелые шаги, ведущие к прекрасной, радостной жизни»[444].
Кук одним из первых глубоко религиозных мыслителей смог принять молодой секуляризм, веря при этом, что в конечном итоге сионистское дело приведет к религиозному обновлению в Палестине. Вместо того чтобы надеяться на мирное сосуществование приверженцев религии и секуляристов – олицетворяющих соответственно миф и логос, – он применил гегелевский тезис о диалектической борьбе противоположностей, ведущей к синтезу, – Искуплению. Секуляристы боролись с религиозностью, однако своим бунтом сионисты подталкивали историю к новым свершениям. Все творение, иногда тернистым путем, влеклось к окончательному воссоединению с божественным. Каждый, считал Кук, может увидеть это движение в эволюционных процессах, описываемых наукой эпохи модерна, и в научных открытиях Коперника, Дарвина, Эйнштейна, которые, казалось, разрушали традиционные представления, однако вели к новому пониманию мира. Даже муки Первой мировой войны можно рассматривать, в лурианской терминологии, как «разрушение сосудов», часть процесса творения, который в конечном итоге должен вернуть в наш мир священное[445]. Именно так религиозные иудеи должны были, по мнению Кука, рассматривать сионистский бунт. «Бывают времена, когда закон Торы необходимо нарушать», – бесстрашно доказывал Кук. Когда человек ищет иной путь, все кажется новым и неизведанным, поэтому «некому показать, что правильно, и цели можно достигнуть, только разрушая прежние рамки». «Со стороны это выглядит печально, но изнутри – очень радостно!»[446]
Кук не замалчивал трудности. Между религиозными и светскими евреями идет «великая война». Каждый лагерь по-своему прав: сионисты борются с ненужными ограничениями, а ортодоксы закономерно стремятся избежать хаоса преждевременного отказа от традиций. Однако обе стороны владеют лишь частью истины[447]. Их противоборство породит чудесный синтез, который пойдет на благо не только еврейскому народу, но и всему миру. «Все мировые цивилизации воспрянут от возрождения нашего духа, – пророчествовал Кук. – Все религии облачатся в новые златотканые одежды, сбросив прежние засаленные обноски»[448]. Им владела мессианская мечта. Он всерьез верил, что живет в последние дни и вскоре станет свидетелем последнего свершения в истории человечества.
Кук разрабатывал новый миф, привязывая выдающиеся достижения своего времени к вечным символам каббалы. Однако, как представитель модерна, он адресовал свой миф будущему, рисуя мучительные и болезненные перипетии, посредством которых развивается история. Вместо того чтобы убеждать своих еврейских читателей принимать действительность такой, какая она есть и какой должна быть, Кук доказывал, что необходимо сокрушить священные законы прошлого и начать заново. Однако несмотря на эти модернистские черты, миф Кука в одном очень важном отношении все же принадлежит к премодернистскому миру. Его деление людей на два лагеря – приверженцев религии и светских сионистов, сходное с прежним делением на носителей мифа и логоса, отражало точно такое же разделение труда. Историю делали рациональные прагматики, этим всегда занимался логос, а верующие, представляющие мир мифа и культа, наполняли эту деятельность смыслом. «Мы накладываем тфилин [филактерии], – любил повторять ортодоксам Кук, – а первопроходцы кладут кирпич»[449]. Без мифа сионистская деятельность не только лишалась смысла, но и рисковала демонизироваться. Сионисты могут этого не сознавать, полагал Кук, но они орудия Господа, с помощью которых Он приводит в исполнение свой божественный замысел. Только этим оправдан их бунт против религии, и вскоре – Кук считал, что это произойдет еще при его жизни – в Святой земле грянет духовная революция и история получит искупление.
Верный учениям традиционного общества, Кук не прочил своему мифу роль идеологии или программы действий. В любом случае сторонников у него было очень мало, при жизни его считали чудаком. Кук не предлагал политических решений злободневных проблем сионистского движения в Палестине. Все в руках Господа. Миф Кука просто давал его приверженцам возможность увидеть, что происходит на самом деле. Политическое устройство будущего еврейского государства раввина, похоже, совершенно не интересовало. «Меня заботит главным образом духовное содержание, основанное на святости, – писал он своему сыну Цви Иехуде (1891–1981). – Мне ясно, что независимо от развития событий на правительственном уровне, если дух будет крепок, он приведет к желанным целям, поскольку тончайшие проявления свободной, сияющей святости озарят правительству любую дорогу»[450]. В настоящую же, неискупленную эпоху политика оставалась продажной и жестокой. Кука «возмущало вопиющее беззаконие власти в эпоху зла». К счастью, евреи оставались в стороне от активной политики с тех пор, как в 70 году н. э. потеряли Святую землю и отправились в изгнание; пока мир не претерпит моральной и духовной трансформации, возвращаться в политику евреям не следует. «Иакову не стоит соваться во власть, пока она требует крови и умения плести интриги». Однако вскоре «мир очистится»[451], и тогда евреи смогут выстроить то политическое устройство и проводить ту политику, которые сочтут нужным. «Как только господний народ окончательно укрепится на своей земле, он обратит свои взоры и на [гео-] политику, чтобы очистить ее от скверны, ее глотку – от крови, а зубы – от мерзости»[452]. В премодернистском мире от мифа не требовалось практических действий, это была прерогатива логоса и, по замыслу Кука, первопоселенцев.
Раввин по-прежнему считал, что, согласно Божьему Промыслу, религия и политика в настоящее время несовместимы, – в ортодоксальном сознании это убеждение обрело силу табу. Всю практическую работу выполняли сионисты, отвергнувшие религию.
Кук скончался в 1935 г., за 13 лет до образования государства Израиль. Он не дожил до ужасных мер, на которые пошли евреи, отвоевывая себе государство в арабской Палестине. Кук не видел 750 000 палестинцев, лишенных крыши над головой в 1948 г., и реки арабской и еврейской крови, пролившейся в арабо-израильских войнах. Он не знал, что через 50 лет после образования государства Израиль большинство евреев в Святой земле по-прежнему останутся секуляристами. Все это увидел и узнал его сын Цви Иехуда, который в преклонном возрасте превратит миф своего отца в практическую политическую программу и создаст фундаменталистское движение.
Могли ли евреи оставаться в стороне от политики в эти страшные времена? Помимо того, что общество модерна все больше пропитывалось антисемитизмом, секуляризм все глубже проникал в еврейские общины и подрывал традиционный уклад. В Восточной Европе модернизация только начиналась. Часть российских и польских раввинов продолжала отворачиваться от нового мира и политики. Как может дорожащий своим добрым именем еврей замарать себя участием в торге и компрометациях, составляющих существенную часть современной политики демократического государства? Как совместить это с безусловными заповедями Торы? Идя на сделки с гоями и участвуя в политических институтах, евреи впустят в общину нечестивый светский мир и тем самым неизбежно ее осквернят. Однако главы крупнейших миснагдимских иешив и хасиды польского города Гер не разделяли эти воззрения. Они видели, что разные сионистские и еврейские социалистические партии вовлекают евреев в безбожие, и хотели остановить крен в сторону секуляризма и ассимиляции, полагая, что с этими модернистскими по сути своей опасностями нужно бороться модернистским путем. Религиозные евреи должны сражаться с секуляристами их же оружием. Это означало создание современной политической партии, призванной защищать интересы ортодоксов. Идея, признавали они, не нова. Российские и польские евреи уже давно вели «штадланут» (переговоры, политический диалог) с правительством, обеспечивая благополучие еврейских общин. Новая ортодоксальная партия продолжит эту работу, однако более плодотворно и организованно.
В 1912 г. миснагдимские главы иешив и хасиды из Гера основали новую партию, «Агуддат Исраэль» («Союз Израиля»). К ним присоединились участники «Мизрахи», ассоциации «религиозных сионистов», образованной раввином Ицхаком Яковом Рейнесом (1839–1915) в 1901 г. «Мизрахи» уступала в радикализме рабби Куку, который рассматривал светские сионистские начинания в Палестине как способствующие религиозному развитию. Рейнес, более строгий ортодокс, этой точки зрения не разделял. Политическая деятельность сионистов не имеет никакой религиозной значимости, однако создание иудейской земли станет практическим выходом для преследуемого народа, поэтому заслуживает поддержки ортодоксов. Создание в Палестине такого оплота, по мнению «Мизрахи», приведет к духовному возрождению и истовому соблюдению заповедей Торы. Однако в 1911 г. делегаты от «Мизрахи» покинули Десятый сионистский конгресс в Базеле в ответ на отказ обеспечить равноценное финансирование их религиозных школ в Палестине. Отмежевавшись от магистрального течения в сионизме, преданного идеям радикальных секуляристов, они были готовы связать судьбу с «Агуддат Исраэль», организации которой вскоре появились и в Восточной, и в Западной Европе.
Однако члены западной «Агуддат» рассматривали свое движение совсем не так, как российские и польские евреи, которые по-прежнему очень осторожно относились к открытой активной позиции[453]. Российские и польские евреи видели в «Агуддат» исключительно защитную организацию, чья задача состоит лишь в том, чтобы оградить интересы евреев в нелегкие времена модернизации правительств Восточной Европы. Они старались не усердствовать в политической активности, стремились улучшить положение евреев при существующем модернистском политическом укладе, сторонились сионизма и декларировали преданность польскому государству. На Западе, где модернизация продвинулась гораздо дальше, евреи уже были готовы к чему-то другому. Большинство членов «Агуддат» на Западе были неоортодоксами, что само по себе представляло модернизированную форму иудаизма. Они уже приспособились к современному миру и стремились теперь не только уберечься от потрясений, которые несли с собой разнообразные новшества, но и изменить действительность. Они не только видели в партии защитницу, но и желали сами перейти в наступление и вырабатывали начатки фундаментализма.
Для Якова Розенхайма (1870–1965) основание «Агуддат» было не просто слегка досадной необходимостью, как для восточных евреев, а событием космического масштаба. Впервые с 70 года н. э. у евреев появился «объединенный координирующий центр»[454]. «Агуддат» символизировала власть Господа над Израилем и должна была стать центральной организацией еврейского мира. Тем не менее Розенхайм по-прежнему несколько настороженно относился к политике и хотел, чтобы «Агуддат» ограничилась содержанием еврейских школ и защитой экономических прав евреев. Более молодые члены партии отличались большим радикализмом и приближались по духу к протестантским фундаменталистам. Ицхак Брейер (1883–1946) желал, чтобы «Агуддат» проявила инициативу и начала кампанию за реформирование еврейского общества и усиление в нем религиозного начала. Как и премилленаристы, он видел в окружающем мире «знамения» божьего промысла. Первая мировая война и Декларация Бальфура – это «шаги Мессии». Евреи должны отвергнуть порочные ценности буржуазного общества, прекратить сотрудничество с европейскими правительствами и создать собственный священный анклав на Святой земле, построив теократическое государство по заветам Торы. Еврейская история летит под откос, евреи отошли от священной традиции, настало время вернуть историю обратно на правильные рельсы, и, если они сами сделают первый шаг, совершат исход из прогнившей диаспоры и вернутся к изначальным ценностям, живя в своей Земле по заветам Торы, Господь пошлет мессию[455].
Как отмечает еврейский ученый Алан Миттельман, по раннему опыту «Агуддат» можно судить о том, как появляется фундаментализм. Его нельзя назвать примитивной, рефлекторной реакцией на современное светское общество, он возникает, когда процесс модернизации уже в разгаре. Сперва традиционалисты – как восточноевропейские члены «Агуддат» – просто ищут способы приспособить свою веру к новым условиям. Они перенимают некоторые идеи и институты эпохи модерна, доказывают, что эти институты и идеи не идут вразрез с традицией, что вера не настолько слаба, чтобы не справиться с переменами. Но чем более светский характер с доминированием рацио обретает общество, тем больше противников находится у нововведений. Они начинают сознавать, что атакующий светский модерн по сути своей диаметрально противоположен ритмам традиционной премодернистской религии и угрожает основополагающим ценностям. Тогда они начинают вырабатывать «фундаменталистское» решение, возвращаясь к изначальным принципам своего вероучения и вынашивая планы контрнаступления[456].
Мусульмане, чью историю мы отслеживали ранее, до этой стадии еще не дошли. В Египте модернизации было еще далеко до завершения, а в Иране она толком и не началась. Мусульмане по-прежнему либо пытались вписать новые идеи в исламский контекст, либо перенимали светскую идеологию. Фундаментализм в исламском мире не появится до тех пор, пока определенная часть мусульман не убедится в бесплодности таких стратегий. Эти верующие увидят в секуляризме попытку разрушить ислам – на Ближнем Востоке, где западный модерн накладывался на чуждую ему почву, он действительно иногда принимал очень агрессивные формы.
В молодой светской Турции это проявлялось со всей очевидностью. После Первой мировой Османская империя, сражавшаяся на стороне Германии, потерпела поражение от европейских союзников, которые установили в бывших османских провинциях подмандатные территории и протектораты. Анатолию и центральные районы прежних османских земель захватили греки. С 1919 по 1922 г. Мустафа Кемаль Ататюрк (1881–1938) вел войну за независимость во главе турецкой национальной армии, в итоге благополучно оградив Турцию от европейских посягательств и провозгласив создание независимого государства по современной европейской модели. Для исламского мира это был беспрецедентный шаг. К 1947 г. в Турции сложился эффективный аппарат управления и капиталистическая экономика, страна стала первым многопартийным светским демократическим государством на Ближнем Востоке. Однако первым шагом к этим достижениям стали этнические чистки. С 1894 по 1927 г. османское, а затем и турецкое правительство систематически изгоняло, депортировало и уничтожало греческое и армянское население Анатолии, избавляясь от иностранных элементов, составлявших около 90 % буржуазии. Эти чистки обеспечивали молодому государству чисто турецкую идентичность, а кроме того, позволяли Ататюрку создать полностью турецкий коммерческий класс, который будет сотрудничать с правительством в создании современной промышленной экономики[457]. Уничтожение по крайней мере 1 млн армян стало первым актом геноцида в XX столетии, показавшим, как и опасался раввин Кук, что светский национализм может быть не менее опасным и смертоносным, чем крестовые походы и чистки, проводившиеся во имя религии.
Агрессивным путем велась и секуляризация Турции Ататюрком. Он решительно вознамерился «вестернизировать» ислам и свести его к частному вопросу, лишенному юридического, политического и экономического влияния. Религия должна подчиниться государству. Суфийские ордена были упразднены, все медресе и школы по изучению Корана закрыты, народ законодательно обязали носить западную одежду, женщинам запретили надевать чадру, а мужчинам – феску. Шейх Саид Сурси, глава суфийского ордена Накшбанди, поднял восстание, но этот последний отчаянный всплеск возмущения Ататюрк через два месяца успешно подавил. На Западе секуляризацию воспринимали как освобождение, на ранних этапах ее даже считали новой, улучшенной формой религиозности. Секуляризм был позитивным явлением, по большей части он вел к повышению терпимости. Однако на Ближнем Востоке секуляризация воспринималась как жестокое насилие и принуждение. Впоследствии, объявляя секуляризацию уничтожением ислама, мусульманские фундаменталисты часто приводили в пример именно Ататюрка.
Египет шел к независимости и демократии гораздо дольше, чем Турция. После Первой мировой египетские националисты потребовали независимости – начались бунты, нападения на англичан, диверсии на железных дорогах и телеграфных линиях. В 1922 г. Британия предоставила Египту частичную независимость. Новым королем стал хедив Фуад, в Египте появилась либеральная конституция и представительный парламентский орган. Однако подлинной демократии не было и в помине. Британия сохранила контроль над обороной и внешней политикой, поэтому о настоящей независимости речь не шла. С 1923 по 1930 г. народная партия «Вафд», требующая ухода британцев, одержала три крупные победы на выборах при либеральной конституции, однако каждый раз ей приходилось сдавать позиции под давлением либо британцев, либо короля[458]. Новые демократические структуры были лишь видимостью, и зависимость не позволяла египтянам обрести автономию, без которой невозможен дух модерна. Кроме того, чем больше британцы вмешивались в процесс выборов, тем сильнее дискредитировали демократический идеал.
Тем не менее в первые три десятилетия XX в. ведущие египетские мыслители вроде бы склонялись к секуляризму. Лютфи аль-Сайед (1872–1963), последователь Абдо, в своих трудах почти не уделял внимания исламу. Он видел секрет западного успеха в идеале национализма, поэтому считал необходимым пересаживать институты эпохи модерна на исламскую почву. Сам Лютфи воспринимал ислам исключительно как средство. Религия, разумеется, играет важную роль в формировании современного национального сознания, однако это лишь один кирпичик в ряду. Ничего особенного и самобытного ислам предложить не в силах. В Египте он должен получить статус государственной религии, поскольку большинство египтян – мусульмане, а ислам поможет культивировать у них гражданские ценности, однако в другом обществе любая иная религия справилась бы с этой задачей не хуже[459]. Еще большим радикализмом отличалось сочинение «Ислам и основы власти» (1925) Али Абд аль-Разика (1888–1966), утверждавшего, что современный Египет должен полностью порвать с исламом. Он подчеркивал, что, поскольку институт халифата не упоминается в Коране и пророк Мухаммед не был главой государства или правительства в современном понимании этого слова, ничто не мешает египтянам установить полностью светскую форму правления по европейскому образцу[460].
Книга аль-Разика вызвала ожесточенный протест. В частности, журналист Рашид Рида (1865–1935) заявил, что подобные рассуждения только подрывают единство мусульманских народов и делают их легкой добычей для западного империализма. Отвергая светский вариант развития, Рида первым из мусульман ратовал за создание полностью модернизированного исламского государства по законам шариата. В своем монументальном труде «Аль-Халифа» (1922–1923) он агитировал за восстановление халифата. Рида был биографом и большим поклонником Абдо, однако, несмотря на близкое знакомство с западной мыслью, он, в отличие от Абдо, никогда не чувствовал себя среди европейцев своим. Халифат необходим, считал Рида, поскольку он объединит мусульман против Запада, но это случится не скоро. Созданию подлинно современного халифата будет предшествовать долгий подготовительный период. Рида видел будущего халифа великим муджтахидом, достаточно сведущим в исламском законе, чтобы модернизировать шариат, не выхолащивая его. Халиф издаст законы, не вызывающие отторжения у современных мусульман, поскольку они будут основаны на собственных мусульманских традициях, а не заимствованы из-за рубежа[461].
Рида был типичным мусульманским реформатором в духе Ибн Таймии и Абд-аль-Ваххаба. Он хотел отразить иностранную угрозу, вернувшись к истокам[462]. Современные мусульмане смогут возродить ислам к жизни, лишь обратившись к идеалам салафа, первого поколения мусульман. Однако салафия Риды не означала просто рабского поклонения прошлому. Как и другие реформаторы на раннем этапе модернизации, он пытался перенять опыт и ценности современного Запада, помещая их в исламский контекст. Он хотел основать семинарию, где студентов знакомили бы с принципами международного права, социологией, мировой историей, организацией религиозных институтов, западной наукой и где они в то же время изучали бы исламский закон. Из выходцев семинарии сложится новый класс улемов, которые, в отличие от выпускников Азхара (безнадежно, по мнению Риды, отсталых), будут людьми своего времени, приверженцами обновленного иджтихада, верного при этом традиции. Когда-нибудь один из этих новых улемов может стать современным халифом[463]. Рида не был фундаменталистом, он по-прежнему пытался подружить ислам и современную западную культуру, не создавая протестный дискурс, однако его работа окажет влияние на будущих фундаменталистов. К концу жизни Рида все больше отдалялся от египетских националистов. Он не считал, что выход нужно искать в секуляризме. Бесчинства Ататюрка повергали его в ужас. Неужели другого пути, когда государство становится высшей ценностью, быть не может и не существует способов удержать правителя от прагматичных, но жестоких действий в интересах страны? Рида считал, что на Ближнем Востоке (на христианском Западе, возможно, нет) нетерпимость и гонения объясняются ослаблением религии[464]. В то время, когда ведущие египетские мыслители отворачивались от ислама, Рида пришел к убеждению, что современным мусульманским государствам религиозные ограничения необходимы по-прежнему, если не в большей мере.
Если в Египте пришли к убеждению, что «секрет» европейского успеха в национализме, иранцы в начале XX в. искали его в конституционном правлении. На этом этапе иранцы, как и многие египтяне, хотели брать пример с Запада. В 1904 г. Япония, незадолго до того принявшая конституцию, нанесла сокрушительное поражение России. Еще недавно, говорили реформаторы, Япония была такой же отсталой и темной, как Иран, однако благодаря конституции встала на один уровень с европейскими странами и теперь может обыграть противника на его собственном поле. Даже среди улемов появились сторонники представительного правительства, способного ограничить деспотию шахов. Как разъяснял либеральный муджтахид Сейед Мухаммад Табатабаи, «мы сами не видели конституционного режима. Но мы слышали о нем, и видевшие конституционное государство своими глазами свидетельствуют о том, что конституционный режим принесет стране безопасность и процветание. Это нас воодушевляет»[465]. В отличие от египетских улемов, пытающихся укрыться в мире медресе, иранские улемы зачастую выступали в авангарде перемен. В грядущих событиях им будет принадлежать решающая роль.
В декабре 1905 г. губернатор Тегерана отдал приказ избить нескольких купцов палками по пяткам за отказ снизить цену на сахар в соответствии с указом правительства. Купцы говорили, что высокие цены обусловлены высокими пошлинами на ввоз. Большая группа улемов и bazaari укрылась в королевской мечети Тегерана, но их выдворили оттуда посланцы премьер-министра Айна ад-Доуле. После этого значительное количество мулл последовали за Табатабаи в одну из крупнейших усыпальниц, откуда затем потребовали, чтобы шах основал представительный «дом справедливости». Шах согласился, и улемы вернулись в Тегеран, однако, когда стало ясно, что премьер-министр и не думает исполнять обещанное, в столице и в провинциях начались волнения, народные проповедники публично порицали правительство, побуждая народ к действиям. Наконец в июле 1906 г. тегеранские муллы организовали массовый исход в Кум, около 14 000 торговцев укрылись в британской дипломатической миссии. Торговля встала, протестующие требовали отставки Айна ад-Доуле и основания меджлиса (представительного собрания), а более просвещенные реформаторы начали обсуждать мешрут (конституцию)[466].
Первый этап Конституционной революции увенчался успехом.
Премьер-министра в конце июля сняли, и в октябре в Тегеране заработал меджлис первого созыва, в который было избрано значительное число улемов. Год спустя новый шах, Мухаммед Али, подписал Основной Закон, созданный по образцу бельгийской конституции. Иранская конституция обязывала монарха по всем важным вопросам спрашивать одобрения меджлиса; все граждане (включая иноверцев) обретали равенство перед законом, конституция гарантировала личные права и свободы. По всей стране наблюдался всплеск либеральной активности. После того как первый меджлис провозгласил свободу печати, сатирические и критические статьи полились рекой. Образовывались новые общества, строились планы по созданию национального банка, избирались новые муниципальные советы. Левофланговую демократическую партию в меджлисе возглавил блестящий молодой депутат от Тебриза Сайед Хасан Такизаде; во главе Консервативной партии, сумевшей включить в конституцию несколько статей, оберегающих статус шариата, стояли муджтахиды аятолла Табатабаи и Сейед Абдалла Бехбехани.
Однако несмотря на видимость сотрудничества между либеральным духовенством и реформаторами, первый меджлис выявил глубокие разногласия. Многие из неверующих депутатов принадлежали к диссидентским кругам, связанным с Мальком-ханом и Кирмани, которые относились к улемам с презрением. Зачастую они состояли в анджуманах (тайных обществах), организованных с целью распространения революционных идей, и хотя некоторые из наиболее радикально настроенных духовных лиц тоже входили в эти общества, реформаторы, как правило, были антиклерикалами и считали улемов препятствием на пути прогресса. Если улемы, объединившие силы с реформаторами, надеялись, что конституция придаст шариату статус государственного закона, они просчитались. Первый меджлис немедленно принял меры по ограничению власти духовенства в таких вопросах, как образование, и в результате Конституционная революция – такова ирония истории, – которую поддержало большое количество мулл, грозила скорым сокращением их безграничной власти[467].
Шиитские улемы никогда прежде не принимали активного участия в политике. Одни ученые полагают, что ими двигало в основном желание защитить собственную власть и интересы, а также дать отпор тлетворному влиянию неверного Запада[468]; другие доказывают, что, продвигая конституцию, ограничивающую деспотию шахов, наиболее либеральные улемы выполняли старинный шиитский долг противостояния тирании[469]. Светские реформаторы, помня о большом влиянии улемов, старались во время революции не задевать мусульманские чувства, однако неприязнь к духовенству они питали уже давно и, придя к власти, решительно настроились секуляризовать законодательство и образование. Одним из первых опасность подобной секуляризации заметил шейх Фадлулла Нури (1843–1909), один из трех ведущих клириков Тегерана, который в 1907 г. начал агитировать против конституции, утверждая, что, поскольку в отсутствие сокрытого имама любое правительство считается незаконным, новый парламент тоже получается антиисламским. Представители имама – муджтахиды, а не меджлис, и именно им следует издавать законы и защищать права народа, тогда как при новой системе духовенство окажется просто одним из институтов и не сможет служить главным духовным наставником народа. Религия окажется в опасности. Нури требовал, чтобы меджлис по крайней мере основывался в своих решениях на шариате. Своими возражениями Нури добился поправки к конституции – совет из пяти улемов, избираемых меджлисом, наделялся правом вето и мог отклонить законопроект, противоречащий священному закону ислама[470].
И все же Нури выражал мнение меньшинства. Большинство муджтахидов в Наджафе поддерживали и будут поддерживать конституцию. Воззвания Нури к созданию шариатского государства они отвергали на том основании, что невозможно правильно применять закон без прямого руководства со стороны сокрытого имама. В который раз шииты в силу своих духовных воззрений способствовали секуляризации государственного устройства, считая государственную власть несовместимой с религией. Многих представителей духовенства возмущал рост коррупции в судопроизводстве и экономическая нестабильность, заставившая Каджаров выделять неприемлемые финансовые концессии иностранцам и брать огромные займы. Они уже видели, как подобная недальновидность привела Египет к военной оккупации. Поэтому предпочтительнее было ограничить деспотизм Каджаров с помощью конституции[471]. Эту точку зрения активно отстаивал шейх Мухаммад Хусейн Наини (1850–1936) в своем «Предостережении стране и объяснении для народа», вышедшем в Наджафе в 1909 г., Наини доказывал, что представительное правительство будет угодно сокрытому имаму и что созыв ассамблеи, способной ограничить власть деспота, сделает честь шиитам. Тиран повинен в «многобожии» (ширке), величайшем для ислама грехе, поскольку наделяет себя божественной властью и разыгрывает из себя перед подданными второго Аллаха. Пророк Моисей был послан сломить власть фараона, который угнетал и порабощал свой народ, и заставить его повиноваться заповедям Аллаха. Точно так же и меджлис с советом экспертов в области религии должны заставить шахов повиноваться законам Бога[472].
Тем не менее смертельный удар по конституции нанесли не улемы, а новый шах, который при поддержке отряда российских казаков совершил в июне 1908 г. переворот и закрыл меджлис. Наиболее радикальные иранские реформаторы и улемы были казнены. Однако народная гвардия в Тебризе смогла сдержать войска шаха и с помощью кочевников-бахтияров совершила месяцем спустя контрпереворот, свергнув шаха и посадив на трон его младшего сына Ахмада, назначив ему либерального регента. Был созван второй меджлис, но, как и в Египте, зарождающуюся парламентскую демократию прижали к ногтю европейские державы. Когда меджлис попытался вырваться из британско-российской мертвой хватки, призвав на помощь в реформировании подорванной иранской экономики молодого американского финансиста Моргана Шустера, в Тегеран вошли российские войска, и в декабре 1911 г. меджлис был распущен. Прошло три года, прежде чем его созвали вновь, но к этому времени многие уже успели разочароваться и озлобиться. Конституция не оправдала надежд: вместо того чтобы стать панацеей, она просто еще острее и рельефнее обозначила фундаментальную слабость Ирана.
Первая мировая война оказалась для Ирана разрушительной и заставила многих иранцев мечтать о сильном правительстве. В 1917 г. в страну вторглись британские и российские войска. После Октябрьской революции Россия свои войска вывела, однако освободившиеся территории на севере заняли британцы, продолжая удерживать и свои южные базы. Британия стремилась превратить Иран в протекторат. В 1908 г. в стране были открыты нефтяные месторождения, и британский подданный Уильям Нокс Д'Арси получил концессию на разработку. В 1909-м была основана Англо-Персидская нефтяная компания, и иранская нефть потекла в баки британского военного флота. Иран стал лакомым куском. Меджлис тем не менее упорно сопротивлялся британскому контролю. В 1920 г. по всей стране прошли антибританские демонстрации, меджлис призвал на помощь Советскую Россию и Соединенные Штаты, и британцам пришлось отказаться от своих притязаний. Однако иранцы с горечью сознавали, что отстоять независимость им удалось лишь с помощью крупных держав, которые строили свои планы на иранскую нефть. Теперь у Ирана имелись конституция и представительное правительство, однако толку от этого не было, поскольку реальной властью меджлис не обладал. Даже американцы обратили внимание на то, что британцы постоянно фальсифицируют выборы и «посредством военного положения и контроля над печатью препятствуют свободному выражению убеждений и недовольства» иранцев[473].
На фоне этого всеобщего уныния небольшой группе под руководством Сейеда Зия Эд-дина Табатабаи, человека штатского, и Реза-хана (1877–1944), командующего отрядом шахских казаков, почти без труда удалось свергнуть правительство. В феврале 1921 г. Зия Эд-дин стал премьер-министром, а Реза-хан – военным министром. Британцы посмотрели на переворот сквозь пальцы, зная о пробританских настроениях Зия Эд-дина и надеясь, что его избрание приблизит создание протектората, на которое они не переставали надеяться. Однако Реза-хан, более сильный из двух правителей, вскоре отправил Зия Эд-дина в изгнание, сформировал новый кабинет и стал править единолично. Реза сразу же начал модернизировать страну и, в отличие от предшественников, преуспел – поскольку отчаявшийся народ уже был готов к любым переменам. Реза-хана не интересовали бедняки и социальные реформы, своей задачей он видел централизацию, укрепление армии и государственного аппарата, а также обеспечение продуктивного функционирования страны. Любая оппозиция безжалостно подавлялась. Реза с самого начала искал расположения Советской России и Соединенных Штатов, чтобы они помогли избавить страну от британцев, отдав нефтяную концессию американской компании Standard Oil в обмен на инвестиции и технологическую поддержку. В 1925 г. Реза достаточно окреп, чтобы заставить последнего каджарского шаха отречься от престола. Изначально он хотел провозгласить республику, но улемы запротестовали. Аятолла Муддарис заявил в меджлисе, что республиканская форма правления противоречит исламу. Ее дискредитировал Ататюрк, и духовенство не хотело, чтобы Иран постигла та же участь, что и Турцию. Реза готов был стать шахом, идти против духовенства он еще не решался. Он обещал, что правительство будет чтить ислам и что законодательство не будет противоречить шариату. После этого марионеточный меджлис одобрил воцарение династии Пехлеви. Однако довольно скоро шах Реза Пехлеви, нарушив данное улемам обещание, не только догонит, но и перегонит Ататюрка в жестокости, проводя секуляризацию.
К концу третьего десятилетия XX в. секуляризм, казалось, одерживал верх по всем фронтам. Религия не оставалась в долгу, хотя наиболее радикальные движения подавлялись и не представляли существенной угрозы для светского руководства. Однако зернам, посеянным в те годы, предстояло прорасти позже, когда некоторые из недостатков современного секуляризма станут более очевидными.
7. Контркультура (1925–1960)
С тех пор как Ницше провозгласил смерть Бога, люди Нового времени стали самыми различными способами осознавать, что в самой сердцевине их культуры зияет бездна. Французский экзистенциалист Жан-Поль Сартр (1905–1980) назвал ее дырой в человеческой душе на месте Бога, где всегда находилось, но исчезло божественное, оставив после себя пустоту. Удивительные достижения научного рационализма сделали само представление о Боге невероятным и невозможным для многих, поскольку вестернизация шла рука об руку с подавлением прежнего мифологического сознания. Без культа, пробуждающего ощущение священного, символ Бога померк и лишился смысла. Однако большинство не роптало. Мир во многих отношениях стал лучше, развивались новые светские формы духовности, люди искали в литературе, искусстве, сексуальности, психоанализе, наркотиках и даже в спорте ощущение трансцендентного смысла, придающего жизни ценность и связывающего человека с глубинными течениями бытия, прежде открытыми лишь конфессиональным религиям. К середине XX в. у большинства жителей Запада сложилось убеждение, что религии больше не суждено оказывать сколько-нибудь существенного влияния на мировые события. Ей отводилась лишь частная роль, что многим секуляристам, занимавшим высокие посты, контролировавшим СМИ и общественный дискурс, казалось правильным. В западных христианских странах религия часто была склонна к жестокости и принуждению, тогда как государство эпохи модерна требовало от общества толерантности. Возврата к эпохе крестовых походов и инквизиции быть не могло. Секуляризм обосновался надолго. Однако в то же время к середине XX в. мир начал осознавать, что «бездна» представляет собой не просто вакуум в душе, она получает наглядное и страшное воплощение.
С 1914 по 1945 г. насильственной смертью в Европе и Советском Союзе погибло 70 млн человек[474]. Германия, одна из самых цивилизованных стран Европы, оказалась способна на неслыханные зверства. Уповать на то, что образование, основанное на развитии разумного начала в человеке, искоренит варварство, стало бессмысленно, поскольку холокост, организованный нацистами, показал, что им ничто не мешало устроить концлагерь по соседству с крупнейшим университетом. По одному только масштабу нацистского геноцида и советского ГУЛАГа можно судить об их современном происхождении. Людям прошлого было бы не под силу воплотить в жизнь настолько грандиозные замыслы по истреблению себе подобных. Кошмарам Второй мировой (1939–1945) положили конец лишь взрывы первых атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки, в свою очередь продемонстрировав величие современной науки и присутствие бациллы самоуничтожения в современной культуре. Десятилетиями люди ждали апокалипсиса, устроенного Богом, теперь же, судя по всему, человек уже не нуждался в сверхъестественной помощи, чтобы приблизить Конец Света. Он и сам мог уничтожить мир, призвав на подмогу свое мастерство и знания. Принимая во внимание эту новую данность, люди как никогда прежде чувствовали ограниченность рационалистического этоса. Перед лицом катастрофы такого масштаба разум умолкает, ему в буквальном смысле нечего на это сказать.
Холокост станет символом зла времен эпохи модерна. Он был побочным продуктом модернизации, которая с самого начала не обходилась без этнических чисток. Нацисты превратили орудия и достижения промышленной эпохи в смертоубийственный арсенал. Лагеря смерти были жуткой пародией на фабрики, вплоть до фабричных дымоходов. Нацисты полностью использовали возможности железных дорог, развитой химической промышленности, отлаженного управленческого аппарата. Холокост был образцом рациональной, научной организации, в которой все подчинено одной-единственной четкой задаче[475]. Порожденный современным «научным расизмом», холокост стал последним достижением социальной инженерии в так называемой «садовой» культуре XX в. Чистую науку запрягли на службу в лагерях смерти, положив в основу проводящихся там экспериментов по евгенике. Холокост показал, что светская идеология может быть не менее смертоносной, чем крестовые походы во имя религии.
Кроме того, холокост заставлял задуматься об опасностях, которыми чревата смерть Бога в человеческом сознании. В христианской теологии ад определялся как отсутствие Бога. Концлагеря до содрогания точно копировали образ преисподней, преследовавший европейцев столетиями. Пытки, порка, сдирание кожи, вопли, издевательства, искаженные, обезображенные тела, пламя, смрад – все это вызывало в памяти христианский ад, каким его изображали поэты, художники, скульпторы и драматурги Европы[476]. Освенцим стал мрачным откровением, показавшим человеку, каким может стать мир, где утрачено понятие священного. Религия в лучших своих проявлениях (и только в них) с помощью мифов, обрядов, культовых и этических практик вырабатывала в людях осознание святости гуманизма. К середине XX в. стало казаться, что разгулявшийся рационализм будет вынужден сотворить ад на земле как объективное следствие отсутствия Бога. Получившие больше власти, чем когда-либо прежде, люди, поддавшись нигилистическому порыву, окажутся способны проявить неслыханную изобретательность в массовом уничтожении. Прежде, в традиционную эпоху, образ Бога обозначал предел человеческих возможностей и сдерживал человека в его действиях. Заповеди напоминали о том, что люди не вольны поступать как им заблагорассудится. Но человек Нового времени поставил автономию и свободу так высоко, что понятие всемогущего божественного законодателя стало одиозным. Самоуважение выросло на порядок. Однако холокост и гулаговские лагеря продемонстрировали, чем может обернуться отказ от подобных сдержек и создание культа нации или государства. Необходимо было искать новые способы внушить человеку уважение к священной неприкосновенности жизни и мира в целом, не компрометирующие модернистскую цельность символами «сверхъестественного».
Концлагерь и ядерный гриб – символы, которые необходимо хранить в памяти, чтобы не впадать в научный шовинизм, восхваляя культуру модерна, благами которой мы, жители развитых стран, массово пользуемся. Однако, кроме того, с помощью этих символов мы можем представить, как выглядит в глазах некоторых верующих светское общество модерна, также характеризующееся для них отсутствием Бога. Некоторые фундаменталисты видят модерн таким же олицетворением демонического зла, современный город и светская идеология вызывают у них такой же ужас и беспомощную ярость, какие чувствует либеральный секулярист при виде страшного Освенцима. В середине XX в. фундаменталисты всех трех монотеистических религий постепенно отходили от господствующего типа общества, создавая контркультуры с более приемлемым для них укладом. Они не просто уходили от конфликта, но зачастую были движимы ужасом и страхом. Эти страхи и тревоги, лежащие в основе фундаменталистского мировоззрения, необходимо осознать, поскольку лишь в этом случае мы сможем понять бурную ярость фундаментализма, его страстное желание заполнить бездну и обрести опору, его убежденность в том, что зло не дремлет.
Среди евреев восприятие мира модерна как обители зла появилось задолго до холокоста. Зверства нацистов лишь убедили их в том, что мир гоев порочен и большинство современных евреев тоже не свободно от страшной вины. До 1930-х большинство евреев-ортодоксов, не желавших иметь ничего общего с культурой модерна, могли укрыться в иешиве или хасидском дворе. У них не было ни желания, ни потребности мигрировать в Соединенные Штаты или в Палестину. Однако потрясения 1930–1940-х не давали выжившим иного выбора, кроме как бежать из Европы и Советского Союза. Часть ортодоксов-харедим перебралась в Палестину, где столкнулась лицом к лицу с сионистами, которые теперь отчаянными усилиями создавали государство, способное спасти евреев от надвигающейся катастрофы.
Иерусалимская ультраортодоксальная община «Эда Харедит» задолго до Декларации Бальфура прониклась ненавистью к сионизму. Община представляла собой небольшую группу, к 1920-м гг. сумевшую привлечь лишь 9000 из 175 000 проживающих в Палестине евреев[477]. Участники сообщества, закопавшиеся в древние тексты, не представляли, как поставить свою организацию на политические рельсы, однако вскоре к ним присоединятся члены «Агуддат Исраэль», уже освоившие современные политические игры. «Агуддат» оставалась идеологическим противником сионизма, пытаясь в то же время в противовес влиянию секуляристов основать на Святой земле собственные религиозные поселения, где молодежь будет в придачу к современным дисциплинам изучать Тору и Талмуд. Этот компромисс вызывал возмущение у наиболее строгих ультраортодоксов, уверенных, что «Агуддат» перешла «на сторону противника». Из этого внутриортодоксального конфликта и родилось фундаменталистское движение, вдохновленное, как это часто бывает, рознью в рядах единоверцев.
Главным глашатаем этой непримиримой ортодоксии стал рабби Хаим Элеазар Шапира из Мукачево (1872–1937), один из самых именитых хасидских предводителей венгерского еврейства, который возглавил в 1922 г. воинственную кампанию против «Агуддат». Он считал, что «Агуддат» действует заодно с сионистами, засоряя умы невинных школьников «сорняками и плевелами» гойского Просвещения, а также «распевая вслед за сионистскими поэтами песни о заселении Святой земли, о полях и виноградниках Эрец-Исраэль»[478]. Возделыванием они оскверняют Святую землю, созданную лишь для молитвы и изучения священных текстов. На собрании в Словакии самые радикальные из харедим поддержали мукачевского раввина и подписали запрет на любые отношения с «Агуддат». Однако их представление об «Агуддат», создававшейся изначально для противостояния сионизму, было ошибочным. Кроме того, группа сознавала, что подавляющее большинство ортодоксов в Восточной и Западной Европе, не одобряя сионизм, все же считает запрет Шапиры слишком радикальной мерой. Тем не менее размежевание они оправдывали, поскольку сионизм внушал им инстинктивный ужас. Одним из первых запрет подписал молодой раввин Джоэль Моше Тайтельбаум (1888–1979), который впоследствии станет главой хасидов венгерского Сатмара и самым непримиримым из всех харедим противником сионизма и государства Израиль.
Сионистские кибуцы в Палестине вызывали у Шапиры и Тайтельбаума тот же страх и возмущение, которое позже будут вызывать у людей нацистские концлагеря. Это не преувеличение. Тайтельбаум, которого от газовых печей спасла лишь эмиграция в Америку, возлагал всю вину за холокост на сионистов, совершивших великий грех, «ввергнув значительную часть еврейского народа в страшную ересь, равных которой мир не видывал от сотворения… Стоит ли удивляться, что Господь обрушил на нас свой гнев»[479]. Эти несогласные не видели ничего положительного ни в сельскохозяйственных достижениях сионистов, которые заставили цвести пустыню, ни в политической хватке их руководителей, старающихся спасти жизни евреев. В глазах несогласных сионизм выглядел «позором», «скверной», последней атакой сил зла[480]. Сионисты придерживались атеистических взглядов, но даже будь они самыми набожными из иудеев, их противники все равно считали бы, что они действуют во зло, выступая против воли Бога, отправившего евреев в изгнание и не велевшего предпринимать самостоятельных шагов к спасению.
Шапира считал, что осваивать эту Святую землю достоин далеко не каждый еврей, не говоря уже о бунтарях-сионистах. Только истово верующий, посвятивший жизнь штудированию священных текстов и молитве, может жить там по праву. Любую святыню, подобную Эрец-Исраэль (Святой земле), всегда осаждают силы зла. Сионисты, объяснял Шапира, просто внешнее проявление этого демонического влияния, а значит, сама Святая земля кишит злыми силами, «вызывающими Господний гнев и ярость». Вместо Бога теперь в Иерусалиме обитает сатана. Сионисты, «претендующие на „восхождение“ на Святую землю, на самом деле низвергаются в преисподнюю»[481]. Обезбоженная Святая земля превратилась в ад. Эрец-Исраэль, вопреки утверждениям сионистов, становилась не родным очагом, а полем битвы. Единственные, кому удалось бы спокойно существовать на ней в эти ужасные времена, были бы не домовладельцы и фермеры, а святые воины, «богобоязненные», «люди храбрые», «поднявшиеся на правую войну за остатки Господнего наследия на святой иерусалимской горе». Все дело сионизма повергало Шапиру в экзистенциальный ужас. Тайтельбаум считал сионистов очередным проявлением злой гордыни, раз за разом обрекавшей еврейский народ на страдания, – это и Вавилонская башня, и поклонение Золотому тельцу, и восстание Бар-Кохбы во II веке н. э., унесшее тысячи еврейских жизней, и фиаско Шабтая Цви. Однако ересь сионизма не имела себе равных, эта неслыханная дерзость потрясала основы мироздания. Неудивительно, что Господь устроил холокост![482]
Из этого следовал вывод, что верные должны полностью отмежеваться от подобного зла. Рабби Йешайягу Марголис, один из самых строгих иерусалимских хасидов, писавший в 1920–1930-е гг., был большим поклонником и Шапиры, и Тайтельбаума, проча последнего в руководители «Эда Харедит». Марголис создал альтернативную историю Израиля, делая упор на существовании меньшинства, которое на протяжении столетий жило в постоянной боевой готовности и не раз поднималось на борьбу с другими евреями во имя Господа. Левиты убили 3000 израильтян, поклонявшихся Золотому тельцу, пока Моисей получал Тору на горе Синай, – именно поэтому, а не за службу в храме, Господь возвысил их над другими племенами. Моисей был великим зелотом, всю свою жизнь боровшимся с соотечественниками. Пинхас, внук Аарона, убил совершившего прелюбодеяние Зимри, не посмотрев на его высокий титул. Илия выступил против Ахава и казнил 450 жрецов Ваала. Эти истово верующие, чья страстная любовь к Господу часто выражалась в неконтролируемой ярости, были истинными иудеями, оставшимися верными[483]. Иногда им приходилось бороться с гоями, иногда с соплеменниками, но битва всегда велась одна и та же. Верные иудеи должны целиком и полностью отмежеваться от таких евреев, как активисты «Агуддат», оставивших Бога и перешедших на сторону Антихриста. Сотрудничеством с сионистами «Агуддат» нанесла евреям «больше вреда, чем все мировое зло». Якшаться с ними – все равно что подписывать сделку с дьяволом[484].
Отсюда необходимость отмежеваться. Равно как в Торе священное отделено от мирского, свет от тьмы, мясное от молочного, суббота от остальной недели – так должны отделиться и праведные. Отщепенцы никогда не вернутся в стадо; обособляясь в делах и молитве от этих порочных иудеев, истинные харедим попросту воплотят физически ту онтологическую пропасть, которая пролегла между ними и неверными на метафизическом уровне. Эта устрашающая картина означала, что каждая мелочь в жизни верных, окруженных сатанинским злом со всех сторон, имеет космическое значение. Ткань одежды, методы изучения, даже длина и форма бороды – все должно быть идеально правильным. Жизнь иудеев в огромной опасности, и все нововведения под строжайшим запретом: «Правый лацкан должен непременно перекрывать левый, чтобы правая рука Всевышнего, „десница Божья“, дарующая Милость (хесед), торжествовала над левой стороной, воплощающей Суд (дин), силу беды и несчастья»[485]. Если протестантские фундаменталисты пытались заполнить бездну, ища абсолютную опору в доктринальной строгости, эти антисионистские ультраортодоксы искали опору в дотошном следовании божественному закону и соблюдении обрядов. В такой духовности отражен почти неконтролируемый страх, справиться с которым могут помочь лишь скрупулезное сохранение старых границ, возведение новых баррикад, строгая сегрегация и истовое служение традиционным ценностям.
Подобные воззрения несогласных совершенно непонятны евреям, считающим достижения сионистов спасением и чудом. Данную дилемму пришлось решать в XX в. не только иудеям, но и христианам, и мусульманам: между фундаменталистами и теми, кто принял секулярный мир модерна, пролегла непреодолимая пропасть. Разделенные ею просто не способны видеть происходящее в одном свете. Рациональные аргументы не действуют, поскольку рознь коренится на более глубинном, инстинктивном уровне сознания. Наблюдая целенаправленную, прагматичную, рациональную деятельность светских сионистов, Шапира, Тайтельбаум и Марголис видели исключительно безбожие, а следовательно, демоническое начало. Рационализированные, практичные и безжалостные действия нацистов в концлагерях, когда несогласные позже о них узнали, вызвали у них те же чувства, что и сионистское дело. И там, и там они увидели безбожие, а значит, сатанизм и нигилизм, растаптывающие все до единой священные ценности, которыми дорожили харедим. В плакатах и граффити на стенах антисионистского района Иерусалима политические лидеры Израиля по сей день сравниваются с Гитлером. У стороннего человека это сравнение вызовет оторопь, покажется ложным и извращенным, однако оно дает представление о глубочайшем ужасе, который внушает секуляризм фундаменталисту.
Крамолой было уже само создание вероотступниками светского государства в Эрец-Исраэль. За столетия потерянная земля приобрела мистическое и символическое значение, связывающее ее с Богом и Торой в некое подобие Святой Троицы. Осквернение ее людьми, не скрывающими своего отхода от религии, вызывало ту же смесь ярости и ужаса, что и осквернение святыни, воспринимавшееся – в иудейском мире особенно – как насилие[486]. Чем больше сионисты приближались к своей цели, тем более безрассудными становились наиболее радикальные харедим, пока в 1938 г. Амрам Блау и Аарон Каценеленбоген, покинувшие якобы сотрудничающую с сионистами «Агуддат», не откололись и от «Эда Харедит». Еврейская община незадолго до того ввела специальный налог, чтобы покрыть расходы на организованную оборону от арабов, и несогласные отказались его платить. В оправдание отказа Блау и Каценеленбоген процитировали историю из Талмуда. В III столетии два еврейских пророка, обращаясь к вооруженной страже, организованной для обороны одной из еврейских городских общин в римской Палестине, сказали: «Вы не защитники города, вы его разрушители. Подлинные защитники города – мудрецы, изучающие Тору»[487]. Основанная Блау и Каценеленбогеном группа присвоила себе название «Нетурей Карта» (на арамейском – «стражи города»): защиту евреев обеспечат не сионисты своими воинственными действиями, а ортодоксы истовым и доскональным соблюдением законов Торы. Они бросали вызов сионистскому выбору. По их мнению, дарованная евреям Тора изначально уготовила им другой, отличный от остальных народов путь. Этот путь не предполагал участия евреев в политике и вооруженной борьбе, они должны были посвятить себя духовным делам. Возвращая еврейский народ к исторической действительности, сионисты, по сути, отказывались от Царствия Божия и попадали в состояние, не несущее для евреев экзистенциального смысла. Они отрицали собственную природу и обрекали еврейский народ на гибель[488].
Чем больше преуспевали сионисты, тем сильнее недоумевала «Нетурей Карта»: почему беззаконники процветают? Когда в 1948 г., почти сразу после холокоста, было образовано государство Израиль, Тайтельбауму и Блау оставалось только заподозрить прямое вмешательство сатаны в историю с целью ввергнуть евреев в царство бессмысленного зла и святотатства[489]. Тем не менее большинство ортодоксов и ультраортодоксов смогли смириться с существованием нового государства. Они объявили, что это государство не имеет религиозного значения и что живущие в Израиле евреи по-прежнему находятся в таком же изгнании, как в диаспоре. Ничего не изменилось. «Агуддат Исраэль» была готова к «штадланут» – диалогу и переговорам – с израильским правительством (как прежде с гойскими правительствами в Европе), чтобы защитить религиозные интересы иудеев. Активисты «Нетурей Карта» ничего подобного не допускали. Сразу после провозглашения 14 мая 1948 г. независимости Израиля они запретили своим сторонникам участие в выборах, отказались принимать государственное финансирование иешив и поклялись, что их нога никогда не ступит на порог государственного учреждения. Кроме того, они усилили нападки на «Агуддат», чье примирение с государством из прагматических побуждений они считали ударом, в результате которого среди носителей добра образовался раскол. «Если, Господи упаси, наша ненависть ко злу, к искусителям и нечестивцам, ослабеет хоть на самую малость, – заявлял Блау, – если мы нарушим разделение, предписанное священной Торой… то перед запретным рухнут все преграды, потому что мы свернем с узкой прямой тропы на кривую дорожку»[490]. Дело сионистов, отвратившее от Бога почти весь еврейский народ, скатывалось к нигилистическому отрицанию всех приличий и священных ценностей.
Чем сильнее укоренялся сионизм среди евреев и чем больше процветало новое государство, тем принципиальнее «Нетурей Карта» порицала и то, и другое. О примирении не могло быть и речи, поскольку государство Израиль – порождение сатаны. Как объяснял Тайтельбаум, еврей не может «исповедовать веру и в государство, и в нашу святую Тору, поскольку это две полные противоположности». Даже если политиками и министрами станут мудрецы-талмудисты и свято соблюдающие заповеди, государство все равно останется святотатственным, поскольку оно выступило против Божьей воли, попытавшись в спешке заполучить искупление и приблизить Конец Света[491]. «Нетурей Карта» не разделяла стремления «Агуддат» провести через израильский парламент, кнессет, законопроекты религиозного характера. Попытки законодательно ограничить движение общественного транспорта в шаббат или освободить студентов иешивы от воинского призыва считались не благочестивыми деяниями, а просто превращением божественного закона в человеческий, что приравнивалось к аннулированию Торы и осквернению Галахи. Как отозвался о членах «Агуддат» в кнессете рабби Шимон Исраэль Позен, ведущий ученый хасидской общины Сатмар в Нью-Йорке: «Стыд и позор! Эти люди, которые каждый день надевают филактерии, заседают в этом собрании нечестивцев, называемом „кнессет“, и, ставя свои подписи на фальшивках, подделывают, Господи прости, знак Всевышнего, благословен будь Он. Они возомнили, что могут большинством голосов решить, втоптать данную нам Господом истинную Тору в грязь еще глубже или все же сделать ее указом»[492].
И тем не менее даже «Нетурей Карта» ощущала притягательность сионизма. Не зря Блау называл сионистов «искусителями». Еврейское государство на еврейской земле – это огромный соблазн для еврейской души. И здесь мы наблюдаем часть фундаменталистской дилеммы. Фундаменталисты нередко чувствуют восхищение, тягу к тем самым современным достижениям, которые повергают их в ужас[493]. Примерно то же противоречие ощущается в нарисованном фундаменталистами-протестантами образе Антихриста как обаятельного и внушающего доверие плута. В фундаменталистском восприятии модерна заложен внутренний конфликт, чреватый взрывом. Как отмечал Блау, антисионистская религиозность строится на принципиальной «ненависти», от которой один шаг до подспудной любви. Государство Израиль приводит харедим в ярость. Они не пойдут на убийство, однако по сей день закидывают камнями машины, нарушающие передвижением по улицам в шаббат священный закон «дня покоя». Они могут наброситься и на дом единоверца-хареди, который отошел от общепринятой нормы, приобретя, скажем, телевизор или позволив жене нескромно одеться. Подобные акты насилия рассматриваются как «киддуш ха-шем» («прославление имени Божьего») и отпор силам зла, осаждающим харедим со всех сторон и угрожающим им уничтожением[494]. И в то же время не исключено, что эти всплески агрессии призваны заглушить и тот соблазн, который мучает самих нападающих.
Антисионистски настроенные харедим составляют незначительное меньшинство: в Израиле их всего около 10 000, в США – несколько десятков тысяч. Однако влияние их существенно[495]. Несмотря на то, что большинство ультраортодоксов принадлежат скорее к несионистам (асионистам), чем к антисионистам, «Нетурей Карта» и другие радикалы, такие как сатмарские хасиды, пугают их опасностями слишком тесного сближения с властями. Их намеренный отход от израильского государства напоминает менее фанатичным харедим, зачастую ощущающим недостаток искренности и аутентичности в своем сотрудничестве с государством, что, каким бы могущественным и процветающим Израиль ни выглядел в представлении остальных стран, евреи по-прежнему находятся в экзистенциальном изгнании и не могут принимать законного участия в политической и культурной жизни современного мира.
Отказ харедим воспринимать Израиль иначе как дело рук сатаны – это, по сути, бесконечный бунт против государства, в котором многие из них проживают. Забрасывая камнями движущиеся в шаббат автомобили или срывая плакаты с изображениями едва прикрывающих наготу женщин на рекламе купальников, они бунтуют против секуляристской этики еврейского государства, в котором единственными критериями деятельности служат ее рациональность и практичность. Фундаменталисты всех трех монотеистических религий отвергают прагматичный логос, вытесняющий своим господством духовное и отметающий ограничения, накладываемые священным. Но поскольку светская власть достаточно сильна, большинству приходится довольствоваться такими вот мелкими символическими актами протеста. Ощущение собственной слабости и негласное признание зависимости от государства во времена, например, войны лишь усиливают ярость фундаменталистов. Подавляющее большинство харедим ограничивают протест решительным удалением от светского государства и упрочиванием контркультуры, которая на каждом шагу бросает вызов его ценностям.
Альтернативным сообществом харедим движет желание заполнить бездну, созданную этосом эпохи модерна. Особенно отчетливым для евреев образ этой бездны сделал холокост. Выжившие евреи ощущали потребность возродить в Израиле и Соединенных Штатах хасидские дворы и миснагдимские иешивы как дань памяти миллионам харедим, погибшим в гитлеровских лагерях, и в знак протеста против сил зла. Им казалось, что, вдыхая в институты харедим новую жизнь, они не только воскрешают мертвых, но и обретают новую мощь, отвоевывают святое[496]. После Второй мировой в Израиле и Соединенных Штатах начали строиться новые иешивы. В 1943 г. рабби Аарон Котлер (1891–1962) открыл в Америке первую литовскую иешиву, основав в Нью-Джерси Мидраш Гедола по образцу воложинской, мирской и слободской иешив. После 1948 г. город Бней-Брак под Тель-Авивом стал «городом Торы», открытые в нем иешивы привлекали студентов со всего Израиля и из диаспоры. Идейным вдохновителем здесь был рабби Авраам Иешаяху Карелиц (1878–1943), известный как Хазон Иш (по названию одного из своих трудов). Все эти заведения сделали иешиву более значимой для харедим, чем когда бы то ни было прежде. Изучению Торы теперь можно было посвятить всю жизнь, мужчина мог продолжать его и после женитьбы, живя за счет жены. Обитающие в иешиве талмудисты, почти не соприкасающиеся с внешним миром и полностью погруженные в изучение священных текстов, становились новыми защитниками иудаизма от опасностей эпохи модерна, чуть не уничтожившей все европейское еврейство разом[497].
Котлер верил, что его ученики поддерживают существование всего мира в целом. Бог сотворил небеса и землю лишь для того, чтобы человек мог изучать Тору. Только изучая денно и нощно Священный Закон, еврейский народ сможет выполнить свое предназначение. Если он прекратит изучать Тору, «вселенная тотчас же погибнет»[498]. Для того, кто постоял на краю неминуемой гибели, в таких воззрениях ничего удивительного не было. Любые светские дисциплины – это не только бесполезная трата времени, но и ассимиляция в губительной культуре гоев. Любая разновидность иудаизма, пытающаяся воспринять аспекты современной культуры, – религиозный сионизм, реформистский иудаизм, консервативный или неоортодоксальный – незаконна[499]. Ни на какие подобные компромиссы с миром, который некоторое время назад задался целью уничтожить иудаизм, идти нельзя. Истинный иудей должен отгородиться от этого мира и полностью посвятить себя священным текстам. Новые послевоенные иешивы отражали отчаяние фундаменталистской духовности. От ожесточенного противостояния евреев модерну в XX в. остались только священные тексты. Вместе с 6 млн убитых евреев и разрушенными иешивами и хасидскими дворами погибла и богатейшая классика иудейской науки; жизненный уклад гетто канул в небытие, унося с собой накопленный за столетия багаж сокровенных знаний, обретенных соблюдением традиций, а Святая земля осквернена сионистами. Правоверному иудею оставалось одно – заполнять бездну, не отступая от текстов, сохраняющих последнюю связь с божественным.
Трагедия холокоста изменила саму суть изучения Торы. В мире гетто многие традиционные обряды и практики принимались как «данность», альтернативного образа жизни и способа следовать Торе не существовало. У первого поколения беженцев эти знания еще хранились, что называется, «в крови», а вот их дети и внуки, несмотря на горячее желание воссоздать потерянный мир своих погибших предков, уже утратили эти интуитивные навыки, которые прежде не было нужды излагать на бумаге. Единственный способ спасти исчезающий на глазах талмудистский мир – прочесывать тексты в поисках крупиц информации. С 1950-х гг. иешивы завалили монографиями, описывающими в мельчайших сложнейших подробностях процедуры, которые в дохолокостной Европе казались само собой разумеющимися и естественными. С каждым поколением потребность в этих подробных выкладках будет возрастать[500]. Трагедия поставила евреев в беспрецедентную зависимость от текстов и печатного слова.
Фундаменталистский иудаизм стал еще более педантичным. К 1960-м гг., по свидетельству рабби Симлы Элберга, посетившего Бней-Брак, в городе шел «полный переворот всего устройства религиозной жизни». Евреи «города Торы» соблюдали заповеди гораздо строже прежнего[501]. Это стремление повиноваться закону в более полной мере, чем удавалось представителям предыдущих веков, было настоящим подвигом – попыткой вдохнуть божественное в безжалостно обезбоженный мир. Харедим Бней-Брака находили новые способы внести доскональность и строгость в такие аспекты, как питание и очищение, даже если от этого жизнь только усложняется.
Начало тому положил только перебравшийся в Палестину в 1930-х гг. Хазон Иш. К нему обратилась с вопросом группа религиозных сионистов, которые хотели соблюдать в поселении иудейский сельскохозяйственный закон и обрабатывать Святую землю согласно Торе. Значит ли это, что каждые семь лет они должны давать земле покой, как предписывает закон?[502] Соблюдение этого «года отдохновения» чревато большими сложностями и идет вразрез с современными сельскохозяйственными технологиями, направленными на максимальную отдачу. Рабби Кук прежде сумел найти для поселенцев лазейку в законе, но Хазон Иш категорически отвергал подобные послабления (кула). Именно в сложности исполнения, сказал он, вся соль. Закон требует от земледельца пожертвовать благополучием ради высшего блага. Год отдохновения призван восславить святость земли, заставить евреев вспомнить о ее неприкосновенности и о том, что, как и все святыни, она не связана с человеческими нуждами и желаниями. Евреи не должны эксплуатировать землю ради выгоды, выжимать из нее повышенные урожаи и задействовать в рентабельных проектах. Истинно религиозный фермер должен противостоять духу целесообразности и практицизма светских первопоселенцев, которые, может быть, и сионисты, но совсем не иудеи[503].
В Бней-Браке Хазон Иш заправлял тем, что рабби Элбург назвал «миром хумрот» (устрожений), и учил своих последователей искать «самые строгие, жесткие, доскональные» способы соблюдения заповедей[504], тем самым радикально отстраняясь от прагматичного этоса модерна. Раввинат традиционных еврейских общин в Европе не одобрял подобную строгость. Раввины с пониманием относились к принципам тех, кого заботили мельчайшие подробности Закона, однако навязывать эти устрожения (хумрот) всей общине они позволить не могли, иначе ей грозил раскол. Евреи, пришедшие из общин с более строгими правилами умерщвления животных, не смогли бы питаться вместе с теми, кто толковал правила менее строго. Повышенная строгость стала бы оскорблением для великих мудрецов прошлого, которые не отличались особой дотошностью в подобных вопросах. Раввины прошлого были склонны толковать Тору более мягко, поскольку духовная элита не должна была усложнять соблюдение правил обычным людям[505].
Революционная строгость, культивируемая в Бней-Браке, составляла часть новой контркультуры, которую развивали харедим. Эта контркультура устанавливала религиозную норму, прямо противоположную рационалистичности модерна, избравшего основными критериями эффективность и прагматизм. Пока реформаторы, консерваторы и неоортодоксы отбрасывали какие-то пункты закона или пытались сделать религию более удобной и целесообразной, харедим со своим «жестким соблюдением» отвергали любой компромисс с общепринятыми нормами. Посетивший Бней-Брак рабби Элбург отметил, что город превратился в «мир-в-себе»[506]; харедим отгораживались не только от современного общества, но и от других евреев, менее дотошных в соблюдении правил. Им нужны были отдельные бойни, магазины с ужесточенными требованиями к кошерности, собственные ритуальные купальни. Они культивировали свою собственную, противостоящую веяниям времени идентичность.
Точно так же в иешивах, в отличие от светских школ, не учили добывать информацию, которую позже можно будет применить на практике. Многие законы Торы, например касающиеся обрядов в храме и жертвоприношения животных, уже не подлежали практическому соблюдению, а законы об ущербе и правонарушениях мог воссоздать только Мессия, установив на земле свое Царствие. Однако ученики часами, днями и даже годами занимались обсуждением этого явно устаревшего свода законов с учителями, поскольку за ним стояла воля Бога. Повторение слов на иврите, изреченных (в определенном смысле) Господом при вручении закона Моисею на горе Синай, служило формой единения с божественным. Изучение Закона в мельчайших подробностях позволяло студенту символическим путем познать волю Господа. В эпоху, так вопиюще отвергающую божественный закон, евреям оставалось лишь соблюдать его еще более истово, чем прежде. Знакомясь с судебными решениями великих раввинов прошлого, студент постигал традиции разумом и душой, а также приобщался к мудрости. В иешивах метод изучения был не менее важен, чем изучаемый материал, задача обучения состояла не в достижении наиболее благоприятных возможностей в этом мире, а в поисках божественного в обществе, которое пытается исключить Бога. Мир иешивы кардинально отличался от светского мира за ее стенами. В господствующей культуре мужчина (в 1950-х еще считавшийся главой семьи и добытчиком) занимался работой и бизнесом, а женщина оставалась в уединении дома. У харедим, наоборот, «реальный» (для гоев) деловой мир считался второстепенным, и выходить туда полагалось слабому полу, тогда как мужчины вели замкнутую, защищенную жизнь в истинной Реальности иешивы. В светском Израиле армия обретала почти священное значение, военному призыву подлежали все граждане независимо от гендерной принадлежности, а после службы мужчина оставался резервистом на весь период его активной жизни. Студент иешивы освобождался от воинской службы, бойкотировал Армию обороны Израиля, объявлял себя истинным «защитником» еврейского народа и сражался на передовой священной войны против сил зла, осаждающих иешиву со всех сторон[507].
Для харедим модерн – даже в государстве Израиль – воспринимался лишь последним проявлением галута, изгнания, отчуждения, удаленности от Господа. Холокост выявил его пагубную сущность в полном объеме. Евреи не должны были чувствовать себя своими в этом мире, несмотря на то что, как ни парадоксально, и в Израиле, и в Америке изучение Торы финансировалось как никогда щедро и процветало. Тем не менее талмудистов учили не соприкасаться со светским миром. Как объяснял методист-хареди, иешива учит молодежь не только «полному посвящению себя Торе», но и тому, «как абстрагироваться от мирского»[508]. Стены иешивы служили постоянным напоминанием о том, что в галуте Тора всегда будет чужой. Контркультура была призвана усиливать отделение студента от господствующей культуры. Как отмечает Авраам Вульф в Education in the Face of the Generation («Образование перед лицом поколения», 1954), еврей в иешиве посвящал себя возрождению мира своих отцов и дедов, вопреки безразличию секуляристов. «Мы в одиночестве. Мы отличаемся от окружающих. [На пьедестал возводятся] историки-реформаторы… поэты». Даже в еврейском государстве харедим оставались в изоляции. «Улицы называют в честь исторических лиц, которые видятся нам в самом дурном свете. Мы в одиночестве»[509].
Бунт харедим против модерна с его культом рацио в основном заключается в отступлении. Однако в этот период любавические хасиды, уже не первый год вынашивавшие в хабадской иешиве в России воинственные планы, перешли в наступление. Хабад в России был уничтожен большевиками под корень, еврейские школы и иешивы закрыты, изучение Торы запрещено как контрреволюционное, и сопротивление грозило голодом, арестом и смертью. Шестой раввин (Иосиф Исаак Шнеерсон, 1880–1950) воспринимал все эти гонения как «родовые муки Мессии» и считал, что правоверным недостаточно просто отстраниться от мира – хасиды должны попытаться завоевать современный мир для Бога. Раввин организовал в России еврейское подполье, где выпускники хабадской иешивы вели занятия по Торе и Талмуду, уча молодежь соблюдать заповеди. Шнеерсона выслали из страны, но он продолжил свою работу из Польши, реорганизовывая и централизуя свой двор в современном ключе и поддерживая связь с любавическими хасидами по всему миру с помощью новых коммуникационных технологий. Спасаясь от Гитлера, раввин перебрался в Соединенные Штаты, где также не оставил своей миссии и начал пропагандистскую кампанию, возвращая в свой стан ассимилировавшихся или, наоборот, чувствовавших себя в Новом Свете неприкаянными иудеев. Хасиды не замыкались в себе, они шли в массы. В 1949 г. раввин совершил серьезный шаг, основав Кфар-Хабад, первое хасидское поселение в Израиле. Ненависть его к сионизму не уменьшилась ни на йоту, однако он считал, что в эти Последние Дни необходимо достучаться и до тех евреев, что оказались на оскверненной израильской земле[510].
В 1950 г. раввин умер, и дело продолжил его зять рабби Менахем Мендл Шнеерсон (1904–1994). Произошел существенный скачок вперед, отражающий стремление Хабада принять светский мир, склоняя его на свою сторону. Седьмой раввин не обучался в иешиве, он получил современное образование, изучал еврейскую философию в Берлине и судостроение в Сорбонне. Перебравшись в 1941 г. в Соединенные Штаты, он работал на военно-морском флоте, одновременно участвуя в миссии своего тестя. Этот раввин был сыном современного мира, способным с помощью эффективной кампании в СМИ поднять своих хасидов на спасение евреев всего мира. Теперь воинами армии раввина становились не только студенты иешивы, но и все до единого приверженцы Хабада. После тщательной подготовки раввин развернул в 1970-х гг. обширное контрнаступление на секуляризацию и ассимиляцию. Тысячи молодых любавических хасидов обоих полов отправились основывать хабадские дома в дальних городах, где евреи либо составляли меньшинство, либо были полностью секуляризованы. Хабадскому дому отводилась роль доступного для всех желающих центра, где давались знания об иудаизме, соблюдались шаббат и праздники, проводились лекции и иные занятия. Другие молодые хасиды отправлялись в кампусы и просто на улицы американских городов, где останавливали проходящих евреев и просили исполнить на людях какую-нибудь из заповедей – например, надеть тфилин и прочитать молитву. Смысл заключался в том, чтобы зажечь божественную «искру», заключенную в душе каждого еврея, и пробудить внутренне присущую ему святость[511].
Раввин не чувствовал себя чужим в современном мире. Его научные знания уживались со старинным мифом хабадского хасидизма. Исследования в области морской биологии не заставили его забыть о божественных искрах; он стал ярым мессианистом и выиграл выборы в руководители движения Хабад, заявив, что находится в мистической связи с покойным шестым раввином. В его духовных представлениях логос и миф дополняли друг друга как источники озарения. Он толковал Библию так же буквально, как протестантские фундаменталисты, убежденный, что Бог создал мир за шесть дней около 6000 лет назад. В то же время он полагал, что современные научные открытия, указывающие на связь между душой и телом, материей и энергией, подводят человека к новому пониманию органического единства мира, что, в свою очередь, послужит предпосылкой монотеизма[512]. Свою масштабную кампанию он организовывал по современным принципам, зная, как распорядиться своими ресурсами и как обращаться к секуляризованному обществу. Судя по всему, именно мифология и мистицизм Хабада давали любавическим хасидам силы не отгораживаться от мира, а бесстрашно входить в него. В последнее время раввины стали выступать против духа Просвещения, но рабби Шнеур Залман, первый раввин и основатель Хабада, помог своим хасидам выработать положительный взгляд на современный им мир. Седьмой раввин вернулся к этим исконным установкам, перенося принципы рацио на мифологическую почву, как делал и сам Залман. Хабад отказывался принимать модернистское разделение на священное и мирское. Во всем, даже в самом обыденном и примитивном, есть божественная искра. Нет такого понятия, как «неверующий еврей», и даже у гоев есть задел для святости. Под конец жизни, уверенный в том, что Последние Дни вот-вот грядут, раввин начал мессианскую пропаганду среди гоев Америки, которые, по его мнению, отличались хорошим отношением к евреям. Любавические хасиды сильно пострадали в современную эпоху, столкнувшись в том числе с прямым истреблением, однако раввин учил их не рассматривать галут исключительно в черном свете, не лелеять ненависть и мечты о мести, а понимать мир как пространство, в котором им предстоит возродить божественное начало[513].
Протестантские фундаменталисты в США тоже в конце концов развернут контрнаступление против победившего их модерна, однако в обсуждаемый период они, как и харедим, сосредоточились на создании оборонной контркультуры. После процесса над Скоупсом протестантские фундаменталисты удалились с общественной арены и замкнулись в своих церквях и колледжах. Либеральные христиане решили, что фундаменталистский кризис миновал. К концу Второй мировой войны фундаменталистские течения отошли далеко на задний план, большинство верующих привлекали господствующие деноминации. Однако на самом деле фундаментализм не исчез, фундаменталисты пускали крепкие корни на местах. В основных деноминациях по-прежнему хватало консерваторов – они утратили всякую надежду вытеснить либералов, однако не отреклись от своей веры в «основы» и держались в стороне от большинства. Наиболее радикальные открывали собственные церкви – в первую очередь премилленаристы, считающие своим священным долгом в ожидании Вознесения отделиться от безбожных либералов. Они начали основывать новые организации и разветвленные сети сообществ, за которыми стояло новое поколение евангелистов. К 1930 г. в Соединенных Штатах насчитывалось по крайней мере 50 фундаменталистских библейских колледжей. Во времена Великой депрессии было основано еще 26, а фундаменталистский Уитонский колледж в Иллинойсе стал самым быстрорастущим гуманитарным вузом в Штатах. Кроме того, фундаменталисты формировали собственные издательские и радиовещательные империи. С появлением телевидения в 1950-х гг. молодые Билли Грэм, Рекс Хамбард и Орал Робертс начали выступать с телепроповедями, придя на смену прежним странствующим проповедникам-ривайвалистам[514]. Огромная, но при этом невидимая телерадиовещательная сеть объединяла фундаменталистов всей страны. Они чувствовали себя отщепенцами, вытесненными на обочину общества, однако новые колледжи, теле– и радиостанции служили им приютом во враждебном мире.
В контркультуре, создаваемой протестантскими фундаменталистами, колледжи были островками безопасности, священными анклавами внутри профанного общества. Они пытались посредством сегрегации создать святость. Университет Боба Джонса (УБД), основанный в 1927 г. во Флориде, затем переехавший в Теннесси и наконец обосновавшийся в южнокаролинском Гринвиле, воплотил в себе этос нового фундаменталистского института. Основатель, евангелист начала XX в. не был интеллектуалом, но хотел открыть «безопасное» учебное заведение, помогающее молодежи сохранить веру в ходе подготовки к борьбе с атеизмом, который, как считал Боб Джонс, наводнил светские университеты[515]. Наряду с гуманитарными науками студентам преподавалось «христианство здравого смысла». Студент был обязан выбрать по крайней мере один библейский предмет на семестр, посещать часовню и придерживаться христианского образа жизни, строго регламентировавшего манеру одеваться, социальное взаимодействие и общение с противоположным полом. Неповиновение и нарушение этих правил считались, по указу Боба Джонса, «неискупимым грехом» и не прощались[516]. Подчиняться таковым обязаны были как студенты, так и преподаватели. Университет Боба Джонса был «миром-в-себе» – руководство приняло нелегкое решение не проходить аккредитацию, считая подобный компромисс со светским большинством греховным[517]. Эта жертва позволила университету ужесточить контроль над поступлением, учебной программой и библиотечными фондами.
Без дисциплины нельзя было обойтись никак, студенты УБД понимали, что они на войне. Как объясняется в свежем буклете для поступающих, университет выступает против «всех атеистических, агностических и гуманистических нападок на Писание», всех «так называемых модернистских», «либеральных» и «неоортодоксальных» позиций, а также «небиблейского компромисса „новых евангелистов“ и небиблейских действий „харизматиков“»[518]. Студенты и преподаватели удалялись от мира, чтобы защитить свою веру от вражеских нападок. Это «отделение», согласно высказыванию сына Боба Джонса (Боба Джонса II), было «основой и базисом свидетельства веры и утверждения основ»[519]. На бастионе веры студенты будут с оружием в руках защищать «непререкаемый авторитет и непогрешимость Библии», атакуя «врагов веры»[520]. Для американского научного сообщества УБД остался почти незамеченным, однако на христиан в США он оказал огромное влияние. Университет стал главной кузницей фундаменталистских преподавательских кадров в стране, его выпускники славятся пусть не глубокой эрудицией, но дисциплиной и целеустремленностью.
Библейские колледжи и фундаменталистские университеты, созданные в эти годы, становились, как и иешивы харедим, сепаратистскими цитаделями. Фундаменталисты чувствовали, что их вера в опасности, их вытеснили из гущи американской жизни и научили считать себя «изгоями»[521]. Воинственность отражала бурлившую в них ярость. Она сквозила в высказываниях наиболее экстремистски настроенных в эти годы христиан, выражавших бесчисленные страхи, предрассудки и неприязнь самых маргинализованных слоев населения. Баптист Джеральд Уинрод, поднявший защитников христианской веры на борьбу с эволюционным учением в 1920-х, поездил в 1930-х по нацистской Германии и вернулся полный решимости разоблачить «еврейскую угрозу» американскому народу. «Еврейский новый курс» Рузвельта он порицал как сатанинский. Вместе с Карлом Макинтайром и Билли Джеймсом Харджисом Уинрод поносил все «либеральные» тенденции в США без разбора. Фундаменталисты обвиняли либералов всех мастей, секуляристов и христиан в притеснении «истинных» христиан. Они постепенно двигались к правому политическому флангу. В XIX в. евангелисты приравнивали патриотизм к идолопоклонничеству, теперь же защитить американский образ жизни стало священным долгом. Харджис, основатель антикоммунистической миссии «Христианский крестовый поход», видел в Советском Союзе дьявольское начало и без устали сражался с «коммунистической заразой»: либеральная пресса, учителя с левыми убеждениями, Верховный суд – все они, по его мнению, участвовали в заговоре по перекрашиванию Америки «в красный». Карлу Макинтайру, вышедшему из пресвитерианской церкви, чтобы основать Библейскую пресвитерианскую церковь и Теологическую духовную семинарию, тайные враги мерещились повсюду – господствующие деноминации тоже участвовали в сатанинском заговоре по уничтожению христианства в Америке. В 1950-х Макинтайр включился в устроенную Джозефом Маккарти антикоммунистическую «охоту на ведьм». Перечисленные экстремисты, хоть и не самые типичные, пользовались большим влиянием. К 1934 г. на журнал Уинрода Defender («Защитник») подписались около 600 000 человек, а у Christian Beacon («Христианский маяк») Макинтайра насчитывалось 120 000 подписчиков. Тысячи людей слушали радиовыступления Макинтайра в программе «Христианский час XX века», порицавшей всех христиан, не разделявших его теологию ненависти, и все либеральное духовенство, скрывавшего под маской любящего христианина «атеистических, коммунистических, глумящихся над Библией, не помнящих родства, сквернословящих, сексуально озабоченных выродков зеленоглазого чудовища»[522].
Фундаментализм проникался яростью, но, как и у иудеев-харедим, эта ярость проистекала из глубочайшего страха. Особенно ярко это проявлялось в премилленаризме, ставшем визитной карточкой фундаменталистского движения этого периода. Ко Второй мировой войне фундаменталистами себя называли только премилленаристы, остальные консервативные христиане, например Билли Грэм, предпочитали называться «евангелистами» – долг спасения душ от этой прогнившей цивилизации вынуждал в той или иной степени сотрудничать с другими христианами, несмотря на теологические различия. Но собственно фундаменталисты настаивали на сепаратизме и сегрегации[523]. За годы войны постмилленаристский оптимизм либералов поутих; фундаменталисты перенесли свою неприязнь к Лиге Наций на созданную недавно ООН, которая, по их мнению, готовила мир к диктатуре Антихриста и последующим скорбям. Мира во всем мире человечеству не видать. «Подобные утопические мечты противоречат Библии, – писал Герберт Локьер в 1942 г. – Эта война будет не последней. Нынешние ужасы – это лишь начало, они породят еще более ужасные мытарства»[524]. Либеральные правящие круги придерживались прямо противоположной точки зрения. Америка разделилась на «две нации», каждая со своим собственным представлением о современном мире. Премилленаристская оптика внушала фундаменталистам ощущение полной беспомощности. Создание атомной бомбы они считали сбывшимся пророчеством апостола Петра, провозгласившего, что в последний день «небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят»[525]. Как рассуждал Дэвид Грей Барнхаус в журнале Eternity («Вечность») в 1945 г., надежды избежать последнего холокоста нет: «божественный замысел движется к своему неизбежному завершению». В своем бестселлере 1948 г. «Атомный век и Слово Божие» писатель-фундаменталист Уилбур Смит доказывал, что бомба подтверждает правоту сторонников буквалистского толкования Библии[526]. Точные описания ядерного взрыва в Библии свидетельствуют о ее безошибочности, а значит, ее действительно следует воспринимать буквально.
Тем не менее этот фатализм давал фундаменталистам, презираемым и подвергнутым остракизму господствующей культурой, ощущение уверенности и превосходства. Они обладали ценной информацией, неведомой секуляристам или либеральным христианам, и понимали, что происходит на самом деле. Катастрофы XX в. означали приближение окончательной победы Христа. Более того, ядерный холокост не затронет истинно верующих, поскольку, как мы уже знаем, им предстояло вознестись на небеса непосредственно перед Судным днем. Последние муки обрушатся лишь на отступников и неверующих. Таким образом, премилленаризм подогревал негодование фундаменталистов, позволяя им вынашивать мстительные мечты, весьма далекие от проповедуемого в Писании. Не избежало противоречий и благосклонное с виду отношение к недавно созданному государству Израиль.
Основатель премилленаризма Джон Дарби отводил еврейскому народу центральное место в своем учении. Фундаменталисты с восторгом встретили Декларацию Бальфура в 1917 г., а последующее создание государства Израиль в 1948-м фундаменталистский проповедник Джерри Фолуэлл провозгласил «величайшим… знамением, означающим скорое возвращение Иисуса Христа». 14 мая 1948 г., когда Бен-Гурион возвестил о рождении израильского государства, он назвал важнейшим днем в истории со времен вознесения Иисуса на небеса[527]. Поддержка Израиля приравнивается к долгу, история Израиля находится вне человеческого влияния и контроля, испокон веков ее определяет лишь Господь. Пока евреи не поселятся на Святой земле, Иисус не сможет вернуться и Судному дню не бывать[528].
Протестантские фундаменталисты были ярыми сионистами, однако у их позиции имелась и оборотная, более сомнительная сторона. Джон Дарби учил, что Антихрист во время Конца Света истребит две трети живущих в Палестине евреев: так предсказал Захария, и его слова, как и остальные пророчества, следует понимать буквально[529]. Некоторые фундаменталисты видели в холокосте последнюю попытку Господа обратить евреев, а также предзнаменование еще более страшных напастей. В книге «Израиль и пророчество» плодовитый писатель-фундаменталист Джон Уолворд выстроил подробную хронологию окончательной казни евреев, составленную по различным пророчествам. Антихрист поможет евреям отстроить заново Храм, и многие поверят, что он и есть Мессия, но затем он повесит в Храме свой образ и заставит поклоняться ему. При виде подобного святотатства 144 000 евреев отвернутся от Антихриста, обратятся в христианство и умрут как мученики. Тогда Антихрист начнет жестокое истребление евреев, и они будут погибать в устрашающих количествах. Лишь единицы избегнут смерти и встретят Иисуса в момент Его Второго пришествия[530]. Таким образом, протестантские фундаменталисты, с одной стороны, праздновали появление государства Израиль, а с другой – тешили себя фантазиями о геноциде Судного дня. Еврейское государство возникло, по их логике, лишь для того, чтобы способствовать исполнению христианской миссии. Евреям их концепция готовила в Судный день беспрецедентно трагический удел, поскольку гибель ждала их независимо от того, примут они Христа или нет.
На долю американских протестантов не выпало таких страданий, какие пришлось пережить евреям, однако эпоху модерна они тоже воспринимали как темные времена, обрекающие людей на мучения. Рационалистичный дух модерна привел их к буквалистскому и «научному» прочтению Библии, однако, если исходить из того, что подлинный смысл религии – в сострадании (что прослеживается если не в Откровении, то в Евангелиях и Посланиях апостола Павла), протестантский фундаментализм демонстрировал свою религиозную несостоятельность, так же как в процессе над Скоупсом он продемонстрировал несостоятельность научную. Буквалистское прочтение избранных отрывков из Библии воспитывало у фундаменталистов согласие с безбожной склонностью современного мира к истреблению.
У мусульман в описываемый период фундаменталистских движений пока не появилось, поскольку модернизационный процесс в их странах еще не набрал ход. Они по-прежнему находились на стадии перестройки религиозных традиций в соответствии с требованиями модерна, и ислам должен был помочь людям понять дух нового мира. В Египте один молодой учитель попытался донести до простых людей идеи Афгани, Абдо и Риды, не выходившие прежде за пределы узкого интеллектуального круга. Это начинание само по себе было модернизирующим. Прежние реформаторы выросли в традиционном этосе и, как большинство премодернистских философов, придерживались элитистских взглядов, не считая массы способными к восприятию сложных теорий. Однако Хасан аль-Банна (1906–1949) нашел способ воплотить реформаторские идеи в народном движении. Образование он получил как современное, так и традиционное религиозное: окончил каирский Дар аль-Улум, первый педагогический колледж, дающий высшее образование, однако в то же время был суфием и всю жизнь придавал большое значение суфийским духовным практикам и обрядам[531]. Для Банны вера не была умозрительной составляющей исповедания, ее можно было понять, лишь живя согласно ей и тщательно соблюдая все обряды. Он понимал, что египтянам необходима западные наука и технологии, а также что общество нуждается в политической, социальной и экономической модернизации. Однако эти практические и рациональные процессы должны идти рука об руку с духовной и психологической реформацией[532].
Еще во времена учебы в Каире политическая и социальная неразбериха в городе повергала Банну с товарищами в отчаяние[533]. В стране царил политический застой: партии занимались сотрясанием воздуха в бесплодных дебатах и по-прежнему подвергались манипуляциям британцев, которые, несмотря на «независимость» Египта, все еще обладали большой властью. Устроившись на свою первую преподавательскую работу в Исмаилии в зоне Суэцкого канала, которую прибрали к рукам британцы, Банна до глубины души поразился унижению своего народа. Британцам и экспатриантам не было дела до местного населения, они старались не выпустить из рук экономику и коммунальное хозяйство. Банне больно было видеть разительный контраст между роскошными особняками британцев и жалкими лачугами египетских рабочих[534]. Для него, правоверного мусульманина, этот вопрос не сводился к политике. Положение уммы, мусульманской общины, для ислама не менее значимо, чем догматы для христианства. Бедственное положение народа так же уязвляло Банну, как протестантского фундаменталиста уязвляло сомнение в непогрешимости Библии, а участника «Нетурей Карта» – осквернение Святой земли сионистами. Особенно удручал Банну отток народа из мечетей. Подавляющее большинство египтян оставалось в стороне от модернизационного процесса, западные идеи, которые доносили до них многочисленные газеты и журналы, издаваемые в Каире, приводили их в замешательство, поскольку либо не согласовались с исламом, либо прямо ему противоречили. Улемы отвернулись от современных дел и уже не могли наставлять людей, от политиков ждать последовательного решения социальных, экономических и образовательных проблем народа тоже не приходилось[535]. Банна решил, что пора браться за дело. Что толку вести пустопорожние дискуссии о национализме и будущем египетских отношений с Европой, если подавляющее большинство населения подавлено и деморализовано? И единственный способ духовного исцеления он видел в возврате к изначальным принципам Корана и Сунны.
Банна направил нескольких своих товарищей читать импровизированные «проповеди» в мечетях и кофейнях[536]. Сам он рассказывал слушателям о том, что влияние Запада и недавние политические перемены выбили их из колеи и поэтому они перестали понимать собственную религию. Ислам – это не идеология западного образца, не набор догм, это образ жизни. Если отдаться ему целиком и полностью, он вернет мусульманам прежний динамизм и энергию, исчезнувшие после колонизации чужеземцами. Чтобы обрести былую силу, умма должна заново открыть свою мусульманскую душу[537]. Несмотря на молодость, 20-летний Банна завладел умами. Харизматичный, целеустремленный, он умел вести за собой. Однажды вечером в марте 1928 г. шесть местных рабочих из Исмаилии обратились к нему с просьбой: «Мы не знаем практического способа добиться славы ислама и послужить благополучию мусульман. Мы устали от унижения и притеснений. Мы видим, что арабы и мусульмане в загоне. Они лишь слуги на побегушках у иноземцев. У нас нет ничего, кроме собственной крови… души и пары монет. Мы не в состоянии увидеть путь к действию, как видишь его ты, или понять путь к служению родине, религии и умме, как понимаешь его ты»[538]. Банну эти слова тронули. Вместе с пришедшими к нему рабочими он поклялся вступить в ряды «воинства [джунд], несущего идею ислама». В эту ночь родилось общество «Братья-мусульмане», которое затем начало разрастаться. К смерти Банны в 1949 г. в обществе насчитывалось уже 2000 отделений по всему Египту, в каждом из которых состояло от 300 000 до 600 000 «братьев и сестер». Другой организации, охватывающей все слои общества, включая государственных служащих, студентов и обладавших большим потенциалом борьбы городских рабочих и крестьян, в Египте не было[539]. К началу Второй мировой войны братство стало одним из самых влиятельных игроков на египетской политической арене.
Несмотря на воинственность, характеризующую братство с момента основания, Банна всегда подчеркивал, что перевороты и захват власти в его намерения не входят. Он ставил перед братством прежде всего образовательные задачи. Банна полагал, что, восприняв смысл ислама и позволив ему преобразовать себя, страна станет мусульманской без насильственного вмешательства. На начальном этапе он сформулировал программу из шести пунктов, отдававшую дань реформаторским движениям Афгани, Абдо и салафии Риды: 1) толкование Корана согласно духу эпохи; 2) единение исламских стран; 3) повышение уровня жизни, установление социальной справедливости и порядка; 4) борьба с неграмотностью и бедностью; 5) освобождение мусульманских земель от иностранного владычества и 6) распространение исламского мира и братства по всей земле[540]. В замыслах Банны не было ни радикализма, ни агрессии, однако он был настроен на фундаментальную перестройку мусульманского общества, подкошенного колониальной политикой и оторванного от корней[541]. Египтяне привыкли считать себя людьми второго сорта по отношению к европейцам, но так не должно быть. Их богатые культурные традиции послужат им гораздо лучше, чем привнесенные извне идеологии[542]. Им нет нужды копировать французскую или русскую революцию, поскольку пророк Мухаммед уже провозгласил необходимость свободы, равенства, братства и социальной справедливости 1300 лет назад. Шариат, в отличие от иноземного законодательства, отлично приживется на ближневосточной почве. Пока мусульмане подражают другим, они так и останутся культурными «полукровками»[543].
Однако первым делом «братьям и сестрам» приходилось заново знакомиться с исламом. Короткого пути к свободе и достоинству не существовало, мусульмане должны были отстроить себя и общество с нуля. С этой целью Банна годами создавал эффективную, современную систему, подвергавшуюся постоянному критическому осмыслению и оценке. В 1938 г. участников братства разделили на «фаланги», каждая из которых делилась еще на три звена – рабочих, студентов и коммерсантов с государственными служащими. Участники звеньев встречались раз в неделю, чтобы посвятить ночь молитве и духовным наставлениям. К 1943 г., когда стало ясно, что ожидаемого притока новобранцев эта система не приносит, «фаланги» заменили на «семьи», по десять участников в каждой, представлявшие собой ответственную за свои действия ячейку. Члены «семьи» встречались раз в неделю, помогая друг другу держать планку и следя, чтобы все соблюдали «столпы ислама», воздерживаясь от азартных игр, алкоголя, мздоимства и прелюбодеяния. «Семейная» система укрепляла мусульманские узы в обществе, которое трещало по швам под гнетом модернизации. Каждая «семья» входила в «фалангу», державшую связь со штабом[544].
Христианское реформаторское движение в это время занималось уточнением доктрины – тенденция, отчасти продиктованная рационализмом западной культуры модерна, для которой вера свелась к приверженности набору убеждений. Братство же исповедовало традиционалистские принципы шариата, помогавшего мусульманину посредством определенного образа жизни воспитать в себе мухаммедов архетип. Однако эти старинные принципы преподносились в новом обличье. Обряды, молитвы и этические нормы призваны были создать внутренний настрой на Господа, подобный тому, который был у самого пророка Мухаммеда. Только в таком духовном контексте, считал Банна, современные институты и реформы обретут для мусульманского народа смысл. В 1945 г. на многолюдном собрании Банна решил, что пора запускать программу социальной помощи – страна нуждалась в ней отчаянно, однако ни одно правительство пока толком в этом направлении не работало. Открывая новое отделение, братство всегда строило рядом с мечетью школы для женского и мужского обучения[545]; кроме того, при нем было создано современное ровер-скаутское движение, занимающееся физической и практической подготовкой молодежи и ставшее самым крупным и влиятельным юношеским движением в стране к началу Второй мировой войны[546]. Теперь эти институты предстояло еще больше упорядочить и добиться более полной отдачи. Братство открывало вечерние школы для рабочих и колледжи подготовки к экзаменам на государственные должности[547], основывало клиники и больницы в сельской местности, а скауты активно участвовали в санитарном просвещении и санитарной профилактике в бедных сельских районах. Кроме того, братство организовывало современные профсоюзы и просвещало рабочих в отношении их прав, предавало огласке самые вопиющие случаи производственных нарушений, создавало рабочие места, открывая собственные фабрики и предприятия легкой промышленности – печатные, ткацкие, строительные и конструкторские[548].
Враги братства обвиняли Банну в создании «государства в государстве». Он действительно выстроил успешную контркультуру, самым опасным образом подчеркивающую несостоятельность правительства[549]. На ее фоне виднее становилось безразличие правительства к образованию и условиям труда. Еще большее беспокойство вызывало то, что лишь братству удавалось вызвать отклик у феллахов. А главное, все институты братства имели четкую мусульманскую направленность: при каждой фабрике имелась мечеть, рабочим отводилось время для намазов; условия труда и оплата поддерживались на хорошем уровне – согласно социальным предписаниям Корана; рабочим предоставлялась медицинская страховка и отпуск, разногласия урегулировались по справедливости. Ошеломляющий успех братства служил ярким подтверждением тому, что вопреки всем теориям и прогнозам интеллектуалов и экспертов большинство египтян нуждалось в религии. Кроме того, он доказывал, что ислам может быть прогрессивным. Ни о каком рабском возвращении к устоям VII в. речь не шла, братство крайне неприязненно отзывалось о молодом ваххабитском королевстве Саудовской Аравии с его буквалистским толкованием исламского закона – в частности, отрубанием рук вору и закидыванием прелюбодеев камнями[550]. Братство не имело четкого представления о том, каким должно быть политическое устройство будущего исламского государства, однако в любом случае оно должно было хранить верность духу Корана и Сунны, и распределение благ необходимо было сделать более справедливым, чем в саудовском королевстве. Основные идеи сообщества отвечали веяниям времени: власть должна быть выборной (как в раннем мусульманстве) и, как настаивали «праведные» халифы, правитель должен отчитываться перед народом и не быть диктатором. Однако Банна всегда считал, что обсуждать конкретику потенциального исламского государства пока преждевременно, поскольку предстоит еще долго готовить почву[551]. Он хотел всего лишь, чтобы Египту позволили создать исламское государство. Советский Союз выбрал коммунизм, Запад – демократию, а страны с преобладанием мусульманского населения должны иметь право, если и когда они этого пожелают, строить государство на исламской основе[552].
Братство не было идеальным сообществом. Обращенность к массам делала его антиинтеллектуальным. В заявлениях часто читалась агрессия и самоуверенность. В представлениях братства о Западе как об алчном, тираническом и духовно обедненном обществе была виновата колониальная политика. На самом деле задача западного империализма не сводилась к тому, чтобы, как утверждал один из ораторов братства, «унизить нас, захватить наши земли и начать разрушать ислам»[553]. Раскола в рядах руководители братства не допускали, Банна требовал абсолютного повиновения и не спешил делегировать ответственность еще кому-то. В результате после его смерти некому оказалось занять его место, и междоусобица фактически развалила братство изнутри. Однако самым губительным оказалось появление в 1943 г. террористической группировки, известной как «Секретный аппарат» («Аль-джихаз ас-сирри»)[554]. Она оставалась маргинальной по отношению ко всему сообществу в целом. Поскольку орган был тайным, нам о нем известно крайне мало, однако Ричард Митчелл в своем классическом исследовании братства утверждает, что к 1948 г. в аппарате насчитывалось около 1000 человек и что на тот момент большинство братьев и сестер никогда не слышали о его существовании[555]. Для большинства участников смысл братства был в социальном и духовном реформировании, и террористический уклон аппарата им претил. Тем не менее, начав убивать во имя Бога, братство встало на путь разрушения, отвергавший фундаментальные религиозные ценности.
1940-е были нелегкими годами для Египта. Провал либеральной демократии стал очевиден, парламентская система не внушала большинству египтян оптимизма. Ни британцы, ни египетские националисты не понимали, что невозможно внедрить современную систему правления в стране, которая по итогам форсированной модернизации по-прежнему оставалась феодальной и аграрной в основе своей. С 1923 по 1950 г. националистическая партия «Вафд» побеждала на всех 17 всеобщих выборах, но править ей дозволили только в пяти случаях. Обычно либо британцы, либо дворец вынуждали вафдистов подать в отставку[556]. В 1942 г. народного доверия лишилась даже «Вафд», когда британцы сместили прогермански настроенного премьер-министра и заменили кабинет вафдистами, выбрав меньшее из двух зол. Во время Второй мировой в Каире царило беззаконие и отчаяние, усугубившиеся после позорного поражения пяти арабских армий, включая и египетскую, которые вторглись в Палестину после создания в 1948 г. государства Израиль. Потеря Палестины и явное безразличие мировой общественности к беде 750 000 палестинских беженцев, лишившихся крова в 1948-м, свидетельствовали о бессилии арабов в современном мире. События 1948 г. до сих пор вспоминаются арабами как «накба» – катастрофа космических масштабов. В эти мрачные времена некоторые пришли к убеждению, что террор – «единственный выход»[557]. Так считал в числе прочих Анвар ас-Садат, будущий президент Египта, основавший в 1940-х «карательное общество», чтобы бороться с британцами в зоне Суэцкого канала и египетскими политиками, замеченными в сотрудничестве с британцами. Были и другие военизированные группировки, считавшие насилие единственным способом противостояния, – «Зеленые рубашки» (дворцовая) и «Синие рубашки» (вафдистская)[558].
Появление своего террористического крыла у «Братьев-мусульман», которые стали крупнейшим игроком на египетской политической арене, было при таком раскладе, наверное, неизбежным, однако вследствие этого дела пошли по трагическому сценарию. Не известно, в какой мере сам Банна участвовал в деятельности «секретного аппарата». Он всегда порицал его участников, однако правительство все эти годы он порицал не менее яростно[559]. Но вряд ли Банна контролировал террористическую группировку, которая своими действиями повлекла гибель главы братства, подорвала доверие к организации и привела к ее разрушению. В марте 1948 г. члены «секретного аппарата» развернули террористическую кампанию, которая началась убийством уважаемого судьи Ахмеда аль-Казиндера, продолжилась на протяжении лета жестокими погромами и взрывами в еврейском районе Каира, в результате которых лишилось собственности, было ранено и погибло множество людей, и завершилась 28 декабря 1948 г. убийством премьер-министра Махмуда ан-Нукраши.
Братство отреклось от этих убийств, а известие об уничтожении Нукраши повергло Банну в ужас[560]. Тем не менее новый премьер-министр Ибрагим аль-Хади, ненавидимый всеми имеющими возможность публично высказываться из разных слоев общества, воспользовался возможностью расправиться с братством, которое обрело слишком большую власть. Братство взяли в оборот, участников арестовывали и пытали – к концу июля 1949 г., когда Хади наконец ушел с поста, за решеткой находилось свыше 4000 «братьев»[561]. 12 февраля 1949-го Банну застрелили на улице перед штабом Ассоциации мусульманской молодежи, почти наверняка по заказу премьер-министра.
В 1950 г. братство начало тайную реорганизацию и избрало нового руководителя – судью Хасана Исмаила аль-Худайби, известного своими умеренными взглядами и неприятием насилия. «Братья» надеялись, что он вернет организации уважение, в котором она так нуждалась. Однако Худайби задача оказалась не по силам. Без твердой руки Банны в руководстве начались распри, Худайби не справился с «Секретным аппаратом», и в 1954 г. тот снова поставил братство под удар.
К этому времени Египтом правил блестящий молодой офицер Гамаль Абдель Насер (1918–1970), который в результате военного переворота 22 июля 1952 г. сверг силами своей Ассоциации свободных офицеров прежнее, дискредитировавшее себя правительство и принялся строить в Египте революционную республику. Насер был приверженцем воинственного национализма, не имевшего ничего общего со старыми либеральными идеалами. В отличие от египетских интеллектуалов 1920–1930-х, новые арабские националисты не питали романтических чувств к Западу и не признавали парламентский «либерализм», который со всей очевидностью на Ближнем Востоке провалился. Насер установил в стране откровенно социалистический режим и пытался завоевать благосклонность Советского Союза. Он решительно намеревался раз и навсегда выдворить из Египта британцев, к Западу и Израилю относился с одинаковой неприязнью. Во внешней политике Насер придерживался панарабских взглядов, подчеркивая солидарность Египта с другими азиатскими и африканскими странами, пытавшимися освободиться от европейского контроля. Кроме того, он был убежденным секуляристом – ничто, включая и религию, не должно препятствовать национальным интересам; все, включая и религию, должно подчиняться государству. Со временем Насер станет самым популярным правителем на Ближнем Востоке, а «насеризм» превратится в господствующую идеологию. Однако в те ранние годы Насеру приходилось нелегко: он не пользовался популярностью и должен был уничтожать всех крупных соперников.
Тем не менее поначалу Насер заигрывал с братством. Он пользовался его исламской риторикой, братство поддерживало его, а скауты активно участвовали в наведении порядка после июльской революции. Однако напряжение нарастало, особенно когда стало ясно, что, несмотря на популистскую мусульманскую риторику, Насер не намерен создавать исламское государство. Когда Худайби окончательно допек Насера своими требованиями о всеобъемлющем применении исламских принципов, 15 января 1954 г. кабинет министров снова распустил братство под предлогом раскрытия его контрреволюционного заговора[562]. Ядро братства ушло в подполье, а правительство начало клеветническую кампанию, обвиняя братство в незаконном хранении оружия и сговоре с британцами. Верхи стали завоевывать собственные исламские симпатии, и Анвар Садат, теперь уже генеральный секретарь нового Исламского конгресса, основанного Насером, написал серию статей об «истинном» и «либеральном» исламе, исповедуемом правительством, для полуофициальной газеты «Аль-Джамахирия». Однако в конечном итоге братство само сыграло на руку Насеру 26 октября 1954 г., когда его член Абдель Латиф выстрелил в главу государства во время митинга.
Насер выжил после покушения, а проявленные под пулями стойкость и мужество подняли его репутацию на недосягаемую высоту. Теперь он мог уничтожить братство подчистую. К концу ноября 1954 г. больше тысячи «братьев» были арестованы и предстали перед судом. Однако огромное количество остальных участников, виновных разве что в распространении листовок, без суда и следствия подверглось физическим и моральным пыткам, а потом 15 лет томилось в застенках насеровских тюрем и концлагерях. Худайби приговорили к пожизненному заключению, шесть других руководителей братства казнили[563]. Насеру удалось расправиться с сообществом и остановить на полном ходу единственное в Египте прогрессивное исламское движение. Секуляризм праздновал победу, два года спустя Насер стал героем арабского мира после Суэцкого кризиса, в котором он не только дал отпор Западу, но и покрыл позором британцев. Однако победа над братством оказалась пирровой. Участники движения, просидевшие остаток жизни Насера в лагерях, испытали на себе тяжелый удар секуляризма в его наиболее агрессивной форме. Как мы увидим, именно в лагерях некоторые из «братьев» отказались от реформаторских взглядов Банны и пришли к новому суннитскому фундаментализму, в основе идеологии которого лежало насилие.
Иранцы тоже чувствовали тяжелую поступь секуляризма. Модернизационная программа шаха Резы была еще более форсированной, чем в Египте или в Турции, поскольку ко времени его прихода к власти модернизация в Иране едва началась[564]. Шах не знал жалости. Оппонентов попросту уничтожали, одним из первых досталось аятолле Мударрису, выступившему против шаха в меджлисе: в 1927-м его посадили за решетку, в 1937 г. он был убит[565]. Резе впервые удалось централизовать страну, однако действовал он самыми суровыми методами, подавляя любые волнения и разоряя кочевые племена, до того пользовавшиеся независимостью[566]. Шах реформировал судебную систему, введя вместо шариата три новых светских кодекса – гражданский, хозяйственный и уголовный[567]. Кроме того, он пытался индустриализировать страну и дать ей современные технологии. К концу 1930-х в большинстве городов имелось электричество и электростанции. Однако государственный контроль душил развитие по-настоящему активной капиталистической экономики, заработная плата оставалась низкой, а эксплуатация цвела буйным цветом. Драконовские методы не оправдали себя, Иран так и не смог достичь экономической независимости. Прибыльную нефтяную отрасль по-прежнему держали в руках британцы, поэтому никакой выгоды стране она не приносила, и Иран был вынужден полагаться на займы и иностранные инвестиции.
Программа Резы, как и следовало ожидать, оказалась поверхностной. Она просто пересаживала современные институты на прежний фундамент в аграрной стране – этот подход уже провалился в Египте и провалится в Иране. До интересов 90 % населения, занимающегося сельским хозяйством, шаху дела не было, традиционные сельскохозяйственные методы применялись без изменений и оставались такими же непродуктивными. О фундаментальной реформе общества речь не шла. Плачевное положение бедняков шаха не волновало – если на армию приходилось 50 % бюджета, то на образование выделялось только 4 %, и оно по-прежнему было доступно лишь богатому сословию[568]. Как и Египет, Иран раскололся надвое, и непонимание между двумя частями одной страны росло. Одна часть представляла собой немногочисленную вестернизированную верхушку высшего и среднего класса, тех, кого модернизационная программа Резы облагодетельствовала; другая часть состояла из бедняцких масс, которые, запутавшись в светском секуляризме нового режима, сильнее, чем когда бы то ни было, полагались на наставничество улемов.
Однако в результате секуляризационных мер, предпринятых шахом, положение и самих улемов было шатким. Он ненавидел духовенство и решительно намеревался ограничить его значительное влияние в Иране. Реза строил свою националистическую идеологию на древней персидской культуре региона, вознамерившись исключить ислам целиком. Он пытался отменить шествия в честь имама Хусейна в день Ашура (осознавая их революционный потенциал), хадж в Мекку иранцам тоже запретили. В 1931 г. было значительно сокращено количество шариатских судов, духовенству разрешалось заниматься лишь вопросами личного характера, все остальные дела подлежали рассмотрению в созданных недавно гражданских судах. Более столетия улемы пользовались почти неограниченным влиянием в Иране. Теперь их власть систематически сокращалась, однако после убийства Мударриса большинство улемов были слишком напуганы, чтобы протестовать[569].
Принятый Резой «Закон о единообразии одежды» (1928) демонстрирует одновременно поверхностный и насильственный характер модернизации. Западное платье стало обязательным для всех мужчин (за исключением улемов, которым разрешалось по-прежнему носить халаты и тюрбаны при условии сдачи государственного экзамена, подтверждающего их принадлежность к духовенству), затем женщинам запретили носить чадру. Солдаты шаха сдирали чадры с женщин штыками и разрывали в клочья на улице[570]. Реза, не считаясь с неизжитой традиционностью, хотел придать Ирану современный облик и был готов на любые меры. В 1929 г. во время Ашуры полиция окружила медресе Файзия в Куме и, дождавшись выхода студентов, принялась срывать с них традиционную одежду и насильно одевать в западное. Особенно мужчинам не нравились широкополые западные шляпы, мешавшие совершать земные поклоны в молитве. В 1935 г. у усыпальницы восьмого имама в Мешхеде полиция начала стрелять в толпу, устроившую демонстрацию против «Закона об одежде». Сотни безоружных демонстрантов были ранены или убиты на территории святыни. Неудивительно, что многие иранцы стали воспринимать секуляризацию как карательные меры, призванные не освободить религию от угнетающего ее государства (как на Западе), а уничтожить ислам[571].
Именно в такой атмосфере расцветают пышным цветом фундаменталистские движения. В рассматриваемый период в Иране до этого еще не дошло, однако он ознаменовался четырьмя событиями, предопределившими дальнейший исход. Первым было создание контркультуры. В 1920 г. муллы из Кума пригласили переселиться в город именитого муджтахида шейха Абдель-Керима Хайри Язди (1860–1936). Он намеревался вернуть Кум в лоно шиизма, опасаясь за будущее священных иракских городов Кербелы и Наджафа, ставших интеллектуальными центрами иранского шиизма в XVIII в. Вскоре после прибытия шейха Хайри в Кум британцы действительно выслали из Ирака несколько ведущих улемов, и двое самых сведущих (одним из них был «конституционалист» муджтахид Наини) обосновались в Куме. Город начал возрождаться. Восстанавливались медресе, в них приходили преподавать именитые ученые, привлекая тем самым лучших учеников. В числе новоприбывших мудрецов был и непревзойденный аятолла Сайид Ака Хусейн Боруджерди (1875–1961), получивший звание марджа-е таклида, «источника для подражания». Благодаря ему в город потянулось еще больше ученых мужей[572]. Кум постепенно приходил на смену Наджафу, став в 1960–1970-х религиозной столицей Ирана и центром оппозиции королевской столице Тегерану. Однако поначалу муллы Кума в соответствии с шиитской традицией держались от политики в стороне – любая политическая активность вызвала бы гнев шаха, и возрождение в Куме было бы уничтожено в зародыше.
Вторым судьбоносным событием стало прибытие в Кум в 1920 г. человека, который впоследствии станет самым знаменитым иранским муллой. Перебираясь в Кум из западного Ирана, шейх Хайри Язди привел с собой нескольких учеников, среди которых был молодой Рухолла Мусави Хомейни (1902–1989). Сперва Хомейни казался совершенно незначительной фигурой. Он преподавал фикх в медресе Файзия, однако позже занялся вплотную этикой и мистицизмом (ирфан), представлявшими собой «второстепенные» по сравнению с фикхом дисциплины. Кроме того, Хомейни практиковал мистицизм муллы Садры, уже давно вызывавший неодобрение правящей верхушки. Его интерес к политическим вопросам не способствовал духовной карьере, особенно после того, как титул марджи получил аятолла Боруджери, приверженец шиитского квиетизма, запрещавший улемам принимать участие в политике. Страна переживала тяжелые времена, однако, несмотря на очевидную озабоченность политикой, Хомейни не стал активистом. Тем не менее в 1944 г. вышла его книга «Кашф аль-Асрар» («Раскрытие тайн»), которая, хоть и осталась в то время незамеченной, представляла собой первую серьезную критику действий Пехлеви с шиитской точки зрения. На этом этапе Хомейни оставался реформатором без малейшего налета фундаментализма. Его позиция напоминала позицию первого меджлиса созыва 1906 г., согласившегося создать совет муджтахидов с правом вето на любой законопроект, противоречащий шариату. Хомейни поддерживал старую конституцию и пытался вписать этот современный институт в исламский контекст. Только Бог властен издавать законы, утверждал он, поэтому шииты имеют моральное право не повиноваться таким правителям, как Ататюрк или Реза-шах, которые делают все, чтобы погубить ислам. Однако Хомейни был слишком большим традиционалистом, чтобы в те ранние годы предложить поставить у власти представителя духовенства и тем самым нарушить столетнюю традицию шиизма. Муджтахидам, сведущим в законе Аллаха, позволялось, по его теории, лишь выбрать светского султана, который, насколько они знают, не посмеет нарушить божественный закон и угнетать свой народ[573].
Ко времени выхода книги Хомейни британцы, недовольные симпатиями Резы к Германии, вынудили шаха отречься от престола, доказав, что, несмотря на все громогласные заявления о независимости, Пехлеви так же пресмыкается перед европейскими державами, как и Каджары. После смерти Резы в 1944 г. на трон взошел его сын Мохаммед Реза (1919–1980), гораздо более тихий и поначалу слабохарактерный. Ему досталось нелегкое время. Вторая мировая война разрушила страну, промышленность встала, производственное оборудование пришло в упадок, повсюду царил голод. Молодой средний класс роптал на недостаток своих возможностей, националисты хотели сбросить иностранный гнет, на фоне экономических тягот росло недовольство тем, что иранской нефтью владеют британцы. Улемы тем не менее могли радоваться. Новый шах не решился отклонить их требования, и празднования Ашуры с мистериями и декламациями разрешено было возобновить, мужчинам позволили хадж, а женщины снова могли носить чадру. В это время появилось несколько новых политических партий: просоветская «Туде», Национальный фронт под руководством Мохаммеда Мосаддыка (1881–1967), требовавший национализации иранской нефти, и новая военизированная группировка «Федаян-е ислам» («Поборники ислама»), устраивавшая покушения на сторонников секуляризма.
В 1945 г. аятолла Сайид Мустафа Кашани (ок. 1882–1962)[574], во время войны отправленный британцами за решетку, получил разрешение вернуться в Иран. Встречать его вышли огромные толпы, перед его машиной раскинули ковровую дорожку. Самые почитаемые улемы приезжали автобусами из дальних городов, чтобы поприветствовать Кашани, восторженные студенты медресе устроили массовое шествие[575]. Возвращение Кашани стало третьим из судьбоносных событий рассматриваемого периода. Видя такую невероятную популярность аятоллы, проницательный наблюдатель мог заключить, что иранцы с большей готовностью послушаются в вопросах политики представителя духовенства, чем человека светского. Несмотря на близкое знакомство, Кашани и Хомейни сильно отличались друг от друга. Если Хомейни шел к намеченной цели, не сворачивая, то Кашани был более склонен к метаниям, готов был примкнуть к любому победителю, а его замыслы не всегда отличались моральной безупречностью. В 1943 г. британцы отправили его в заключение за прогерманскую деятельность: бесчинства нацистов не имели для Кашани значения, если Германия может помочь Ирану изгнать британцев[576]. Кроме того, Кашани был связан с «Федаян-е ислам», и когда в 1949 г. один из террористов совершил покушение на шаха, Кашани отправили в ссылку. В Бейруте он примкнул к Национальному фронту, издав в июле 1949-го фетву, призывающую к национализации нефтедобычи. В 1950 г. Кашани разрешили вернуться в Иран, и народ снова встречал его как героя. Толпы начали собираться в аэропорту Мехрабад еще накануне вечером. К главным улемам присоединился и Мосаддык, чей Национальный фронт благодаря позиции по нефтяному вопросу завоевал большое количество голосов на выборах. Когда Кашани вышел из самолета, толпа скандировала так громко, что официальную речь в честь прибывшего пришлось отменить, а затем, провожая Кашани до его тегеранского дома, толпа в восторженном неистовстве несколько раз приподнимала над дорогой его автомобиль[577].
Четвертым знаменательным событием тех лет стал нефтяной кризис[578], разразившийся в 1953 г. после того, как от рук федаина погиб премьер-министр Али Размара, поддерживавший «Англо-персидскую нефтяную компанию». Два дня спустя меджлис рекомендовал правительству национализировать нефтяную отрасль, и Мосаддык стал премьером, сместив кандидата от шаха. Иранские нефтяные месторождения были национализированы, однако, несмотря на признанное Международным судом в Гааге право Ирана национализировать собственные ресурсы, британские и американские нефтяные компании объявили иранской нефти неофициальный бойкот. В Британии и США средства массовой информации изображали Мосаддыка неуправляемым фанатиком, вором (хотя он всегда предлагал компенсировать убытки) и коммунистом, который сдаст Иран СССР (хотя на самом деле националист Мосаддык стремился освободить Иран от иностранного гнета). В Иране же Мосаддык был героем – как Насер после национализации Суэцкого канала. Премьер все больше посягал на власть шаха, и когда в июле 1952 г. он потребовал командования над вооруженными силами, шах сместил его, но народ вышел на улицы, и роялисты заволновались, понимая, что иранцы вот-вот потребуют установления республики. Лондон и Вашингтон, которым Мосаддык был в равной степени неугоден, тоже обеспокоились. Аятолла Кашани принимал самое активное участие в демонстрациях, появляясь на улицах в белом саване в знак своей готовности погибнуть в священной войне против тирании. Не прошло и двух дней, как шах сдался и восстановил Мосаддыка в должности.
Именно в этот момент Соединенные Штаты, до тех пор считавшиеся миролюбивой державой, потеряли в Иране политическую невинность. К 1953 г. поддержка Мосаддыка начала таять. Армия никогда не была всецело на его стороне, но теперь, когда нефтяное эмбарго провоцировало тяжелый экономический кризис, от него отвернулись и bazaari. А вслед за ними и улемы, включая Кашани: Мосаддык был признанным секуляристом и намеревался сделать религию частным делом. Он активно порывался распустить меджлис, чем вызывал у шиитского духовенства подозрения в тиранических наклонностях. Однако, утратив прежних сторонников, Мосаддык обрел нового в лице социалистической партии «Туде». Это встревожило американское правительство во главе с президентом Дуайтом Эйзенхауэром, который, опасаясь прокоммунистического переворота, дал добро на участие США в операции «Аякс» – подстроенном британскими спецслужбами и ЦРУ перевороте с целью свергнуть Мосаддыка. Однако в августе 1953-го Мосаддык узнал о готовящемся заговоре и, как и предполагалось в подобном случае, шах с шахиней покинули страну. Покинули, но тут же вернулись под прикрытием агентов ЦРУ, которые три дня спустя подняли недовольных иранцев и армию на восстание, в результате которого Мосаддык потерял власть. Позже он предстал перед военным трибуналом и благодаря блестящей защите избежал смертной казни, однако остаток жизни ему пришлось провести под домашним арестом.
Успех перевороту 1953 г. обеспечило зревшее в стране недовольство, однако несомненно и то, что без иностранного вмешательства переворот бы не состоялся. Иранцы, прежде считавшие Соединенные Штаты дружественной страной, чувствовали себя преданными и униженными. Америка вслед за русскими и британцами цинично манипулировала Ираном ради собственной выгоды. Окончательные сомнения в этом исчезли в 1954 г., после подписания нового нефтяного соглашения, возвращавшего международным картелям контроль над добычей и сбытом нефти, а также право на 50 % прибыли[579]. Политически грамотных иранцев это уязвило до глубины души. Страна, в том числе и с помощью международного суда, пыталась отстоять собственные богатства, но эти старания растоптали. Аятолла Кашани был возмущен: помощь Америки идет на пользу лишь единицам и не составляет и сотой доли тех сумм в нефтедолларах, которые Штаты выкачивают из Ирана. «Из-за сотен миллионов долларов, которые американские империалисты выручат за нефть, – предрекал он, – угнетенная страна потеряет всякую надежду на свободу и проникнется неприязнью ко всему западному миру»[580].
По крайней мере в этом пророчестве Кашани оказался прав. Вспоминая операцию «Аякс», иранцы забудут, что от Мосаддыка отвернулся собственный народ, и будут искренне считать, что Соединенные Штаты в одиночку установили в стране шахскую диктатуру ради собственной выгоды. Ожесточение возросло в начале 1960-х, когда шахское правление стало еще более жестким и автократичным. Налицо были двойные стандарты. Америка гордо провозглашала приверженность свободе и демократии, но поддерживала шаха, не допускавшего появления в стране оппозиции и лишавшего иранцев основных прав человека. После 1953 г. Иран стал привилегированным американским союзником и в качестве крупной нефтедобывающей страны основным рынком сбыта для американских услуг и технологий. Американцы видели в Иране экономическую золотую жилу, шаг за шагом сходя на проторенный британцами путь: «ежовые рукавицы» на нефтяном рынке, непрошеное влияние на монарха, требование дипломатической неприкосновенности, деловых и торговых концессий, покровительственно-снисходительное отношение к самим иранцам. Страну наводнили американские бизнесмены и консультанты, получавшие огромные доходы. Между их образом жизни и жизнью большинства иранцев существовал огромный разрыв, они жили обособленно от народа, а поскольку большинство из них работало по дворцовым контрактам, они становились неотделимы в глазах народа от властей. Эта недальновидная политика, преследующая личные выгоды, выставляла Штаты в демоническом свете.
Иран раскололся на два полюса: единицы, выигрывающие от американского засилья, и подавляющее большинство, остающееся не у дел. И так происходило не только в Иране. К середине XX в. все рассматриваемые нами страны разделились на два лагеря. Одним слоям населения эпоха модерна давала свободу и власть, другие видели в ней жестокого врага. Страх, ненависть и плохо скрываемый гнев не заставили себя ждать. Вскоре фундаменталисты, особенно остро ощущающие этот гнев, решат, что хватит закрываться от общества и строить контркультуру. Пора мобилизоваться и наносить ответный удар.
8. Мобилизация (1960–1974)
В начале 1960-х и на Западе, и на Ближнем Востоке царило революционное настроение. В Европе и Америке молодежь выходила на улицы, протестуя против модернистского этоса своих родителей. Они требовали большей справедливости и равенства, выступали против культа материальных ценностей, империализма и шовинизма правительств, отказывались сражаться в войнах, которые вели их страны, и учиться в их университетах. Молодежь 1960-х приступила к тому, чем уже не первое десятилетие занимались фундаменталисты, – они начали создавать «контркультуру», «альтернативное общество», бунтуя против господствующих взглядов. Они требовали от жизни большей религиозности – в разных смыслах, институциональная вера и авторитарные монотеистические структуры большинству из них не подходили. Поэтому одни отправлялись в Катманду или искали утешения в медитативных и мистических восточных практиках. Другие находили трансцендентность в наркотических «трипах», трансцендентальной медитации или трансформациях личности посредством разработанных Вернером Эрхардом тренингов ЭСТ. Люди изголодались по мифу, и новой западной ортодоксией стало отрицание научного рационализма – не рацио как такового, а его крайних проявлений. Сама наука в XX в. стала более осторожной, вдумчивой и способной четко очертить свои границы и области компетенции. Однако господствующий дух модерна сделал из науки идеологию и отказывался рассматривать другие методы постижения истины. Молодежная революция 1960-х стала отчасти протестом против незаконной диктатуры рационального языка и подавления мифа логосом.
Однако в силу того, что Запад с самого зарождения модерна отметал все отработанные пути к интуитивному знанию, духовные искания 1960-х зачастую отличались необузданностью, потворством своим желаниям и неуравновешенностью. Имелись просчеты и во взглядах и действиях религиозных радикалов, которые готовили собственное наступление на секуляризацию и рационализм современного общества. Фундаменталисты начали мобилизоваться. Модерн всегда был для них агрессором. Его дух требовал освободиться от устаревшего образа мысли; его идеал прогресса повлек за собой искоренение всех верований, практик и институтов, сочтенных иррациональными, а значит, ретроградными. И прежде всего под удар попали духовные учреждения и доктрины. Иногда, как в случае с либералами во времена процесса над Скоупсом, оружием служила насмешка. На Ближнем Востоке, где модернизация шла сложнее, методы выбирались более суровые, включая массовые убийства, хищения и концлагеря. К 1960–1970-м многие религиозные люди ожесточились и готовы были бороться с либералами и секуляристами, которые, по мнению верующих, притесняли их и втаптывали в грязь. Однако эти религиозные радикалы тоже были представителями своего времени, поэтому сражаться они будут оружием эпохи модерна и создадут модернистскую идеологию.
Со времен Американской и Французской революций западная политика была идеологизированной, люди вели масштабные битвы за просвещенческие идеалы Века разума – свободу, равенство, братство, счастье и социальную справедливость. Западные либералы считали, что образование сделает общество и политику более разумно устроенными и едиными в дейтвиях. Светская идеология, поднимающая людей на битву, была совокупностью модернистских верований, оправдывала политическую и социальную борьбу и подводила под нее рациональное обоснование[581]. Чтобы быть понятной как можно большему количеству людей, идеология выражалась в простых образах, которые часто сводились к таким лозунгам, как «Власть народу!» или «Предатели среди нас!». Эти максимально упрощенные истины считались достаточным объяснением для всего на свете. Идеологи полагают, что мир в опасности, находят причины текущего кризиса и обещают отыскать выход. Они указывают народу на группу людей, которую можно обвинить во всех мировых несчастьях, и на другую группу, которая все исправит. Поскольку в современном мире политика уже перестала быть уделом элиты, идеология должна быть достаточно простой, доступной самым недалеким умам, иначе ей не удастся обеспечить себе народную поддержку.
При этом ключевым является убеждение в том, что некоторые слои никогда не поймут эту идеологию, поскольку заражены «ложным сознанием». Идеология зачастую представляет собой закрытую систему, которая не может позволить себе всерьез принимать альтернативные взгляды. Марксисты, считающие капиталистов корнем мирового зла, не смогут понять капиталистические ценности, и наоборот. Истины зарождающегося национализма неприемлемы для колонизаторов. Сионисты и арабы не способны проникнуться взглядами друг друга. Любая идеология рисует нереалистичную и, можно сказать, нереализуемую утопию. Идеология по природе своей очень избирательна, однако витающие в воздухе в тот или иной момент идеи, пристрастия и чаяния, такие как национализм, личная независимость или равенство, могут быть подхвачены несколькими соперничающими идеологиями, которые в этом случае будут апеллировать к одним и тем же идеалам, продиктованным общим духом времени.
Историк Эдмунд Берк (1729–1797) одним из первых осознал, что, если группа людей желает бросить вызов господствующей идеологии (которая сама когда-то могла быть революционной), ей придется выработать собственную контрреволюционную идеологию. Именно в таком положении оказалось большинство недовольных евреев, христиан и мусульман к 1960–1970-м Чтобы противостоять фантазиям на почве рацио истеблишмента эпохи модерна, им придется бросить вызов идеям, которые когда-то были радикальными и революционными, но теперь стали настолько всепроникающими и непререкаемыми, что казались самоочевидными. Все недовольные находились в проигрышном положении и были убеждены (иногда небезосновательно) в том, что секуляристы и либералы намерены их уничтожить. Чтобы создать религиозную идеологию, им придется преобразовать традиционные мифы и символику в убедительную программу действий, которая поднимет людей на борьбу за спасение веры от истребления. Некоторые из религиозных идеологов несли в себе дух традиционной эпохи – они были мистиками, высоко ценившими миф и ритуал, которые позволяли им тонко чувствовать незримую реальность. Однако сложность состояла в том, что в премодернистский период миф никогда не предназначался для практического применения. Он не служил прежде руководством к действию – в тех случаях, когда люди превращали его в платформу для политической борьбы, исход получался плачевный. Теперь же, планируя контрнаступление на светский мир, религиозные радикалы сталкивались с необходимостью превратить миф в идеологию.
В Египте 1960-х ислам подвергся массированной идеологической атаке. Насер, находясь на пике популярности, призвал к «культурной революции» и строительству так называемого «научного социализма». В «Хартии национальных действий», изданной в мае 1962 г., он перекраивал историю с социалистической позиции – эта идеология «доказывала», что капитализм и монархия потерпели поражение и только социализм способен привести к «прогрессу», под которым понимались самоуправление, производительность и индустриализация. Религия рассматривалась как безнадежный пережиток. После уничтожения «Братьев-мусульман» Насер уже не считал нужным пользоваться старой исламской риторикой. В 1961 г. правительство осудило улемов за робкую приверженность старинной средневековой науке и за «косную, непримиримую» позицию Азхара, мешающую «адаптироваться к современности». Насер попал в точку. Египетские улемы действительно сомкнули ряды против современного мира и продолжали противиться реформам[582]. Они превращались в анахронизм и теряли влияние на модернизирующиеся слои египетского общества. Точно так же аморальная, не подлежащая оправданию террористическая деятельность маргинальной группы в составе «Братьев-мусульман» была во многом повинна в уничтожении братства. Мусульманский истеблишмент удалялся от дел и демонстрировал несовместимость с современным миром.
В Египте и Сирии 1960-х гг. историки-«насеристы» внедряли новую светскую идеологию. Ислам стал корнем всех бед страны, его сделали «козлом отпущения», от которого необходимо избавиться, чтобы в арабских государствах начались прогрессивные перемены. Сирийский ученый Заки аль-Арсузи считал, что историкам следует подчеркивать среди заслуг арабов не подаренный ими миру ислам, а вклад в материальную культуру (например, преобразование иероглифического письма в алфавит). Из-за своей поглощенности религиозными вопросами арабы и стали отставать от европейцев, которые занимались физическим миром, а не духовным, создавая современную науку, промышленность и технологии. Шибли аль-Айсами считал прискорбным, что мусульманские историки объявляют доисламскую арабскую цивилизацию «джахилией» («эпохой невежества»), поскольку культурные достижения Древнего Йемена нельзя сбрасывать со счетов. Ясин аль-Хафиз подвергал сомнению надежность исламских исторических источников, отражавших лишь взгляды господствующего класса. Строить современную идеологию на расплывчатых воспоминаниях о далеком мертвом прошлом было бессмысленно и невозможно. Историкам предстояло создать более научную и диалектическую историографию, «поле битвы, на которое нам предстоит выйти, чтобы разрушить все надстройки прежнего общества»[583]. На религию возлагалась вина за «ложное сознание», тянущее арабов назад, а значит, подлежащее уничтожению, как и другие препятствия на пути к разуму и научному прогрессу. Как и в любой идеологии, доводы отличались избирательностью, образ религии получался упрощенным и неточным. Он не соответствовал истине. Какое бы место религия ни занимала в современном мире (этот вопрос оставался открытым), стереть прошлое невозможно, оно продолжает жить в сознании народа, даже если устранить прежние институты и их адептов.
Новые религиозные идеологи отвечали оппонентам той же упрощенностью и агрессией. Они считали, что сражаются за свою жизнь. В 1951 г. в Египте начали издавать работы пакистанского журналиста и политика Абуля Али Мавдуди (1903–1979)[584]. Мавдуди опасался, что ислам стоит на грани уничтожения. Он считал, что могущественные западные державы собирают войска, чтобы растоптать ислам и вытравить его из памяти. Времена стояли тяжелые, и Мавдуди считал, что правоверные мусульмане не имеют права закрываться от мира и оставлять политику на откуп другим. Они должны сплотиться для борьбы с этим вторжением безбожного секуляризма. Мобилизуя народ, Мавдуди пытался подчеркнуть разумность и систематичность ислама, чтобы его воспринимали так же серьезно, как и другие ведущие идеологии того времени[585]. Соответственно он пытался превратить весь многогранный миф и дух ислама в логос, рационализированный дискурс, призванный убеждать и вести к прагматическим действиям. В прежнем, традиционном мире подобные попытки были бы осуждены как чрезвычайно опасное заблуждение, но мусульмане давно вышли из премодернистского периода. Если они хотят выжить в этом опасном и жестоком XX в., может быть, пора пересмотреть старые концепции и осовременить религию?
В основе идеологии Мавдуди, как и у других мусульманских мыслителей-модернистов, чьи теории нам предстоит рассмотреть, лежала доктрина о верховной власти Бога. Тем самым Мавдуди бросал вызов миру модерна, поскольку его концепция противоречила всем его священным истинам. Если делами человека управляет только Бог и Он же выступает верховным законодателем, человек не имеет права издавать собственные законы и решать собственную судьбу. Покушаясь на само представление о свободе личности и независимости человека, Мавдуди отвергал светский этос как таковой: «Мы не вольны определять цель своего существования и границы нашей земной власти, и никто другой не волен решать это за нас… Никому не дано претендовать на верховную власть, будь то человек, семья, класс, группа людей или даже все человечество. Нет владыки, кроме Аллаха, и заповеди его – исламский закон»[586]. Локк, Кант и отцы-основатели Соединенных Штатов перевернулись бы в гробу. Однако на самом деле Мавдуди дорожил свободой не меньше любого современного человека и предлагал исламскую либеральную теологию. Если нет других властителей, кроме Аллаха, ни один человек не обязан повиноваться воле другого. Ни один правитель, отказывающийся править согласно воле Бога (явленной в Коране и Сунне), не вправе требовать повиновения подданных. В этом случае революция – это уже не право, а обязанность.
Таким образом, ислам оберегал государство от прихотей и амбиций правителя, освобождая мусульман от издержек и возможного вреда, который может причинить человеческая власть. Согласно принципу «шуры» («совещания») в исламском законе халиф был обязан совещаться с подданными, однако это не означало, что правительство, как при демократическом устройстве, избиралось народом. Ни халиф, ни народ не могли быть законодателями, только исполнителями законов шариата. Соответственно, по Мавдуди, мусульмане должны противостоять вестернизированным формам правления, навязанным колониальными державами, поскольку подобное правительство – это бунт против Аллаха и узурпация власти[587], чреватая злом, угнетением и тиранией. Эта теология освобождения может показаться странной убежденному секуляристу, однако любая идеология, как мы помним, представляется неприемлемой ее противникам. Мавдуди воспринимал ценности своего времени и разделял их, он верил в свободу и власть закона, в которой видел также средство борьбы с коррупцией и диктатурой. Он просто определял эти идеалы по-своему и трактовал их с исламской позиции, однако для человека с секуляристским «ложным сознанием» понять это было невозможно.
Мавдуди верил в ценность идеологии. Ислам, утверждал он, это революционная идеология, аналогичная фашизму или марксизму, однако с одним существенным отличием[588]. Нацисты и марксисты порабощали других людей, а ислам стремится освободить их от подчинения кому бы то ни было, кроме Бога. Как истинный идеолог, Мавдуди считал все остальные системы неисправимо ущербными[589]. Демократия ведет к хаосу, алчности и власти толпы; капитализм разжигает классовую борьбу и подчиняет весь мир клике банкиров; коммунизм подавляет личную инициативу и индивидуальность – это привычная идеологическая вульгаризация. Мавдуди не углублялся в подробности. Чем на практике будет отличаться исламская шура от демократии западного образца? Как аграрный кодекс, каким является шариат, должен справляться с политическими и экономическими проблемами современного индустриализованного мира? Исламское государство, рисуемое Мавдуди, получается тоталитарным, поскольку все в нем подчинено велениям Аллаха, но в чем тогда отличие от диктатуры, которую, как совершенно обоснованно доказывал Мавдуди, Коран порицает?
Как и любой идеолог, Мавдуди разрабатывал не умозрительную научную теорию, а призыв к оружию. Он требовал всеобщего джихада, объявляя его центральным столпом ислама. Ни один выдающийся мусульманский мыслитель до тех пор ничего подобного не провозглашал. Это нововведение Мавдуди считал вынужденной необходимостью, продиктованной обстоятельствами. Джихад («борьба», «усилия»), вопреки распространенному на Западе мнению, не означал священную войну с целью обращения неверных, но не сводился и к простой самозащите, каким видел его Абдо. Мавдуди определял джихад как революционную борьбу за власть ради блага всего человечества. Мавдуди, пришедший к этой идее в 1939 г., стоял на тех же воинственных позициях, что и идеологи вроде марксистских. Как Пророк боролся с джахилией – невежеством и варварством доисламского периода, – так и мусульмане должны всеми возможными способами противостоять современной джахилии Запада. Джихад может принимать разные формы. Одни люди будут писать статьи, другие – произносить речи, однако в конечном итоге они должны быть готовы к вооруженной борьбе[590].
Никогда прежде джихад не занимал центрального места в официальном исламском дискурсе. Позиция Мавдуди отличалась почти беспрецедентной воинственностью, однако и положение дел сильно ухудшилось с тех пор, как Абдо и Банна пытались реформировать ислам, помогая ему мирным путем воспринять западный этос эпохи модерна. Часть мусульман была теперь уже готова к войне. В числе тех, на кого сильно повлияли труды Мавдуди, был Сайид Кутб (1906–1966), вступивший в ряды «Братьев-мусульман» в 1953 г., затем отправленный Насером за решетку в 1954-м и приговоренный к 15 годам исправительных работ[591]. Он испытал на себе, насколько суровы власти к исламистам – пережитое в насеровских лагерях глубоко ранило его, и в своих идеях он пошел еще дальше, чем Мавдуди. Кутба можно назвать основоположником суннитского фундаментализма. На идеологию, которую он выработал в застенках[592], опирались почти все радикальные исламисты, однако таким противником западной культуры и экстремистом он был не всегда. Кутб учился в каирском колледже Дар аль-Улум, где увлекся английской литературой и стал литератором. Кроме того, он был националистом и состоял в «Вафд». Внешне он совсем не напоминал смутьяна – небольшого роста, тихий и довольно щуплый. Однако Кутб был истово верующим. К 10 годам он выучил наизусть весь Коран, который стал его путеводной звездой на всю жизнь, но в молодости вера Кутба легко уживалась с любовью к западной культуре и светской политике. К 1940-м его восхищение Западом пошло на убыль. Действия британских и французских колонизаторов в Северной Африке и на Ближнем Востоке вызывали у него отвращение, как и поддержка Западом сионизма[593]. Разочарование принес и период учебы в Соединенных Штатах[594].
Рациональный прагматизм американской культуры насторожил Кутба. «Любые цели, кроме сиюминутной выгоды, игнорируются, ничто человеческое, кроме эго, не признается, – писал он позже. – Когда вся жизнь подчинена этому материализму, не остается места для других законов помимо условий труда и производства»[595]. Тем не менее он по-прежнему придерживался умеренных взглядов и оставался реформатором, пытаясь придать таким современным западным институтам, как демократия и парламентская система, исламский уклон в надежде избежать эксцессов стопроцентно светской идеологии.
Однако пережитое Кутбом в заключении привело его к выводу, что верующие и секуляристы не смогут мирно уживаться в одном и том же обществе. Оглядывая свою камеру, вспоминая пытки и казни «братьев», видя неприкрытую решимость Насера отодвинуть религию в сторону, он наблюдал все признаки джахилии, которую, как и Мавдуди, он считал невежественным варварством, извечным врагом веры, с которым мусульмане вслед за пророком Мухаммедом, боровшимся с джахили (невеждами) Мекки, обязаны сражаться до самой смерти. И тем не менее Кутб пошел дальше Мавдуди, который считал джахилией лишь немусульманский мир. К 1960-м Кутб был убежден, что так называемый мусульманский мир тоже заражен джахилистскими пороками и жестокостью. И хотя правители вроде Насера якобы исповедовали ислам, своими словами и поступками они демонстрировали отступничество. Долг обязывал мусульман свергнуть подобное правительство. Оглядываясь на жизнь и деяния Пророка, Кутб создавал идеологию, призванную поднять пламенный авангард на джихад с целью обратить вспять напор секуляризма и заставить общество вернуться к ценностям ислама.
Кутб был представителем мира модерна, поэтому создавал убедительный логос, однако при этом он не упускал из вида и миф. Он уважал разум и науку, не считая их единственными путями к истине. За долгие годы заключения, работая над новой фундаменталистской идеологией, он параллельно создавал монументальный свод комментариев к Корану, демонстрирующий духовную связь с непостижимым и незримым. Каких бы высот рационализма ни достигал человеческий ум, писал Кутб, он все равно дрейфует в «море непознанного». Философские и научные достижения, разумеется, способствуют определенному прогрессу, однако они позволяют увидеть лишь проблеск вечных космическхе законов, они так же поверхностны, как волны «в бескрайнем океане, они не меняют течений, ими управляют неизменные природные факторы»[596]. Если модернистский рационализм сосредоточивался на мирском и обыденном, то Кутб культивировал традиционное умение смотреть сквозь земную действительность на то, что неподвластно времени и переменам. Это мифологическое, эссенциалистское мышление, рассматривающее мировые события как отражение более или менее идеальной, вечной, архетипичной действительности, было для Кутба ключевым. Отсутствие такого подхода к миру в Соединенных Штатах встревожило Кутба. Глядя на современную светскую культуру, он, как и остальные фундаменталисты, видел ад, пространство, полностью лишенное священной и моральной составляющей, и оно наполняло его ужасом. «Нынешнее человечество живет в огромном борделе! Достаточно посмотреть на все эти журналы и газеты, фильмы, модные показы, конкурсы красоты, балы, винные бары и телерадиостанции! А чего стоит страсть к обнаженному телу, призывные позы, непристойные заявления в литературе, в искусстве и СМИ! Добавим к этому систему ростовщичества, питающую человеческую алчность и рождающую порочные способы накопления и инвестиций вдобавок к мошенничеству, плутовству и шантажу, облаченным в мантию закона»[597]. Кутб хотел, чтобы мусульмане восстали против подобного светского общества и возродили в нем духовную составляющую.
Кутб рассматривал историю как миф. Он подходил к жизни Пророка не с позиций современного ученого-историка, для которого биография – уникальные события далекого прошлого. Как романист и литературный критик, он понимал, что есть и другие способы познания истины. Для Кутба деяния Мухаммеда по-прежнему представляли собой архетип, точку соприкосновения и гармоничного взаимодействия человеческого и священного. Это был в глубоком смысле «символ», соединяющий мирское с божественным. С такой точки зрения жизнь Мухаммеда являла собой идеал вне истории, времени и пространства, обеспечивая человечеству (подобно христианским таинствам) «постоянную встречу» с первичной Реальностью[598]. Это – эпифания, а разные этапы жизненного пути Пророка служили вехами на пути человека к Господу. Соответственно и термин «джахилия» относится не только к доисламскому периоду в Аравии, как принято в традиционной мусульманской историографии. «Джахилия не просто промежуток времени, – объяснял Кутб в своем самом противоречивом труде „Вехи на пути Аллаха“. – Это одно из состояний, которое возникает в обществе всякий раз, когда оно отходит от исламского курса, независимо от того, случилось ли это в прошлом, происходит ли в настоящее время или случится в будущем»[599]. Любая попытка отрицать реальность и верховную власть Господа – это джахилия. Национализм (ставящий превыше всего государство), коммунизм (прибежище атеизма) и демократия (при которой люди узурпируют власть Бога) являются проявлениями джахилии, поклонением человеку вместо Бога. Это безбожие и вероотступничество. Для Кутба современная джахилия в Египте и на Западе была еще хуже, чем джахилия времен Пророка, поскольку проистекала не из «невежества», а из принципиального бунта против Господа.
Однако в премодернистской духовности архетип Мухаммеда выстраивался в сознании каждого мусульманина посредством ритуалов и этических практик ислама. В этом смысле для Кутба он по-прежнему оставался мифом, но теперь мыслитель перекраивал его, создавая идеологию, программу действий. Первая умма, созданная Пророком в Медине, стала «светом маяка, который установил Аллах, чтобы человечество все время взирало на него, а также предпринимало попытки достичь его»[600]. Архетипическое общество Медины действительно было достижением «избранной группы людей», но оно не было «неповторимым чудом». Это был «плод человеческих усилий», подлежащий воспроизведению, если употребить такие же усилия[601]. В образе жизни Мухаммеда, утверждал Кутб, Аллах явил божественную программу (манхадж), которая, таким образом, главенствует над всеми созданными человеком идеологиями. «Вехами» жизни Пророка Господь указал человеку единственный способ построить праведное общество[602].
В отличие от христиан мусульмане всегда воспринимали божественное не как доктрину, а скорее как императив. Мусульманский фундаментализм всегда будет мировоззрением активизма, сосредоточенным на умме. Однако превращая миф о жизни Пророка в идеологию, Кутб неизбежно упрощал его, ограничивал его духовный потенциал и приземлял. Он убирал все противоречия, все неясности, все сложности личной многогранной борьбы Пророка, чтобы создать четкую программу, требуемую современной идеологией, однако безжалостная селекция такого рода, проводимая им в процессе конвертации мифа в идеологию, неизбежно искажала исламский взгляд.
Кутб делил жизнь Пророка на четыре этапа. Чтобы воссоздать праведное сообщество в XX в., мусульманам также предстояло пройти эти четыре стадии[603]. Сперва Господь открыл свой замысел одному человеку, Мухаммеду, который затем принялся формировать джамаат – группу преданных, поклявшихся выполнять волю Господа и заменить джахилию в Мекке справедливым эгалитарным обществом, признававшим лишь владычество Бога. На первом этапе Мухаммед научил этот авангард отделяться от язычников-джахили, живущих в соответствии с совершенно другими ценностями. Как и остальные фундаменталисты, Кутб считал политику размежевания (мафасала) решающей мерой. Программа Пророка свидетельствовала о том, что общество разделилось на два противоборствующих лагеря. Сегодняшние мусульмане, доказывал Кутб, также должны отвернуться от джахилии своей эпохи и, отгородившись от нее, создать исключительно мусульманский анклав. С неверующими и вероотступниками можно и нужно вести себя учтиво, однако контакты необходимо свести к минимуму и в целом придерживаться политики отказа от сотрудничества в таких ключевых вопросах, как образование[604].
Сегрегация верных от джахилистского большинства усугубилась в жизни Пророка, когда язычники Мекки подвергли гонениям крошечную мусульманскую общину и в 622 г. вынудили мусульман совершить хиджру (переселение) в Медину, на 250 миль к северу от Мекки. Рано или поздно между истинно верующими и остальным безбожным обществом должен был произойти окончательный разрыв. В Медине, на третьем этапе своего жизненного пути, Пророк создал исламское государство. Это был период консолидации, братства и объединения, когда джамаат готовился к предстоящей борьбе. На четвертом и последнем этапе программы Мухаммед вступил в вооруженную борьбу с Меккой, сперва устраивая небольшие набеги на торговые караваны, а затем нападая на мекканские войска. При сложившейся поляризации общества насилие было неизбежно, как неизбежно оно и для нынешних мусульман. Однако в конце концов в 630 г. Мекка по доброй воле открыла ворота Мухаммеду, чтобы принять ислам и признать верховную власть Господа.
Кутб всегда подчеркивал, что вооруженная борьба за Аллаха не должна быть кампанией по навязыванию ислама силой. Как и Мавдуди, он рассматривал провозглашение верховной власти Аллаха как декларацию независимости. «Исламская религия есть общая декларация освобождения человека на этой земле от порабощения другим человеком, а также от поклонения своим прихотям… Объявление господства Аллаха, и никого иного, над обитателями этого мира означает, что во всех видах, формах, порядках и системах человеческой власти произошла всеобщая революция, всеобщий бунт повсеместно на планете, где в той или иной форме власть принадлежит людям, иными словами, где божественное начало в той или иной форме принадлежит людям»[605]. Идеология Кутба была модернистской по сути; если не считать того, что центральное место в ней отводилось Аллаху, в отрицании современной ему системы Кутб во многом был типичным шестидесятником. Изложенная им программа Пророка отвечала всем требованиям идеологии – простота, идентификация противника, указание на группу (джамаат), которая возродит общество. Идеология Кутба переводила ключевые аспекты этоса модерна на язык ислама, понятный всем тем многочисленным мусульманам, которых заботил распад и переориентация привычного им общества. «Независимость», дарованная стране британцами, не давала народу ощущения свободы и власти. Катастрофическое поражение Насера в Шестидневной войне в июне 1967 г. дискредитировало в глазах многих светские идеологии насеризма, социализма и национализма. Ближний Восток охватила волна религиозного возрождения, и значительное число мусульман будут черпать вдохновение в идеологии Кутба.
Однако, отводя джихаду центральное место в мусульманском мировоззрении, Кутб, по сути, искажал житие Пророка. Из традиционных жизнеописаний ясно следует, что, несмотря на выпавшую на долю первой уммы необходимость бороться за жизнь, Мухаммед добился победы не мечом, но творческой и изобретательной ненасильственной политикой. Коран порицает любые военные действия как неприемлемые, допуская лишь самозащиту. Коран решительно возражает против применения силы в религиозных вопросах. Он признает любую праведную религию и почитает всех великих пророков прошлого[606]. В последнем своем выступлении перед общиной накануне гибели Мухаммед призывал мусульман с помощью религии добиваться взаимопонимания с другими, ведь все люди – братья: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга»[607]. Настрой Кутба на отсев и разделение идет вразрез с этой всеобъемлющей толерантностью. В Коране категорически утверждается, что «нет принуждения в религии»[608]. Кутб толковал это так: толерантность наступит лишь после политической победы ислама и создания подлинно мусульманского государства[609].
Эта непримиримость проистекала из глубочайшего страха, лежащего в основе фундаменталистской религии. Кутб испытал на себе губительную разрушающую силу современной джахилии. Насер явно вознамерился стереть ислам с лица земли, и в этом намерении он был не одинок. Оглядываясь на прошлое, Кутб видел целую череду врагов-джахили, задавшихся целью уничтожить ислам, – язычников, иудеев, христиан, крестоносцев, монголов, коммунистов, капиталистов, колонизаторов и сионистов[610]. И вот они снова строят свои козни. Паранойя истинного фундаменталиста, доведенного до предела, заставляла Кутба видеть заговоры повсюду. Еврейские и христианские империалисты сговариваются отобрать землю у палестинских арабов; евреи породили капитализм и коммунистическую теорию; евреи вместе с западными империалистами наделили властью Ататюрка, чтобы избавиться от ислама, а когда другие мусульманские государства отказались идти по стопам Турции, они поддержали Насера[611]. Как и большинство неврозов, эта конспирология не имела ничего общего с фактами, но когда человек чувствует, что борется за существование против силы, несущей смерть, его суждения не отличаются взвешенностью.
Кутб потерпел поражение в этой борьбе. В 1964 г., возможно, по указанию премьер-министра Ирака его выпустили из тюрьмы. Пока он находился в заключении, его сестры выносили его записи тайком и распространяли их подпольно, однако после освобождения Кутб издал «Вехи на пути Аллаха» официально. На следующий год правительство раскрыло сеть террористических ячеек, якобы планировавших покушение на Насера. Сотни «братьев», включая Кутба, были арестованы, и в 1966 г. по настоянию Насера Кутба казнили. Однако до самого конца Кутб оставался скорее идеологом, чем агитатором. Он всегда утверждал, что накапливаемое братством оружие необходимо лишь для обороны, чтобы не допустить повторения событий 1954-го. Вероятнее всего, он считал, что начинать джихад еще слишком рано. Авангард должен был пройти первые три этапа программы Мухаммеда, чтобы духовно и стратегически подготовиться к наступлению на джахилию. Не все «братья» разделяли эту точку зрения. Большинство придерживались более умеренных реформаторских взглядов Худайби, однако в тюрьмах и лагерях мусульмане изучали труды Кутба, обсуждали и на фоне повышения религиозности после Шестидневной войны начинали формировать собственную когорту.
Иранские шииты также пережили новый натиск агрессивного секуляризма, когда шах Мухаммед Реза Пехлеви объявил в 1962 г. свою Белую революцию. Она состояла в установлении государственного капитализма, повышении участия рабочей силы в прибылях, а также в реформах, искореняющих полуфеодальные формы землевладения, и в борьбе с неграмотностью[612]. Некоторые из проектов шаха удались. Индустриальная, аграрная и социальная программы выглядели внушительно, и 1960-е были отмечены значительным ростом валового национального продукта. Несмотря на свое личное отношение к женщинам как к низшему полу, шах проводил реформы, повышающие их статус и образование (однако воспользоваться этим благом могли лишь представительницы привилегированного сословия). На Западе достижения шаха одобрили: Иран казался оазисом прогресса и здравомыслия на Ближнем Востоке. Памятуя о кризисе Мосаддыка, шах искал расположения Америки, симпатизировал Израилю и получал в награду иностранные инвестиции, поддерживающие экономику на плаву. Но даже в эту пору проницательные наблюдатели замечали, что реформы мало что меняют. Они облагодетельствовали только богатых жителей столицы, оставляя крестьянство ни с чем. Прибыли от нефтегазовой отрасли тратились на громкие проекты и на последние достижения военных технологий[613]. В результате фундамент общества оставался прежним; между вестернизированными богачами и увязшими в традиционном аграрном этосе бедняками ширилась зияющая пропасть.
Из-за упадка сельского хозяйства начался массовый отток из сельской местности в города: с 1968 по 1978 г. городское население выросло с 38 до 47 %. Население Тегерана почти удвоилось за эти годы, увеличившись с 2,719 до 4,496 млн человек[614]. Переселенцы из деревень не особенно вписывались в городскую жизнь, проживая в трущобах на окраине и пополняя ряды полунищих носильщиков, таксистов и уличных продавцов. Тегеран раскололся на модернизированные и традиционные сектора: вестернизированный высший и средний класс переезжали из старого города в новые жилые и деловые районы на севере, где имелись бары и казино и где по-европейски одетые женщины свободно общались с мужчинами на людях, а для baazari и бедноты, населявших старый город и прилегающие южные районы, этот сектор казался иностранным государством.
Подавляющее большинство иранцев испытывали в связи со всем этим самые неприятные чувства. Знакомый мир становился чужим – вроде бы прежний, но уже не тот, словно близкий друг, чью внешность и характер изуродовала болезнь. Когда знакомый мир претерпевает настолько резкие перемены, как Иран в 1960-х, люди начинают чувствовать себя лишними в собственной стране. Таких людей становилось пугающе много. После событий 1953 г. у многих осталось разъедающее душу ощущение проигрыша, унижения в глазах международного сообщества. Те немногие, кто получили западное образование, утратили общий язык с родителями и семьей, запутавшись между двумя разными мирами и ни в одном не чувствуя себя свободно. Жизнь теряла смысл. В потоке литературы 1960-х чаще других повторялись образы, выражающие растущее отчуждение: стены, одиночество, пустота, неприкаянность и лицемерие. Современный иранский критик Фарзанех Милани отметила преобладание в 1960–1970-х многочисленных разновидностей «защиты и сокрытия»: «Дома окружены стенами. Женщины прячутся под чадрой. Вера скрыта за такийей. Таароф [диктуемый ритуальным этикетом дискурс] маскирует истинные мысли и чувства. Жилище членится на части: дарни [внутреннюю], бируни [внешнюю] и батини [скрытую]»[615]. Иранцы прятались от самих себя и друг от друга. Государство при Пехлеви не давало ощущения защиты, жить в нем становилось страшно.
Шах начал Белую революцию с роспуска меджлиса, полагая, что сможет проводить реформы только путем диктатуры и подавления оппозиции. Его поддерживала тайная полиция, САВАК – служба государственной безопасности, сформированная в 1957 г. при помощи американского ЦРУ и израильского «Моссада». САВАК действовала жестокими методами, применяя пытки и запугивание, заставляющие иранцев чувствовать себя пленниками в собственной стране, с молчаливого согласия Израиля и Соединенных Штатов[616]. В 1960–1970-х возникли две военизированные организации, схожие с другими партизанскими группами, появляющимися в это время в развивающихся странах: марксистская группа «Федаян-е халк», основанная активистами опальных «Туде» и Национального фронта, и исламский фронт «Моджахедин-э халк». Сила казалась единственным способом борьбы с режимом, подавлявшим всю мирную оппозицию и строящимся на принуждении, а не на согласии.
Интеллектуалы пытались вести идейную борьбу. Их беспокоило плачевное положение страны, и они понимали, что в масштабном отчуждении повинна слишком стремительная модернизация. Блестящий философ Ахмед Фардид (1912–1994), ставший профессором Тегеранского университета в конце 1960-х, ввел для описания иранской дилеммы термин «гарбзадеджи» («отравление Западом», «западничество»): люди отравлены и заражены Западом, они должны выработать новую самоидентификацию[617]. Эту теорию развил секулярист и бывший социалист Джалал Ал-е Ахмад (1923–1969) в своей книге «Западничество» (1962), которая стала культовой для иранцев в 1960-х. Это отсутствие корней и «западничество» было «заразой, принесенной извне, распространяющейся в восприимчивой среде», бедой народа, «лишенного опоры на традицию, исторической преемственности, постепенности преобразования»[618]. И эта болезнь могла подорвать целостность Ирана, его политический суверенитет и экономику. Однако и сам Ал-е Ахмад разрывался на части, находясь под влиянием западных писателей вроде Сартра и Хайдеггера и принимая идеалы демократии и свободы, но не видя, как пересадить их на чуждую им иранскую почву. В нем говорила так называемая «буйная шизофрения» получивших западное образование иранцев, разрывавшихся надвое[619]. Несмотря на способность четко сформулировать и обозначить проблему, предложить решение он не мог – хотя к концу жизни, судя по всему, начал видеть в шиизме (как в исконно иранском институте) возможную основу для подлинной национальной идентичности и лекарство от западнической заразы[620].
Иранские улемы сильно отличались от египетского духовенства. Многие сознавали, что должны модернизироваться сами и модернизировать свои институты, чтобы поддерживать народ. Их все больше удручала шахская автократия, оскорблявшая основополагающие принципы шиизма, и очевидное безразличие шаха к религии. В 1960 г. даже аятолла Боруджерди, верховный марджа, запретивший духовенству принимать участие в политике, дошел до осуждения шахской земельной реформы. Вопрос был выбран неудачно, поскольку улемы, многие из которых владели землей, почувствовали себя реакционерами и эгоистами. На самом деле вмешательство Боруджерди было, вероятно, продиктовано инстинктивным ощущением, что реформа – это еще только начало, худшее впереди[621]. Земельная реформа противоречила шариатским законам о собственности, и Боруджерди мог опасаться, что лишение прав, гарантированных исламским законом в одной сфере, могло повлечь за собой еще более страшные нарушения в других областях. После смерти Боруджерди в марте следующего года звание марджи осталось вакантным. Группа улемов утверждала, что шиизм должен стать более демократичным и что нельзя возлагать на одного человека обязанности верховного наставника в этом сложном новом мире. Возможно, духовное руководство должны взять на себя несколько марджи, каждый со своей специализацией. Это было, несомненно, модернизирующее движение. В группу улемов-реформаторов входило несколько духовных лиц, которым предстояло сыграть ключевые роли в исламской революции: аятолла Сейед Мухаммад Бехешти; мудрец-теолог Муртаза Мутаххари; Алламе Мухаммад-Хусейн Табатабаи и самый радикальный в политическом отношении иранский клирик аятолла Махмуд Талегани. Осенью 1960 г. они провели курс лекций и на следующий год выпустили сборник, в котором обсуждались способы осовременивания шиизма.
Реформаторы были убеждены в том, что улемам не стоит опасаться вмешательства в политику, поскольку ислам охватывает все сферы жизни. Они не предполагали отдавать власть религии, однако, если государство впадает в тиранию или начинает забывать о нуждах народа, долг улемов – восстать против шахов, как уже было во времена «табачного кризиса» и Конституционной революции. Они настаивали на пересмотре образовательной программы медресе в сторону уменьшения в ней доли дисциплин, посвященных фикху. Кроме того, духовенству следовало рационализировать финансирование: слишком большая зависимость от добровольных пожертвований означала, что склонность народа к консерватизму будет препятствием для радикальных перемен. Реформаторы подчеркивали важность иджтихада. Шииты должны примириться с такими элементами современной действительности, как торговля, дипломатия и война, если они хотят действительно помочь народу. И самое главное – необходимо прислушиваться к ученикам. Молодежь 1960-х лучше образована, поэтому уже не поддастся прежней пропаганде. Она отдаляется от религии, поскольку шиизм видится молодым людям безжизненным и устаревшим. Еще до того, как на Западе сложилась полноценная молодежная культура, иранское духовенство уже осознавало необходимость пересмотреть свое представление о молодежи. В реформаторском движении участвовала лишь горстка улемов, оно не было массовым и не замахивалось на критику власти. Реформаторов заботили только внутренние проблемы шиизма. И тем не менее движение вызвало большой резонанс в религиозных кругах и настроило большую часть духовенства на перемены[622]. И тут, совершенно неожиданно для улемов, буквально из ниоткуда появился человек, который занял гораздо более радикальную позицию и прогремел во всех СМИ.
К началу 1960-х все больше и больше слушателей привлекал курс исламской этики, который читал аятолла Хомейни в медресе Файзия в Куме. На лекциях он часто выходил из-за кафедры и садился на пол рядом со слушателями, чтобы «не для протокола», как говорится, покритиковать правительство. Однако в 1963 г. Хомейни вдруг отбросил осторожность и прямо с кафедры, не выходя из официального преподавательского статуса, ударил по шаху прямой наводкой, изобразив того настоящим врагом ислама. Во времена, когда никто больше не осмеливался высказаться против режима, Хомейни протестовал против жестокости и несправедливости шахского правления, неконституционного роспуска меджлиса, пыток, жестокого подавления всей оппозиции, пресмыкательства перед Соединенными Штатами и поддержки Израиля, лишившего палестинцев крова. Особенное внимание он уделял плачевному положению бедняков: шаху пора выйти из своего роскошного дворца и прогуляться по трущобам южного Тегерана. На какой-то из лекций, по рассказам очевидцев, Хомейни, держа в одной руке Коран, а в другой экземпляр Конституции 1906 г., обвинил шаха в нарушении клятвы защищать то и другое. Репрессии не заставили себя ждать. 22 марта 1963-го, в годовщину мученической гибели шестого имама (отравленного халифом аль-Мансуром в 765 г.), отряды САВАК окружили медресе и пошли на штурм, который привел к гибели студентов. Хомейни был арестован и заключен под стражу[623]. Со стороны властей было крайне опрометчиво и неосмотрительно выбрать для подобных действий именно этот день. В ходе долгой борьбы с Хомейни шах все время будто нарочно выставлял себя тираном и врагом имамов.
Почему Хомейни решил высказаться именно в этот момент? Всю свою жизнь он занимался мистическими практиками ирфана, как учил мулла Садра. Для Хомейни, как и для Садры, мистицизм был неотделим от политики. О социальном реформировании общества не могло быть и речи без реформирования духовного. В последнем своем выступлении перед иранским народом незадолго до смерти Хомейни умолял людей по-прежнему изучать и практиковать ирфан, который улемы совершенно забросили. Для Хомейни мистические поиски, связанные с мифом, всегда были неразрывны с практической деятельностью логоса. Знакомые с Хомейни лично неизменно поражались его полному погружению в духовные сферы. Его отрешенность, обращенный внутрь себя взгляд, заученная монотонность речей (отталкивающая человека западного) служили для шиитов очевидными признаками «трезвого» мистика. В отличие от «пьяных» мистиков, не способных справиться с эмоциональными крайностями, которые часто возникали в ходе путешествия вглубь души, «трезвый» мистик тренировал в себе железную выдержку как средство держать над собой постоянный контроль. Мулла Садра описал духовный путь лидера (имама) уммы. Прежде чем приступить к политической миссии, он должен сперва совершить путь от человека к Аллаху, предстать перед преобразующим оком божества и избавиться от себялюбия, мешающего самореализации. И только в конце этого долгого дисциплинирующего пути он сможет вернуться к земным делам, нести слово Аллаха и проводить в жизнь божественный закон. Американский ученый Хамид Алгар полагает, что открытые выступления Хомейни против шаха в 1963 г. означали завершение его подготовительного необходимого «путешествия к Аллаху» и переход к активному участию в политике[624].
Хомейни выпустили, продержав несколько дней за решеткой, и он сразу же опять бросился в наступление. Через 40 дней после нападения САВАК на медресе Файзия студенты провели традиционную траурную церемонию по погибшим. Хомейни произнес речь, в которой сравнил штурм с осквернением Резой-шахом усыпальницы в Мешхеде в 1935-м, когда погибли сотни протестующих. Все лето Хомейни продолжал критиковать власти, а затем в день Ашура, годовщину мученической гибели имама Хусейна в Кербеле (3 июня 1963 г.), выступил с траурной речью под традиционные для чтений роузе стенания народа. Хомейни называл шаха Язидом, кербельским злодеем. Зачем при атаке на медресе Файзия в марте бойцам понадобилось разрывать на части Коран? Если целью полиции был лишь арест кого-то из улемов, зачем было убивать 18-летнего студента, который ни разу не выступал против властей? Шах хочет уничтожить религию как таковую, утверждал Хомейни и призывал правителя одуматься: «Наша страна, наш ислам в опасности. Происходящее и назревающее вызывает у нас беспокойство и огорчение. Мы обеспокоены и удручены положением нашей разрушенной страны. Мы уповаем на Аллаха, что все еще переменится»[625].
На следующее утро Хомейни снова арестовали, и на этот раз народ не выдержал. Услышав весть, тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана, Мешхеда, Шираза, Кашана и Варамина с протестами. Отрядам САВАК был дан приказ стрелять на поражение, танки перекрыли подступы к тегеранским мечетям, не пуская людей на пятничную молитву. В Тегеране, Куме, Ширазе одни ведущие улемы возглавили демонстрации, другие призывали к джихаду против властей. Некоторые облачались в белые саваны в знак того, что вслед за имамом Хусейном они готовы умереть в битве с тиранией. Студенты университетов и медресе, светские лица и муллы сражались плечом к плечу. У САВАК ушло несколько дней на подавление протеста, в котором прорвалось наружу бурлившее в народе недовольство. 11 июня беспорядки, в которых погибли сотни иранцев, были подавлены[626].
Сам Хомейни чудом избежал казни. Его жизнь спас один из старейших муджтахидов, аятолла Мухаммад Казим Шариатмадари (1904–1985), назначив Хомейни великим аятоллой, и власти побоялись уничтожать настолько значимую фигуру[627]. После освобождения Хомейни стал народным героем. Его фотография появлялась повсюду как символ оппозиции. Он подставил себя под удар, выразив словесно то недовольство шахом, которое испытывали многие гораздо менее красноречивые иранцы. Однако взгляды Хомейни не избежали обычной фундаменталистской паранойи. В своих речах он часто упоминал еврейский, христианский и империалистический заговор, и многие иранцы верили этим надуманным предположениям, видя связь ЦРУ и «Моссада» с ненавистной САВАК. Это была теология ярости[628]. Однако Хомейни дал иранцам возможность выражать закономерное недовольство понятным им языком. Марксистский или либеральный критик шахского режима оставил бы большинство немодернизировавшихся иранцев равнодушными, тогда как кербельский символизм был понятен каждому. В отличие от других аятолл Хомейни не имел привычки изъясняться наукообразно, его речи, предназначенные для обычного народа, отличались доходчивостью. Представители Запада видели в Хомейни пережиток Средневековья, однако на самом деле многое в его идеях и складывающейся идеологии было современным. В своем противостоянии западному империализму и поддержке палестинцев, равно как и в прямом обращении к народу, он шел в ногу с другими движениями третьего мира.
В конце концов Хомейни зашел слишком далеко. 27 октября 1964 г. он жестко высказался против недавней гарантии дипломатической неприкосновенности американским военным и другим советникам, а также получения шахом $200 млн на вооружение. Иран, утверждал Хомейни, по сути превращается в американскую колонию. Какое еще государство будет терпеть подобный позор? Американская прислуга может совершить в Иране серьезное преступление и разгуливать безнаказанной, тогда как гражданин Ирана, случайно сбивший на дороге принадлежащую американцу собаку, предстанет перед судом. Десятилетиями иранскую нефть качают иностранцы, и она не приносит стране ни гроша, а люди тем временем прозябают в нищете. В заключение он сказал: «Иранский народ не видит этих денег. Я глубоко обеспокоен положением бедняков в преддверии зимы – многие, упаси Аллах, умрут от холода и голода. Люди должны подумать о бедных и позаботиться о них сейчас, чтобы не повторились ужасы минувшей зимы. Улемы должны потребовать пожертвования на нужды бедняков»[629]. После этой речи Хомейни был депортирован и поселился в священном шиитском городе Наджаф.
Власти решили окончательно приструнить духовенство. После высылки Хомейни правительство принялось отбирать выделенную на религиозные нужды собственность (вакф) и ужесточать административный контроль в медресе. В результате к концу 1960-х количество студентов-богословов резко сократилось[630]. В 1970 г. аятоллу Резу Саиди запытали до смерти за протест против соглашения о продвижении американских инвестиций в Иране и за объявление властей «тиранствующими агентами империализма». Тысячи демонстрантов вышли на улицы в Куме и Тегеране; под мечетью аятоллы Саиди собралась огромная толпа, перед которой выступил аятолла Талегани[631]. Одновременно с гонениями правительство пыталось создать «гражданский ислам», подчиненный государству: был основан Религиозный корпус, набранный из выпускников-мирян богословских факультетов светских университетов и призванный тесно сотрудничать с также недавно созданным Департаментом религиозной пропаганды в сельской местности. Эти «муллы-модернизаторы» должны были разъяснять смысл Белой революции крестьянам, бороться с неграмотностью, строить мосты и водохранилища, а также вакцинировать скот. Это была открытая попытка сместить традиционных улемов[632]. Однако, кроме того, шах стремился разорвать связь Ирана с шиизмом. В 1970-м он отменил исламский календарь, а на следующий год в Персеполе проводились пышные празднества в честь 2500-й годовщины древнеперсидской монархии. Они не только обозначили самым безвкусным образом широчайшую пропасть между богатыми и бедными слоями иранского населения, но и послужили публичным признанием властей в намерении формировать идентичность исламской страны на основе доисламского наследия.
Если иранцы потеряют ислам, они потеряют себя. Такова была основная идея харизматичного молодого философа доктора Али Шариати (1933–1977), на чьи лекции в конце 1960-х валом валили молодые иранцы, получившие западное образование[633]. Шариати не учился в медресе, он закончил Мешхедский университет и Сорбонну, где писал диссертацию по персидской философии и изучал труды французского ориенталиста Луи Массиньона, философа-экзистенциалиста Жан-Поля Сартра и идеолога третьего мира Франца Фанона. Он пришел к убеждению, что создать строго шиитскую идеологию, отвечающую духовным потребностям современных иранцев, не отрывая их при этом от корней, вполне возможно. Вернувшись в Иран, Шариати стал преподавать в хусейнии (доме шиитских собраний) в северной части Тегерана, основанной в 1965 г. филантропом Мухаммедом Хумаюном. В начале 1960-х Хумаюн увлекся лекциями улемов-реформаторов и открыл хусейнию, чтобы донести их идеи до иранской молодежи. Хусейния в Иране служила центром поклонения имаму Хусейну и обычно строилась рядом с мечетью в надежде, что кербельская история вдохновит посещающую занятия в хусейнии молодежь трудиться на благо общества. Кроме того, Иран вместе со всем Ближним Востоком качнулся после войны 1967 г. в сторону религии, и в 1968-м аятолла Мутаххари, один из реформаторов, помогавших в создании хусейнии, писал, что благодаря ей «наша образованная молодежь, преодолев период изумления и даже отторжения [религии], начинает обращать внимание и свой интерес на то, что нельзя описать словами»[634]. Ни один из лекторов не обладал таким влиянием, как Шариати. Студенты бежали слушать его в обеденный перерыв и после работы, увлеченные горячностью и жаром его речей. Он был для них своим – одевался, как они, переживал ту же дилемму культурной принадлежности, и поэтому многие воспринимали его кем-то вроде старшего брата[635].
Шариати был не только интеллектуалом и творческой личностью, но еще и человеком духовным. Пророк и имамы являлись неотъемлемой частью его жизни, его преданность им не вызывала сомнений. Он был настоящим мистиком. События шиитской истории представляли для него не просто факты из VII в., но вневременные прецеденты, способные вдохновлять и направлять представителей настоящего. Сокрытый имам, объяснял Шариати, не исчез, в отличие от Иисуса. Он по-прежнему находится в нашем мире, но он сокрыт. Шииты могут увидеть его в знакомом торговце или в нищем у дороги. Он ждет, когда настанет пора явиться вновь, и шииты должны жить в постоянном ожидании фанфар, возвещающих его приход, готовиться в любое время ответить на призыв имама к джихаду против тирании. Шииты должны уметь смотреть сквозь пелену обыденной действительности, чтобы узреть хотя бы на миг ее тайную сущность (зат)[636]. Поскольку духовное находится рядом, а не где-то в отдельном мире, невозможно отделить религию от политики, как этого хотят власти. Человек «двумерен», в нем уживаются физическое и духовное, он нуждается и в мифе, и в логосе, поэтому у любого политического устройства должна быть трансцендентная составляющая. В этом подлинный смысл доктрины имамата: символическое напоминание, что общество не может существовать без имама, божественного наставника, помогающего людям достичь как духовной, так и мирской цели. Разделить религию и политику означает предать принцип таухида («единства»), центральный столп ислама, обеспечивающий мусульманам цельность, которая отражает божественное единство[637].
Кроме того, таухид призван излечить от отчуждения «отравленных Западом» иранцев. Шариати пропагандировал «базгашт бех кистан» – «возвращение к себе». Если греки ассоциировались с философией, а римляне с мирным и военным искусством, иранский архетип тесно связан с исламской религией. Западный рационалистический эмпиризм сосредоточен на том, что есть, а Восток ищет истину, которая должна быть. Если иранцы слишком близко воспримут западный идеал, они потеряют самобытность и погубят собственный этнос[638]. Вместо того чтобы почивать на лаврах древнеперсидской культуры вслед за шахом, нужно воспевать свое шиитское наследие. Однако делать это поверхностно и умозрительно не имеет смысла. Мусульманам нужны религиозные обряды, которые будут способствовать преобразованию на более глубинном уровне, чем сознательный. В своей великолепной монографии под названием «Хадж» Шариати по-новому истолковывал древний культ, связанный с Каабой и паломничеством в Мекку, служивший идеальной квинтэссенцией традиционного духа. Шариати придавал ему новое звучание, по-прежнему понятное мусульманам в стремительно меняющемся мире модерна. В изложении Шариати паломничество становилось путешествием к Аллаху, схожим с четырехэтапным путешествием души, описанным муллой Садрой. Мистическими способностями, требующими особого таланта и темперамента, обладают не все, но обряды хаджа доступны любому человеку. Решение совершить паломничество – у большинства мусульман это происходит один раз в жизни – знаменует переворот в сознании. Паломник должен оставить позади свою запутавшуюся и отчужденную сущность. Совершая семь обходов вокруг Каабы в огромной напирающей со всех сторон толпе, паломник, по словам Шариати, «чувствует себя крохотным ручейком, сливающимся с полноводной рекой»: «толпа давит так сильно, что ты рождаешься заново. Теперь ты часть Народа, ты Человек, живой и вечный… Совершая обход вокруг [священного дома, символа могущества] Аллаха, ты вскоре забываешь о себе»[639]. В этом единении с уммой выветривалось себялюбие, и человек обретал новый «стержень». Во время ночных бдений на равнине Арафат паломник открывается навстречу свету божественного знания, готовясь войти в мир заново и бороться с врагами Аллаха (олицетворением этого джихада служит ритуальное забрасывание камнями трех столбов в Мине). После этого хаджи (паломник) готов вернуться в мир, обретя духовное сознание, без которого невозможна социальная борьба за справедливое общество, а вести ее обязан каждый мусульманин. Составляющие ее рациональные действия получают смысл благодаря одухотворению, пробужденному культом и мифом.
По Шариати, ислам должен выражаться в действии. Вечные реалии, которые шииты научились видеть в самой основе существования, должны воплощаться в настоящем. Пример имама Хусейна в Кербеле, согласно Шариати, должен был воодушевить всех угнетенных и чувствующих себя чужими в этом мире. Шариати возмущали улемы-квиетисты, запершиеся в своих медресе и, по его мнению, искажающие суть ислама превращением его в частный вопрос личной веры. Период Сокрытия не должен быть периодом пассивности. Подняв по примеру Хусейна всех жителей третьего мира на кампанию против тирании, шииты заставят сокрытого имама явиться вновь[640]. Однако улемы отвратили иранскую молодежь от религии, докучая ей распрями, и толкнули прямо в объятия Запада. Они считают ислам буквалистской доктриной, набором указаний, которые следует выполнять дословно, тогда как дух шиизма в его символизме, именно он научил мусульман видеть в земной действительности «знамения» Незримого[641]. Шиитам необходима реформация. Исконный шиизм Али и Хусейна предан в Иране забвению, и на смену ему пришел «сефевидский шиизм», как его назвал Шариати. Активная, динамичная вера превратилась в пассивное частное дело, тогда как исчезновение сокрытого имама означало, что люди должны продолжить дело Пророка и имамов. Период Сокрытия – это эпоха демократии. Простые люди не должны смотреть в рот муджтахидам и воспроизводить их религиозность в таклиде, как требует того сефевидский шиизм. Каждый мусульманин должен подчиняться лишь Аллаху и сам отвечать за свою жизнь. Все остальное – это идолопоклонство и искажение сути ислама, превращающее его в безжизненное соблюдение набора правил. Люди должны сами выбирать руководителей, а решения властей, согласно принципу шура, должны приниматься советом. Своим согласием (иджма) люди подтвердят законность принятых властями решений. Клерикальному контролю пора положить конец. Вместо улемов руководить уммой должны «просвещенные интеллектуалы» (ровшанфекран)[642].
Шариати был не вполне справедлив к усулитским доктринам «сефевидского шиизма». Они отвечали определенным потребностям и, несмотря на свою противоречивость, выражали дух премодернистской эпохи, не дававший почти никаких свобод личности[643]. Однако мир изменился. Иранцы, впитавшие западные идеалы автономии и свободомыслия, уже не могли подчиняться указаниям муджтахидов, как делали их деды. Традиционный дух был призван помочь человеку смириться с ограничениями общества и принять статус-кво. Миф о Хусейне поддерживал в шиитах жажду социальной справедливости, однако его история и история имамов демонстрировали также невозможность претворения божественного идеала в мире, не принимающем радикальных перемен[644]. Однако к современной действительности такой подход был неприменим. Перемен иранцам хватало с лихвой, и они уже не могли относиться к древним обрядам и символам по-прежнему. Шариати пытался переформулировать суть шиизма, чтобы он вызывал отклик в душе мусульманина даже в радикально изменившемся мире.
Шариати утверждал, что ислам гораздо динамичнее любой другой веры. Сама исламская терминология отражает его прогрессивную сущность. На Западе слово «политика» произошло от греческого «полис» (город), статичной административной единицы, тогда как исламский эквивалент, «сиясат», буквально означает «укрощение дикого коня» – процесс, предполагающий силовое воздействие для выявления внутреннего совершенства[645]. Арабские термины «умма» и «имам» происходят от одного корня «амм» (решение двигаться в путь), а значит, имам как образец для подражания помогает людям сменить курс. Община (умма) – это не просто скопище отдельных людей, а целеустремленное общество, готовое к постоянной революции[646]. Понятие иджтихада (независимого суждения) подразумевает постоянное интеллектуальное обновление и перестройку, которые не являются привилегией избранных улемов, а составляют долг каждого мусульманина, подчеркивал Шариати[647]. Основополагающее для мусульманского склада ума понятие хиджры (миграции) также означает готовность к переменам, отрыв от корней, дающий мусульманину ощущение новизны существования[648]. Даже «интизар» (ожидание возвращения сокрытого имама) влечет за собой постоянную готовность к трансформации, подразумевающую отказ принимать статус-кво: «Оно внушает [человеку] ответственность за прохождение собственного пути, пути истины, пути человечества, тяжелое, прямое, последовательное и энергичное». Шиизм Али побуждал мусульман встать и сказать: «Нет!»[649]
Власти не могли допустить подобных речей, и в 1973 г. хусейнию закрыли. Шариати был арестован, подвергнут пыткам и заключен в тюрьму. Затем он какое-то время оставался узником собственной страны, пока наконец ему не разрешили выехать за границу. Его отец вспоминал, как однажды ночью услышал рыдания сына, прощающегося перед смертью с Пророком и имамом Али[650]. Скончался Шариати в Лондоне в 1977 г., почти наверняка от рук агентов САВАК. Он подготовил образованных, вестернизированных иранцев к исламской революции, будучи такой же ключевой фигурой для интеллектуалов 1970-х, какой в 1960-х был аль-Ахмад. В преддверии революции 1978 г. его портреты часто несли на демонстрациях вместе с портретами Хомейни.
Однако большинство иранцев по-прежнему обращались за руководством к Хомейни. Как ни парадоксально, из иракской ссылки ему удавалось свободнее выражать свои оппозиционные взгляды, чем из Кума. Его книги и записи тайком провозились в Иран, и его фетвы (например, та, где он называл действия властей противоисламскими, когда шах изменил календарь) оказывали огромное влияние. В 1971 г. Хомейни выпустил свою знаковую книгу «Хокомат-е ислами» («Исламское правление»), разрабатывающую шиитскую идеологию духовной власти. Ее идеи поражали революционностью. Столетиями шииты провозглашали любое правительство в отсутствие сокрытого имама незаконным, улемам возбранялось участвовать в правлении государством. Однако в «Исламском правлении» Хомейни утверждал, что улемы должны взять власть в свои руки, чтобы обеспечить верховную власть Аллаха. Если во главе административно-политических институтов встанет факих, специалист по исламскому праву, он сможет проследить за правильным применением законов шариата. Пусть факиху далеко до Пророка и имамов, благодаря своему знанию божественного закона он будет обладать тем же авторитетом, что и они когда-то. Поскольку других законодателей, кроме Аллаха, быть не может, вместо парламента, издающего собственные рукотворные законы, необходимо создать ассамблею по вопросам применения шариата во всех мельчайших аспектах повседневной жизни.
Хомейни понимал, что его доводы весьма спорны и противоречат основополагающим шиитским убеждениям. Однако, как и Кутб, он полагал, что это нововведение оправдано чрезвычайностью ситуации. Как и Шариати, он считал, что религия больше не может оставаться частным делом. Пророк, имам Али и имам Хусейн были не только духовными, но и политическими лидерами и активно боролись против гнета и идолопоклонства своего времени. Вера – это не вопрос личных убеждений, а отношение, «побуждающее человека к действию»: «Ислам – это религия воинствующих поборников веры и справедливости. Это религия тех, кто жаждет свободы и независимости. Это школа борьбы против империализма»[651]. Идея была крайне модернистской. Как и Шариати, Хомейни пытался доказать, что ислам – не мракобесие, что он с самого начала отстаивал ценности, якобы изобретенные Западом. Однако ислам заражен дурным влиянием и ослаблен империалистами. Люди хотят отделить религию от политики по западному образцу, и это извращает веру. «Ислам живет среди людей как чужак, – сокрушался Хомейни. – Если кто-то захочет представить ислам в его истинном свете, ему попросту не поверят»[652]. Иранцев одолевало духовное недомогание. «Мы совершенно забыли о своей идентичности, заменив ее западной», – говорил Хомейни. Иранцы «продались и не знают самих себя, становясь рабами чужих идеалов»[653]. Хомейни полагал, что излечить подобное отчуждение можно, создав общество, построенное исключительно по исламским законам, которые не только более естественны для иранцев, чем привнесенные извне западные, но и имеют божественное происхождение. Если люди будут жить в организованной по божественному закону среде и государственный кодекс будет требовать от них подчинения тому же божественному замыслу, то и они сами, и смысл их жизни изменятся. Дисциплина, практика и обряды ислама пробудят в них дух Мухаммеда, воплощавшего человеческий идеал. Хомейни понимал веру не как умозрительное принятие доктрины, но как образ жизни, состоящий в революционной борьбе за счастье и единство, которые составляют замысел Аллаха в отношении человечества. «Если будет вера, все остальное придет следом»[654].
Такая вера имела революционный характер, поскольку заключалась в протесте против гегемонии западного духа. Представителю Запада разработанная Хомейни теория вилайат-и факих» (правление законоведа) показалась бы суровой и вредной, однако «правление „на модерный лад“», которое иранцам уже довелось испытать, не принесло тех свобод, которые в Европе и Америке принимались как данность. Хомейни сам становился воплощением идеальной шиитской альтернативы монархии Пехлеви. Подобно имамам, если не точно так же, он был мистиком и носителем божественного знания. Как Хусейн, он выступил против порочной власти тирана; как имамы, он побывал в заключении и чуть не погиб от руки несправедливого правителя; как некоторые из имамов, он был отправлен в изгнание и лишен принадлежащего ему по праву. И вот теперь живущий рядом с усыпальницей имама Али в Наджафе Хомейни обретал сходство с сокрытым имамом – недоступный для народа, он руководил людьми издалека и мог когда-нибудь вернуться. Поговаривали, что Хомейни, несмотря на изгнание, надеется окончить свои дни в Куме. Представителям Запада трудно было понять, как Хомейни, не обладающий ни обаянием, ни харизмой, необходимыми, по их представлениям, политическому лидеру, мог пользоваться такой любовью иранского народа. Если бы они лучше разбирались в шиизме, для них бы это загадкой не стало.
Сочиняя «Исламское правление», Хомейни, вероятно, не подозревал о том, что революция уже близится. Ему казалось, что к установлению вилайат-и факих Иран будет готов не раньше, чем через два столетия[655]. Хомейни в то время гораздо больше заботил религиозный идеал, чем практическая платформа. В 1972 г., через год после выхода «Исламского правления», Хомейни написал статью под названием «Большой джихад», в которой подводил мистическое обоснование под противоречивый вилайат-и факих. Заголовок статьи – аллюзия на один из его любимых хадисов, где Пророк после возвращения домой с битвы произносит: «Мы вернулись с малого джихада к большому». Это изречение полностью соответствовало убеждению Хомейни, что политические кампании и битвы – это «малая» борьба, менее важная, чем борьба за духовное преобразование общества и единение собственных порывов и желаний. Он, как и Шариати, придерживался мнения, что без глубинного духовного обновления Ирана все политические усилия будут бесплодны.
В своей статье 1972 г. Хомейни высказывал мысль, что факих, пустившийся на мистические поиски, описанные муллой Садрой, приобретет ту же «непогрешимость» (исма), что и имамы. Это, разумеется, не означает, что законовед встанет на одну ступень с имамами, однако, приближаясь к Господу, мистику придется избавиться от себялюбия, не пускающего его к божественному. Ему придется сбросить «покров темноты», порвать «связь с миром» и отринуть плотские влечения. На пике своего пути к Господу он таким образом очистится от греховности: «Если человек верит в Аллаха всемогущего и оком своего сердца видит Его так же ясно, как солнце, он не сможет согрешить». Имамы обладали особым божественным знанием, это уникальный дар, но вдобавок к нему они обретали посредством обычных духовных практик менее уникальную непогрешимость, считал Хомейни. А значит, факиху как специалисту по исламскому закону и пережившему новое – мистическое – рождение тоже ничто не помешает вести людей к Господу[656]. Здесь таилась возможность скатиться к идолопоклонству, однако, повторим, в 1972 г. никто, даже Хомейни, не предполагал, что в ближайшее время шах будет свергнут в ходе исламской революции. Хомейни было 70 лет. Весьма маловероятно, что он прочил себя в правящие факихы. И в «Исламском правлении», и в «Большом джихаде» Хомейни пытался разобраться, как с помощью шиитской мифологии и мистицизма сломать многовековую священную традицию и позволить духовному лицу править страной. Ему еще предстояло увидеть, чем обернется этот миф на практике.
В Израиле иудаистский фундаментализм нового образца уже начал переводить миф на язык реальных политических фактов. Он брал начало в религиозном сионизме, проросшем в тени светского сионизма еще до появления Израиля как государства. Религиозные сионисты были современными ортодоксами и с самого начала принялись основывать собственные «соблюдающие» поселения по соседству с социалистическими кибуцами. В отличие от харедим, эта небольшая группа религиозных евреев не считала сионизм несовместимым с ортодоксией. Они толковали Библию буквально: в Торе Бог обещал Святую землю потомкам Авраама, поэтому притязания евреев на Палестину законны. Более того, в Эрец-Исраэль евреи смогут соблюдать Закон более полноценно, чем в диаспоре. В гетто по понятным причинам не представлялось возможным выполнять многие заповеди, связанные с обработкой земли и землеустройством, а также законы, касающиеся политики и государственного управления. Поэтому в условиях диаспоры иудаизм вынужденно получался обрывочным. Теперь, по крайней мере на собственной земле, евреи смогут снова соблюдать Тору во всей полноте. Как объяснял Пинхас Розенблют, один из пионеров сионистской ортодоксии: «Мы берем на себя обязательства по исполнению всей Торы целиком, со всеми ее заповедями и идеями. [Прежняя] ортодоксия по сути обходилась небольшой частью Торы… соблюдаемой в синагоге или в семье… в определенных областях жизни. Мы же хотим жить по Торе постоянно и повсеместно, наделить ее и ее законы верховной властью над человеком и обществом»[657]. Божественный Закон довершит эту вполне совместимую с модерном ортодоксию, и мир увидит, что евреи способны создать по-настоящему прогрессивный (поскольку таким его задумал сам Господь) общественный строй[658].
Религиозный сионизм всегда характеризовался стремлением к цельности, ища пути к исцелению и гармонии после душевной травмы и лишений в изгнании. Однако в то же время это был бунт против рационализма светских сионистов, не принимавших религиозных поселенцев всерьез и считавших их замысел создать в Эрец-Исраэль государство, живущее по законам Торы, не только анахронизмом, но и возмутительным планом. Религиозные сионисты прекрасно сознавали, что выступают бунтарями. Основывая в 1929 г. собственное молодежное движение «Бней Акива» («Сыновья Акивы»), они избрали образцом для подражания рабби Акиву, великого мистика и законоучителя второго столетия, поддержавшего восстание евреев против Рима. Светские сионисты тоже были бунтарями, но выступали против религиозного иудаизма. Активисты «Бней Акива» ощущали, что «должны призвать к бунту против бунта, против воззрений [светской] молодежи, противостоящей иудаизму и иудейской традиции»[659]. Они сражались за Господа. Вместо того чтобы отодвинуть духовность на второй план и исключить ее из политической и культурной жизни, они хотели, чтобы религия наполняла их существование «повсеместно и постоянно», и не собирались позволять секуляристам «присвоить» сионизм целиком. Несмотря на свою малочисленность, религиозные сионисты поднимали мини-революцию против того, что считали незаконным господством полностью рациональной светской идеологии.
Им требовались собственные школы и институты. В 1940-х рав Моше Цви Нерия основал ряд привилегированных школ-пансионов для детей, исповедующих религиозный сионизм. В этих учебных заведениях, созданных по типу иешивы, поддерживались высокие образовательные стандарты, параллельно с Торой школьники изучали светские предметы. В отличие от харедим такие неоортодоксальные религиозные сионисты не видели необходимости отказываться от участия в живых процессах современной жизни и противоречить тем самым своему холистическому подходу. Они считали, что иудаизм достаточно широк, чтобы вобрать и светские науки, однако изучению Торы также придавали большое значение, нанимая в качестве преподавателей Торы и Талмуда выпускников харедимских иешив. В школах Нерии миф и логос по-прежнему дополняли друг друга. Тора служила мистическим проводником к божественному и наделяла пусть не практическим, но духовным смыслом всю жизнь. Как объяснял рабби Иехошуа Йогель, директор «Мидрашиат Ноам», Тору в школе изучают не для профессии и не как «средство экономического, военного или политического существования». Тору изучают «ради нее самой»; в отличие от логем светских предметов, в ней нет практической пользы, она просто представляет собой общую «цель человека»[660]. Однако для молодых религиозных сионистов после основания государства Израиль одного изучения оказалось недостаточно. В 1950-х для старших учащихся, имеющих особое «соглашение» (хесдер) с израильским правительством, были основаны специальные иешивы, дающие религиозной молодежи способ совместить срочную службу с изучением Торы.
Таким образом, религиозные сионисты избрали особый образ жизни, однако в первые годы существования Израиля у некоторых начался кризис идентичности. Они словно очутились на ничейной полосе: для секуляристов они были не вполне сионистами, и их достижения не могли сравниться с победами светских первопоселенцев, подаривших жизнь израильскому государству. В то же время для харедим они были не вполне ортодоксами и понимали, что не смогут тягаться с ними в знании Торы. В начале 1950-х этот кризис привел к новому молодежному бунту. Небольшой кружок из десятка 14-летних мальчиков, учащихся Кфар ха-Рое, одной из школ-иешив Нерии, подчинил свою жизнь более строгим религиозным требованиям, почти как харедим. Члены кружка ратовали за скромную одежду и разделение полов, запрещали легкомысленные разговоры и праздность, ввели систему взаимного контроля, подразумевающую публичные признания и товарищеский суд над нарушителями. Кружок называл себя «Гахелет» («Рдеющие угли») и сочетал харедимскую строгость с активным национализмом. Кружковцы мечтали построить кибуц с иешивой в центре, где мужчины будут денно и нощно изучать Талмуд, как харедим, а женщины, которым ультраортодоксы отводят более низкую, но все же необходимую область логоса, будут обрабатывать землю и кормить мужчин. «Гахелет» стали элитой религиозных сионистских кругов, однако им казалось, что, пока они не найдут, как хасиды и миснагдимы, раввина, который благословил бы их и стал их наставником, созданная ими ортодоксия останется незавершенной. В конце 1950-х их умы покорил стареющий рабби Цви Иехуда Кук – сын рабби Авраама Ицхака Кука, чьи труды мы рассматривали в главе шестой[661].
Когда «Гахелет» открыли для себя рабби Цви Иехуду, ему было почти 70, и считалось, что своему отцу он и в подметки не годится. Он служил директором иешивы Мерказ ха-Рав на севере Иерусалима – иешива была основана его отцом, но теперь пришла в упадок, и учащихся в ней осталось всего 20. Однако идеи Кука-младшего сразу пришлись по душе «Гахелет», поскольку, с одной стороны, он пошел гораздо дальше Авраама Ицхака, а с другой – сильно упростил сложную отцовскую диалектику, придав ей характер современной идеологии. Если Кук-старший видел в светском сионизме божественный замысел, рабби Цви Иехуда считал светское государство Израиль Царствием Божиим, ни больше ни меньше, и каждый клочок его земли – священным: «Каждый еврей, что приезжает в Эрец-Исраэль; каждое дерево, посаженное на израильской земле; каждый новобранец в рядах израильской армии – это еще одна духовная ступень, еще один шаг к спасению»[662]. Если харедим запрещали своим учащимся смотреть военный парад в День независимости, то Кук, напротив, утверждал, что смотреть его – священный долг, поскольку священна сама армия. Бойцы не меньшие праведники, чем талмудисты, и их оружие не менее свято, чем молитвенное покрывало (талес) и филактерии. «Сионизм – это божье дело, – утверждал рабби Цви Иехуда. – Государство Израиль – это божественная сущность, состояние святости и возвышенности»[663].
Если Кук-старший полагал, что евреи не должны принимать участия в политике, поскольку в неискупленном мире любая политика порочна, Кук-младший верил, что мессианская эра уже началась, а значит, участие в политике, как и мистическое путешествие каббалиста, представляет собой подъем к вершинам святости. Его воззрения отличались буквалистской холистичностью[664]. Святая земля, народ и Тора образовывали неделимую триаду. Отказаться от одного значит отказаться от всех трех. Пока евреи не освоят всю израильскую землю, как сказано в Библии, Искупления не будет, поэтому объединение всей Святой земли, включая территорию, принадлежащую в данный момент арабам, становится высшим священным долгом[665]. Однако, когда «Гахелет» в конце 1950-х познакомились с Куком, о воссоединении нельзя было и мечтать. Определенные в 1948 г. границы государства Израиль охватывали только Галилею, пустыню Негев и приморскую равнину. Библейские земли на Западном берегу Иордана принадлежали Иорданскому Хашимитскому королевству. Но Кук был непреклонен, считая, что все идет в соответствии с предопределенным замыслом. Даже холокост приближал Искупление, заставив евреев покинуть диаспору и вернуться на Святую землю. Евреи «настолько приросли к нечистым иностранным землям, что с приближением Конца Света их приходится отделять насильно, проливая море крови», – объяснял Кук в проповеди на День памяти холокоста в 1973 г. За историческими фактами крылось божественное вмешательство, вызвавшее «возрождение Торы и всего святого». Таким образом, сама история подталкивала человека «ко встрече с Владыкой Вселенной»[666].
Превращение мифа в реальность наконец свершилось. В премодернистском мире мифология и политика принадлежали к разным областям. Государственное строительство, военные кампании, сельское хозяйство и экономика были прерогативой рациональных дисциплин логоса. Миф сдерживал эту прагматичную деятельность и наполнял ее смыслом, а кроме того, вносил коррективы, напоминая людям о таких ценностях, как сострадание, превосходящих прагматичные рассудочные соображения. Земная действительность могла быть символом божественного, но сама по себе она никогда святой не считалась; она лишь указывала вовне, за пределы себя, куда не было пути разуму. Однако Кук преодолел это разделение и создал то, что иные назвали бы идолопоклонством. Может ли армия быть «святой», если она часто принуждала совершать ужасные вещи, когда по долгу службы бойцам приходится вместе с врагами убивать и невинных? Мессианизм традиционно побуждал людей критиковать статус-кво, но Кук, напротив, с его помощью выражал безоговорочное одобрение израильской политики. Подобная установка грозила привести к нигилизму, отрицающему ключевые ценности. Объявив государство Израиль святым, а его территориальные притязания – высшей целью, Кук поддался тому же искушению, которое крылось за страшными бесчинствами националистов XX в. Миролюбие Кука-старшего, готового принять и другие религии, и светский мир, было утрачено. Кук-младший испытывал жгучую ненависть к христианам, гоям, мешавшим осуществлению израильского замысла, и к арабам[667]. Прежние представления мудро разводили миф и разум по разным, хотя и взаимодополняющим областям. Теперь же Кук-младший пытался стереть границу, и это было опасно.
Члены «Гахелет», однако, так не считали. Холистическая идеология рабби Кука превращала сионизм в религию, полностью отвечая их замыслам. Они поступили в Мерказ ха-Рав, и забытая иешива вновь обрела известность. Кук стал кем-то вроде еврейского папы римского, чьи указы были непогрешимы и подлежали неукоснительному исполнению. Моше Левингер, Яков Ариэль, Шломо Авинер, Хаим Друкман, Дов Лиор, Залман Меламед, Авраам Шапира и Элиэзер Вальдман образовали войско Кука и возглавили новый фундаменталистский сионизм. В 1960-х они разрабатывали в Мерказ ха-Рав планы наступления с целью вернуть страну Господу и заставить светское государство реализовать свой религиозный потенциал. Отказавшись от диалектического синтеза светского и религиозного, описанного Куком-старшим, рабби Цви Иехуда надеялся на неизбежную победу божественного над светским.
Однако при всем своем энтузиазме члены «Гахелет» не могли пойти дальше разработки планов. Перейти к делу и заселить всю Святую землю целиком или изменить сознание народа они не могли. Однако в 1967 г. история распорядилась развитием событий по своему усмотрению.
В День независимости 1967-го, за три недели до Шестидневной войны, рабби Кук выступал с традиционной проповедью в иешиве Мерказ ха-Рав. Внезапно плавную речь прервало рыдание, и раввин воскликнул: «Где наш Хеврон, Сихем, Иерихон, Анатот, оторванные от страны в 1948 г., когда мы, изувеченные, истекали кровью?»[668] Три недели спустя израильская армия заняла эти библейские города, прежде принадлежавшие арабам, и ученики рабби Кука уверились, что это Господь пророчествовал на проповеди его устами. К концу короткой войны Израиль отвоевал у Египта сектор Газа, у Иордании – Западный берег, а у Сирии – Голанские высоты. Священный город Иерусалим, поделенный между Израилем и Иорданией с 1948 г., был аннексирован Израилем и объявлен вечной столицей еврейского государства. Иудеи снова смогли молиться у Западной стены Храма. Страну охватила экзальтация и почти мистическая эйфория. До войны израильтяне слушали по радио, как Насер клянется скинуть их всех в море, а теперь они вдруг стали хозяевами священных для еврейской памяти городов. Даже среди самых несгибаемых секуляристов многие воспринимали войну как религиозное событие, напоминающее переход через Красное море[669].
Однако для кукистов война имела еще более важное значение. Она убедительно доказывала, что Искупление действительно не за горами и что Господь подталкивает историю к финалу. То, что Мессия пока не появлялся, членов «Гахелет» не смущало – как истинные модернисты, они готовы были назвать Мессией не человека, а процесс[670]. Не обескураживало их и то, что «чудесный исход» войны объяснялся вполне естественными причинами: победу Израиля обеспечила мощь израильской армии и слабость арабских войск. Философ XII в. Маймонид предсказывал, что в Искуплении не будет ничего сверхъестественного: пророческие описания космических чудес и всеобщего мира относились, по его словам, к Царствию Божию на том свете, а не на этом[671]. Победа в Шестидневной войне убедила кукистов, что пора мобилизоваться всерьез.
Через несколько месяцев после победы раввины и учащиеся собрались на импровизированную конференцию в Мерказ ха-Рав, чтобы обсудить, как расстроить планы лейбористского правительства, собирающегося сдать часть отвоеванных территорий в обмен на мир с арабскими соседями. Для кукистов возврат хотя бы одной пяди священной земли означал торжество сил зла. К удивлению самих кукистов, у них нашлись светские единомышленники. Почти сразу после войны группа выдающихся израильских поэтов, профессоров, отставных политиков и кадровых военных организовала движение «Земля Израиля» с целью предотвратить территориальные уступки со стороны правительства. Много лет это движение оказывало кукистам финансовую и моральную поддержку, а также помогало формулировать идеологию так, чтобы она вызывала отклик в массах. Кукисты постепенно встраивались в доминирующее направление развития.
В апреле 1968 г. Моше Левингер во главе небольшой группы кукистов с родными отправился праздновать Песах в Хеврон, город, где, по преданию, покоились останки Авраама, Исаака и Иакова. Поскольку мусульмане почитают этих еврейских патриархов как своих великих пророков, для них этот город тоже священный. У палестинцев Хеврон столетиями носил название Аль-Халиль, знаменуя этим священную связь с Авраамом, «другом» Господа. Однако с Хевроном были связаны и более мрачные воспоминания. 24 августа 1929 г., в период большой напряженности отношений между арабами и палестинскими сионистами, в Хевроне были убиты 59 евреев – мужчин, женщин и детей. Левингер с компанией поселились в «Парк-отеле» под видом швейцарских туристов, однако после Песаха они отказались выселяться и остались в качестве сквоттеров. На израильское правительство это бросало тень, поскольку Женевская конвенция запрещала поселение на оккупированной во время боевых действий территории, и ООН требовала, чтобы Израиль вывел войска с завоеванных земель. Однако своей хуцпа (дерзостью) кукисты напомнили правительственной Партии труда их собственных первопоселенцев золотого века, поэтому правительство не торопилось выселять самовольных захватчиков[672].
Группа Левингера немедленно перешла в наступление, начав с Пещеры Махпела – «склепа патриархов». После Шестидневной войны израильская военная администрация открыла запертый на время боевых действий склеп для молитвы, приняв организационные меры, чтобы иудеи могли молиться, не мешая арабам. Однако еврейских поселенцев это не устроило, и они потребовали расширить пространственные и временные границы пребывания иудеев в пещере. Они отказывались уходить по пятницам, когда наступало время общей еженедельной молитвы мусульман, – иногда они покидали залы, но блокировали главный вход, не пуская мусульман внутрь. Они устраивали в пещере киддуш – обряд освящения, проводимый в шаббат над чашей вина, зная, что для мусульман это оскорбление, а в День независимости 1968 г. в нарушение правительственных запретов подняли в склепе израильский флаг. Напряженность нарастала. В конце концов – к этому все, видимо, и шло – в группу евреев у мечети кинули палестинскую гранату[673]. Израильское правительство было вынуждено организовать за чертой Хеврона охраняемый силами Армии обороны Израиля анклав для поселенцев. Левингер нарек его Кирьят-Арба (библейское название Хеврона), и он по сей день остается оплотом наиболее экстремистских, жестоких и провокационно настроенных сионистских фундаменталистов. К 1972 г. Кирьят-Арба выросла в небольшой город с населением около 5000 человек. Для кукистов этот анклав означал победу в священной войне, подвинувший границы «враждебного лагеря» и освободивший для Господа важный участок Святой земли.
Однако больше ни в какой области кукисты победами похвастаться не могли. Искупление, к их неудовольствию, забуксовало. Лейбористское правительство не присоединило оккупированные территории и, несмотря на организацию там военных баз, не отказывалось от планов обменять землю на мирный договор. Победа 1967 г. заставила Израиль возгордиться, однако в октябре 1973-го на Иом-Киппур (Судный день), самый торжественный день еврейского календаря, Египет и Сирия пошатнули эту самоуверенность, неожиданно для Израиля заняв Синай и Голанские высоты. На этот раз арабские войска подготовились лучше, и израильская армия оттеснила их с большим трудом. Израильтяне были потрясены, страну охватило уныние и сомнения. Израиль застали врасплох, едва не проигранная битва казалась результатом идеологического разложения. Кукисты считали так же. В 1967 г. Господь ясно явил свою волю, но вместо того, чтобы воспользоваться победой и занять захваченные территории, правительство мешкало и опасалось вызвать гнев гоев, особенно Соединенных Штатов. Иом-Киппурская война выражала господний гнев и напоминание. Теперь, считали кукисты, религиозные евреи должны прийти стране на помощь. Один раввин-кукист сравнил светский Израиль с солдатом, упавшим в пустыне после героической битвы. Правоверные иудеи, которые никогда не предавали религию, должны подхватить его знамя и сражаться дальше[674].
Шестидневная война укрепила кукистов в их мнениях и вдохновила на пару авантюр с поселениями, однако по-настоящему их движение развернулось лишь после потрясшей страну Иом-Киппурской войны. Новую военную доктрину сформулировал в своей статье раввин-кукист Иехуда Амиталь. «Значение Иом-Киппурской войны» Амиталя было проникнуто тем самым глубинным страхом уничтожения, который лежит в основе многих фундаменталистских движений. Октябрьское нападение напомнило всем израильтянам о том, что на Ближнем Востоке они находятся в изоляции и окружены врагами, настроенными на уничтожение израильского государства. Перед глазами вставал призрак холокоста. Амиталь заявил в статье, что прежняя сионистская политика дискредитировала себя. Светское государство не решило еврейскую проблему, антисемитизм разбушевался как никогда. «Государство Израиль единственное в мире, перед которым стоит угроза уничтожения», – утверждал Амиталь. Надеяться, как светские сионисты, на то, что евреи наладят отношения с другими народами и заживут как они, не приходилось. Однако был и другой сионизм, проповедуемый рабби Цви Иехудой Куком и утверждавший, что искупление идет полным ходом. В этом случае война представала не катастрофой, а актом очищения. Светские евреи, чей сионизм показал себя настолько провальным, что поставил страну на грань катастрофы, пытались привить иудаизму эмпирический прагматизм и современную западную демократическую культуру. От иностранного влияния пора было избавляться[675].
Амиталь излагал теорию, имеющую много общего с зарождающимся тогда в Египте и Иране фундаментализмом. Господь допустил Иом-Киппурскую войну как предупреждение, как знак того, что иудеям надлежит вернуться к самим себе. Она была призвана напомнить «зараженному Западом» Израилю об истинных ценностях, выступая частью мессианского процесса, священной войны против западной цивилизации. Однако расклад изменился. Война показала, что за существование борются не только евреи. В этой схватке не на жизнь, а на смерть, считал Амиталь, гои тоже идут на последний бой. Возрождение и расширение еврейского государства продемонстрировало им, что Господь силен, Сатане места нет и что Израиль успешно отражает атаку сил зла. Израиль отвоевал Святую землю, и теперь перед Искуплением остается лишь очистить от последних крупиц западного светского духа сердца иудеев, которые должны вернуться к своей религии. Война прозвучала похоронным звоном по секуляризму. Кукисты приготовились мобилизоваться и перейти к более активной политической борьбе против Запада, который пытается помешать расширению израильских границ, против арабов и против секуляризма, которым заразил израильтян Запад.
Среди протестантских фундаменталистов в Соединенных Штатах наблюдалась схожая готовность. Неразбериха 1960-х со вседозволенностью в молодежной культуре, сексуальной революцией и борьбой за права гомосексуалистов, чернокожих и женщин сотрясала устои общества. Многим казалось, что эти катаклизмы вкупе с событиями на Ближнем Востоке означают только одно: Вознесение уже близко. Со времен Революции американский протестантизм пребывал в расколе на два воинствующих лагеря, и уже 40 лет фундаменталисты строили свой, отдельный мир, отвергавший этос модерна, и секуляристов, и либеральных христиан. Фундаменталисты считали себя изгоями, однако на самом деле за ними стояли достаточно широкие слои населения, возмущенного культурной гегемонией секуляристского большинства восточной части страны и считавшего консервативный фундаментализм более близким по духу. Они еще не были организованы в политическое движение за отвоевывание американского общества, однако к концу 1970-х потенциал уже ощущался, и фундаменталисты начинали чувствовать свою силу. В 1979 г., когда фундаменталисты решили вернуться на арену политической жизни, согласно общенациональному опросу Джорджа Гэллапа, каждый третий взрослый американец-респондент пережил религиозный опыт «второго рождения»; около 50 % считали Библию непогрешимой и свыше 80 % считали Иисуса Богом. Кроме того, в результате опроса обнаружилось около 1300 евангелических теле– и радиостанций, аудитория которых насчитывала примерно 130 млн человек, а прибыль составляла от $500 млн до неопределенных «миллиардов». Как провозгласил во время предвыборной кампании 1980 г. ведущий фундаменталист Пэт Робертсон: «У нас достаточно голосов, чтобы править страной!»[676]
Этому приливу уверенности и росту численности фундаменталистов в 1960–1970-х способствовали три фактора. Во-первых, развитие южных штатов. До тех пор фундаментализм был порождением больших северных городов. Юг оставался преимущественно аграрным. Либеральное христианство обошло южные церкви стороной, поэтому «фундаменталистам» не было нужды бороться с новыми идеями и социальным евангелизмом. Однако в 1960-х модернизация дошла и до Юга. Начался приток людей с Севера, искавших работу в нефтяной отрасли, сфере новых технологий или аэрокосмических проектах, базировавшихся в южных штатах. Юг охватила та же стремительная индустриализация и урбанизация, которую Север пережил столетием ранее. В 1930-х две трети южан жили в сельской местности. К 1960-м сельские жители составляли меньше половины. Повышался государственный престиж Юга. В 1976 г. Джимми Картер первым из южан со времен Гражданской войны был избран президентом, в 1980-м его сменил Рональд Рейган, губернатор Калифорнии. И хотя южан радовал этот подъем, они чувствовали, что их мир кардинально меняется. Переселенцы с Севера приносили с собой либерально-модернистские идеи, и не все иммигранты были протестантами и даже христианами. А значит, ценности и убеждения, которые до этого принимались как данность, теперь приходилось отстаивать. В баптистских и пресвитерианских деноминациях протестанты более других созрели для фундаментализма, как созрели в силу тех же причин их северные единоверцы на рубеже веков[677].
Оторванными от привычного окружения чужаками зачастую чувствовали себя на обновляющемся Юге выходцы из сельских районов, переселяющиеся в быстро растущие города. Многие сельские жители начали отправлять своих детей в вузы, где те сталкивались с либерализмом 1960-х. Кроме того, они наблюдали у многих своих однокашников потерю веры[678]. Родители не находили понимания с детьми и тревожились, видя, как те впитывают явно богопротивные идеи. В церкви их ждали еще более шокирующие понятия, привезенные с Севера новоприбывшими. В результате все больше людей обращалось к фундаменталистским церквям, особенно к существующим в телерадиоэфире. Влиятельные телеевангелисты выстраивали в этот период целые империи. Фундаменталисты начали обрабатывать непаханое поле южных окраин, начиная с Вирджиния-Бич, где Пэт Робертсон основал свою «Христианскую вещательную сеть» и сразу завоевавший популярность «Клуб 700». Затем настала очередь Линчбурга, штат Виргиния, где Джерри Фолуэлл начал в 1956 г. свои телепроповеди. В Шарлотте, штат Северная Каролина, создали свою миссию бойкие Джим и Тэмми Фей Беккер. Заканчивался «библейский пояс» на юге Калифорнии, где давно укоренился политический и религиозный консерватизм[679].
Второй фактор, увлекший многих традиционалистов в фундаментализм, – стремительное расширение власти государства в Соединенных Штатах после Второй мировой. Со времен Революции американцы с недоверием относились к централизованному правительству и зачастую именно с помощью религии выражали неприятие светского строя. Особенно возмутил фундаменталистов вынесенный Верховным судом запрет на обязательную молитву в государственных школах на основании того, что молитва нарушает «границу», которая по указу Джефферсона должна была разделять религию и политику. Судьи-секуляристы пришли к выводу, что государственное финансирование молитвенной программы в школах противоречит Конституции, даже если средства берутся не из налогов и даже если молитва добровольная и не предполагает разделения учащихся по конфессиональному признаку. Соответствующие решения были вынесены в 1948, 1952 и 1962 гг. В 1963-м Верховный суд также запретил чтение Библии в государственных школах, ссылаясь на пункт о религии из Первой поправки. В 1970-х гг. тот же Верховный суд вынес ряд решений, отменяющих любой закон, который: 1) содержит религиозную пропаганду; 2) способствует, независимо от предназначения, распространению религии и 3) вовлекает правительство в дела религии[680]. Суд откликался на растущий плюрализм американской культуры, заявляя, что ничего против религии не имеет, однако требуя оставить ее частным делом.
Эти решения, при всей свой секуляризационной направленности, не могли сравниться с агрессивными попытками Насера или иранского шаха оттеснить религию на самый дальний план. Тем не менее фундаменталисты и евангелисты одинаково возмутились этим, по их мнению, крестовым походом против Бога. Они не верили, что религию можно таким образом законодательно обособить и ограничить, поскольку требования христианства всеобъемлющи и должны иметь характер высшего авторитета в обществе. Их оскорбляло намерение Верховного суда распространить принцип «свободного вероисповедания» (гарантируемого Первой поправкой) на нехристианские религии, а также принципиальное стремление судей уравнять все вероучения. Для оскорбленных это было равносильно объявлению их религии ложной. Решение не выпускать религию за пределы частной сферы возмущало еще и непрошеным и беспрецедентным вмешательством Верховного суда в эту самую частную сферу. Когда Служба внутренних сборов пригрозила лишить ряд фундаменталистских вузов статуса благотворительных организаций, не подлежащих налогообложению, на том основании, что их устав противоречит государственной политике, фундаменталисты решили, что либеральное общество объявило им открытую войну. Никому, кроме них, судя по всему, не запрещали «свободно исповедовать» свою веру. В середине 1970-х Верховный суд одобрил решения Службы внутренних сборов относительно христианских школ Голдсборо в Северной Каролине, отказывавшихся принимать афроамериканцев, и Университета Боба Джонса, который, хоть и не проводил сегрегационную политику, запрещал, ссылаясь на Библию, межрасовые свидания на территории кампуса.
Две системы ценностей снова схлестнулись между собой, как в процессе над Скоупсом в 1925 г. Обе стороны считали себя единственно правыми. В стране произошел глубокий раскол. В конце 1960-х и в 1970-х, по мере расширения государством своих полномочий, самые консервативные христиане, оттесненные на окраину современного общества, все больше воспринимали государственное вмешательство как наступление секуляризма. Мир Манхэттена, Вашингтона и Гарварда они воспринимали как колонизатора и испытывали примерно те же ощущения, что и жители ближневосточных стран под чужеземным гнетом. Правительство вторгалось в семейные святая святых: поправка к конституции, наделявшая женщин равным с мужчинами правом на труд, казалась издевкой над библейскими предписаниями, указывающими, что место женщины – дома. Закон ограничивал телесные наказания для детей, хотя в Библии ясно говорилось, что долг отца – именно так наставлять их на путь истинный. Гомосексуалисты получили гражданские права и свободу самовыражения, были узаконены аборты. Реформы, казавшиеся высокоморальными и справедливыми либералам Сан-Франциско, Бостона или Йеля, выглядели греховными в глазах религиозных консерваторов Арканзаса или Алабамы, веривших, что богодухновенное слово нужно толковать буквально и выполнять неукоснительно. Они не чувствовали себя свободными в пермиссивном обществе. Размышляя о том, что в 1920-х две трети штатов проголосовали за сухой закон, а теперь по всей Северной Америке ведутся открытые кампании за легализацию марихуаны, они приходили к единственному выводу: Америка находится под влиянием Сатаны[681].
Страсти снова накалились. Люди боялись, что истинная вера вот-вот будет уничтожена. Если христиане не дадут отпор, следующего поколения верующих может и не быть. В 1970-х большее, чем прежде, количество детей переводили из государственных школ в христианские учебные заведения, призванные привить учащимся христианские ценности, снабдить христианскими жизненными моделями и строить обучение на библейской основе. С 1965 по 1983 г. число поступающих в эти евангелические школы выросло в шесть раз, и еще около 100 000 детей фундаменталистов находились на домашнем обучении[682]. Движение независимых христианских школ начало мобилизацию. До тех пор фундаменталистские школы были разрознены, однако в 1970-х они начали образовывать ассоциации, чтобы отслеживать законодательные акты по вопросам образования, создавать программы страхования и рабочие места для преподавателей, а также выступать лоббистами на федеральном уровне и на уровне штатов. Ассоциации росли. К 1990-м в Американской ассоциации христианских школ состояло 1360 учебных заведений, в Международной ассоциации христианских школ – 1930[683]. Как и во многих других упомянутых нами школах, колледжах и образовательных учреждениях, в них наблюдалось стремление к «холистическому» образованию, где все – патриотизм, история, мораль, политика и экономика – подавалось бы с христианской точки зрения. Духовное и нравственное воспитание имело не меньшее значение, чем учебная подготовка (хотя она в большинстве случаев не уступала подготовке в государственных школах). В этом «горниле» ковались убежденные и, если понадобится, воинствующие христиане, готовые бороться с секуляризацией в Соединенных Штатах. Они изучали христианскую историю Америки, разбирали религиозные убеждения таких исторических лиц, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, читали только ту литературу и философские труды, которые «более или менее» соответствовали Библии, и делали акцент на библейских «семейных ценностях»[684].
Как видим, для эффективной мобилизации необходима идеология, четко обозначающая противника. В 1960–1970-х идеологи протестантского фундаментализма избрали врагом «светский гуманизм». В отличие от исламистов и кукистов, которые могли ополчиться на светскую культуру «Запада», американским протестантам, как пылким патриотам, эта легкая мишень не подходила. Им приходилось бороться с «внутренним врагом». С годами термин «светский гуманизм» разросся до размеров бездонного мешка, к которому фундаменталисты относили любые неприемлемые для них ценности или убеждения. Вот, например, как определял светский гуманизм фундаменталистский «Просемейный форум»:
«Отрицает божественность Господа, богодухновенность Библии и божественное происхождение Иисуса Христа.
Отрицает существование души, загробную жизнь, спасение и рай, проклятие и ад.
Отрицает библейскую историю творения.
Полагает, что не существует абсолютных ценностей, добра и зла, что моральные ценности имеют независимый, ситуационный характер. Делай что хочешь, „лишь бы не вредить другим“.
Выступает за отмену определенных мужчине и женщине ролей.
Выступает за свободу сексуальных отношений при обоюдном согласии сторон независимо от возраста – включая добрачные половые связи, гомосексуализм, лесбийские связи и инцест.
Признает право на аборты, эвтаназию и самоубийство.
Выступает за равное распределение государственных богатств с целью снижения уровня бедности и обеспечения равенства.
Выступает за контроль над окружающей средой и энергоресурсами, а также за ограничение энергопотребления.
Препятствует воспитанию американского патриотизма, выступает за свободное предпринимательство, разоружение и создание всемирного социалистического правительства»[685].
Этот список, составленный, видимо, по первому и второму Манифестам Американского гуманистического общества (1933 и 1973), пользовавшегося весьма слабым влиянием, тем не менее можно считать достаточно точным отражением либеральных установок, сложившихся в 1960-х.
Однако, как водится у идеологов, этот список одновременно представлял собой карикатуру и слишком упрощенное видение либерализма. Не все либералы, мечтающие о равноправии полов и равном распределении богатств, принадлежат к атеистам. Либералы, ратующие за права геев, никогда не одобрят инцест. Ни один либерал не согласится, что «нет ни добра, ни зла», просто они считают, что необходимо пересмотреть устаревшие моральные устои. Желание сплотить прежде враждующие государства посредством таких организаций, как Европейский союз и ООН, ни в коем случае не означает стремления к созданию «всемирного социалистического правительства». Однако этот список наглядно демонстрирует, какие ценности, являющиеся для многих либеральных христиан и секуляристов самоочевидно положительными (например, забота о бедных или об окружающей среде), фундаменталисты сочли безоговорочным злом. Судя по всему, в этот период Соединенные Штаты, как и Иран с Израилем, тоже раскололись на «две нации». Современное общество разделилось на два противоположных лагеря, представителям которых становилось все труднее понять друг друга, а поскольку субкультуры оставались обособленными и сепаратистскими, большинство, возможно, даже не подозревало о назревающей проблеме.
Однако протестантские фундаменталисты не считали свое определение светского гуманизма карикатурой. Они видели в светском гуманизме конкурирующую религию, со своей доктриной, своими целями и специфической организацией. В этом убеждении их поддерживали примечания к решению Верховного суда по делу Торкасо против Уоткинса (1961), где «светский гуманизм» фигурировал в списке мировых религий, «не проповедующих традиционную веру в существование Бога», наряду с буддизмом, даосизмом и движением «Этическая культура»[686]. Впоследствии фундаменталисты будут ссылаться на этот перечень, доказывая, что принципы и ценности «светского гуманизма», исповедуемые правительством и законодателями, должны изгоняться из общественной жизни не менее активно, чем проявления консервативного протестантизма.
Было бы, таким образом, ошибкой считать озабоченность фундаменталистов светским гуманизмом намеренной уловкой или хитроумным искажением фактов, призванным дискредитировать либеральные взгляды. Термин «светский гуманизм» и все, что за ним скрывалось, вызывал у фундаменталистов животный страх. Они видели в нем заговор сил зла, который Тим Ла-Хэй, один из ведущих и наиболее плодовитых идеологов фундаментализма, назвал «антиамериканским, богопротивным, аморальным и развращающим». Внедрение принципов светского гуманизма вменялось в вину достаточно узкому кругу, контролирующему – с целью «уничтожить христианство и американскую семью» – правительство, государственные школы и телевизионные сети[687]. Среди сенаторов, конгрессменов и кабинет-министров к гуманистам принадлежали 600 человек, еще 275 000 состояли в Американском союзе защиты гражданских свобод. «Гуманистическими» считалась также Национальная организация женщин США, профсоюзы, фонды Карнеги, Форда и Рокфеллера, а также все колледжи и университеты. Приверженцами светского гуманизма была половина законодателей[688]. Американская республика, основанная на библейских принципах, стала светским государством, и эту катастрофу Джон Уайтхед (ректор консервативного Института Резерфорда) объяснял вопиюще неправильным пониманием Первой поправки. Воздвигнутая Джефферсоном «разделительная стена» была призвана, по мнению Уайтхеда, защитить религию от государства, а не наоборот[689]. А теперь гуманистические законодатели превратили государство в объект поклонения. «Государство считается светским, – утверждал Уайтхед, – однако на самом деле оно религиозно, поскольку его „конечная цель“ – это увековечивание самого государства». Таким образом, светский гуманизм представал бунтом против Бога как верховной власти, а поклонение государству – идолопоклонством[690].
Этот заговор охватил не только американское общество, он подчинил себе весь мир. Писательница-фундаменталистка Пэт Брукс полагала, что светские гуманисты «объединяются в огромную тайную сеть», которая «стремительно приближается к своей цели – установлению „нового мирового порядка“, разветвленного мирового правительства, которое поработит весь мир»[691]. Как и другие фундаменталисты, Брукс считала врага вездесущим и неустанно преследующим свою цель с незапамятных времен. Она видела его руку в Советском Союзе, на Уолл-стрит, в сионизме, в Международном валютном фонде, во Всемирном банке и Федеральной резервной системе. В клику стоящих за этим международным заговором входили Ротшильды, Рокфеллеры, Киссинджер, Бжезинский, иранский шах и Омар Торрихос, бывший панамский диктатор[692]. Страх в отношении светского гуманизма был таким же иррациональным и неуправляемым, как и другие уже рассмотренные паранойяльные фантазии, и проистекал из уже знакомой нам боязни уничтожения. Общество модерна в целом и американское в частности виделись протестантским фундаменталистам таким же порождением Сатаны, как любому исламисту. Например, с точки зрения Фрэнки Шеффера, Запад стоял на пороге «электронного мракобесия, когда новые языческие орды, получив в свое распоряжение всю полноту технологической мощи, сотрут с лица земли последние оплоты цивилизации. Впереди темнота. Берега христианского Запада остались позади, вокруг простирается лишь бесконечное темное бурное море отчаяния… если мы не будем бороться»[693]. Как и иудейские и мусульманские фундаменталисты, американские протестанты тоже чувствовали, что их загнали в угол, и, чтобы выжить, необходимо дать отпор.
Как и современный джахилистский город в описании Сайида Кутба, который ни за что не узнали бы либеральные мусульмане, Америка в представлениях протестантских фундаменталистов сильно отличалась от того, что наблюдали вокруг либералы. Фундаменталисты, считавшие Соединенные Штаты владениями Господа, не разделяли ценности, превозносимые другими американцами. Рассуждая об американской истории, почти все они оглядывались с ностальгией на пуританских отцов-пилигримов, однако восхваляли в них наименее привлекательные для либералов особенности. Какое общество пытались построить в Новой Англии пуритане, спрашивал Рас Уолтон, основатель Плимутрокского фонда. «Демократию? Ни за что в жизни! Первые американцы не приносили в Новый Свет ничего подобного», – с одобрением отмечал он[694]. До свободы пуританам тоже не было дела, их больше интересовало «правильное управление церковью и государством», которое «наставит остальных на путь истинный»[695]. Американская революция тоже не рассматривалась как «демократическая». Протестантские фундаменталисты относились к демократии с таким же подозрением, как и евреи с мусульманами, и по тем же причинам. Отцов-основателей, по мнению Пэта Робертсона, вдохновляли кальвинистские, библейские идеалы, и именно поэтому Американская революция пошла другим путем, нежели французская и российская. Ее деятели не собирались связываться с народным правлением, они хотели основать республику, в которой воля большинства и все эгалитарные наклонности будут регулироваться библейским законом[696]. Отцы-основатели точно не желали «чистой, прямой демократии, в которой большинство будет творить что заблагорассудится»[697]. Американских фундаменталистов не меньше мусульманских возмущала идея правительства, проводящего собственные законы: конституция «не вправе творить законы, отличные от верховного [божественного], она должна лишь исполнять основополагающий закон в том виде, в котором человек способен его воспринять»[698].
Эта версия американской истории сильно отличается от версии либерального истеблишмента. Фундаменталистская история была создана контркультурой, намеренной вернуть Соединенные Штаты на путь истинный. Все вокруг свидетельствовало об упадке и отклонении Америки от ее богоугодного старта: и решения Верховного суда, и социальные нововведения, и легализация абортов продвигали секуляризацию во имя «свободы». Однако к концу 1970-х фундаменталисты начали сознавать, что часть вины лежит и на них[699]. После процесса над Скоупсом они ушли в тень и замкнулись, позволив светским гуманистам гнуть свою линию. Теперь фундаменталисты постепенно двигались в сторону политической активности. В начале 1970-х Тим Ла-Хэй и в мыслях не держал, что фундаменталисты займутся политикой, однако к концу десятилетия он пришел к убеждению, что гуманисты «уничтожат Америку» через несколько лет, «если христиане не примутся более активно защищать мораль и нравственность, чем в последние три десятилетия»[700].
Одним из факторов, заставлявших фундаменталистов держаться в стороне от политики, был премилленаризм: если мир обречен, нет смысла его преобразовывать. Но даже здесь наметились перемены. В 1970 г. Хэл Линдси выпустил ставшую впоследствии очень популярной работу «Покойная великая планета Земля» (The Late Great Planet Earth), которая к 1990-му разошлась в 28 млн экземпляров. В книге бойким, живым языком излагались старые премилленаристские идеи. Линдси не отводил Америке в Судный день никакой особой роли, подразумевая, что христиане должны довольствоваться наблюдением «знамений» приближающегося Конца Света в текущих событиях. Однако к концу 1970-х он, как и Тим Ла-Хэй, изменил свое мнение. В книге «1980-е. Приближение Армагеддона» (The 1980s, Countdown to Armageddon) он доказывал, что если Америка опомнится, то сохранит до конца тысячелетия статус ведущей мировой державы. Однако «это значит, что мы должны ответственно относиться к своим обязанностям гражданина и члена семьи Господа. Мы должны проявить активность, выбирая власти, которые не только станут проводниками библейской морали в правительстве, но и будут осуществлять внутреннюю и внешнюю политику, защищающую нашу страну и образ жизни»[701]. Фундаменталисты созрели. Они нашли врага, у них имелось отличное от взглядов либерального большинства представление о том, какой должна быть Америка, и теперь, вопреки своим страхам, они чувствовали себя достаточно сильными, чтобы одержать победу в своем крестовом походе.
К концу 1970-х у протестантских фундаменталистов Америки возросли и престиж, и уверенность в себе, что послужило третьим основанием для мобилизации в начале 1980-х. Это были уже не те малоимущие провинциалы, разбегающиеся по углам после процесса над Скоупсом. Изобилие, сделавшее возможным существование пермиссивного общества, не обошло и их. Экономический подъем Юга и рост фундаментализма в тех краях позволял многим думать, что теперь они могут бросить вызов большинству. Они знали, что численность основных либеральных деноминаций начала сокращаться в 1960-х, а евангелические церкви, напротив, подрастали в среднем на 8 % каждые пять лет[702]. Телеевангелисты поднаторели в рекламе и сбыте христианства, делая присутствие Бога, которого, казалось, изгнали в общественной сфере почти отовсюду, осязаемым и зримым. Видя на телеэкране, как проповедник-пятидесятник Орал Робертс исцеляет больных и увечных, люди воочию наблюдали божественную силу в действии. Слушая, как влиятельный телеевангелист Джимми Сваггерт, утверждавший, будто спасает по 100 000 душ в неделю, поливает оскорблениями католиков, гомосексуалистов и Верховный суд, люди чувствовали, что кто-то наконец высказал в полный голос их собственные мысли. Узнавая о баснословных деньгах, которые еженедельно гребут в виде пожертвований после своих телевыступлений Пэт Робертсон и Беккеры, фундаменталисты приходили к выводу, что именно в Господе можно искать решение экономических проблем страны. Чтобы получать, утверждали они, христиане должны отдавать. В Царствии Божием, по словам Робертсона, «нет ни экономических спадов, ни дефицита»[703]. Эту истину, казалось, вполне подтверждал ошеломляющий успех десяти ведущих христианских телеимперий, собиравших свыше $1 млрд ежегодно, создававших около тысячи рабочих мест и выпускавших высокопрофессиональный продукт[704].
Однако настоящим героем дня считался Джерри Фолуэлл. В 1960–1970-е его трансляции из Линчбурга, штат Виргиния, слушали каждые четыре семьи из десяти. Он начинал свою миссию в 1956 г. с горсткой сторонников на заброшенном заводе по производству соды. Три года спустя приход вырос в три раза, и к 1988-му Баптистская церковь Томас-роуд насчитывала 18 000 прихожан и 60 помощников пастора. Общий доход церкви составлял свыше $60 млн в год, службы транслировали 392 телеканала и 600 радиостанций[705]. Как типичный фундаменталист, Фолуэлл хотел построить обособленный, самодостаточный мир. В Линчбурге он создал школу, существующую по библейским принципам, – к 1976 г. в Либерти-колледже училось уже 1500 человек. Кроме того, Фолуэлл открывал благотворительные учреждения – приют для людей с алкогольной зависимостью, дом престарелых и агентство по усыновлению как альтернативу абортам. К 1976-му Фолуэлл мог считать себя ведущим телепроповедником среди «переживших второе рождение».
Фолуэлл создавал альтернативное общество, чтобы побороть светский гуманизм. С самого начала он хотел сделать из Либерти-колледжа университет мирового уровня, сравнимый по значению с Университетом Нотр-Дам у католиков или Университетом Бригама Янга у мормонов. Со времен основания университета Бобом Джонсом в 1920-х фундаментализм успел измениться. Обособления от общества оказалось недостаточно. Как и другие фундаменталисты в области образования, Фолуэлл ковал будущие кадры, «духовную армию молодежи, выступающей за жизнь, за моральные ценности и за Америку»[706]. Если Боб Джонс отворачивался от светского мира, чтобы готовить преподавателей для христианских школ, Фолуэлл намеревался потеснить светский истеблишмент. В Либерти готовили специалистов всех основных профессий, охватывая самые разные слои общества. Им предстояло «спасти» страну. Однако это означало, что они должны подчиниться фундаменталистскому этосу: преподавателям полагалось принять догматы веры, все студенты каждый семестр проходили «практику христианской службы» в приходе, запрещались курение и алкоголь, студенты должны были ходить только в парадной одежде и по три раза в неделю посещать службы на Томас-роуд. В отличие от Боба Джонса, Фолуэлл получил аккредитацию, а с ней возможность принимать студентов нефундаменталистских взглядов, чьих родителей подкупала дисциплина в кампусе и высокие образовательные стандарты. Фолуэлл нашел компромисс. Либерти выступал альтернативой вседозволенности в гуманитарных вузах 1960–1970-х, с одной стороны, а с другой – альтернативой посредственному уровню ряда старых библейских колледжей. Несмотря на приверженность доктрине, кампус был открыт для серьезных дебатов на интеллектуальные и социальные темы – чтобы студенты учились ставить светскому миру собственные условия и готовились к реконкисте[707].
Фолуэлл планировал наступление, строя его по принципам модерна. Развернув бурную деятельность в колледже, в церкви и на радио, он пытался достучаться до потерянного и умирающего мира. Его трансляции обходились без трюков и уловок, в своем «Евангельском часе доброго старого времени» он порицал ужимки Робертса, Сваггерта и Беккеров. Буквалист и в телевещании, и в теологии, он снимал и записывал свои службы как есть, не гонясь за зрелищностью. Линчбург проповедовал сдержанность, капиталистические ценности и кальвинистскую рабочую этику. Фолуэлл строил свою империю по образцу торговых центров, предлагавших множество услуг разом. Если верить Элмеру Таунсу, главному советнику Фолуэлла в богословских вопросах, тот полагал, что деловая хватка необходима и при завоевании душ. Коммерческие предприятия, рассуждал Фолуэлл, находятся на передовом инновационном рубеже, и вслед за ними «Баптистская церковь Томас-роуд считает, что объединение нескольких миссий в одну церковь не только привлечет массы на проповедь, но и сможет лучше позаботиться о каждом прихожанине»[708]. В 1960–1970-х Томас-роуд доказывала богоугодность капитализма, присоединяя одну миссию за другой, разрастаясь и увеличивая численность приходов. И когда светские власти предержащие начали оглядываться в поисках того, кто сможет возглавить движение правых сил в 1980-х, Фолуэлл оказался самым подходящим кандидатом. Он хорошо разбирался в динамике современного капиталистического общества и мог взаимодействовать с ним на равных.
Однако при всей очевидной целеустремленности Фолуэлла следовавших за ним фундаменталистов терзал страх. Переубеждать Фолуэлла, Ла-Хэя или Робертсона в том, что заговор светского гуманизма действительно существует, было бесполезно. Этот паранойяльный страх перед уничтожением и разрушением, объединявший их с иудейскими и мусульманскими фундаменталистами, подстегивал их и придавал кампании злободневность. Современное общество многого достигло как в материальном, так и в духовном плане. У него имелись все основания чувствовать свою правоту. По крайней мере в Европе и в Соединенных Штатах демократия, свобода и толерантность вели к освобождению. Но фундаменталисты этого не видели – не потому что не умели, а потому что модерн стал для них агрессором, грозящим уничтожить священные ценности и их самих. К концу 1970-х традиционалисты иудейской, христианской и мусульманской веры приготовились к контратаке.
9. Наступление (1974–1979)
Фундаменталистское наступление застигло многих секуляристов врасплох. Они привыкли считать, что религия больше не будет играть существенной роли в политике, однако в конце 1970-х вера вдруг пошла в атаку. В 1978–1979 гг. неизвестный иранский аятолла на глазах всего изумленного мира сверг шаха Мухаммеда Резу Пехлеви, руководящего, казалось, одним из самых прогрессивных и стабильных из ближневосточных государств. Пока правительства приветствовали мирную инициативу египетского президента Анвара Садата, официальное признание им государства Израиль и попытки сближения с Западом, обозреватели отмечали, что молодые египтяне активно уходят в религию. Носят исламскую одежду, отвергают свободы, дарованные эпохой модерна, и массово участвуют в агрессивном захвате университетских кампусов. В Соединенных Штатах Джерри Фолуэлл основал в 1979 г. движение «Моральное большинство», побуждающее протестантских фундаменталистов проявлять политическую активность и препятствовать проведению федеральных законов и законов штатов, льющих воду на мельницу «светского гуманизма».
Неожиданный всплеск религиозности казался светскому истеблишменту ненормальным и неожиданным. Вместо того чтобы принять какую-нибудь из современных идеологий, доказавших свою состоятельность, эти радикальные традиционалисты цитировали священные тексты и древние законы, чуждые политическому дискурсу XX в. Первые их победы не поддавались объяснению – ведь невозможно же управлять современным государством по таким принципам? Фундаменталисты, казалось, тянули всех в дремучее прошлое. То, что их политика находила воодушевленных сторонников, тоже воспринималось как оскорбление. Американцы и европейцы, считавшие, будто религия уже свое отжила, своими глазами видели, что старая вера по-прежнему способна находить пылких сторонников и что миллионы преданных ей иудеев, христиан и мусульман ненавидят светскую либеральную культуру, которой секуляристы так гордятся.
На самом деле, как мы уже убедились, в фундаменталистском наступлении не было ничего неожиданного и удивительного. Консервативные верующие, которые по разным причинам считали, что подвергаются гнету, унижению и даже гонениям со стороны светского правительства, копили обиду уже не одно десятилетие. Многие отгораживались от современного общества, создавая священные резервации чистой веры. Убежденные в том, что власти, мечтающие об их уничтожении, вот-вот сотрут их с лица земли, они занимали оборонительную позицию и разрабатывали идеологии, мобилизующие верных на борьбу за существование. В окружении либо безразличных, либо враждебных к религии социальных сил у них выработалось осадное мышление, которое легко могло вылиться в агрессию. К середине 1970-х они созрели окончательно, осознав свою мощь и придя к убеждению, что катастрофа вот-вот грянет и другой возможности спастись не будет. Они намеревались изменить мир, прежде чем мир изменит их. В их представлении история пошла на роковой виток, все летело в тартарары. Они жили в обществе либо маргинализующем, либо исключающем Бога, и считали, что настало время сакрализовать мир заново. Секуляристы должны отказаться от своей гордыни, делающей человека мерилом всех вещей, и признать верховенство Бога.
Секуляристские аналитики по большей части не подозревали об этой религиозной реакции. Общество во всех рассматриваемых странах настолько поляризовалось, что либералы в Соединенных Штатах и вестернизированные секуляристы в Иране склонны были недооценивать религиозную контркультуру, складывающуюся непосредственно рядом с ними. Они ошибочно полагали, что эта агрессивная вера осталась в прошлом; а это были новые формы веры эпохи модерна, которые часто инновационны и готовы сбросить традиционное наследие веков с корабля современности. Фундаменталисты всех трех религий, отрицая модерн, тем не менее не могли избежать влияния современных идей и веяний. Однако им предстояло многому научиться. Если поначалу фундаменталисты праздновали победу, то впоследствии, как мы увидим в следующей главе, религиозным движениям станет трудно сохранять целостность в плюралистичном, рациональном и прагматичном мире современной политики. Революция против тирании могла сама обернуться тиранией, кампания за отмену модернистских ограничений с целью создания интегрированного, цельного государства могла породить тоталитаризм, перевод мистических, мессианских или мифологических представлений фундаменталистов в политический логос был чреват опасными последствиями. Однако поначалу фундаменталистам казалось, что после десятилетий унижения и гнета перед ними распахнулись горизонты и теперь им действительно удастся отвоевать мир для Господа.
Иранская революция заставила мир впервые обратить внимание на фундаменталистский потенциал, однако она была не первым успешным шагом фундаменталистов в политике. Как мы видели, после Иом-Киппурской войны 1973 г. кукисты в Израиле уверились, что еврейский народ сражается с силами зла. Война – это предупреждение, искупление не за горами, но, если правительство намерено проводить мешающую мессианским процессам политику, народ должен взять инициативу в свои руки. Неожиданно для себя кукисты нашли сторонников и среди секуляристов, не разделявших представления рабби Кука, но тоже твердо настроенных не отдавать ни пяди захваченной земли. Готовность заодно с религиозными сионистами отстаивать оккупированные территории выказывали и те, кто не принадлежал ни к кукистам, ни к правоверным иудеям – например, начальник генштаба израильской армии Рафаэль Эйтан или физик-ядерщик Юваль Нееман, ультранационалист. В феврале 1974 г. группа раввинов, воинственных молодых секуляристов, кукистов и других религиозных сионистов, отслуживших в Армии обороны Израиля и поучаствовавших в военных действиях, сформировали движение под названием «Гуш Эмуним», или «Союз верных».
Вскоре был выпущен манифест, излагающий цели движения. «Гуш» задумывалась не как политическая партия, претендующая на места в кнессете, а как инициативная группа, работающая над приближением «великого пробуждения еврейского народа к претворению сионизма в жизнь и осознанию, что сионизм берет начало в иудейском наследии Израиля и что его целью является окончательное спасение Израиля и всего мира»[709]. Если первые сионисты порывали с религией, то члены «Гуш» считали своей колыбелью иудаизм. Если светские участники «Гуш» толковали «спасение» в более вольном, скорее политическом смысле, то религиозные активисты, стоявшие на холистических позициях рабби Кука, не сомневались в том, что мессианское искупление уже началось и что остальным странам не видать мира, пока еврейский народ не заселит всю Эрец-Исраэль.
С самого начала движение «Гуш Эмуним» противостояло светскому государству. В манифесте подчеркивалась несостоятельность прежней формы сионизма. Несмотря на ожесточенную борьбу евреев за выживание на своей земле, считали активисты, «мы наблюдаем упадок и отход от воплощения сионистского идеала на словах и на деле. В этом кризисе повинны четыре взаимосвязанных фактора: душевная усталость и отчаяние, вызванные непрекращающимся конфликтом; отсутствие оппозиции; преследование эгоистических целей; ослабление иудейской веры»[710]. Ключевым в этом списке религиозные участники «Гуш» считали последний пункт – ослабление религии. В отрыве от иудаизма сионизм, по их мнению, терял смысл. Пока кукисты пытались отвоевать оккупированные территории у арабов, гушисты вели свою войну – против светского Израиля, вознамерившись заменить прежний социалистический и националистический дискурс языком Библии. Если сионисты-лейбористы стремились нормализовать жизнь евреев и сделать их «такими же, как остальные народы», члены «Гуш Эмуним» подчеркивали «неповторимость» израильского народа[711], который в силу своей богоизбранности в корне отличается от остальных и должен жить по своим законам. Библия ясно давала понять, что «святой» израильский народ – это отдельный, особый народ[712]. Если лейбористский сионизм пытался вобрать в себя либеральный гуманизм современного Запада, то участники «Гуш Эмуним» полагали, что иудаизм и западная культура противостоят друг другу. Соответственно кукисты в принципе не верили в результативность светского сионизма[713] и ставили себе задачу развернуть сионизм к религии, исправить упущения прошлого и поставить историю на верные рельсы.
Чуть не обернувшаяся катастрофой Иом-Киппурская война показала, насколько опасно медлить и как важно ускорить искупление, которому мешала политика «ложного» светского сионизма. На развитие у «Гуш Эмуним» ушел почти год, но в результате участники движения выработали полноценный самобытный образ жизни. Сформировался гушистский стиль одежды, музыки, убранства, книг, выбора детских имен и даже стиль речи[714]. «Гуш» создала контркультуру, позволяющую участникам в испытанной временем фундаменталистской манере обособиться от светского Израиля. Однако в том, как религиозные гушисты кичились своей набожностью и соблюдением законов Торы, чувствовалась определенная агрессия. На заре израильского государства светские израильтяне высмеивали евреев в традиционных шапочках-кипах, теперь же набожные активисты носили свои вязаные ермолки с гордостью, сделав их предметом особого радикального религиозного шика[715]. Гушисты считали себя более аутентичными иудеями и сионистами, чем лейбористы, ассоциируясь в собственных глазах не только с такими святыми героями древности, как Исайя, Давид и Маккавеи, но и с сионистскими героями – Теодором Герцлем, Бен-Гурионом и первопоселенцами, которые тоже обладали определенным мистическим видением и в свое время нередко слыли безумцами.
Пока светские и религиозные гушисты занимались формированием своей организации, группа кукистов с помощью ветерана поселенцев Моше Левингера попыталась создать гарин (семя, ядро, зачаток поселения) в железнодорожном депо близ арабского города Наблус на Западном берегу. Для евреев эти земли были священными: Наблус стоял на месте библейского Шхема, связанного с Иаковом и Исайей. Поселенцы хотели заново сакрализовать землю, оскверненную, по их мнению, палестинцами. Они нарекли свое поселение Элон-Море, воспользовавшись еще одним из библейских названий Наблуса, и стали превращать железнодорожное депо в иешиву для изучения священных текстов. Кроме того, они согласились вступить в «Гуш Эмуним». Правительство попыталось изгнать поселенцев, поскольку гарин был создан незаконно, но гушисты не считали себя обязанными подчиняться декларациям ООН, предписывающим Израилю освободить захваченные территории, поскольку законы других народов на иудеев, по их мнению, не распространялись. Поселенцы завоевали в Израиле значительную поддержку, тогда как правительство проявило слабость и нерешительность. В апреле 1975 г. Моше Левингер возглавил марш 20 000 евреев на Западный берег и повел переговоры с министром обороны Израиля Шимоном Пересом из своей палатки в Элон-Море, которую он называл «командным пунктом». Завязался бой с солдатами израильской армии – без выстрелов, в ход шли камни и приклады. Перес прилетел на вертолете и направился в палатку к Левингеру. После этой встречи раввин выбежал из палатки, разрывая на себе белую рубаху в знак траура. Но поскольку надвигались выборы и Перес боялся потерять голоса религиозных избирателей, в конце концов он все-таки сдался и в декабре 1975 г. согласился устроить 30 человек из числа поселенцев Элон-Море в ближайшем военном лагере. Ликующая молодежь понесла Левингера на руках[716]. Худой, лысеющий, с клочковатой бородкой, в толстых очках и с неизменным ружьем за спиной, Левингер стал новым еврейским героем. Некоторые ставили его в один ряд с цадиком и хасидом. Поддерживали его и секуляристы. «Левингер символизирует возвращение сионизма, – утверждала подпольщица и, по ее собственному признанию, сторонница террора Геула Коэн. – Он озаряет Иудею и Самарию [библейские названия Западного берега], как свеча. Он вождь сионистской революции»[717].
Элон-Море наконец было легализовано – под названием Кдумим, в праздник Хануки, восславляющий освобождение Иерусалима Маккавеями от селевкидов в 164 г. до н. э. и переосвящение Храма. В мифологии «Гуш Эмуним» гарин стал новой Ханукой, божественным прорывом, победой во имя Бога. Момент был знаменательный: казалось, что перевес на стороне гушистов и светский сионизм покорился воле Господа. Левингер вернул историю на путь истинный.
1974–1977 гг. стали золотым веком движения «Гуш». Участники ездили по стране с лекциями, агитируя как светскую, так и религиозную молодежь на заселение территорий. Ячейки «Гуш» открывались по всей стране, гушисты разрабатывали генеральный план по заселению всего Западного берега: перевезти на эту территорию сотни тысяч евреев и колонизировать все стратегические опорные пункты в горах. Для консультаций привлекались специалисты по географии региона, демографии и поселениям. Формировались административные органы для разработки планов и пропаганды. Одним из таких был Мате Маамац (штаб борьбы), который организовывал операции по заселению[718]. Сквоттеры, нередко под предводительством самого Левингера, приезжали глухой ночью на какой-нибудь безлюдный холм на Западном берегу в старых, обшарпанных трейлерах, а в ответ на попытки военных их оттуда выдворить представители правых в кнессете обвиняли лейбористское правительство в том, что оно ведет себя, как британцы до образования государства Израиль. Стратегия себя оправдывала. Израильское правительство выступало в роли гонителя, а гушистские поселенцы олицетворяли героическое прошлое Израиля.
Однако за эти годы «Гуш» удалось основать лишь три поселения. Премьер-министр Ицхак Рабин, стремясь помириться с Египтом и Сирией в послевоенный период, был готов пойти на небольшие территориальные уступки, поэтому упорно сопротивлялся совместному натиску «Гуш» и правых сил. Тем не менее гушисты не отказались от пропаганды и стали устраивать массовые шествия и походы на Западный берег. В 1975-м толпа со свитками Торы прошла по оккупированным территориям с песнями, плясками и хлопаньем в ладоши. Секуляристы участвовали в шествии вместе с религиозными сионистами. В День независимости 1976 г. около 20 000 вооруженных евреев собрались на «пикник» на Западном берегу, пройдя маршем из одной части Самарии в другую[719]. Эти военизированные шествия и демонстрации нередко приурочивались к основанию нового поселения или очередного нелегального сквота. Целью всех этих акций было послужить восприятию этих территорий израильтянами как исконно иудейских, они помогли разрушить табу на заселение оккупированных земель.
Гушисты действовали прагматично, предприимчиво и с умом, привлекая на свою сторону в том числе атеистов и секуляристов, однако ортодоксальные участники движения считали его в основе своей религиозным. Они унаследовали от обоих Куков приверженность каббализму. Основание поселений на иудейской, по мнению гушистов, земле означало расширение священной области и отодвигание границ «темной стороны». Поселение становилось тем, что христиане назвали бы святыней, внешним символом тайной милости, которая по-новому, более эффективно обеспечивала существование божественного в мирском. Именно это Ицхак Лурия называл «тиккун», деянием восстановления, которое когда-нибудь преобразит и мир, и космос. Походы, марши, столкновения с войсками, нелегальные сквоты были своеобразными обрядами, вызывавшими чувства восторга и освобождения. Кукисты, долгие годы ощущавшие свою ущербность по сравнению со светскими первопоселенцами и строгими харедим, неожиданно оказались в центре событий, на передовой космической битвы. Приближая искупление, они приобщались к коренным ритмам вселенной. Наблюдатели отмечали, что во время молитвы кукисты раскачивались вперед-назад, плотно зажмурившись, с искаженными мукой лицами и громкими завываниями. Все это были признаки того, что у каббалистов называлось «каввана», состоянием глубокой сосредоточенности во время исполнения заповедей, позволяющей иудею увидеть сквозь символическую форму истинную суть обряда[720]. Ритуал, исполненный в кавване, не только приближает молящегося к Богу, но и помогает восстановить нарушенное равновесие между мирским и божественным. Гушисты переживали подобное состояние не только во время молитвы, свою политическую деятельность они воспринимали в том же ключе. Рабби Кук, проповедующий с рыданиями перед огромной толпой на открытии нового поселения, являл собой «откровение». С этой же целью сквоттеры с воплями закутывались в молитвенные покрывала, цепляясь окровавленными пальцами за священную землю, когда военные теснили их с холма близ Рамаллы[721]. Речь шла уже не просто о политике. Активисты верили, что прозревают сквозь земную оболочку событий божественную драму, лежащую в основе действительности.
Политика, таким образом, становилась актом поклонения, служением (авода). Перед посещением службы в синагоге еврей должен совершить ритуальное омовение в специальном резервуаре, микве. Раввины «Гуш» проводили аналогию: «Прежде чем окунуться в сточные воды политики, необходимо очиститься в микве, поскольку это сродни погружению в тайны Торы»[722]. Это замечание многое проясняет, демонстрируя лежащий в основе гушистских убеждений дуализм. Политика не менее свята, чем Тора, однако, как отмечал еще Кук-старший, это сточная канава. С 1967 г. на долю кукистов часто выпадали шокирующие исторические события, которые они воспринимали как «вспышку света», любимый образ Кука-старшего, однако не менее остро они ощущали и тьму политических неудач, провалов и препятствий. Победы Израиля восхвалялись как великие чудеса, однако роль современных технологий и военного мастерства тоже не умалялась.
Таким образом, кукисты отчетливо воспринимали как мирское, так и божественное. Их тяга к божественному уравновешивалась ощущением непроницаемости и неподатливости непокорной мирской действительности. Отсюда вся боль и муки их молитвы и деятельности. Они видели свою задачу в том, чтобы привести жизнь во всей ее полноте – включая самые нечистые, извращенные и тривиальные ее стороны – под сень священного. Однако если хасидам эти действия приносили радость и облегчение, то экстаз гушистов был часто наполнен лишь яростью и обидой. Они были представителями эпохи модерна, где божественное изгнано в самые дальние закоулки, и чтобы преодолеть гнет мирской действительности, кроме которого, как считают многие, ничего другого и нет, им требуется прилагать больше усилий. Гушисты побеждали собственное личное отчуждение от секулярного Израиля попытками вырвать свою землю из рук врагов-арабов. Они успокаивали душу, выкорчевывая себя с корнем, выходя за границы Израиля и колонизируя потерянную землю. «Возвращение» в Эрец-Исраэль было стремлением вернуть себе состояние ума и духа, базирующееся на основах и истоках, а не пребывать в том, которое формируется повергающей в смятение действительностью.
Завоевательный, исполненный ярости дух чреват очевидными проблемами. В 1977-м, впервые в истории Израиля, Партия труда потерпела поражение на всеобщих выборах, и к власти пришла новая, правая партия «Ликуд», возглавляемая Менахемом Бегином. Бегин всегда ратовал за создание еврейского государства на обоих берегах реки Иордан, поэтому его избрание сперва казалось еще одним проявлением Господней воли. Особенно ясно это стало сразу после выборов, когда Бегин навестил состарившегося рабби Кука в Мерказ ха-Рав, преклонил перед ним колени и совершил земной поклон. «Я чувствовал, что сердце разрывается у меня в груди, – вспоминал впоследствии Даниэль Бен-Симон, присутствовавший при этой „сюрреалистической сцене“. – Какие еще нужны практические доказательства того, что выдумки и фантазии [Кука] воплотились в реальность?»[723] Бегин открыто восхищался Левингером, любил называть «Гуш Эмуним» своими «дорогими детьми» и часто прибегал к библейским образам при изложении собственных захватнических политических планов.
После выборов ликудское правительство развернуло обширную кампанию по заселению оккупированных территорий. Ариэль Шарон, новый министр сельского хозяйства, заявил о своем намерении поселить на Западном берегу 1 млн евреев в течение 20 лет. К середине 1981 г. «Ликуд» потратила $400 млн на постройку 20 поселений, в которых насчитывалось около 18 500 жителей. К августу 1984-го количество официальных правительственных поселений на Западном берегу достигло 113, и шесть из них разрослись до относительно крупных городов. Арабы в окружении 46 000 воинственных еврейских поселенцев начали переходить к ответным действиям[724]. Лучшей политической обстановки для «Гуш Эмуним», получавшей значительную правительственную поддержку, нельзя было придумать. В 1978 г. Рафаэль Эйтан предоставил каждому поселению на Западном берегу право самостоятельно отвечать за безопасность на своей территории, поэтому сотни поселенцев были уволены из частей регулярной армии, чтобы защищать свои общины и патрулировать дороги и поля. Им было выделено большое количество сложного современного вооружения и военной техники. В марте 1979 г. правительство основало на Западном берегу пять региональных советов с правом взимать налоги, оказывать услуги и нанимать рабочую силу. Ключевые должности в них, как правило, занимали гушисты, несмотря на то что теперь их доля среди поселенцев Западного берега составляла лишь 20%[725]. По сути они стали государственными чиновниками, однако за годы конфронтации гушисты прониклись скептическим отношением к правительству, пусть теперь и дружественному, поэтому после победы «Ликуд» они основали организацию «Амана» («Соглашение»), регулирующую и унифицирующую поселенческую деятельность, а также «Моэцет Иеша», совет гушистских поселений, дающий им некоторую независимость.
Скепсис гушистов оправдался: идиллия с «Ликуд» длилась недолго. 20 ноября 1977 г. президент Египта Анвар Садат прибыл с историческим визитом в Иерусалим, положив начало мирному урегулированию, и на следующий год Бегин с Садатом подписали Кэмп-Дэвидские соглашения. Израиль обязался вернуть Египту Синайский полуостров, завоеванный в 1967 г., а Египет – признать государство Израиль и гарантировать безопасность общих границ. Соглашения служили также первым шагом к возможным переговорам о «Принципах мира» между Израилем, Египтом, Иорданией и «представителями палестинского народа» относительно будущего Западного берега и сектора Газа. Кэмп-Дэвидские соглашения были продиктованы прагматическими соображениями с обеих сторон: Египет получал обратно важные территории, а Израиль – некоторые гарантии мира. Синай не был священной землей, поскольку не входил в границы Земли обетованной, описанной в Библии. Бегин с самого начала заявлял, что о возвращении арабам Западного берега не может быть и речи, кроме того, он не сомневался в том, что переговоры по «Принципам мира» не состоятся, поскольку ни одно другое арабское государство их не допустит. В день подписания Кэмп-Дэвидского договора Бегин объявил, что правительство создаст на Западном берегу 20 новых поселений.
Религиозных сионистов, «Гуш Эмуним» и правых израильтян в целом это не успокоило. 8 октября 1979 г. с благословления рабби Кука была создана новая партия «Техия» («Возрождение») с целью выразить протест против Кэмп-Дэвида и предотвратить дальнейшие территориальные уступки. Теперь религиозные и светские радикалы сомкнули ряды в одной политической партии. В 1981-м кукист и бывший участник «Гахелет» Хаим Друкман основал собственную партию «Мораша» («Наследие»), чтобы лоббировать создание новых поселений на Западном берегу. Для гушистов Кэмп-Дэвид не означал мира. Они подчеркивали этимологическую связь между словами «шалом» («мир») и «шлемут» («целостность»): истинный мир означал территориальную целостность и сохранение всех границ израильской земли. Компромиссы были невозможны. Как объяснял гушистский раввин Элиэзер Вальдман, Израиль ведет битву со злом, от исхода которой зависит судьба остального мира: «Искупление – это не только искупление Израиля, но искупление всего мира. Однако искупление мира зависит от искупления Израиля. Отсюда проистекает наше моральное, духовное и культурное влияние на весь мир. Благословение снизойдет на все человечество от народа израильского, расселившегося по всей своей земле»[726]. Однако воплотить этот мифологический императив в жизнь в мире, существующем по прагматичным светским законам, не представлялось возможным. Несмотря на захватнические настроения и библейскую риторику, Бегин не собирался смешивать миф с практическим логосом политики. С самого начала лозунгами модерна были эффективность и успешность. Абсолютные принципы приходилось подстраивать под практические соображения и нужды политики. Бегину нельзя было портить отношения с Соединенными Штатами, которые хотели мирного урегулирования.
Для фундаменталистов, пытающихся сражаться за Господа в мире современной политики, это всегда была одна из главных проблем. В те годы «Гуш Эмуним» удалось тем не менее добиться некоторых успехов. В 1978 г. Шломо Авинер, выпускник Сорбонны и Мерказ ха-Рав, основал иешиву «Атерет Коханим» («Корона священников») в мусульманском квартале Восточного Иерусалима. Иешива была обращена к Храмовой горе, где теперь располагался Купол Скалы, третья из главнейших мировых мусульманских святынь. Задачей иешивы было изучение текстов, относящихся к священническому культу и жертвоприношениям в библейском Храме, в рамках подготовки к приходу Мессии и возрождению Храма на его исконном месте. Поскольку строительство иудейского Храма означало бы разрушение мусульманской святыни, создание иешивы было провокационным шагом само по себе, однако вдобавок к этому «Атерет Коханим» инициировала создание поселения в Старом городе Иерусалима, который Израиль присоединил в 1967 г. – в нарушение международных соглашений. Иешива начала тайно скупать арабскую собственность в мусульманском квартале и реконструировать там старые синагоги, чтобы усилить иудейское присутствие в арабских кварталах[727]. Второе достижение этого периода относится к 1979 г., когда «Гуш Эмуним» повела борьбу против решения Верховного суда Израиля, требующего снести поселение Элон-Море к юго-востоку от Наблуса. «Гуш Эмуним» пригрозила гражданской войной и голодовкой и в конце января 1980 г. вынудила кабинет создать специальную комиссию с целью обезопасить существующие поселения и найти новые возможности в рамках ограничений, наложенных Верховным судом. 15 мая правительство огласило пятилетний план по созданию 59 новых поселений на Западном берегу[728].
Однако, несмотря на отдельные успехи, дни славы «Гуш Эмуним» были сочтены. Израильтяне отнеслись к мирному договору положительно, и в 1982 г. «Гуш» потерпела серьезное поражение. В исполнение Кэмп-Дэвидских соглашений Израиль ликвидировал поселение Ямит, цветущий светский городок, выстроенный правящей Партией труда на берегу Синая. Моше Левингер заявил, что сионизм заразился «вирусом мира»[729], и повел тысячи поселенцев Западного берега обратно в Ямит, где они заняли выселенные дома, провоцируя войска выгнать их оттуда. Это был отчаянный шаг. Левингер напомнил поселенцам об иудейско-римских войнах (66–72 гг. н. э.), когда 960 человек – мужчин, женщин и детей – предпочли покончить жизнь самоубийством в крепости Масада, но не сдать ее римским войскам. Гушистские раввины посовещались с двумя ведущими раввинами Израиля, но те высказались против мученичества, и снова рабби Левингер рвал на себе одежду в знак скорби[730]. При выселении протестующих не пролилось ни капли еврейской крови, однако гушисты были готовы к возможному столкновению, и в какой-то момент казалось, что религиозные и светские израильтяне стали по разные стороны баррикад.
Это отчаянное выступление в Ямите можно считать подспудным отрицанием ужасной правды. Великое Пробуждение, на которое с такой уверенностью уповали кукисты, не состоялось. Не следует ли из этого, что неизбежность искупления тоже под вопросом? Разве может государство, пошедшее на столь малодушные уступки, быть святым? Религиозные гушисты переживали «великий крах» мессианских надежд, чреватый еще более отчаянными поступками. Как гушисты ни старались, им не удалось приспособить религиозную политику к действительности. Незадолго до эвакуации из Синая скончался рабби Кук, и его смерть повергла последователей в еще большее отчаяние. Подходящего преемника ему не нашлось, и движение раскололось. Одни участники ратовали за терпение, молитву и сосредоточение на образовании с целью возродить истинный дух Израиля. Другие готовились действовать силой.
Бегин был не единственным, кто столкнулся с религиозной оппозицией Кэмп-Дэвидским соглашениям. На второго участника переговоров, Анвара Садата, обрушилось недовольство египетских мусульман. Мирная инициатива Садата принесла ему любовь и восхищение Запада, но отношение египтян к своему президенту оказалось неоднозначным, притом что многие слои общества восприняли решение положительно. Несмотря на поражение в Шестидневной войне, Насер пользовался огромной любовью большинства населения. Садат таких теплых чувств не вызывал никогда. Его всегда считали политическим легковесом; сразу после прихода к власти в 1971 г. ему пришлось отражать попытку дворцового переворота. Тем не менее относительный успех Иом-Киппурской войны 1973-го принес ему достаточно очков[731]. Показав себя в бою и вернув арабам уверенность, он мог теперь вовлечь страну в процесс мирного урегулирования, призванный помочь Египту наладить отношения с Западом.
После поражения 1967 г. Насер несколько отошел от социализма и начал сближение с Соединенными Штатами. Кроме того, уловив охватившие Ближний Восток религиозные настроения, он снова принялся приправлять свои речи исламской риторикой, тем не менее не выпуская на свободу «Братьев-мусульман». При Садате эти две тенденции обозначились еще резче. В 1972 г. Садат уволил 1500 советских консультантов, приглашенных Насером, а после Иом-Киппурской войны объявил новый политический курс, призванный вывести Египет на капиталистический мировой рынок. Эту экономическую программу он назвал «инфитах» («открытая дверь»)[732]. Однако Садат оказался плохим экономистом, и финансовые проблемы страны, всегда бывшие ее ахиллесовой пятой, инфитах только усугубила. Двери, однако, распахнулись настежь: иностранная валюта и иностранные товары потекли в Египет рекой. Западных инвесторов привлекали выгодные налоговые ставки, и Египет действительно сблизился с Соединенными Штатами. Кроме того, политика «открытых дверей» сыграла на руку нарождающейся буржуазии, составлявшей небольшую долю населения страны, и обогатила лишь немногих. Подавляющее большинство осталось на мели. Египетских предпринимателей задавили иностранные конкуренты, коррупция и оголтелое потребительство верхушки общества вызывало стойкое отвращение и недовольство. Очень туго пришлось молодежи. Лишь около 4 % молодых египтян могли рассчитывать на хорошую работу, остальным приходилось сводить концы с концами на скудное государственное жалованье и подрабатывать в свободное время таксистами, водопроводчиками и электриками (зачастую без особых навыков). Приличное жилье стоило непозволительно дорого, а значит, молодой паре нередко приходилось ждать годами, чтобы пожениться и зажить своим домом. Оставалось только эмигрировать. Сотни тысяч египтян были вынуждены на долгое время уезжать в богатые нефтяные страны на заработки, дававшие возможность посылать часть денег родным и копить на будущее. Крестьяне тоже участвовали в этом исходе в страны Персидского залива и возвращались, только накопив достаточную сумму на дом или покупку трактора[733]. Инфитах сблизила Садата с Западом, но сделала финансово неподъемной жизнь в собственной стране для большинства египтян, вынудив их отправиться в изгнание.
По мере проникновения в страну американского бизнеса и культуры Египет казался коренному населению все более чужим и вестернизированным. Садат отдалялся от своего народа. Они с супругой Джихан любили западный шик, часто принимали иностранных знаменитостей и кинозвезд, употребляли спиртное и роскошествовали в своих бесчисленных резиденциях, отделанных на миллионы долларов, вдали от тягот и лишений большинства населения. Это шло вразрез с тщательно культивируемым образом религиозности Садата. По суннитским убеждениям хороший мусульманский правитель не должен обособляться от народа, он живет просто и скромно, обеспечивая как можно более справедливое распределение богатств в обществе[734]. Лепя в угоду религиозным настроениям образ «благочестивого президента», фотографируясь для прессы в мечетях с «пепельной отметиной» на лбу, свидетельствующей о совершении пяти обязательных намазов в день, Садат неизбежно давал мусульманам повод для нелестных сравнений его реальных поступков с идеалом.
Однако на первый взгляд Садат благоволил религии. Ему нужно было создать свой режим, отличающийся от насеровского. Со времен Мухаммеда Али египтяне неоднократно пытались встроиться в мир модерна и найти в нем свою нишу. Они подражали Западу, перенимали западный строй и идеологию, боролись за независимость и пытались перекраивать свою культуру на современный европейский манер. Ни одна из попыток не увенчалась успехом. Вслед за иранцами многие египтяне почувствовали, что пришла пора «вернуться к себе» и выстроить современный, но выраженно исламский уклад. Садат с радостью этими настроениями воспользовался. Он пытался сделать ислам гражданской религией по западному образцу, то есть поставить ее на службу государству. Если Насер преследовал исламистские группировки, то Садат стал их освободителем. С 1971 по 1975 г. он постепенно выпустил из застенков «Братьев-мусульман». Кроме того, Садат ослабил строгие насеровские законы, контролирующие религиозные ячейки, сняв запрет на собрания, проповеди и публикации. «Братьям-мусульманам» не позволили возродиться в виде полноценного политического сообщества, однако проповедовать и издавать собственный журнал «Ад-Дава» («Призыв») они теперь могли. Строились мечети, исламу предоставлялось больше эфирного времени. Кроме того, Садат желал завоевать симпатии исламских студенческих групп, подстрекая их отвоевывать управление кампусами у социалистов и насеритов. Насер пытался подавить религию, но обнаружил, что насильственные меры ведут к обратному результату – росту религиозного экстремизма, пропагандируемого Сайидом Кутбом. Теперь же Садат решил приручить религию, чтобы она служила его собственным интересам. Однако и эта стратегия оказалась трагической ошибкой.
Поначалу, однако, политика Садата казалась успешной. Например, «Братья-мусульмане» вроде бы усвоили урок. Старшее поколение руководителей, выйдя на свободу, решительно настроилось отказаться от идей Сайида Кутба и «тайного аппарата», собираясь вернуться к мирному реформаторству Хасана аль-Банны. «Братья» стремились подчинить государственное управление мусульманскому закону, однако готовились идти к этой цели долгим и мирным путем, действуя легальными методами[735]. Тем не менее, несмотря на провозглашенное возвращение к исконному духу организации, она очень сильно изменилась. Если Банна обращался прежде всего к рабочим и среднему классу, то «новые братья», как называют их некоторые исследователи, в 1970-х привлекали представителей буржуазии, выигравших от политики «открытых дверей». Зажиточные, не знающие нужды, они были готовы сотрудничать с режимом. Основная масса народа, при Садате все больше ощущающая себя чужой в родной стране и переживающая тяжкие лишения, идей братства не разделяла. В отсутствие других разрешенных форм оппозиции властям многие из самых недовольных принимались искать более радикальные исламские альтернативы[736].
Однако вскоре Садат своими действиям настроил против себя даже «новых братьев». Каждый месяц печатный орган братства «Ад-Дава», выпускаемый тиражом около 78 000 экземпляров, публиковал новости о четырех «врагах» ислама – западном христианстве (которое, чтобы подчеркнуть его империалистическую сущность, традиционно называли «эль-салибия», «крестовый поход»), коммунизме, секуляризме (в лице Ататюрка) и сионизме. Самым главным врагом, неразрывно связанным с остальными тремя, считалось «еврейство». В статьях «Ад-Давы» приводились выдержки из Корана, где говорилось о евреях, восстававших против Пророка в Медине, но игнорировались те строки, где об иудаизме отзывались положительно[737]. Антисемитизм «Ад-Давы» якобы восходил к самому Пророку, однако на самом деле для ислама это было новшеством, связанным скорее с «Протоколами сионских мудрецов», чем с исламскими источниками. Соответственно после Кэмп-Дэвидских соглашений «новые братья» уже не могли поддерживать Садата. На протяжении 1978 г. «Ад-Дава» ставил под сомнение законность режима с точки зрения ислама. Обложка майского номера за 1981 г. изображала Купол Скалы в цепях, запертых на висячий замок со Звездой Давида[738].
Однако во время исторического визита Садата в Иерусалим на авансцену выдвинулась более радикальная мусульманская секта. Ее руководителей судили за убийство Мухаммеда ад-Дахаби, выдающегося богослова и бывшего министра правительства. Потрясенные египтяне услышали от молодых участников секты, что ислам со времен первых четырех «праведных» («рашидун») халифов находится в упадке, что все развитие ислама с той поры – это лишь идолопоклонство и весь Египет, включая президента и религиозную верхушку, пребывает в джахилии. Секта утверждала, что это джалистское общество необходимо уничтожить, а на его обломках построить истинно мусульманское, по Корану и Сунне. Основатель секты Шукри Мустафа избран Аллахом, и ему предстоит создать новый закон и вернуть мусульманскую историю на путь истинный[739].
Шукри был арестован и посажен за решетку при Насере, в 1965 г., в возрасте 23 лет, за распространение листовок «Братьев-мусульман»[740]. За эту мелкую провинность он отсидел шесть лет в насеровских лагерях, читая Мавдуди и Кутба, и, как многие из младших «братьев», проникся их идеями. В застенках радикальные мусульмане накладывали на себя жесткие ограничения, предписанные Кутбом. Они отдалялись от сокамерников и старших, более умеренных «братьев», объявляя их джахилистами. Однако некоторые предпочитали скрывать свои убеждения. Кутб полагал, что время, когда его авангард будет готов начать джихад против джахилистского общества, настанет не скоро. Сперва передовые отряды должны пройти первые три этапа мухаммедийской программы и завершить духовную подготовку. Поэтому часть молодых экстремистов за решеткой тоже придерживалась мнения, что пока они еще «слабы» и не созрели для того, чтобы бросить вызов злодейскому режиму. До поры до времени им придется пожить обычной жизнью среди разгула джахилии. Шукри же принадлежал к более радикальной группе, ратовавшей за «полное отделение» («муфсала камила»): неверными считались все, кто не принадлежал к их секте, и истинно верующие не должны были иметь с ними никакого дела. Они отказывались разговаривать с сокамерниками, и в тюрьмах часто вспыхивали драки[741].
После выхода 16 октября 1971 г. из лагеря «Абу Забал» Шукри основал новую группу, которую назвал «Общество мусульман». Ее участники считали себя авангардом движения Кутба и посвящали свою жизнь выполнению его программы. Соответственно они отдалялись от институций доминирующего общества, готовясь к джихаду. Рассматривая египетское общество как порочное целиком и полностью, они отказывались молиться в мечетях и предавали анафеме (такфиру) как религиозные, так и светские круги. Некоторые из участников «Общества» мигрировали в пустыни и горные пещеры в окрестностях Асьюта, родного города Шукри. Большинство ютились в меблированных комнатах беднейших районов на окраинах больших городов, где пытались вести истинно исламский образ жизни. К 1976 г. «Общество мусульман» насчитывало около 2000 участников обоего пола, убежденных в том, что Аллах избрал их, чтобы они создали чистую умму на обломках современной джахилии. Они в руках Аллаха. Первый шаг они сделали, теперь Аллах довершит остальное. Полиция присматривала за «Обществом», но считала участников безобидными чудаками-маргиналами[742]. Однако, если бы Садат с советниками присмотрелись к этим молодым отчаянным фундаменталистам более пристально, они увидели бы, что мусульманские коммуны представляют собой прямую противоположность политике «открытых дверей» и отражают оборотную сторону жизни современного Египта.
Остракизм, которому Шукри подвергал все египетское общество, при всей его радикальности имел под собой некоторые основания. Садат мог строить сколько угодно мечетей, но страну, все богатства которой находятся в руках горстки избранных, тогда как большинство населения прозябает в беспросветной нищете, исламской назвать нельзя. Хиджра, или «переселение» участников «Общества» в самые бедные районы, также символизировала лишения молодых египтян, ощущавших, что для них на родине нет места и что их выдворяют из собственной страны. Коммуны «Общества» существовали на средства тех, кого Шукри посылал на заработки в страны Персидского залива, куда ездила и остальная египетская молодежь. Многие члены «Общества» имели университетское образование, однако Шукри объявил всю светскую науку пустой тратой времени – мусульманину ничего не нужно, кроме Корана. Еще одно радикальное убеждение, однако и в нем таилось зерно истины. Полученное многими египтянами в 1970-х образование оказалось совершенно бесполезным. Помимо того, что сама программа и методы обучения были на низком уровне, университетский диплом не давал никаких гарантий приличного трудоустройства: старший преподаватель университета зарабатывал меньше, чем горничная в доме богатого иностранца[743].
Пока «Общество» держалось в тени, власти его не трогали. Однако в 1977 г. Шукри вышел из подполья. В ноябре 1976-го некоторых участников «Общества» переманили соперничающие исламские группировки, и Шукри счел ушедших вероотступниками, заслуживающими смерти. Его ученики совершили ряд нападений, и в результате 14 активистов «Общества» были арестованы за попытку убийства. Шукри немедленно перешел в наступление. Первую половину 1977-го он вел кампанию за освобождение своих соратников, рассылая статьи в газеты и договариваясь о выступлениях по радио и на телевидении. Когда мирные методы не сработали, Шукри решил действовать силой. 7 июля он похитил Мухаммеда ад-Дахаби, написавшего брошюру, в которой объявлял «Общество» еретическим. На следующий день после похищения Шукри выступил с заявлением в трех египетских газетах, в СМИ ряда других мусульманских стран, а также Нью-Йорка, Парижа и Лондона. Он требовал немедленно освободить учеников и публично извиниться за создание отрицательного образа «Общества» в средствах массовой информации, а кроме того, создать комиссию по расследованию действий законодательной власти и спецслужб. Садат, конечно, не позволил бы обсуждать методы своей тайной полиции. Шукри просто не понимал природы государства, против которого решил восстать. Когда через несколько дней обнаружили тело Дахаби, глава «Общества» и сотни его учеников были арестованы. Короткий суд закончился казнью Шукри и пяти ведущих активистов. В прессе секту назвали «Такфир валь хиджра» («Безбожники и изгнанники») – из-за ее реакционной и нигилистической идеологии[744]. Эту идеологию, как и многие другие фундаменталисткие теории, диктовали ярость и ощущение маргинализации, однако пример Шукри показывает, что не всегда правомерно объявлять подобные движения безумием. При не подлежащей оправданию деятельности и трагических просчетах Шукри удалось создать контркультуру, отражающую теневую сторону садатовского Египта, получавшего столько лестных отзывов на Западе. Эта контркультура выявила, пусть в преувеличенной, искаженной форме, настоящую реальность, выражая отчуждение, которое переживала египетская молодежь.
Не менее наглядным, но более долговечным и успешным отражением реалий стали «Джамаат аль-Исламия» – исламские студенческие ассоциации, главенствующие в университетских кампусах при Садате. Как и «Общество» Шукри, джамааты считали себя передовыми отрядами Кутба, однако вместо того, чтобы радикально отгородиться от общества, они пытались создать исламское пространство в глухом к их нуждам окружении. Египетские университеты не были похожи на Оксфорд, Гарвард или Сорбонну. Это были огромные, казенные многолюдные учреждения, вопиюще плачевно оборудованные. С 1970 по 1977 г. количество учащихся в них выросло с 200 000 до 500 000 человек. Результатом стала жуткая переполненность. Студенты теснились по два-три человека за столом, в аудиториях и лабораторных помещениях невозможно было расслышать преподавателя, тем более что микрофоны часто не работали. Особенно трудно приходилось студенткам, многие из которых воспитывались в традиционном укладе и для которых было смерти подобно оказаться стиснутыми молодыми мужчинами за партой или в университетском автобусе, развозившем студентов по таким же переполненным общежитиям. Учеба заключалась прежде всего в зубрежке, успешный ответ на экзамене требовал механического заучивания конспектов и составленных преподавателями учебников. Факультеты гуманитарный, юридический, социальных наук считались бесполезными и практически списывались со счетов. Независимо от склонностей и талантов способным студентам приходилось идти в медицину, фармакологию, стоматологию, инженерные науки или экономику либо соглашаться на обучение у более слабых преподавателей и оставлять себе еще меньше возможностей получить после окончания университета приличную работу. Навыков независимого осмысления проблем человечества и общества студенты при таком раскладе не получали. Вместо этого от них требовалось лишь пассивное механическое усвоение информации. Соответственно знакомство с современной культурой у них получалось весьма поверхностное, никак не затрагивающее их религиозных убеждений и привычек[745].
Джамааты почти не выпускали ни книг, ни брошюр, однако краткое изложение основных идей можно найти в статье, написанной для «Ад-Дава» в 1980 г. Исамом ад-Дином аль-Арьяном. Активистов определенно вдохновляли идеи Сайида Кутба; участники джамаат полагали, что египтянам пора избавиться от долгого гнета западной и советской идеологий и вернуться к исламу. Египет по-прежнему в руках неверных, и без великого религиозного пробуждения о подлинной независимости не может быть и речи[746]. Джамааты не ограничивались дискуссиями, а творчески и практически приспосабливали исламскую идеологию к обстоятельствам. В 1973 г. студенты принялись устраивать летние лагеря при ведущих университетах[747]. Там изучали Коран, совершали общие ночные молитвы, слушали проповеди о золотом веке ислама, о жизненном пути пророка Мухаммеда и о четырех праведных халифах. Дневное время посвящалось спортивным тренировкам и урокам самообороны. В течение нескольких недель студенты жили, думали и играли в среде, полностью организованной согласно исламским порядкам. В каком-то смысле это была временная хиджра, уход от господствующего общества в мир, где можно жить по Корану и ощущать его мощное воздействие. Они узнавали, каково это – существовать в обстановке, где воплощены заповеди священных текстов. Лагерь давал им возможность вкусить исламской утопии, составлявшей разительный контраст с фальшивым мусульманством властей. Проповедники и ораторы говорили о горьком разочаровании в эксперименте модернизации, который мог бы отлично сработать в Европе или Америке, но в Египте облагодетельствовал лишь богатых.
Возвращаясь в университет, студенты пытались воспроизвести в кампусе свой летний опыт. Пустили отдельные мини-автобусы для студенток, избавляя их от мук езды общественным транспортом бок о бок с мужчинами, и с той же целью потребовали рассадить студентов разного пола по разным рядам в аудитории; отстаивали право как мужчин, так и женщин носить исламскую одежду. Длинные балахоны гораздо лучше подходили для традиционного общества, где с неодобрением относились к свиданиям по западному образцу и где сексуальная неудовлетворенность сильно отравляла жизнь египетской молодежи (поскольку до женитьбы в силу экономических причин ждать приходилось долго). Джамааты организовывали часы подготовки в мечетях, где, в отличие от шумных переполненных общежитий, студенты могли выполнять домашние задания в тишине. Новшества возымели действие. Поначалу студентки облачались в традиционную одежду или пересаживались на «сегрегационный» ряд в аудитории просто ради удобства, однако в то же время они осознавали, что властей их положение заботит меньше, чем участников джамаат. Уходя из гудящего, как улей, общежития позаниматься в мечети, студент совершал маленькую символическую хиджру и одновременно усваивал, что исламская обстановка для него благоприятнее[748]. Многие студенты были родом из сельских семей с традиционным, премодернистским укладом. Помимо того, что модерная университетская среда казалась им чужой, безликой и пугающей, посредственное образование не давало им никакой интеллектуальной базы, позволяющей критиковать режим. Многие приходили к выводу, что в этом мире лишь ислам имеет какой-то смысл.
Особенно ужасал западных обозревателей вид женщин, снова надевающих чадру, которая со времен лорда Кромера служила для Запада символом исламской отсталости и патриархальности. Однако мусульманки, добровольно облачавшиеся в исламское платье, делали это, с одной стороны, из практических соображений, а с другой – отвергая чуждый западный уклад. Чадра, шарф, длинное платье олицетворяли «возвращение к себе», так тяжело дававшееся исламистам постколониальной эпохи. В конце концов, в западной одежде как таковой нет ничего сакрального. Желание облачить в нее всех женщин воспринималось исламистами как признак тенденции назначить «западное» нормой, под которую должны подстраиваться все остальные. Соответственно женщина в чадре с годами превратилась в символ исламского самоутверждения и отрицания западного культурного господства. Выбирая закрытость, женщина отвергает западные нравы с их странным стремлением оголиться и выставить себя напоказ. Если на Западе как мужчины, так и женщины пытаются подчинить тело своей воле, формируя его в спортзалах, и цепляются за жизнь, сопротивляясь влиянию времени и старости, то закутанное в длинные одежды тело исламиста молчаливо заявляет о своем подчинении божественному порядку и о нацеленности не на этот мир, а на мир иной. Западный человек гордится и даже хвастается дорогим загаром и подтянутым телом как знаками отличия; мусульманин же, скрывая тело под многочисленными слоями почти одинаковой одежды, подчеркивает присущее исламу равенство и провозглашает превосходство коранического идеала общности над западным индивидуализмом эпохи модерна. Облаченные в чадру исламские женщины, как и коммуны Шукри Мустафы, выступали немым укором оборотной стороне модерна[749].
Решение носить исламскую одежду не обязательно означало, что женщина решила вернуться к угнетенному премодернистскому положению. Проведенное в Египте в 1982 г. исследование показало, что, несмотря на большую склонность к консерватизму среди женщин в чадре по сравнению с предпочитающими западную одежду, достаточно высокий процент мусульманок придерживается прогрессивных взглядов в гендерных вопросах. 88 % носительниц чадры считали, что получение образования для женщины важно (по сравнению с 93 % не носящих чадру); 88 % женщин в чадре полагали приемлемым для женщины работать вне дома и 77 % намеревались работать после окончания университета (по сравнению соответственно с 95 % и 85 % не носящих чадру). В других областях разброс оказался шире, однако большинство носящих чадру (53 %) по-прежнему выступали за равные политические права и обязанности для обоих полов и за возможность для женщин занимать высокие государственные должности (63 %). Лишь 38 % носящих чадру были склонны наделить мужчину и женщину равными обязанностями в браке, тогда как среди не носящих чадру в супружеское равенство верили лишь 66 %. Немаловажно также, что как среди носящих (67 %), так и среди не носящих чадру (52,7 %) большинство выразили желание видеть государственным законом шариат[750].
Шариат, как и любой премодернистский закон, на самом деле отводит женщине зависимое положение «второго пола». Однако, как отмечает Лейла Ахмед (р. 1940) в книге «Женщины и гендер в исламе» (Women and Gender in Islam), эти женщины стремились, как и многочисленные мусульманские реформаторы прошлого, вернуться к «истинному исламу» Корана и Сунны, а не к средневековому фикху Аль-Азхара. Истинный ислам в их представлении распространял равенство и справедливость на всех, включая женщин. И все же Ахмед согласна, что патриархальное большинство может перевернуть эти представления в удобную ему сторону и что в случае прихода ислама к власти положение женщины, как правило, ухудшается[751]. Когда дела не идут на лад, зачатки недовольства проще всего подавить, наделив мужчин большей властью над своими женщинами. Тем не менее исламская одежда не обязательно свидетельствует о покорном характере носящей ее. По утверждению турецкой исследовательницы Нилуфар Гёле, женщина в чадре может быть и воинственной, и образованной, и открытой[752]. Многие носящие чадру сыграли активную и порой героическую роль в фундаменталистском наступлении.
Ахмед также подчеркивает, что в Египте исламская одежда не означала возвращения к прошлому. В одежде женщин 1970–1980-х не было ничего традиционного – новая мода напоминала (если не считать длинных рукавов и юбок в пол) западный стиль, а не бабкины балахоны. Ее скорее можно было назвать компромиссной, чем-то вроде униформы переходного периода. Все больше и больше женщин в эти годы получали высшее образование. Среди студенток, выбиравших исламское платье в университетах, много было таких, которые первыми из своей семьи получали образование, а не просто учились грамоте; очень часто эти женщины происходили из сельской местности. Таким образом их одежда оказывалась «современной» вариацией той, что носили женщины в их роду. Пугающая действительность большого города эпохи модерна – с ее космополитизмом, агрессивным консьюмеризмом, неравенством, насилием и теснотой – могла легко раздавить человека. И одежда, с одной стороны, говорила о продвижении по социальной лестнице, а с другой – сохраняла связь женщины с «корнями». Благодаря ее знаковости, маркирующей принадлежность к исламу и сообществу, мучительная «инициация» проходила легче и безболезненнее. Мы уже видели, что в прошлом религия не раз облегчала человеку переход от традиционного к более современному укладу и идеологии. Исламская одежда – как женская, так и мужская – могла выполнять именно такую роль[753].
Тем не менее любой переходный период мучителен. Молодежный исламский джамаат в кампусах в конце 1970-х стал для многих способом выражения их недовольства и отчаяния. Нередко эти чувства выливались в насилие. Джамаат был наименее агрессивным из египетских исламских движений 1970-х, однако некоторые из его наиболее воинственных руководителей периодически прибегали и к силовым методам, чтобы получить перевес в кампусе. Американский арабист Патрик Гаффни провел исследование «Джамаат аль-Исламии» в новом Университете Миньи в Верхнем Египте, где студенческая организация еще не сложилась и у небольшой исламской ячейки почти не имелось соперников. Исламисты начали с того, что объявили ряд участков исламскими – доску объявлений, часть столовой, тенистые уголки на газонах. К 1977 г., угрозами избавляясь от соперников, исламисты подчинили себе студенческий совет и построили мечеть на общей территории гуманитарного и педагогического факультетов, где собирались студенты между лекциями. Исламисты занимали места, раскладывали молитвенные коврики, усиливали молитву громкоговорителем, и в любое время дня здесь можно было увидеть бородатых молодых людей, изучающих Коран[754].
Это агрессивное посягательство на светское пространство можно считать грубой попыткой реконструировать ислам и внедрить его в вестернизированное общество. Исламисты Миньи отказывались принимать экспансионистскую западную цивилизацию и пытались перекроить окружающую действительность. Как и переодевание в исламскую одежду, превращение мирского пространства в мечеть представляло собой бунт против полностью секуляризованного образа жизни. Почти столетие египтяне, как и другие жители развивающихся стран, считались неспособными вершить историю и строить современное общество по своим правилам. Теперь же исламисты, пусть и по мелочи, добивались своего. Они протестовали против господства западного мировоззрения, выводя из-за кулис обратно на авансцену свое, самобытное. Как и защитники гражданских прав, этнических меньшинств, окружающей среды или прав женщин, мусульманские студенческие организации стремились отвоевать свою идентичность, ценности и понятия, которые, по их мнению, подавлялись индустриальным модернизмом, а также подчеркнуть способность местного и самобытного противостоять единообразию глобализма, насаждаемого Западом. Как и другие постмодернистские движения, джамаат служил символическим актом деколонизации, попыткой лишить Запад центральной роли в мире и продемонстрировать, что у человечества есть и другие альтернативы. По мере сближения Садата с Западом и примирения с Израилем (который исламисты считали ближневосточным альтер эго Америки) разрыв с властями стал почти неизбежным. Студенты в Минье впадали в ярость: громили церкви, нападали на студентов, отказывавшихся надевать исламскую одежду, а в феврале 1979 г. на неделю оккупировали здание муниципалитета. Когда полиция закрыла одну из их мечетей, студенты устроили общую пятничную молитву посреди улицы, перекрыв движение на важной транспортной трассе, на мосту. Затем они захватили блок студенческих общежитий, удерживая в заложниках 30 христианских студентов. Через два дня усмирять бунтовщиков прибыла тысячная армия[755].
До 1977 г. Садат поддерживал «Джамаат аль-Исламию», однако после событий в Минье его позиция изменилась. 14 апреля 1979-го он прибыл в Верхний Египет и выступил перед учащимися и преподавателями университетов Миньи и Асьюта с заявлением: правительство больше не намерено терпеть подобное злоупотребление религией. В июне был распущен Генеральный совет египетских студентов, а его активы заморожены. Однако джамааты слишком далеко зашли, чтобы отступать. В конце поста Рамадан участники движения провели массовые демонстрации в крупнейших городах Египта. В Каире 50 000 мусульман собрались на молитву перед президентским дворцом Абдин, тем самым напоминаая Садату, что тот должен править по закону Аллаха. С Персидского залива, чтобы выступить перед толпой, прилетел выдающийся участник движения «Братья-мусульмане» Юсуф аль-Кардави. Он напомнил Садату, который как раз уделял повышенное внимание сохранению мумии Рамзеса II, что «Египет – мусульманская страна, а не страна фараонов… Молодежь из «Джамаат аль-Исламии» – вот гордость Египта, а не аллея пирамид, не театральные постановки и не фильмы… Египет – это не обнаженные телеса, а женщины в чадре, подчиняющиеся предписаниям божественного закона. Египет – это молодые люди, отпускающие бороду… Это страна Аль-Азхара!»[756]
Репрессии и закручивание гаек вызвали обычную реакцию. Студенты-исламисты с удвоенной силой принялись превращать кампусы в бастионы ислама, участив нападения на театры, кинотеатры, христиан и женщин без чадры. Кроме того, они стали вести пропаганду за пределами университетов, вступив в открытую войну с властями и их секуляризованным этосом. Поскольку возродить организацию «джамаат» не позволяли, многие из участников вступили в свежеобразованные тайные ячейки, нацеленные на более насильственные формы джихада.
Все эти события разворачивались на фоне Иранской революции. Если Садат в своем стремлении сблизиться с Западом с гордостью называл шаха своим другом, то исламские боевики в Египте рукоплескали подвигам иранских революционеров, свергавших шаха. Иранская революция 1978–1979 гг. послужила переломным моментом. Она воодушевляла тысячи мусульман по всему миру, долгие годы опасавшихся за свою религию. Победа Хомейни доказывала, что ислам нельзя уничтожить, что он может выступить против могущественных секуляристских сил и победить. Однако на Западе Иранская революция породила у многих чувства ужаса и смятения. Казалось, что варварство одержало верх над Просвещением. Для многих убежденных секуляристов Хомейни и Иран будут олицетворять всю неправильность – и даже зло – религии, не в последнюю очередь потому, что революция обнажила всю ненависть, которую многие иранцы испытывали к Западу вообще и к Америке в особенности.
В начале 1970-х Иран переживал экономический подъем. Американские инвесторы и иранская верхушка получали огромные прибыли от новых коммерческих и промышленных предприятий, созданных Белой революцией. Американское посольство в Тегеране представляло собой вовсе не шпионский центр (вопреки утверждениям революционеров), а скорее брокерский, помогавший богатым американцам налаживать партнерские связи с богатыми иранцами[757]. Однако и здесь выигрывали от экономического бума лишь избранные. Государство разбогатело, народ обеднел. В высших слоях общества царило оголтелое потребительство, среди мелкой буржуазии и городской бедноты – лишения и моральное разложение. После роста цен на нефть в 1973–1974 гг. началась сильнейшая инфляция, вызванная отсутствием инвестиционных возможностей у всех, кроме самых зажиточных слоев. Миллион людей потеряли работу, многих мелких торговцев смел поток иностранных товаров, а к 1977-му инфляция начала сказываться и на богатых. В этой атмосфере недовольства и отчаяния начали действовать две крупные партизанские организации, убивая американских военных и советников. Американские специалисты в Иране вызывали сильную неприязнь, поскольку явно грели руки на растущей катастрофической неразберихе. Кроме того, власть шаха за эти годы стала беспрецедентно тиранической и автократичной[758].
Многие недовольные иранцы оглядывались на улемов, которые реагировали на кризис по-разному. В Куме старейший муджтахид аятолла Шариатмадари возражал против любого политического противостояния властям, хотя и желал бы восстановления конституции 1906 г. Аятолла Талегани, многократно побывавший за решеткой за требование строгого соблюдения конституции и протесты против произвола властей, выступал заодно с такими светскими реформаторами, как Мехди Базарган (1907–1995) и Абульхасан Банисадр (р. 1933), желавшими видеть Иран исламской республикой, но не под властью духовенства. Талегани не считал, что духовенство должно получить преимущество в правительстве, и совершенно не разделял мнения Хомейни о вилайат-и факих, государстве под управлением харизматичного законоведа[759]. Однако Хомейни по-прежнему оставался символом упорного и несгибаемого сопротивления режиму. В июне 1975 г. студенты медресе Файзия устроили демонстрацию в годовщину ареста Хомейни в 1963-м. Ворвавшаяся в здание полиция применила слезоточивый газ, один из студентов погиб, сброшенный с крыши штурмовиками. Правительство закрыло медресе, и его пустые безмолвные залы остались наглядным символом неприкрытой ненависти шаха к любому выражению протеста и свидетельством притеснения религии[760]. В народном сознании шах все сильнее ассоциировался с Язидом, врагом веры и убийцей мученика Хусейна, выступая противником Хомейни, которого народ теперь называл имамом.
Тем не менее в начале 1977 г. власти немного отпустили вожжи и, казалось, поддались народному давлению. Годом ранее президентом Соединенных Штатов был избран Джимми Картер, и, вероятнее всего, его кампания в защиту прав человека, а также разгромный отчет «Международной амнистии» о состоянии иранских судов и тюрем побудили шаха пойти на уступки. Существенных перемен было мало, но цензуру слегка смягчили, и на рынок выплеснулась волна литературы, отражавшей отчаяние, которое пропитало почти все слои общества. Студентов возмущало вмешательство властей в дела университетов, фермеры протестовали против ввоза сельскохозяйственной продукции, способствовавшего обнищанию сельских районов; коммерсантов волновали инфляция и коррупция; юристы выступали против решения сократить полномочия Верховного суда[761]. Однако призывы к революции пока не звучали. Большинство иранских улемов вслед за Шариатмадари придерживались традиционных квиетистских принципов. Самые горячие протесты против правительства в 1977 г. выражало не духовенство, а иранские писатели. С 10 по 19 октября в тегеранском Институте Гёте около 60 ведущих иранских поэтов и писателей выступили со своими произведениями перед тысячами взрослых иранцев и студентов. САВАК, несмотря на открытый протестный характер этих чтений, не вмешивалась[762]. Казалось, что правительство учится мириться с ненасильственными протестами.
Однако новая эра продлилась недолго. Вскоре после поэтических встреч шах явно почувствовал, что ситуация выходит из-под контроля. Был арестован ряд известных диссидентов, а 3 ноября 1977 г. сын Хомейни Мустафа погиб в Ираке при загадочных обстоятельствах, почти наверняка от рук агентов САВАК[763]. В который раз шах напрашивался на ассоциации с Язидом. Хомейни и так уже начинал походить на сокрытого имама в изгнании, а теперь и его сын, как и сын имама Хусейна, погиб по воле тирана. По всей стране люди сообща оплакивали Мустафу Хомейни, по традиции рыдая и ударяя себя в грудь. В Тегеране на скорбящих напала полиция; во время поэтических чтений в Тегеране 15, 16 и 25 ноября начались новые аресты и избиения. Однако о массовых волнениях речь еще не шла. От Хомейни, называвшего Мустафу «светом своих очей», не доносилось из Наджафа ни слова.
Тем временем 13 ноября 1977 г. шах вылетел в Соединенные Штаты на переговоры с президентом Картером. Ежедневно толпы иранских студентов, обучающихся в американских университетах, съезжались в Вашингтон и выкрикивали антишахские лозунги перед Белым домом. На торжественном обеде Картер произнес проникновенную речь о важности особых отношений между Ираном и Соединенными Штатами, называя Иран «островом стабильности в самом беспокойном регионе мира»[764]. 31 декабря Картер прервал путешествие в Индию ради краткосрочного визита в Тегеран, где снова выразил свое доверие иранским властям и продолжал высказываться в том же духе до самого конца пребывания. Визит пришелся на священный месяц Мухаррам, когда у всех в памяти наиболее живо воскресали кербельские события, но в том году к этим образам добавлялись и мысли о Хомейни: шах только что запретил традиционные, справляемые обычно на сороковой день после смерти поминки по Мустафе Хомейни. Картер, прибывший специально для того, чтобы публично одобрить правление шаха, угодил со своим визитом прямо в эту точку кипения и идеально вписался в роль «большого Сатаны».
То и дело звучавшие во время и после Иранской революции слова о сатанизме Штатов потрясли американцев. Даже тех, кто знал о негодовании, которое вызывали Штаты у многих иранцев после устроенного ЦРУ в 1953 г. переворота, возмутили сравнения с дьяволом. При всех просчетах американской политики она не заслуживала подобных проклятий. Запад укрепился во мнении, что иранские революционеры сплошь фанатики, не владеющие собой. Однако чаще всего Запад понимал образ «большого Сатаны» неправильно. В христианстве Сатана – абсолютное и окончательное зло, в исламе же эта фигура не отличается такой однозначностью. В Коране прослеживается намек на то, что в Судный день Сатана может быть прощен[765], – так велика вера мусульман во всепобеждающую милость Аллаха. Называя Америку «большим Сатаной», иранцы подразумевали не дьявольскую порочность Соединенных Штатов (в христианском понимании), а нечто более конкретное. В народном шиизме шайтан, искуситель, считается довольно корыстной натурой, хронически неспособной воспринимать духовные ценности незримого мира. В одном из сюжетов он жалуется Аллаху на привилегии, данные человеку, однако легко отступает, польстившись на менее ценные дары. Вместо пророков шайтан довольствуется прорицателями, его мечеть – это базар, он любит нежиться в общественных купальнях и стремится не к Господу, а к вину и женщинам[766]. По сути он неисправимо мелок, приземлен и, навсегда погрязнув во внешнем (захир) мире, не способен проникнуть в более глубинные и более важные слои бытия. Для многих иранцев Америка, большой шайтан, выступала «великим пошляком». Бары, казино, секуляристский этос зараженного Западом Северного Тегерана олицетворяли американский этос, который, казалось, намеренно отворачивался от сокрытой (батин) действительности, единственной реальности, наполняющей жизнь смыслом. Более того, Америка, этот шайтан, прельстив шаха мнимыми радостями секуляризма, заставила отвергнуть истинные исламские ценности[767].
Иранским шиизмом всегда руководили два стремления: к социальной справедливости и к незримому (аль-гайб). Если Запад столетиями тщательно культивировал рационалистический этос, полностью сосредоточенный на материальном мире, воспринимаемом органами чувств, то иранские шииты, как и другие премодернисты, взращивали ощущение сокрытого (батин) мира, пробуждаемое культом и мифом. Белая революция подарила иранцам электричество, телевидение и современный транспорт, однако, судя по религиозному подъему в стране, многих эти внешние (захери) достижения не удовлетворяли. Модернизация шла слишком стремительно и поэтому поверхностно. Многие иранцы изголодались по батину, чувствуя, что без него их жизнь лишена смысла и ценности. Как объясняет американский антрополог Уильям Биман, иранец, ощущающий себя погрязшим в материальном мире, словно утрачивает душу. Стремление к чистой внутренней жизни по-прежнему составляло величайшую ценность в иранском обществе – высочайшей похвалой было сказать человеку, что его батин (внутреннее) равен захиру (внешнему)[768]. Без этой тесной связи с духовным многие иранцы чувствовали себя потерянными. Во время Белой революции возникло убеждение, что зараженное Западом общество отравлено материализмом, потребительством, чуждыми способами проведения досуга и навязанными иноземными ценностями. А затем шах при горячей поддержке Соединенных Штатов, казалось, вознамерился уничтожить ислам, источник национальной духовности. Он отправил в изгнание Хомейни, закрыл медресе Файзия, оскорблял духовенство и урезал его доходы, из-за него гибли студенты-богословы.
Иранская революция имела не только политический характер. Разумеется, жестокость и автократия шаха вкупе с экономическим кризисом повлияли решающим образом, послужив основным поводом к волнениям. Многие светские иранцы, не испытывающие духовного голода, все равно примкнули бы к улемам, просто чтобы избавиться от шаха, и без их поддержки революция бы провалилась. Однако в то же время это был бунт против секуляристского этоса, вытесняющего религию и, по ощущению многих простых иранцев, навязанного народу против его воли. Особенно ярко это демонстрировал эпитет «большой Сатана» применительно к Соединенным Штатам. Ошибочно или нет, многие полагали, что без горячей поддержки Штатов шах не совершил бы многих поступков. Они знали, что американцы гордятся своим светским строем, принципиально отделяющим церковь от государства; им было известно, что многие на Западе считают необходимым и достойным сосредоточение исключительно на захире. Итог они видели – пустая, направленная на удовлетворение чувственных желаний ночная жизнь северного Тегерана. Иранцы понимали, что в Америке много верующих, но эта вера ничего не меняла. «Внутреннее» и «внешнее» Джимми Картера не были равны. Люди не понимали, как президент может поддерживать правителя, который к 1978 г. начал убивать собственных граждан. «Мы не ожидали, что Картер станет защищать шаха, ведь он верующий, призывающий бороться за права человека, – высказался аятолла Хусейн Монтазери в послереволюционном интервью. – Как может Картер, верный христианин, защищать шаха?»[769]
Прибыв к шаху с визитом поддержки в канун Нового года, в священный месяц Мухаррам, Картер при всем желании не смог бы выбрать лучшего места и времени, чтобы предстать злодеем. Весь следующий бурный год Соединенные Штаты выступали главной причиной духовных, экономических и политических проблем Ирана. Уличные граффити изображали Картера Язидом, а шаха – Шимром, полководцем, которого Язид отправил убить Хусейна и его крошечный отряд. В одной из серий уличных рисунков Хомейни выступал Моисеем, шах – фараоном, а Картер – идолом, которому поклонялся шах-фараон[770]. Америка, по общему мнению, испортила шаха, а Хомейни, все ярче озаряемый светом шиизма, выступил исламской альтернативой нечестивой диктатуре.
Под конец Мухаррама 1978-го шах снова выставил себя врагом шиизма. 8 января полуофициальная газета «Эттелаат» опубликовала клеветническую статью о Хомейни, называя его «авантюристом, неверующим и прихвостнем колонизаторов». Он вел распутную жизнь, уверяла статья, служил британским шпионом и даже сейчас получает деньги от британцев, мечтающих уничтожить достижения Белой революции[771]. Эти абсурдные оскорбления оказались для шаха роковыми. На следующий день 4000 студентов вышли на улицы Кума, требуя восстановления конституции 1906 г., свободы слова, амнистии политзаключенным, открытия медресе Файзия и разрешения Хомейни вернуться в Иран. Ответом стала кровь. Полиция открыла огонь по безоружным демонстрантам и, по подсчетам улемов, 70 человек были убиты (хотя официальные источники сообщали лишь о 10 погибших)[772]. Этот день стал самым кровавым для Ирана со времен волнений 1963 г., а для шаха он знаменовал начало конца. Уильям Биман отмечает, что иранцы могут мириться со многим, но один-единственный вероломный поступок способен нанести непоправимый удар по личным, деловым и политическим отношениям. Стоит перейти черту, и назад пути не будет[773]. В глазах миллионов простых верующих иранцев шах пересек эту черту, приказав САВАК расстрелять демонстрантов в Куме. Народная ярость вышла из берегов, и революция началась.
В предшествующие месяцы оппозицию шахскому режиму возглавляли интеллектуалы, писатели, юристы и коммерсанты. В январе же, после неприкрытой атаки на шиизм, руководство перешло к улемам. Потрясение от расстрела было настолько велико, что даже аятолла Шариатмадари изменил своему привычному квиетизму и обличил действия властей в самых крепких выражениях. Это послужило сигналом для остальных улемов по всей стране. Ничто заранее не готовилось и не планировалось, никаких стратегических указов от Хомейни из Наджафа не поступало, однако после появления статьи в «Эттелаат» Хомейни моментально превратился в незримого вдохновителя и инициатора восстания. Ядром борьбы стали традиционные траурные церемонии, проводящиеся на сороковой день после смерти. Они превратились в антиправительственные демонстрации, во время которых появлялись новые жертвы, и 40 дней спустя в память погибших народ выходил на улицы снова. Революция набирала ход. Сорокадневный перерыв между выступлениями давал руководителям возможность распространить информацию, и толпа собиралась точно в назначенное время, поэтому необходимости в тщательном планировании и агитации не было.
Таким образом, 18 февраля, на сороковой день после расстрела в Куме, толпы скорбящих под предводительством улемов и bazaari вышли на улицы крупнейших иранских городов оплакивать погибших. В первых рядах многих процессий шагали студентки (в том числе в чадре, в знак противостояния режиму) и женщины-bazaari в парандже, будто проверяя, осмелится ли полиция стрелять в них. Полиция осмелилась, появились новые жертвы. Особенно жесткой конфронтация оказалась в Тебризе, где погибло около сотни скорбящих и шесть сотен было арестовано. Молодежь, вырываясь из рядов, громила кинотеатры, банки и винные лавки (символы «большого Сатаны»), однако людей не трогала[774]. Сорок дней спустя, 30 марта, скорбящие снова вышли на улицы, на этот раз – оплакивать погибших в Тебризе. В этом случае около сотни демонстрантов было расстреляно в Язде, на выходе из мечетей. 8 мая состоялись новые траурные церемонии в память жертв Язда[775]. Тюрьмы были переполнены политзаключенными, количество погибших свидетельствовало о неприкрытой агрессии властей, ополчившихся на собственный народ.
На улицах разыгрывалась величайшая мистерия. Демонстранты несли плакаты, на которых было написано «Каждый день – Ашура, вся земля – Кербела»[776]. Слово «шахид», мученик, как и слово martyr (мученик) в христианстве, означает «свидетель». Погибшие демонстранты выступали свидетелями исполнения долга борьбы с тиранией, как боролся имам Хусейн, и защиты ценностей незримого духовного мира, которые режим вознамерился уничтожить. В революции видели преобразующее и очищающее начало, люди верили, что отмывают общество и самих себя от разъедающей гнили и что в борьбе возвращаются к самим себе. Эта революция была не из тех, что просто используют религию в политических целях. Шиитская мифология задавала смысл и направление борьбы, особенно в сознании бедных и необразованных, которых секуляристская идеология оставила бы равнодушными[777].
В июне – июле шах пошел на уступки, пообещав свободу выборов и восстановление многопартийной системы. Накал выступлений снизился. Воцарилось относительное затишье, и получившие западное образование секуляристы и интеллектуалы, которые до того не принимали участия в траурных процессиях, но поддерживали демонстрантов устными выступлениями против режима, решили, что сражение выиграно. Однако 19 августа, в 25-ю годовщину реставрации монархии Пехлеви в 1953 г., при пожаре в кинотеатре «Рекс» в Абадане погибли 400 человек. В умышленном поджоге немедленно обвинили САВАК, и на похороны вышли 10 000 скорбящих, скандируя: «Смерть шаху! В огонь его!»[778] Иранские студенты провели массовые демонстрации против шахского режима в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Гааге. Шах снова пошел на уступки: стали свободнее дебаты в меджлисе, разрешены были организованные демонстрации, закрыт ряд казино и восстановлен исламский календарь[779].
Но было уже поздно. В последнюю неделю Рамадана, когда мусульмане обычно устраивают ночные молитвенные бдения в мечетях, в 14 иранских городах прошли демонстрации, в которых погибли от 50 до 100 человек. 4 сентября, в последний день Рамадана, в Тегеране состоялась массовая мирная демонстрация. Толпа молящихся била земные поклоны на улице и раздавала цветы войскам. Впервые армия и полиция не стали открывать огонь, и впервые за все время к участию в революции начал присоединяться средний класс, что было существенным шагом вперед. Небольшая группа демонстрантов промаршировала по улицам жилых районов, скандируя «Независимость!», «Свобода!» и «Исламское правительство!». 7 сентября состоялось огромное парадное шествие из северного Тегерана к зданию парламента с большими портретами Хомейни и Шариати, демонстранты призывали к свержению власти Пехлеви и установлению исламского правления[780]. Светские мыслители – в частности, Шариати, Базарган и Банисадр – подготовили получившую западное образование элиту к возможности установления современной исламской власти. Несмотря на разницу взглядов с Хомейни, либералы из среднего класса понимали, что за ним стоит народ и такой поддержки им никогда не добиться, поэтому они готовы были объединить с ним силы, чтобы избавиться от шаха. Светская власть принесла Ирану одни беды, и либералы не возражали против того, чтобы испробовать другой путь.
Когда от шаха отвернулся и средний класс, правитель, должно быть, понял, что все кончено. В шесть часов утра пятницы 8 сентября в Иране было объявлено военное положение, предусматривающее запрет на все массовые демонстрации. Однако 20 000 демонстрантов, которые уже начали собираться на площади Джалех на очередное мирное шествие, об этом не подозревали. Услышав отказ расходиться, солдаты открыли огонь и расстреляли около 900 человек. Разъяренная толпа понеслась по улицам, возводя баррикады и поджигая дома; солдаты стреляли вслед из танковых орудий[781]. В восемь утра воскресенья 10 сентября президент Картер позвонил шаху из Кэмп-Дэвида с заверениями в поддержке; несколько часов спустя Белый дом подтвердил факт данного телефонного разговора, наличие особых отношений между Соединенными Штатами и Ираном и сообщил, что, сожалея о гибели людей на площади Джалех, президент надеется на продолжение политической либерализации, начатой шахом[782].
Однако после расстрела на площади Джалех даже поддержка «большого Сатаны» не могла спасти шаха. Забастовали рабочие нефтяной отрасли, и к концу октября производство упало на 28 %. Партизанские отряды, притихшие за последние годы, снова начали нападать на военных руководителей и министров. 4 ноября студенты снесли статую шаха у ворот Тегеранского университета, 5 ноября закрылся базар, и студенты принялись штурмовать британское посольство, офисы различных американских авиалиний, кинотеатры и винные лавки[783]. На этот раз армия не вмешивалась.
К этому времени иракское правительство, реагируя на давление Тегерана, выслало Хомейни из Наджафа, и ему пришлось перебраться в Париж. Там его посетила делегация участников недавно возрожденного Национального фронта, выступившего с заявлением о том, что вместе с Хомейни фронт намерен восстановить конституцию 1906 г. 2 декабря, в преддверии Мухаррама, Хомейни издал указ, гласивший: вместо обычных мистерий, роузе и шествий в память мученической гибели Хусейна народ должен выйти на антиправительственные демонстрации. Религиозные церемонии достигли высшей точки накала радикализма. В первые три ночи Мухаррама мужчины, облачившись в белые одежды, символизирующие готовность к жертвенной смерти, бежали по улицам, нарушая комендантский час. Кто-то выкрикивал антишахские лозунги с крыш через громкоговорители. По данным Би-би-си, только в эти три дня полицией и войсками было убито 700 человек[784]. 8 декабря шеститысячная толпа, скандирующая «Смерть шаху!», собралась на кладбище Бехеште-Захра в южной части Тегерана, где были похоронены многие жертвы революции. В Исфахане 20 000 человек прошли маршем по улицам, а затем принялись громить банки, кинотеатры и многоквартирный дом, населенный американскими специалистами. 9 декабря, в канун Ашуры, аятолла Талегани, только что вышедший из тюрьмы, возглавил внушительную мирную демонстрацию, которая кружила по улицам Тегерана шесть часов. От 300 000 до 1,5 млн человек молча шагали, выстроившись по четыре в ряд. Другие мирные демонстрации прошли в Тебризе, Куме, Исфахане и Мешхеде[785].
В сам день Ашура в Тегеране состоялся еще более масштабный марш – он продолжался восемь часов, участие в нем приняли почти 2 млн человек. Демонстранты несли зеленые, красные и белые флаги (символизирующие соответственно ислам, жертвы и шиизм), перемежавшиеся транспарантами с надписями «Смерь иранскому диктатору!» и «Долой власть янки в Иране!». Крепла уверенность в том, что, сплотившись как никогда прежде, иранский народ действительно сможет свергнуть правление Пехлеви[786]. Многим в тот день Ашура казалось, что сам имам Хусейн ведет их в бой, а Хомейни руководит издалека, будто сокрытый имам[787]. По итогам шествия была принята резолюция: пригласить Хомейни стать новым правителем Ирана, а иранцам не размыкать ряды, пока шах не будет свергнут[788].
Три дня спустя армия попыталась организовать демонстрации в поддержку шаха, и столкновения между революционерами и войсками стали более ожесточенными. Шах предпринял последнюю попытку примирения, поручив известному либералу Шахпуру Бахтияру формировать конституционное правительство. Кроме того, шах пообещал распустить САВАК, освободить политзаключенных и пойти на фундаментальные изменения в экономической и внешней политике. Однако со своими уступками он опоздал на год – люди уже достаточно наслушались вынужденных обещаний и не верили словам шаха. Хомейни объявил 30 декабря (первую годовщину кумского расстрела по исламскому календарю) днем траура. Портреты новых жертв, появившихся в Мешхеде, Тегеране и Казвине, выставляли рядом с портретами Хомейни. 23 декабря солдаты разорвали портреты Хомейни в Мешхеде, в результате завязалась потасовка, закончившаяся гибелью 12 человек. На месте столкновения тут же собралась толпа и двинулась на солдат, во главе шли молодые люди, готовые пожертвовать жизнью. Армия начала отступать, солдаты выстрелами в землю держали толпу на расстоянии. На следующий день десятки тысяч снова вышли на улицы, протестуя против недавних расстрелов[789].
К середине января все было кончено. Премьер-министр Бахтияр уговорил шаха покинуть страну, хотя, чтобы сохранить лицо, отсутствие было объявлено временным. Шах с семьей вылетел в Египет, где их принял Садат. Бахтияр попытался остановить революцию: издал указ об амнистии политзаключенным, распустил САВАК, отказался поставлять нефть в Израиль и ЮАР, пообещал пересмотреть все иностранные контракты и значительно урезать военные расходы. И снова оказалось слишком поздно. Народ требовал возвращения того, кого он называл своим имамом, и 1 февраля 1979 г. Бахтияр был вынужден разрешить Хомейни вернуться.
Прибытие Хомейни в Тегеран можно поставить в один ряд с такими знаковыми событиями, как взятие Бастилии, – событиями, меняющими мир навсегда. Для убежденных либеральных секуляристов в Иране и за его пределами это был черный день, торжество мракобесия над разумом. Но для многих мусульман, как суннитов, так и шиитов, которые так долго боялись, что ислам будет стерт с лица земли, это виделось блестящей победой. Кому-то из иранских шиитов возвращение Хомейни казалось чудом, неизбежно ассоциирующимся с мифическим возвращением сокрытого имама. Едущего по улицам Тегерана Хомейни толпа приветствовала возгласами «имам Хомейни», уверенная, что наступает эпоха справедливости. Старейших муджтахидов, в частности аятоллу Шариатмадари, подобное славословие возмутило, и народу было твердо и официально заявлено, что Хомейни не является сокрытым имамом. Однако для миллионов простых иранцев, несмотря на все официальные заявления, Хомейни оставался имамом до самой смерти. Его жизненный путь, казалось, убедительно свидетельствует о том, что божественное живет в настоящем и творит историю. Как и сама революция, Хомейни стал живым воплощением древнего мифа.
Незадолго до возвращения Хомейни Таха Хеджази опубликовал стихотворение «В день возвращения имама», в котором отразилось страстное предвкушение многих иранцев: в этот день наступит всеобщее братство. Исчезнет ложь, отпадет нужда запирать двери на замок от воров, все будут делиться друг с другом едой:
«Имам должен вернуться… Чтобы правда воцарилась на троне, Чтобы зло, предательство и ненависть Исчезли с лица земли. Когда имам вернется, Иран – наша сломленная, истерзанная родина – Станет свободной навсегда. Падут оковы тирании и невежества, Лопнут цепи грабежей, пыток и тюрем»[790].Хомейни любил цитировать хадис, в котором пророк Мухаммед, возвращаясь с битвы, провозглашает, что вернулся с малого к большому джихаду. Более тяжелой, значимой и суровой была не физическая, не политическая борьба, а обретение себя и насаждение принципов справедливости и истинных исламских ценностей в обществе. Вернувшись в Тегеран, Хомейни наверняка сознавал, что «малый джихад» завершен и впереди неизмеримо более напряженный «большой джихад».
Фундаменталистское возрождение в Соединенных Штатах конца 1970-х отличалось гораздо меньшей драматичностью. У американских протестантов не было необходимости предпринимать столь крайние меры. Их, в отличие от евреев, не преследовали воспоминания о холокосте и геноциде; жертвами политического или экономического гнета, в отличие от мусульман, они тоже не были. Они чувствовали себя чужими в светской культуре модерна, однако по крайней мере их руководители наслаждались достатком и успехом. Впоследствии это и обернется одной из их проблем. Несмотря на стойкое ощущение своей непризнанности, протестантским фундаменталистам жилось в Америке достаточно вольготно. Демократия в Штатах укоренилась прочно, и фундаменталисты могли выражать свои взгляды свободно, не боясь репрессий, а также вести работу в нужном им направлении с помощью демократических институтов. Тем не менее к концу 1970-х, как мы уже видели, фундаменталисты почувствовали, что курс на размежевание с обществом, которого они придерживались уже около 50 лет, пора сменить на политическую активность. Они полагали, что смогут настоять на своем и вернуть Америку на путь истинный. Не вызывало сомнений, что по таким вопросам, как семейные ценности, аборты и религиозное образование, удастся создать большой резонанс среди избирателей-евангелистов. Прежние страхи никуда не делись, однако выросла и уверенность в своих силах.
Символом этого ревайвалистского фундаментализма стало «Моральное большинство», созданное в 1979 г. под руководством Джерри Фолуэлла. Инициатива создания, однако, исходила не от самих фундаменталистов, а от трех профессиональных организаторов правого толка, которые уже сформировали ряд комитетов политического действия. Ричард Вигери, Говард Филлипс и Пол Вайрих разочаровались в Республиканской партии и в Рональде Рейгане, который вступил в предвыборную борьбу в связке с Ричардом Швайкером в качестве вице-президента. Придерживаясь консервативных взглядов в таких областях, как оборона и сокращение государственного вмешательства в экономику, эти трое хотели создать новое консервативное большинство, противостоящее моральному и социальному либерализму, пропитавшему общественную и частную жизнь Америки в 1960-х. Уловив растущую силу протестантских евангелистов и фундаменталистов, они сочли Джерри Фолуэлла идеальным исполнителем своего замысла. За ним уже стояла готовая толпа избирателей, состоящая из прихожан его церкви, учащихся Либерти-колледжа и телевизионной аудитории[791]. Другие фундаменталисты, вставшие во главе «Морального большинства» (в частности, Тим Ла-Хэй и Грег Диксон), тоже успели основать суперцеркви, обладали существенной независимостью и не боялись осуждения со стороны деноминации. Кроме того, они были тесно связаны между собой: почти все принадлежали к баптистской конфессии и входили в Баптистский библейский союз.
«Моральное большинство» не ограничивалось участием только фундаменталистов. Руководители стремились привлекать и других людей со сходными взглядами на этические и политические проблемы, создать площадку для всех американских консерваторов. Чтобы добиться весомого влияния, новое движение должно было заручиться поддержкой единомышленников из числа католиков, пятидесятников, мормонов, иудеев и секуляристов, поскольку протестанты-евангелисты составляли лишь от 15 до 20 % населения США[792]. Впервые прагматические соображения заставили фундаменталистов забыть о сепаратизме, покинуть свои анклавы и приобщиться к современному плюрализму. Это отразилось и на руководстве. Фолуэлл, Ла-Хэй, Диксон и Боб Биллингтон принадлежали к фундаменталистам, но Пол Вайрих был иудеем, а Говард Филлипс и Ричард Вигери – католиками. Этот плюрализм стоил им поддержки некоторых христианских фундаменталистов: например, Боб Джонс II назвал Фолуэлла «самым опасным человеком Америки»[793]. Однако на самом деле народная поддержка «Морального большинства» оставалась преимущественно протестантской, с центром на Юге. За пределами круга белых англосаксонских протестантов движение находило мало сторонников. Консервативные католики разделяли позиции «Морального большинства» относительно абортов, прав гомосексуалистов и освобождения независимых школ от налогов, однако многие не могли забыть традиционную ненависть фундаменталистов к католикам. Иудеев, чернокожих баптистов и пятидесятников тоже отталкивали расистские наклонности самых известных руководителей и сторонников движения. Сенатор Джесси Хелмс, например, был убежденным противником борьбы за гражданские права[794].
Идея «Морального большинства» была не нова. Движение объявляло войну либеральному обществу и сражалось за будущее Америки. Участники были убеждены в том, что цивилизация Соединенных Штатов должна быть религиозной, а ее политика – определяться Библией. В настоящее время Америка деградировала. После Второй мировой войны в политической и культурной жизни страны главенствовала секуляристская верхушка, сосредоточенная на Восточном побережье. Этих либералов Джерри Фолуэлл окрестил «аморальным меньшинством». Консерваторы не должны были ощущать себя реакционной, маргинальной группой. Наоборот, они представляли большинство, и их долг состоял в том, чтобы бороться за традиционные ценности. «Нас – миллионы, а их – всего лишь горстка», – заявлял Тим Ла-Хэй[795]. «Вместе с протестантами и католиками нам хватит голосов, чтобы совершить прорыв в этой стране, – уверял слушателей Пэт Робертсон. – И когда народ скажет: „Довольно!“, мы возьмем власть»[796].
В конце 1970-х – начале 1980-х у некоторых фундаменталистов вновь наметился давний премилленаристский пессимизм. Мир обречен, но долг христиан – обратить его в свою веру, распространять Слово Божье и стараться донести его до максимального количества людей. Если христиане возьмутся за дело, Америка сумеет спастись до Вознесения. «Есть ли надежда у нашей страны? – вопрошал Фолуэлл в 1980 г. в своем „Евангельском часе доброго старого времени“. – Думаю, что да. Пока мы верим в Бога и молимся, пока мы, христиане, боремся за запрет абортов, которые суть не что иное, как убийство по первому требованию, пока мы выступаем против порнографии, против наркоторговли, пока мы стоим на страже традиционной семьи Америки, порицая пропаганду гомосексуальных браков, пока мы поддерживаем крепкую государственную оборону, чтобы наша страна не погибла и наши дети увидели Америку такой, какой знали ее мы… Я думаю, можно надеяться, что Господь дарует Америке свою милость еще раз»[797].
Фундаменталисты движения, которое вскоре станет известно как Новое правохристианское, после 50 лет квиетизма двинулись в атаку, однако они слишком многое отвергали и слишком мало защищали. Не все поддерживали или хотя бы одобряли «Моральное большинство», однако эта новая когорта воинствующих христиан тоже выступала против абортов, против прав гомосексуалистов и против наркотиков. Они решительно противились любой разрядке в отношениях с Советским Союзом, который всегда считали царством Сатаны. Согласно телеевангелисту Джеймсу Робисону, «любое учение о мире до пришествия [Христа] – ересь… Это противоречит Слову Божьему, это исходит от Антихриста»[798]. И «Моральное большинство», и Новые правые христиане были теми несогласными, которые вели крестовый поход против полчищ зла, грозящих поглотить Америку.
В свете предстоящих событий акцент на половом вопросе имел немаловажное значение. Новых правых христиан положение женщин беспокоило в той же степени, что и исламистов, однако им, по сравнению с мусульманами, было страшнее. Движение за свободу женщин повергало в ужас фундаменталистов обоих полов. Филлис Шлафли, одна из католических руководительниц «Морального большинства», считала феминизм «болезнью» и корнем всех мировых зол. С тех самых пор, как Ева, ослушавшись Господа, захотела свободы, феминизм нес миру грех, а с ним «страх, болезни, боль, гнев, ненависть, опасность, насилие и всевозможные уродства»[799]. Предлагаемая Поправка о равноправии женщин – это уловка правительства, направленная на то, чтобы повысить налоги, создать дошкольные учреждения по типу советских и «подчинить государству все оставшиеся сферы нашей жизни»[800]. Беверли Ла-Хэй называла феминизм «больше чем болезнью», а именно – основанной на марксистских и гуманистических учениях «философией смерти… Радикальные феминисты рубят сук, на котором сидят, и собираются увлечь за собой в пропасть всю цивилизацию». Долг христианок – всеми силами возвращать своим мужьям главенствующую роль и перевоспитываться самим в духе женского самопожертвования. Их долг – «спасти общество», выводя «цивилизацию и человечество в XXI в.»[801]. Прибавление феминизма к остальным проявлениям зла, уже давно не дававшим покоя фундаменталистскому воображению, свидетельствует о конспирологических страхах. Сохранением традиционного положения женщины в обществе определялось для фундаменталистов единство этого общества и даже его жизнеспособность.
Протестантские фундаменталисты и консерваторы-христиане в большинстве деноминаций словно потеряли мужество под натиском черных сил светского гуманизма, настолько их вдруг стала заботить проблема мужского бессилия. Современные мужчины «уже не такие богатыри, как раньше», сокрушались Тим и Беверли Ла-Хэй в своем бестселлере «Супружеский акт: Красота сексуальных отношений» (The Act of Marriage: The Beauty of Sexual Love, 1976). Мужчины страдают импотенцией и сексуальными расстройствами, не уверены в том, что полностью удовлетворяют свою жену, и боятся проиграть в сравнении с другими мужчинами[802]. Причина – женское самоутверждение, которое не обошло даже фундаменталисток. В итоге мужчины «феминизируются» или даже оказываются «кастрированными»[803]. Тот же страх подогревал ненависть фундаменталистов к гомосексуализму, который, как и феминизм, они считали эпидемией, губящей здоровье страны[804]. «Это извращение высшего порядка, – гремел Джеймс Робисон, известный яростными нападками на гомосексуализм в своих телетрансляциях. – Это богопротивно, против Божьего Слова, против общества и против природы. Это настолько мерзко, что не поддается воображению и описанию словами»[805]. Фундаменталисты почти единодушно отождествляли гомосексуализм с мужеложеством. Кроме того, по их убеждению, к гомосексуализму приводил крах семьи, павшей жертвой «светского гуманизма»[806]. Фундаменталисты, писавшие о семейных ценностях, сходились во мнении, что Америке необходимы настоящие мужчины. Что интересно, часть фундаменталистов перестала опасаться феминизирующих тенденций в самом христианстве, где преобладали «женские» ценности – умение прощать, милосердие и чуткость. Но Иисус не был хлюпиком, говорил Эдвин Луис Коул, он был «бесстрашным вождем, побеждающим Сатану, изгоняющим демонов, повелевающим природой и карающим лицемеров»[807]. Он мог быть безжалостным, а значит, не должны бояться агрессии и христиане, утверждал Тим Ла-Хэй в «Битве за семью» (Battle for the Family). Они должны проявить политическую активность[808]. Стремлением сделать христианство воинственным, мужественным объясняется и враждебный настрой «Морального большинства» по отношению к попыткам законодательно ограничить ношение и хранение огнестрельного оружия. Это тоже входило в их кампанию по возрождению мужества, стойкости, умения сражаться и постоять за себя.
Активность Новых правых христиан отчасти была продиктована глубинным страхом. Фундаменталисты чувствовали себя словно оскопленными, а свои силы – основательно подорванными. Их идеология не изменилась, однако теперь они решительно намеревались настроить на политическую активность свою паству, которой годами внушалась необходимость держаться в стороне от господствующих в обществе институций. «Моральное большинство» начало действовать в том же направлении, что и другие политические силы. Основная работа заключалась в отслеживании участия паствы в голосовании, научении ее правильно распоряжаться своим голосом и обеспечении явки. Организация проводила собрания, разъясняя необходимость активных действий, обучая лоббированию и подготовке информационных бюллетеней, а также влиянию на прессу. Христиан призывали занимать государственные должности, пусть даже самые скромные, местного значения. Либералы и секуляристы постепенно начинали ощущать настойчивое проникновение «переживших второе рождение» в общественную жизнь. Следующее десятилетие воинственные христиане посвятили колонизации основных общественных институтов. В 1986 г. Пэт Робертсон даже баллотировался в президенты. Для части политиков христиане явились досадной помехой. Комитеты поддержки годами боролись с кандидатами, которые, по их мнению, вели неправильную политику, что было видно из «отчетов», делавших идеи кандидатов достоянием общественности. И теперь христианские активисты принялись выводить из игры тех, кто мог «неправильно» проголосовать по законопроектам об оружии, финансировании абортных клиник и поправке о равноправии женщин. Иметь неверные взгляды на оборону, школьные молитвы и права гомосексуалистов означало идти против семьи, против Америки и против Бога.
Поначалу фундаменталистские активисты обнаруживали свою некомпетентность, но постепенно научились разбираться в правилах современных политических игр. Проповедники и телеведущие, они не были прирожденными политиками, однако удачно продвигались на этом поприще. Самым большим их достижением можно, пожалуй, назвать успешную попытку воспрепятствовать принятию поправки о равноправии женщин. Чтобы обеспечить необходимые две трети голосов, поправку должны были одобрить 38 штатов, и к 1973 г. за поправку проголосовало уже 30[809]. Однако усилиями Филлис Шлафли и правохристианских активистов на местах процедуру одобрения удалось притормозить: Небраска, Теннесси, Кентукки, Индиана и Южная Дакота отозвали свои голоса. Больше никаких изменений в федеральном и штатном законодательстве «Моральному большинству» добиться не удалось, даже по таким вопросам, как аборты и школьные молитвы. Однако в Арканзасе и Луизиане вышли законопроекты, предписывающие отводить в школьной программе одинаковое количество часов под изучение дарвиновской теории эволюции и буквального толкования Книги Бытия. Тем не менее очевидные неудачи христианских активистов не беспокоили, поскольку они ставили себе более масштабную задачу: обеспечить ультраконсервативное большинство в обеих палатах конгресса. Как только это случится, желаемые реформы пойдут как по маслу.
На момент написания этой книги, через 20 лет после того, как «Моральное большинство» взяло курс на политическую активность, оценить его долгосрочные успехи еще сложно. Есть данные, что больше убежденных христиан, чем прежде, стали принимать участие в голосовании, особенно на Юге, однако подобные обличительные кампании могут дать и обратный результат. Не исключено, что поражение сочувствующей правым христианам Линды Чавес на промежуточных выборах в конгресс от штата Мэриленд в 1986 г. объясняется тем, что она назвала свою соперницу-либералку коммунисткой и лесбиянкой-детоубийцей[810]. Попытки фундаменталистов и других консерваторов добиться импичмента президента Билла Клинтона в 1998–1999 гг. за сексуальную связь с Моникой Левински и последующее лжесвидетельство тоже дали обратный эффект. Видеть президента, вынужденного отвечать на интимные вопросы о своем сексуальном поведении, и наблюдать неизбежное опошление политики оказалось настолько невыносимо, что либералы были вынуждены вступиться за Клинтона.
Тем не менее слезное покаяние президента в своем грехе, сделанное перед религиозными лидерами Соединенных Штатов в самый разгар скандала, свидетельствовало о том, что политики больше не осмеливаются с секуляристским презрением отмахиваться от консервативных взглядов верующих. К концу XX в. религия в Северной Америке стала силой, которую нельзя сбросить со счетов. Много воды утекло с тех пор, как отцы-основатели продвигали идеи светского гуманизма эпохи Просвещения. Со времен революции американские протестанты использовали религию как орудие борьбы с политикой и поведением либерального большинства; фундаменталистские кампании конца XX столетия, возглавляемые Джерри Фолуэллом, Пэтом Робертсоном и другими участниками правохристианского движения, стали просто очередным проявлением той же тенденции. В результате всех этих усилий религия играет гораздо более весомую роль в политической жизни Соединенных Штатов, чем, скажем, в Британии и Франции, где проявление пылкой и эмоциональной религиозности станет для политика погибелью.
Если отвлечься от политики в масштабах всего государства, то нужно признать, что самые главные победы правых христиан 1970–1980-х гг. были одержаны на местном уровне. Так, в 1974-м Элис Мур, жена фундаменталистского священника из округа Канауха, Западная Виргиния, возглавила кампанию против «светско-гуманистического уклона» в школьных учебниках, объявляющих Библию мифом, подрывающих ее авторитет и представляющих христианство лицемерием, а атеизм – светом разума. Христиане забирали своих детей из школ и устраивали пикеты. Мур следовала давней для американских протестантов традиции недоверия специалистам. Кто должен управлять школами округа Канауха – «местные жители или специалисты в области образования, управленцы, чужаки, которые будут указывать нам, что лучше для наших детей?»[811]. В январе 1982 г. христиане из Сент-Дэвида, Аризона, добились изъятия из программ и библиотек местных школ произведений Уильяма Голдинга, Джона Стейнбека, Джозефа Конрада и Марка Твена. В 1981-м Мел и Норма Гэблер начали похожую кампанию «за возвращение Господа в школы» Техаса. Они протестовали против «либерального уклона», заключавшегося в «открытых вопросах, требующих от учащихся собственных выводов; рассказах о других религиях помимо христианства; утверждениях, которые могут быть истолкованы как отрицательная оценка свободы предпринимательства; утверждениях, которые могут быть истолкованы как освещающие положительные аспекты социалистического или коммунистического строя (например, «Советский Союз – крупнейший производитель определенных сельскохозяйственных культур»); любых аспектах сексуального просвещения, кроме пропаганды воздержания; утверждениях, подчеркивающих вклад чернокожих, коренного индейского населения, мексиканских иммигрантов или феминистов; сочувственных отзывах об американских рабах или неприязненных отзывах об их хозяевах; утверждениях, поддерживающих эволюционную теорию, если равное внимание не уделяется креационистской версии»[812]. Суд отклонил ходатайство Гэблеров, однако издатели настолько испугались потери большого техасского рынка (Техас выбирает и заказывает одинаковые учебники для всех своих школ), что внесли поправки в учебники сами.
Эти кампании обнажили все страхи и тревоги, которые давно внушала фундаменталистам современная культура: страх колонизации, страх перед экспертами, страх неопределенности, боязнь иностранного влияния, а также в отношении науки и секса. Кроме того, они обозначили ориентированность Новых правых христиан прежде всего на белых англосаксонских протестантов. Америка должна быть белой и протестантской. Как и иудейские и мусульманские активисты, христиане «Морального большинства» боролись за расширение сферы священного, за ограничение секуляристского этоса и за восстановление религии в правах. Несмотря на кажущуюся незначительность своих побед, правые христиане научились не теряться на политической арене, вернули себе политические права и до определенной степени клерикализировали американскую политику, не переставая тем самым удивлять более светские страны Европы.
Либеральная организация «Народ за американский путь» (People for the American Way), противостоявшая Гэблерам в техасской кампании, подсчитала, что консерваторам удалось одержать верх лишь в 34 из 124 подобных конфликтов. Либералы начали создавать собственные организации и контратаковать. Поэтому дело двигалось медленно, к беспокойству фундаменталистов, убежденных, что время поджимает, Вознесение грядет, а всемогущий Господь активно участвует в развитии истории, поддерживая праведных своими силами. Некоторые фундаменталисты начали подозревать своих руководителей в измене. Например, в 1982 г., вместо того чтобы бороться за абсолютное запрещение абортов, Фолуэлл ограничился более прагматичной задачей – сделать процедуру менее доступной. Во время президентской предвыборной кампании Пэт Робертсон высказывался о доминирующих деноминациях сдержанно, но вежливо, хотя фундаменталистская ортодоксия предписывает клеймить отступнические церкви при каждом удобном случае.
Ранние годы протестантского возрождения научили Фолуэлла и Робертсона: современная политика требует компромиссов. Непримиримость неминуемо проиграет в демократической среде, где борьба за власть предполагает умение договариваться и идти на уступки противнику. Это плохо совмещается с религиозной бескомпромиссностью, считающей определенные принципы незыблемыми, а значит, не подлежащими обсуждению. Для светской политики, на поле которой вынуждены, хотят они того или нет, состязаться фундаменталисты, подобных святынь не существует. Чтобы добиться хоть какого-то успеха, Фолуэллу и Робертсону пришлось уступить сатанинскому, в их понимании, противнику. Дело принимало напряженный оборот: вступив на современную политическую арену, фундаменталисты обнаружили, что они не просто связались с дьяволом, но и запятнали себя участием в тех же кознях, с которыми собирались бороться. И это была не единственная трудность. В последние два десятилетия века некоторые пути, избранные фундаменталистами для достижениях их целей, вели к поражению религии как таковой.
10. Поражение? (1979–1999)
Фундаменталистская реконкиста показала, что религию рано сбрасывать со счетов. Уже не имеет смысла удивляться, как удивлялся представитель американского правительства, возмущенно вопрошавший после Иранской революции: «Кто вообще принимал религию всерьез?»[813]. Фундаменталисты вывели религию из тени и продемонстрировали, что она может привлечь на свою сторону огромное количество людей в обществе модерна. Секуляристов пробирала дрожь при известии об этих победах: религия перестала быть смирной, чинной верой, частным делом человека, как это было в эпоху Просвещения. Она, казалось, отрицала священные для модерна ценности. Религиозное наступление конца 1970-х обнажило поляризацию общества; к концу XX столетия стало ясно, что пропасть между верующими и секуляристами еще шире. Они не понимают языка друг друга и не способны разделять какую-либо иную точку зрения с людьми другого мировоззренияа. С сугубо рациональной позиции фундаментализм был катастрофой, однако учитывая, что он бунтовал против незаконного (в представлении фундаменталистов) засилья научного рационализма, ничего удивительного в этом нет. Как оценить эти религиозные фундаменталистские движения? Что они говорят нам о переменах, с которыми сталкивается религия в эпоху модерна и постмодерна? Означают ли фундаменталистские победы, по сути, поражение религии и можно ли говорить об ослаблении фундаменталистской угрозы?
Исламская революция в Иране особенно обеспокоила тех, кто по-прежнему придерживался принципов Просвещения: революции должны иметь исключительно светский характер. Считалось, что они возникают тогда, когда мирское, выйдя на новый уровень, готово заявить о своем отмежевании от мифологического и религиозного. Как объясняла Ханна Арендт в своей знаменитой монографии «О революции» (1963): «Не исключено, если в итоге окажется, что называемое нами „революцией“ в конечном счете обернется не чем иным, как переходной фазой на пути установления нового, полностью секулярного миропорядка»[814]. Народ, поднимающий восстание, чтобы в итоге создать теократическое государство, вызывал недоумение своим не иначе как наивным отрицанием общепризнанного западного опыта. Сразу после Иранской революции никто не ожидал, что режим Хомейни выстоит. Сама идея религиозной революции, как и современного исламского правительства, казалась противоречием в терминах.
Однако Западу пришлось признать, что большинство иранцев выступают за исламское правление. «Умеренные», выход на арену которых уверенно предсказывали многие американские и европейские обозреватели, так и не появились, чтобы вытеснить «ополоумевших мулл». Националисты, желавшие установления в Иране светской демократической республики, оказались после революции в меньшинстве. Однако насчет того, какую форму должно принять исламское правление, тоже имелись разногласия. Получившие западное образование интеллектуалы, последователи Шариати, считали, что во главе государства должен стоять светский правитель, а власть духовенства необходимо ограничить. Мехди Базарган, новый премьер-министр Хомейни, выступал за возвращение к конституции 1906 г. (без монархии), с советом муджтахидов, наделенных правом блокировать в парламенте принятие противоречащих исламу законопроектов. Кумские медресе настаивали на вилайат-и факих, описанном Хомейни, однако и аятолла Шариатмадари, и аятолла Талегани были категорически против того, чтобы страной правило мистически вдохновляемое духовное лицо, поскольку это противоречило многовековой священной шиитской традиции. Такое государственное устройство казалось им слишком опасным. К октябрю 1979 г. конфликт разгорелся[815]. Базарган и Шариатмадари раскритиковали проект конституции, предложенный последователями Хомейни, по которому верховная власть отдавалась факиху (Хомейни), получающему право командования вооруженными силами и полномочия снимать премьер-министра с должности. Кроме того, конституция предусматривала выборы президента и парламента, создание кабинета министров и Совета стражей из 12 человек с правом вето на законы, противоречащие шариату.
Проект конституции встретил стойкое неодобрение. Его решительно отвергали левофланговые партизанские движения, этнические меньшинства Ирана и влиятельная Республиканская партия мусульманского народа (основанная аятоллой Шариатмадари). Либералы и получившие западное образование представители среднего класса все больше разочаровывались в новой власти, проявляющей, с их точки зрения, религиозный экстремизм: получается, они храбро сражались за освобождение от тирании прежнего шаха, только чтобы затем попасть под гнет исламской деспотии. Они видели, что в этом проекте конституции свобода печати и политических высказываний (которую либералы отвоевывали у Пехлеви) гарантировалась лишь при условии отсутствия противоречий исламскому закону и его осуществления на практике. Особенно открыто протестовал премьер-министр Базарган. Не нападая на самого Хомейни, он подвергал острой критике «реакционное духовенство» Исламской республиканской партии, ответственное за внесение в конституцию тех самых статей, которые, по утверждению Базаргана, искажали саму цель исламской революции.
Перед Хомейни маячил кризис. 3 декабря 1979 г. предстоял референдум по проекту конституции, и, судя по всему, вилайат-и факих должен был потерпеть сокрушительное поражение. До сих пор Хомейни вел себя как прагматик, умело направив объединенные силы левых исламистов, интеллектуалов, националистов и либералов на свержение власти Пехлеви, однако к концу 1979-го стало ясно, что этот непрочный союз, раздираемый противоречивыми задачами, вот-вот расколется и будущее революции – каким видел его Хомейни – под угрозой. Выручили (сами того не желая) Соединенные Штаты.
Несмотря на обидное прозвище «большого Сатаны», американское правительство находилось с новыми исламскими властями в послереволюционном Тегеране в прохладных, но все же корректных отношениях. 14 февраля 1979 г., вскоре после возвращения Хомейни в Иран, студенты взяли приступом американское посольство в столице и попытались оккупировать его, но Хомейни и Базарган поспешили выставить захватчиков. Тем не менее Хомейни сохранял недоверие к «большому Сатане» и не считал, что Америка откажется от своих интересов в Иране без борьбы. Паранойя, которую мы наблюдали у большинства фундаменталистских руководителей, заставляла Хомейни подозревать, что Штаты просто пытаются выиграть время, чтобы в конце концов пригрозить молодой исламской республике переворотом, подобным тому, который сместил Мосаддыка в 1953 г. Когда 22 октября 1979-го бывший шах прилетел в Нью-Йорк лечиться от быстро прогрессирующего рака, подозрения Хомейни начали подтверждаться. Правительство США получило предупреждения и от собственных экспертов, и от Тегерана с рекомендацией не принимать бывшего шаха; однако Картер считал, что не может отказать своему преданному союзнику в такой гуманитарной помощи.
Словесные нападки Хомейни на «большого Сатану» моментально ужесточились; он требовал, чтобы Мухаммеда Резу Пехлеви выслали в Иран для отбытия наказания; призывал вычистить из правительства всех, кто хранил верность прежним властям. В исламском Иране, провозглашал он, есть предатели, которые по-прежнему смотрят в рот Западу, а значит, должны покинуть страну. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться: нападки эти направлены прежде всего против премьер-министра Базаргана и всех противников проекта конституции. 1 ноября Базарган сыграл на руку Хомейни, полетев в Алжир на празднование годовщины алжирской независимости, где был запечатлен за обменом рукопожатиями со Збигневом Бжезинским, советником Картера по национальной безопасности. Ликующие враги Базаргана из Исламской республиканской партии немедленно заклеймили его как американского агента. И в этой напряженной атмосфере 4 ноября около 3000 иранских студентов захватили американское посольство в Тегеране, взяв в заложники 90 человек. Попервоначалу никто не сомневался в том, что Хомейни потребует их немедленного освобождения и прикажет студентам покинуть здание, как случилось в прошлый раз. По сей день не известно, знал ли Хомейни заранее о намерении студентов вторгнуться в посольство. Как бы то ни было, около трех дней он не предпринимал ничего. Но Базарган, осознав, что не дождется поддержки Хомейни в выдворении захватчиков из посольства, признал свою политическую несостоятельность и 6 ноября подал в отставку вместе с министром иностранных дел Ибрагимом Язди. Студенты, которые никак не рассчитывали удерживать здание дольше нескольких дней, к своему изумлению спровоцировали серьезный конфликт между Ираном и Соединенными Штатами. Хомейни и Исламская революционная республика встали на сторону студентов. Огромный международный резонанс, вызванный захватом заложников, придал Хомейни уверенности. Женщины и чернокожие сотрудники охраны из морских пехотинцев были отпущены, но оставшиеся 52 американских дипломата пребывали в заложниках 444 дня и стали символом иранского радикализма.
Для Хомейни дипломатический кризис оказался даром небес. Переключив внимание иранцев на внешнего врага – «большого Сатану» и захват, – Хомейни сплотил народ на почве послереволюционной ненависти к Америке на весь долгий период внутренней нестабильности. После отставки Базаргана проект конституции разом лишился самого яростного противника, и оппозиция поутратила вес. Конституция на декабрьском референдуме была одобрена подавляющим большинством. Хомейни рассматривал кризис с захватом заложников лишь с точки зрения внутренней ситуации в стране. Своему новому премьер-министру Банисадру в начале развития событий он объяснял: «Положение выгодное. Американцы не хотят укрепления исламской республики. Мы удерживаем заложников, заканчиваем наши внутренние дела и всех отпускаем. Эти события сплотили народ. Наши противники не осмеливаются ничего предпринять. Мы в состоянии без труда представить конституцию на народное голосование и провести президентские и парламентские выборы. Завершив все это, мы сможем выпустить заложников»[816]. Таким образом, действиями Хомейни руководил, несмотря на все пылкие речи имама, не исламский миф, а прагматичный логос. Тем не менее кризис отразился и на репутации самого Хомейни. Вместо того чтобы оставаться практичным политиком, он, по собственному мнению, стал вождем уммы в борьбе с западным империализмом; слово «революция» в его речах обретало почти священную окраску, вставая в ряд с традиционной исламской терминологией: он единственный сумел противостоять самой могущественной империалистической державе мира и обозначить границы ее могущества. В то же время ненависть к Ирану и исламу, которую закономерно вызвал у остального мира кризис с захватом заложников, как никогда ясно продемонстрировала Хомейни, сколько у революции внешних и внутренних врагов, угрожающих ее завоеваниям. С конца мая до середины июля 1980 г. были предотвращены четыре попытки сепаратистского переворота, до конца года между секуляристским подпольем и революционной гвардией Хомейни вспыхивали постоянные уличные бои. Смятение и ужас этих дней усугубляло распространение по всей стране так называемых революционных советов, неподконтрольных правительству. Эти комитехи карали сотни людей, уличенных в «неисламском поведении» (например, проституции) или занимавших государственные должности при Пехлеви. Появлением подобных местных органов после падения центральной власти сопровождаются, наверное, все революции, направленные на изменение общественного порядка. Хомейни порицал действия комитехов, противоречащие, по его словам, исламскому закону и умаляющие завоевания революции. Однако распускать их он не спешил и в конце концов сумел собрать их под своим покровительством, взять под контроль и сделать поддержкой своей власти на местах[817]. Кроме того, Хомейни пришлось выдержать войну с Ираком. 20 сентября 1980 г. войска иракского президента Саддама Хусейна вторглись при одобрении Соединенных Штатов на юго-западную территорию Ирана. Это означало, что запланированные Хомейни социальные реформы придется отложить. И на протяжении всего этого времени американские заложники служили целям Хомейни. Только когда их удержание перестало быть выгодным, заложники были отпущены – 20 января 1981 г. (в день инаугурации нового президента США Рональда Рейгана).
Захват заложников, несомненно, повредил репутации молодой исламской республики. Несмотря на высокопарные речи о беззаконии и греховности «большого Сатаны», религиозной, исламской подоплеки в захвате заложников не было. Скорее наоборот. Захват поддерживали далеко не все иранцы, однако его символизм был понятен многим. Посольство считается территорией соответствующей державы, поэтому осуществленное студентами вторжение приравнивалось к нарушению американского суверенитета. Тем не менее кому-то казалось закономерным, что американские граждане удерживаются в стенах собственного посольства в Иране, поскольку иранцы десятилетиями чувствовали себя узниками в собственной стране при потворстве США диктатуре Пехлеви. Однако это был политический реванш, никак не религиозный. В первые дни захвата часть заложников связали по рукам и ногам и запретили разговаривать, заявив, что Штаты от них отказались. Позже им создали более комфортные условия[818], однако подобная жестокость и плохое обращение противоречат основополагающим принципам всех основных конфессиональных религий, в том числе и ислама: любая религиозная доктрина или деятельность теряет состоятельность, если не учит подлинному состраданию. Буддисты, индусы, даосы и монотеисты сходятся в убеждении, что священная реальность не просто лежит «где-то там», но заключена в каждом человеке, с которым поэтому необходимо обращаться с почтением. Фундаменталистская вера – не важно, на иудейской, христианской или мусульманской основе, превращаясь в теологию ярости и ненависти, не выдерживает эту главнейшую из проверок.
Подобные захваты заложников действительно нарушают положения исламского закона об обращении с пленными. Коран предписывает мусульманам проявлять гуманность в отношении противника, называя захват пленных незаконным, если речь не идет об открытых военных действиях (а значит, захват и удержание в заложниках американцев под эту статью не подпадает). С пленными нельзя плохо обращаться и следует отпустить, безвозмездно или за выкуп, после прекращения военных действий. Если выкупа не предвидится, пленный должен быть выпущен на свободу, чтобы найти себе работу и выплатить выкуп самостоятельно, а мусульманин, получивший пленного на попечение, обязан помочь ему собрать необходимую сумму из собственных средств[819]. Обращаться с пленными подобным образом, согласно одному из хадисов, велел сам Пророк. «Кормите их тем же, что едите сами, одевайте их так же, как одеваетесь сами, а если даете им тяжелую работу, то должны сами им помочь»[820]. У шиитов, почитающих имамов, которых тираны удерживали на чужой земле в собственных корыстных целях, захват заложников должен вызывать особое отторжение. Поэтому захват американского посольства мог иметь политический смысл, однако не оправдывался ни религиозными, ни собственно исламскими традициями.
Фундаментализм находится в постоянном осадном положении и видит себя борцом за выживание во враждебном мире. Это отражается на его представлениях о действительности – вплоть до ее искажения. Хомейни, как мы уже убедились, тоже не избежал паранойяльных домыслов, свойственных многим фундаменталистам. 20 ноября 1979 г., вскоре после захвата заложников, несколько сотен вооруженных суннитских фундаменталистов в Саудовской Аравии оккупировали Каабу в Мекке и провозгласили своего руководителя махди. Хомейни объявил это святотатство совместными происками Соединенных Штатов и Израиля[821]. Как правило, подобные теории заговора порождаются страхами. Перспективы у Ирана вырисовывались мрачные. Несмотря на личную популярность Хомейни, разочарование в новой власти росло, однако критика и оппозиция правительству не допускались. Отношения между Хомейни и другими великими аятоллами в течение 1981 г. ухудшились; радикальные исламисты, желавшие полного возвращения к шариату, находились в состоянии самой настоящей войны с секуляристами. 22 июня 1981 г. Банисадр, побывший президентом всего год, был смещен с должности и бежал в Париж. 28 июня аятолла Бехешти, главный союзник Хомейни из числа духовенства, вместе с 75 активистами Исламской республиканской партии погиб при взрыве в партийной штаб-квартире[822]. До этого момента Хомейни предпочитал назначать на главные должности светских лиц, однако в октябре он позволил занять президентский пост ходжат-оль-исламу Али Хаменеи. Теперь духовенство составляло большинство в меджлисе. К 1983-му вся политическая оппозиция властям была подавлена. «Моджахедин-э Халк» (Организация моджахедов иранского народа) после исчезновения Банисадра ушла в подполье; Национальный фронт, Национальная демократическая партия (возглавляемая внуком Мосаддыка) и Республиканская партия мусульманского народа, созданная Шариатмадари, были распущены. Хомейни все настойчивее призывал к «единогласию»[823].
Как нередко случается после революции, новый режим оказался таким же автократичным, как и предшествующий. Окруженный врагами, Хомейни, подобно другим современным секулярным революционным идеологам, стал добиваться идеологического единства, однако это означало очередной отход от ислама. Как и иудаизм, ислам требовал единства исполнения, но не доктринальной ортодоксии. Шиитам предписывалось подражать (таклид) религиозному поведению муджтахида, однако разделять его убеждения им в обязанность не вменялось. Теперь же Хомейни заставлял иранцев подчиниться его теории вилайат-и факих, подавляя любую оппозицию. «В единогласии, – заявлял он паломникам, совершавшим хадж в 1979 г., – ключ к победе»[824]. Народ не сможет достичь необходимого духовного совершенства, не восприняв правильные идеи. Плюрализма мнений быть не может, народ должен следовать за верховным факихом, которого мистическое путешествие души привело к «идеальной вере». Затем страна пойдет путем имамов[825]. Но это не означает диктатуры. Мусульманам необходимо единство, если они хотят выжить во враждебном мире. «Сегодняшний ислам вынужден противостоять врагам и богохульству, – объявил он делегации из Азербайджана. – Нам нужна власть. Власть дается обращением к Богу, всевышнему и благословенному, и единогласием»[826]. Когда приходится противостоять супердержавам, междоусобиц среди мусульман допускать нельзя. Если Иран, расколотый надвое модернизацией, собирается воссоединиться и вернуться к исламскому идеалу, без отчаянных мер не обойтись.
Запад испытывал вполне понятный ужас при известиях о том, что Хомейни велел родителям отрекаться от детей, не согласных с государственным режимом, и что иранцев, высмеивающих религию, объявляют вероотступниками и приговаривают к смерти. Это противоречило понятию о свободе мысли, ставшему священной ценностью для Европы и Америки. Однако Запад не мог не признать, что Хомейни по-прежнему пользуется любовью народных масс, особенно bazaari, студентов медресе, менее известных улемов и бедняков[827]. Эти слои остались в стороне от шахской модернизации и не могли разобраться в этосе модерна. Если западные секуляристы видели в нарушении традиций геройство сродни прометееву, последователи Хомейни все так же считали высшей ценностью верховную власть Господа и не признавали таковой права личности. Они понимали Хомейни, а не современный Запад. Они по-прежнему говорили и мыслили религиозными, премодернистскими категориями, которые на Западе для многих уже утратили смысл. Но Хомейни вовсе не собирался претендовать на папский престол и утверждал, что его «непогрешимость» вовсе не означает, что он не может ошибиться. Его раздражали последователи, воспринимающие каждое его слово как божественное откровение. «Вчерашнее мнение я могу изменить сегодня и снова изменить завтра, – втолковывал он духовенству на Совете стражей в декабре 1983 г. – Вчерашнее высказывание не обязывает меня только им и руководствоваться»[828].
Тем не менее «единогласие» выступало ограничением, а для кого-то и искажением ислама. Иудейские и христианские фундаменталисты тоже, каждая ветвь по-своему, требовали догматического соответствия, доказывая – иногда очень резко, – что лишь их вера является аутентичной. «Единогласие» Хомейни сводило основные положения ислама к идеологии. Выдвигая на первый план собственные теории Хомейни, оно грозило привести к идолопоклонству, возведению в абсолют человеческого представления о божественной истине. Однако его призывы были продиктованы и страхом. Много лет он боролся с агрессивным секуляристским режимом, уничтожающим религию; теперь аятолла сражался с Саддамом Хусейном и остро ощущал враждебность международной общественности к Исламской республике. «Единогласие» было защитным оружием. Обращая вновь Иран к исламу, Хомейни строил новый гигантский анклав святости посреди безбожного мира, желавшего эту святость уничтожить. Ощущение гнета, опасности и упорная борьба с набирающим силу секуляризмом окружающего мира порождали ожесточение, которое, в свою очередь, вело к искажению ислама. Ощущение гнета ранило душу и служило почвой для репрессивного религиозного мировоззрения.
Хомейни воспринимал революцию как бунт против рационального прагматизма современного мира. Люди показали, что готовы отдать жизнь за установление политического строя, ставящего перед собой трансцендентные цели. «Кто пожелает своему ребенку отдать жизнь за хороший дом? – спрашивал Хомейни, выступая перед ремесленниками в декабре 1979 г. – Цель не в этом. Цель – новый мир. Люди отдают жизнь за новый мир. Именно такие жертвы угодны святым и пророкам… и люди должны это сознавать»[829]. Научный рационализм не давал ответов на вопросы о высшем смысле жизни, которые всегда оставались прерогативой мифа. На Западе отказ от мифологии привел многих к ощущению бездны, которую Сартр назвал дырой в душе на месте Бога. Иранцев в свое время тоже дезориентировало внезапное исчезновение духовности из повседневной и политической жизни. Хомейни считал людей многогранными созданиями, имеющими не только материальные, но и духовные потребности, и показывая, что они готовы умереть за государство, ставящее во главу угла религию, они пытались восполнить утраченную часть своей натуры[830]. Сам Хомейни редко забывал о религиозном аспекте политики, даже во время кризиса. Когда разразилась ирано-иракская война, Банисадр подал идею выпустить из тюрем шахских военных специалистов, чтобы они командовали операциями. Хомейни отказался. Цель революции, заявил он, не экономическое процветание или территориальная целостность. Он привел историю об имаме Али, который боролся в Сирии с основателем династии Омейядов Муавией, покушавшимся на его власть. Перед началом боя Али выступил перед воинами с проповедью о единобожии (таухиде). Когда офицеры усомнились в уместности этой темы в такой момент, Али ответил: «Именно ради этого мы сражаемся с Муавией, а не ради жизненных благ»[831]. Целью битвы было сохранить единство уммы, отражающее единобожие. Мусульмане сражались за таухид, а не за сирийскую землю.
Концепция, разумеется, была достойна восхищения, однако порождала проблему. Человеку нужен смысл и миф, но и без рационального твердого логоса ему тоже не обойтись. В премодернистскую эпоху обе эти сферы считались необходимыми. Однако миф не поддается не только логическому и рациональному объяснению, но и выражению в практической политике. Это давалось тяжело и иногда приводило к фактическому отделению религии от политики. Теология имамата предполагала несовместимость мистического видения с расчетливым прагматизмом, необходимым главе государства. У Хомейни роковая граница между мифом и логосом периодически оказывалась размытой, что приводило к катастрофическим последствиям. Экономика пострадала от резкого падения нефтяных прибылей после кризиса с заложниками и от нехватки мощных государственных инвестиций. Идеологические чистки лишили министерства и промышленность грамотного руководства. Поссорившись с Западом, Иран остался без важного оборудования, запасных частей к нему и технических консультаций. К 1982 г. в стране бушевала инфляция, наблюдался серьезный дефицит потребительских товаров, безработица выросла до 30 % от общего населения (до 50 % населения городов)[832]. Эти лишения были позором для режима, который в силу религиозных установок придавал социальному благополучию первостепенное значение. Хомейни делал для бедных все, что мог. Он основал Фонд обездоленных, чтобы облегчить жизнь тех, кто больше всего пострадал при Пехлеви. Исламские союзы при фабриках и мастерских предоставляли рабочим беспроцентные займы. В сельских районах «Строительный джихад» привлекал молодежь к возведению новых домов для крестьян и к участию в сельскохозяйственных, здравоохранительных и социальных проектах, особенно в зонах военных действий. Однако все эти усилия сводились на нет войной с Ираком, в которой Хомейни не был виноват.
Хомейни видел, что мистика и практика находятся не в ладах между собой. Он понимал, что современному государству необходимо участие народа и полностью представительное правительство. Как выяснил Запад в ходе собственной модернизации, это единственный тип политического устройства, способный быть эффективным в индустриализованном, технологическом обществе. Теория вилайат-и факих была попыткой поместить современные политические институты в исламский контекст, наделяющий их смыслом для народа. Верховный факих и Совет стражей придавали бы выборному меджлису мистическое, религиозное значение, так необходимое мусульманскому народу, не разделяющему западных секулярных идеалов. Вилайат-и факих пыталась подвести мифологическую базу под практические действия парламента и поместить модерн в рамки традиционного мировоззрения. Но Хомейни разрабатывал свою теорию в наджафском медресе, и то, что хорошо выглядело на бумаге, как обычно, при воплощении в жизнь в Иране обернулось трудноисполнимым делом. Эти трудности дали о себе знать уже в 1981 г. и преследовали Хомейни до конца его дней[833].
В 1981-м меджлис предложил проект важных земельных реформ, ведущих к более справедливому распределению ресурсов. Хомейни одобрял эти действия, направленные на благо народа, несмотря на их противоречие букве шариата. Кроме того, он понимал, что без подобных базовых реформ Иран остается феодальной аграрной страной и любая модернизация будет поверхностной. Однако земельная реформа забуксовала. Согласно конституции, все законопроекты должны были проходить через Совет стражей, обладающий правом отклонять законы, которые, по их мнению, противоречат исламу. Многие улемы в составе совета владели большими земельными наделами и, получив на рассмотрение законопроект реформы, воспользовались своим правом вето, ссылаясь на уложения шариата. Хомейни попытался урезонить улемов. Духовные лица, заявил он, «не должны вмешиваться в дела, выходящие за рамки их компетенции». Это «непростительный грех, поскольку он порождает недоверие к духовенству у народа»[834]. Духовенство разбирается в религии и фикхе, но не в современной экономике; исламская республика должна быть современным государством, в котором каждый специалист отвечает за свою сферу деятельности.
Однако реформа продолжала буксовать. Совет стражей стоял на своем, и Хомейни попробовал подойти с другой стороны, духовной. В марте 1981 г. он высказал группе клириков: «Не перестроив сперва себя, человек не должен пытаться переделывать других». Духовенство, само пока не излечившееся от эгоизма и погрязшее в пустой борьбе за власть, не сможет вернуть народ к исламу. Каждый улем должен преодолеть собственный эгоцентризм, мешающий исламскому развитию страны. Решение предлагалось следующее – «достигнуть стадии, на которой… забываешь о себе». «Когда исчезает то „Я“, с которым нужно бороться, – подытожил Хомейни, – пропадают и споры, и ссоры»[835]. Это решение подсказывала Хомейни мистическая практика ирфана; по мере приближения к Господу последователь постепенно освобождается от эгоистичных желаний, пока не обретет способность узревать меняющийся образ Бога. Однако динамика современной политики сильно отличается от духовного созерцания. Улемы Совета стражей не вняли увещеваниям Хомейни. Политика, как правило, привлекает людей с повышенным себялюбием. Современные правительственные институты действуют за счет уравновешивания противоречивых интересов, а не за счет предлагавшегося Хомейни самоотречения. Разрабатывая теорию вилайат-и факих, Хомейни полагал, что улемы в Совете стражей будут отстаивать мистические, сокрытые (батин) ценности незримого, а они, как простые смертные, погрязли в материализме захира.
Чтобы преодолеть тупиковую ситуацию с Советом стражей, энергичный спикер меджлиса ходжат-оль-ислам Хашеми Рафсанджани подговаривал Хомейни воспользоваться своей властью верховного факиха, чтобы провести земельную реформу через парламент. Конституция давала факиху решающий голос по всем исламским вопросам, и он мог отменить решение Совета стражей. Рафсанджани предлагал Хомейни сослаться на исламский принцип «маслахи» («общественного интереса»), позволяющий законоведу выносить «вторичные постановления» по вопросам, не оговоренным напрямую в Коране или Сунне, если того требовало благополучие народа. Но Хомейни не хотел на это идти. Он начинал понимать, что должность верховного факиха может ослабить авторитет институтов, необходимых исламской республике для выживания в современном мире. Он уже стар. Если он станет постоянно вмешиваться и отменять решения правительственных органов, пользуясь личным авторитетом, меджлис и совет утратят доверие и единство, а исламская конституция погибнет вместе с ним. Противостояние меджлиса и совета продолжилось.
Хомейни попытался пристыдить улемов, напомнив об иранских детях, которые ежедневно гибнут в войне с Ираком. Эти юные жертвы в очередной раз доказывают, насколько опасно превращать мистику в политику. С первого же дня войны подростки повалили в мечети, умоляя отправить их на фронт. Многие из них, выросшие в трущобах и на нищих окраинах, прошли огонь и воду во время революции, и прежняя жизнь стала казаться им серой и унылой. Некоторые вступили в Фонд обездоленных или пошли в «Строительный джихад», но с упоением битвы это не шло ни в какое сравнение. Иран был технически плохо подготовлен к войне, зато в стране наблюдался демографический взрыв, и большинство населения составляла молодежь. Фонд обездоленных стал ядром армии из 20 млн молодых людей, жаждавших действия. Правительство издало указ, позволявший записываться добровольцами лицам мужского пола начиная с 12-летнего возраста без согласия родителей. Они становились подопечными имама, и в случае гибели им было гарантировано место в раю. Десятки тысяч подростков в алых налобных повязках (знак мученика) хлынули в зону боевых действий. Одни обезвреживали минные поля, выбегая впереди войска и подрываясь на минах. Другие становились смертниками, бросаясь с гранатами под иракские танки. Специально для них на фронт посылались писари, записывающие их завещания, многие из которых диктовались в форме писем к имаму Хомейни. В них говорилось о свете, которым он озарил их жизнь, и о том, как они счастливы сражаться «рядом с друзьями по пути в рай»[836].
Эти подростки возрождали веру Хомейни в революцию, они следовали примеру имама Хусейна, погибшего, чтобы «засвидетельствовать» первостепенность незримого. Это высшая форма аскетизма, посредством которой мусульманин преодолевает собственное «Я» и достигает единения с Богом. В отличие от старших, эти дети перестали быть «рабами природы», прикованными личными интересами к материальному миру. Они помогали Ирану достичь «состояния, при котором его нельзя будет назвать иначе как райской страной»[837]. Человек, сосредоточенный лишь на материальном и мирском, не дотягивает даже до звания человека. «Смерть не означает небытия, – провозглашал Хомейни. – Это жизнь»[838]. Жертвенность стала важной составляющей иранского бунта против западного рационального прагматизма и неотъемлемой частью большого джихада за душу страны[839]. Однако, несмотря на заявление Хомейни о том, что гибель в бою не означает небытия, в этой жуткой готовности обречь тысячи детей на страшную смерть крылся нигилизм. Он противоречил одинаково важным и для верующих, и для секуляристов основополагающим человеческим ценностям, состоящим в священной неприкосновенности жизни и инстинктивном побуждении защитить детей – ценой собственной жизни, если потребуется. Этот культ жертвоприношения детей был очередным роковым искажением веры, к которым склонны фундаменталисты всех трех монотеистических религий. Возможно, за ним стоял ужас, возникающий при сражении с могущественными врагами, стремящимися тебя уничтожить. Однако он снова доказывает, чем чреват перевод мистического, мифологического императива в прагматичную военную или политическую программу. Мулла Садра, говоря о мистической смерти своего «Я», не подразумевал физическую, добровольную гибель тысяч молодых людей. То, что работает в духовной сфере, может оказаться безнравственным и даже губительным при буквальном воплощении в обыденном мире.
Создание по-настоящему исламского государственного устройства оказывалось весьма затруднительным. В декабре 1987 г. Хомейни, уже немощный и больной, снова занялся вопросом конституции. На этот раз Совет стражей блокировал законы о труде, по утверждению улемов, противоречащие шариату. Хомейни, поддерживающий народный меджлис, а не реакционных элитистов в совете, заявил, что государство вправе менять основополагающие исламские уложения, если того требует благосостояние народа. Как доиндустриальный свод законов шариат требовал радикальной адаптации к нуждам современного мира, и Хомейни это сознавал. Государство, по его словам, может заменить «это фундаментальное исламское устройство на любую социальную, экономическую, трудовую… городскую, сельскохозяйственную или иную систему и может сделать монопольные для государства службы орудием проведения общего и обязательного для всех курса»[840]. Хомейни провозгласил независимость. Государство должно обладать «монополией» в подобных практических вопросах, и ему необходима свобода от связывающих по рукам и ногам законов традиционной религии. Две недели спустя Хомейни пошел еще дальше. Президент Хаменеи сделал из этих заявлений вывод, что верховный факих получает право толковать закон. Хомейни возразил, что не имел в виду ничего подобного. Правительство, повторил он, не упоминая о собственной власти факиха, не просто обладает полномочиями толковать божественный закон, но и само служит проводником этого закона. Оно составляет важную часть божественной власти, которую Бог делегировал Пророку, и имеет «преимущество над всеми прочими божественными порядками», в том числе и над такими «столпами» ислама, как молитва, пост в Рамадан и хадж: «Правительство вправе в одностороннем порядке отменить любое законодательное решение… если это решение противоречит интересам ислама и страны. Оно может блокировать любое дело, будь то светское или религиозное, если оно противоречит интересам ислама»[841]. Веками шииты старались разводить эти две сферы: абсолютный миф религии наполнял прагматичный логос политики смыслом, но слишком сильно от него отличался. Теперь же Хомейни требовал не препятствовать государству в утилитарной погоне за интересами народа и благом ислама.
Кто-то решил, что Хомейни ведет речь о собственном правлении и пытается поставить доктрину «вилайат-и факих» выше «столпов» ислама. Западные наблюдатели обвинили Хомейни в мегаломании. Однако спикер Рафсанджани заметил, что Хомейни и словом не обмолвился о факихе, и, к ужасу самых радикальных сторонников Хомейни, предположил, что под «правительством» тот подразумевал меджлис. В своей выдающейся проповеди от 12 января 1988 г. Рафсанджани дал новую интерпретацию вилайат-и факих. В Коране Господь явил Пророку не все законы, которые потребуются умме. Он передал свою власть Мухаммеду, сделав его своим «наместником», и позволил проявлять собственную инициативу в этих второстепенных вопросах. Теперь имам Хомейни, верховный факих, передает свою власть меджлису, наделяя его полномочиями по собственной инициативе принимать новые законы. Значит ли это, что Иран переходит к демократии западного образца? Ни в коем случае. Право на законотворчество исходит не от народа, а от Бога, который передал свою власть Пророку, имамам, а теперь и имаму Хомейни, и именно они, а не народ, легитимизируют решения меджлиса. «Как вы видите, – утверждал Рафсанджани, – демократия принимает более совершенную форму, чем на Западе», поскольку дается Богом. Это «здравая форма народного правления людьми, посредством людей, с позволения вилайат-и факих»[842]. В очередной раз мы наблюдаем то, что происходило и на Западе: нужды государства эпохи модерна привели Иран к демократической форме правления, однако в данном случае она облекалась в исламскую обертку, которую народ был способен принять и связать с собственными шиитскими традициями.
Рафсанджани, скорее всего, превысил свои полномочия, однако Хомейни остался доволен. На весенних выборах 1988 г. он просто обратился к народу с просьбой поддержать меджлис, ни словом не упомянув духовенство. От народа, жаждавшего экономической перестройки, не ускользнул этот подразумеваемый намек, и улемы потеряли половину своих мест в парламенте. В новом составе меджлиса лишь 63 человека из 270 были выпускниками традиционных медресе[843]. И снова Хомейни остался доволен результатами. Кроме того, он давал зеленый свет наиболее прагматичным политикам, которые зимой 1988 г. собирались внести поправки в конституцию. В октябре он настоял, чтобы улемам не дозволялось препятствовать прогрессу страны. Программу перестройки должны возглавить «специалисты, в частности кабинет министров, соответствующие комиссии меджлиса… научно-исследовательские центры… изобретатели, исследователи и профильные эксперты»[844]. Через два месяца он позволил созвать комиссию по пересмотру конституции. Более радикальные исламисты, видевшие в ослаблении вилайат-и факих предательство завоеваний революции, пришли в ужас, однако прагматики праздновали победу – при одобрении имама.
В этой обстановке внутреннего конфликта 14 февраля 1989 г., за четыре месяца до кончины, Хомейни издал фетву против британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. В своем романе «Сатанинские стихи» Рушди создал богохульный в глазах многих мусульман портрет пророка Мухаммеда, изобразив его распутником, шарлатаном и тираном, и, что самое опасное, допустил мысль об испорченности Корана сатанинским воздействием. Этот роман блестяще отражал смятение постмодернистского мира, где нет ни границ, ни опор, ни четко и просто определяемой идентичности. Сочтенные оскорбительными отрывки представляли собой сны и фантазии лишенной корней индийской кинозвезды, эмигранта, одолеваемого западными антиисламскими предрассудками. Кроме того, богохульство было попыткой избавиться от навязчивых пережитков прошлого и достичь независимого самоопределения, свободы от прежних ярлыков и стереотипов. Однако многих мусульман этот портрет Мухаммеда ранил до глубины души. Он посягал на нечто священное для мусульманской личности. Доктор Заки Бадави, один из самых либеральных мусульман в Британии, заявил в интервью Gardian, что своим сочинением Рушди «ранил мусульманина больнее, чем если бы надругался над его дочерью». Исламские обряды настолько роднили мусульман с пророком, что роман создавал ощущение «ножа в сердце или надругательства»[845]. В Пакистане начались волнения, а в английском Брэдфорде книгу торжественно предали огню – в городе имелась крупная община мусульман индийского и пакистанского происхождения, протестовавших против британских законов о богохульстве, которые защищали только христиан, и ощущавших массовое предубеждение британцев против ислама. 13 февраля Хомейни заключил, глядя, как пакистанская полиция открывает огонь по демонстрантам, что роман несет в себе зло. Своей фетвой он велел мусульманам всего мира «предать смерти Салмана Рушди и его издателей, независимо от их местонахождения».
На Исламской конференции в следующем месяце 44 из 45 стран-участниц отвергли фетву как противоречащую исламу. По исламскому закону нельзя приговорить нарушителя без суда и следствия, а также распространить мусульманский закон на немусульманскую страну. Фетва выступила еще одним искажением ислама. Мулла Садра, один из главных духовных наставников Хомейни, в свое время высказывался категорически против подобного инквизиторского насилия и принуждения. Он ратовал за свободу мысли. Возмущение мусульман уже не первый раз проистекало из убеждения, что исламу нанесен смертельный удар. Годы притеснений, унижений и секуляристского наступления обострили мусульманскую чувствительность. Фетва объявляла войну, и именно так ее восприняли западные секуляристы и либералы, на чьи священные ценности тоже было совершено покушение. Для них мерой всех вещей выступал человек, а не сверхъестественное божество. Люди должны обладать свободой раскрывать и совершенствовать свой художественный талант. Мусульмане, ставящие превыше всего владычество Господа, этого принять не могли. В конфликте вокруг Рушди столкнулись две непримиримые ортодоксии, ни одна из сторон не могла встать на точку зрения другой. Проживающие в одной стране представители различных групп оказались по разные стороны баррикад и фактически на грани войны.
Противостояние между верующими и секуляристами стало особенно явным после кончины Хомейни в июне 1989 г. Запад воспринимал Хомейни как врага, и неподдельная скорбь иранцев на похоронах привела там всех в замешательство. Толпа так напирала на гроб, что тело выпало наружу, – народ словно не хотел отпускать своего имама. И тем не менее после смерти руководителя исламская республика не распалась. Наоборот, она стала проявлять гибкость в политике. Несмотря на то, что фетва, как и дипломатический кризис с заложниками, вызвала враждебность Запада, Иран определенно вестернизировался. Новая конституция, одобренная 9 июля 1989 г., ознаменовала решительный шаг к более светскому, прагматичному стилю правления. Верховный факих уже не наделялся мистической властью, и народ уже не провозглашал его сам, как провозгласил Хомейни. Факих должен был разбираться в исламском законе, однако принадлежность к числу старейших муджтахидов стала необязательной. При выборе из нескольких кандидатов решающим критерием была «политическая проницательность» будущего руководителя. Совет стражей сохранил право вето, однако его власть ограничивал теперь Совет по определению политической целесообразности, призванный улаживать все разногласия с меджлисом. Благодаря этим переменам меджлис смог провести все реформы, заблокированные прежде Советом стражей[846].
На следующий день после похорон Хомейни факихом был провозглашен аятолла Хаменеи, а 28 июля 1989 г. Рафсанджани вступил в должность избранного президента. Радикалы в его кабинет не попали, треть министров (получивших западное образование) выступала за увеличение западных инвестиций и уменьшение вмешательства государства в экономику. Проблемы тем не менее не исчезли. Радикалы продолжали бороться с прагматиками, консерваторы в Совете стражей по-прежнему находили способы блокировать реформы, а институциональная система давала сбои. Однако потребности государства подталкивали иранцев к плюрализму и к секуляризации на основе шиитских, а не западных традиций. Народ уже не так враждебно принимал современные ценности, поскольку они предлагались ему в исламской форме.
Это смещение акцентов подтверждают и труды одного из ведущих иранских интеллектуалов – Абдолкарима Соруша (р. 1945). Соруш изучал историю науки в Лондонском университете и занимал важные должности в правительстве Хомейни после революции. Сегодня он уже не входит в политический истеблишмент, однако оказывает большое влияние на властей предержащих. Его пятничные выступления часто транслируются по радио и телевидению, он один из выдающихся ораторов, собирающих слушателей в мечетях и университетах. Восхищаясь учениями и Хомейни, и Шариати, он тем не менее идет дальше. Его представления о Западе отличаются большей точностью, и он склонен считать, что к концу XX в. у иранцев существовали три идентичности – доисламская, исламская и западная, которые они должны примирить между собой. Не все западное влияние, полагает он, было порочным и вредным[847]. Однако радикальный секулярный этос Запада Соруш не приемлет. Научный рационализм, по его мнению, не может выступить достойной альтернативой религии. Человеку всегда будет нужна духовность, выводящая его за рамки материального. Иранцы должны научиться ценить достижения современной науки, однако и от своих шиитских традиций им отступать не следует[848]. Ислам тоже должен измениться: фикх необходимо приспособить к современной индустриальной действительности, разработать философию гражданских прав и экономическую теорию, которая выстоит в XXI столетии[849]. Соруш выступает противником власти улемов, поскольку «дело религии слишком обширно, чтобы поручать его одному духовенству»[850]. Ему нередко приходится выдерживать нападки более консервативных клириков, однако его популярность свидетельствует о том, что Исламская Республика движется к послереволюционной стадии, которая сблизит ее с Западом.
Это отчетливо проявилось 23 мая 1997 г., когда на президентских выборах одержал сокрушительную победу ходжат-оль-ислам Сейед Хатами, набрав 22 млн голосов из 30 млн возможных. Он немедленно дал понять, что будет налаживать отношения с Западом, и в сентябре 1998 г. отмежевался от фетвы против Салмана Рушди. Позже в этом решении к нему присоединился и факих, аятолла Хаменеи. Совет стражей по-прежнему создает помехи реформам Хатами, однако его избрание свидетельствует о глубинном стремлении большой части народа к развитию плюрализма, к более мягкому толкованию исламского закона, к экономической поддержке обездоленных и более прогрессивной политике в отношении женщин. Ни о каком отходе от ислама речи нет. Иранцы по-прежнему хотят строить свое государство на шиитской основе – так современные ценности кажутся им более приемлемыми, чем в случае, когда они навязываются извне. Выходит, что радикальное религиозное движение, получив свободу, поборов ожесточение и злобу, может научиться творческому взаимодействию с другими традициями, избавиться от былой агрессии и помириться с бывшими врагами. Религия ожесточается под гнетом.
Подтвердилось это и в Египте в 1981 г., когда Запад с прискорбием узнал об убийстве президента Анвара Садата суннитскими фундаменталистами. 6 октября Садат принимал парад в честь годовщины арабо-израильской войны 1973 г. Внезапно один из грузовиков выехал из строя прямо перед президентской трибуной, и Садат при виде выпрыгивающего из грузовика и бегущего к нему первого лейтенанта Халеда Исламбули встал, полагая, что офицер собирается отдать воинское приветствие. Однако вместо этого раздалась автоматная очередь. Исламбули продолжал стрелять в Садата даже после того, как сам получил пулю в живот, крича: «Пустите меня к этому псу, этому неверному!» Атака продолжалась всего 50 секунд, однако, кроме Садата, погибли еще семь человек, и 28 получили ранения.
Запад потрясла жестокость нападавших. Садата любили на Западе. Этот мусульманский правитель, в отличие от Хомейни, был более понятен. Он был предан своему делу, но не до фанатизма. Запад одобрял его инициативу мирного урегулирования конфликта с Израилем и политику «открытых дверей». На похороны Садата прибыло большое количество американских и европейских монарших особ, политиков и президентов. Из арабских глав государств не присутствовал никто, и скорбящие граждане не выстраивались вдоль тротуаров. В ночь после гибели Садата на улицах Каира царила зловещая тишина. Египтяне не оплакивали Садата, не толпились в слезах вокруг гроба, как будут позже оплакивать усопшего Хомейни иранцы. Современный Запад и традиционное ближневосточное общество снова оказались на разных полюсах и не могли разделить точку зрения друг друга на происходящее.
Как мы уже убедились, многие египтяне считали правление Садата ближе к джахилии, чем к исламу. В 1980 г. в праздник Ид аль-Адха, один из самых священных дней в мусульманском календаре, студенты из «Джамаат аль-Исламии», получившие запрет на устройство летнего лагеря в Каире, оккупировали мечеть Саладина, провозгласили отказ от Кэмп-Дэвидских соглашений и дали Садату оскорбительное прозвище Тартар – по имени монгольского правителя XIII в., который якобы обратился в ислам, однако был мусульманином лишь на словах[851]. Другие участники разогнанного джамаата вступили в подпольные ячейки, посвящая себя яростному джихаду против правящего режима. Халед Исламбули, выпускник Университета Миньи, тоже состоял в такой ячейке.
Садат знал о существовании инакомыслия и никак не собирался повторять судьбу своего приятеля-шаха. В 1978 г., когда в Иране бушевала революция, он издал так называемый «Закон стыда». Любое отклонение мыслями, словом или делом от установленного порядка каралось лишением гражданских прав и конфискацией паспорта и имущества. Гражданам запрещалось вступать в какие бы то ни было организации, выступать по радио и телевидению или в печати с критикой режима, угрожающей «национальному единству и общественному спокойствию». Даже случайное замечание в кругу семьи не оставалось безнаказанным[852]. В последние месяцы жизни Садата репрессии ужесточились. 3 сентября 1981 г. Садат издал указ об аресте 1536 известных ему критиков своей власти – в это число попали кабинет-министры, политики, интеллектуалы, журналисты, проповедники и участники исламских группировок. Одним из угодивших за решетку исламистов был Мухаммед Исламбули, брат будущего убийцы Садата[853].
С мотивами покушавшихся на Садата можно частично ознакомиться в трактате Абд аль-Салама Фараджа, идеолога организации «Исламский джихад», в котором состоял Исламбули. «Аль-Фарида аль-Гайба» («Забытый долг») был опубликован в декабре 1981 г., уже после покушения. Трактат не был апологией и не предназначался для широкой публики. Он распространялся исключительно среди участников организации и представляет собой уникальную возможность узнать, что обсуждали между собой воинствующие мусульмане, разобраться в том, что их заботило, в их тревогах и страхах. Перед мусульманами, по утверждению Фараджа, стояла важнейшая задача. Аллах поручил пророку Мухаммеду создать истинно исламское государство. Фарадж открывал свой трактат цитатой из Корана, свидетельствующей, что уже через 13 лет после первых откровений Мухаммеду Аллах начинал сердиться на мусульман, не торопящихся исполнить его распоряжение. «Разве не настала пора» мусульманам взяться за дело, возмущенно вопрошал Аллах[854]. Нетрудно вообразить, насколько выросло его нетерпение за 14 столетий! Поэтому мусульмане должны «приложить все мыслимые усилия», чтобы исполнить волю Бога. Нельзя повторять ошибку предыдущих поколений, возомнивших, что можно прийти к исламскому государству мирным, ненасильственным путем. Единственный путь – это джихад, священная война[855].
В джихаде и состоял вынесенный в заглавие «забытый долг». Несмотря на то, что мусульмане уже не прибегали к наступательному джихаду, Фарадж настаивал на том, что важнее долга нет. Однако это противоречило многовековой исламской традиции. Чтобы доказать свою правоту, Фараджу, как и Кутбу, пришлось надергать нужных цитат, неизбежно искажая в процессе суть мусульманства. И снова причиной такого искажения выступил опыт пережитых поражений. Фарадж утверждал, что лишь мечом можно проложить дорогу к справедливому обществу. Он цитировал хадис, где Пророк говорит, что все, кто не желает сражаться за религию, умрут, «как будто и не были мусульманами, или как те, кто из лицемерия лишь притворялись мусульманами»[856]. В Коране Аллах провозглашает мусульманам открыто: «Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно»[857]. Он велит мусульманам «убивать многобожников, где бы вы их ни обнаружили, берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду»[858]. Эти «аяты меча», по мнению Фараджа, были ниспосланы Мухаммеду позже тех, что учили мусульман примирению и обходительному обращению с врагом, а значит, отменяли те изречения, в которых Коран отвергал насилие[859].
Однако здесь у Фараджа возникала сложность. Коран призывает бороться лишь с многобожниками, неверными («теми, кто приписывает божественность кому-то кроме Бога»), тогда как Садат показывал себя правоверным мусульманином, соблюдающим пять «столпов». Как могут мусульмане пойти против него? На выручку Фараджу пришла фетва Ибн Таймии, который в XIV в. доказывал, что монгольские правители, обратившись в ислам, по сути были отступниками, поскольку правили не по шариату, а по собственным законам[860]. Современные власти Египта, заявлял Фарадж, поступают еще хуже монголов. Монгольский кодекс по крайней мере содержал часть иудейских и христианских уложений, тогда как сегодняшнее египетское право основывается на «безбожных законах», созданных неверными и навязанных мусульманскому народу колонизаторами[861]. «Нынешние правители совершают отступничество от ислама. Они вскормлены империализмом и его проявлениями – крестоносной угрозой (салибийей), коммунизмом и сионизмом. В них нет ничего исламского, кроме имен, хотя они и молятся, и постятся, и объявляют себя мусульманами»[862]. Студенты, занявшие в 1980 г. мечеть Саладина, тоже сравнивали Садата с монгольскими правителями. К 1980-м идеи Фараджа вышли за рамки узкого круга экстремистов и стали предметом общественного обсуждения.
Фарадж признавал, что в исламском праве джихад определялся как коллективная обязанность. Отдельный человек не вправе объявлять священную войну, решение должно приниматься сообществом в целом. Однако, утверждал Фарадж, этот закон действует, лишь когда умме угрожает внешний враг. Сейчас же положение куда серьезнее, поскольку неверные фактически оккупировали Египет. А значит, джихад становится личной обязанностью каждого мусульманина, способного сражаться[863]. Таким образом вся многогранная традиция ислама свелась к одному-единственному аспекту: чтобы в Египте Садата оставаться правоверным мусульманином, нужно принять участие в кровопролитной священной войне против режима.
Фарадж давал ответы на вопросы, мучившие его молодых приверженцев. Даже планируя убийство, участники «Исламского джихада» хотели по возможности оставаться в рамках морали. Приемлемо ли лгать, чтобы сохранить планы в тайне? Что, если вместе с виновными правителями погибнут и оказавшиеся рядом невинные? Молодежь, воспитанную в стране, где высок авторитет семьи, волновало: можно ли принимать участие в заговоре без родительского дозволения?[864] Правильно ли устраивать джихад против Садата, когда Иерусалим еще не освобожден от власти Израиля, – что более приоритетно? Фарадж отвечал, что джихад за освобождение Иерусалима должен возгласить истинный мусульманский вождь, а никак не неверный. Кроме того, он свято верил в прямое вмешательство Аллаха. Как только будет основано истинно исламское государство, Иерусалим автоматически перейдет под мусульманское владычество[865]. Господь обещал в Коране, что после победы мусульман над неверными «Аллах накажет их вашими руками, опозорит их и одарит вас победой над ними»[866]. Толкуя эти строки буквально, Фарадж пришел к выводу, что мусульманам необходимо взять инициативу в свои руки, и тогда Аллах «вмешается [и изменит] законы природы». Стоит ли воинам ожидать чудесной помощи свыше? Фарадж отвечал пагубным «да»[867].
К удивлению обозревателей, за убийством Садата ничего не последовало. Заговорщики, судя по всему, не планировали ни переворота, ни народного восстания, определенно рассчитывая на вмешательство свыше, которое должно было случиться в ответ на предпринятый мусульманами первый шаг – убийство президента. Фарадж явно не рассматривал другого развития событий. Заговорщики сознавали, что рассчитывать на это довольно опрометчиво[868], однако Фарадж считал «глупым» бояться провала. Долг мусульманина – повиноваться Господней воле. «Мы не отвечаем за исход событий». Как только «власть неверных рухнет, все будет в руках мусульман»[869].
Как и множество других фундаменталистов, Фарадж был буквалистом. Он видел в каждом слове священного текста объективную истину, которую можно, просто и напрямую, воплотить в повседневной жизни. Тем самым он продемонстрировал еще одну опасность превращения священного текста в программу действия. Прежний идеал разделял миф и логос: политическая деятельность считалась прерогативой разума. Бунтуя против гегемонии научного рационализма, суннитские фундаменталисты отворачивались от разума и вынуждены были познать горькую истину: несмотря на то что убийцы Садата, по их убеждению, точно выполнили волю Аллаха, Он не вмешался и не создал исламское государство. После смерти Садата президентом без лишней суеты стал Хосни Мубарак, и по сей день секулярный режим остается у власти.
Судя по всему, высказанные в «Забытом долге» идеи циркулировали не внутри узкого круга экстремистов, а распространялись среди египтян гораздо шире, чем казалось в свое время наблюдателям[870]. Мало кто из египтян готов был и в самом деле убить Садата, и смерть его стала для большинства потрясением, однако спокойствие народа после смерти главы государства было знаковым и наводило на мысль о том, что террор тут вполне приемлют. Например, шейхи Аль-Азхара осудили убийство, однако скорби по Садату явно не испытывали. В первом номере университетского журнала, вышедшем сразу после покушения, не было фотографии Садата, а убийство упоминалось вскользь на второй странице. Единственным представителем духовенства, который твердо и безоговорочно высказался против «Забытого долга», был муфтий, давший подробный ответ на трактат Фараджа. Он заявил, что называть верующего мусульманина вероотступником – противозаконно. Такфир (отлучение) в исламе не приветствовался, поскольку никто, кроме Бога, не может заглянуть человеку в душу. Муфтий разобрал «аяты меча» в историческом контексте, доказывая, что их появлению способствовали конкретные исторические условия Медины VII столетия, и поэтому буквально применить их к Египту XX в. невозможно. Из статьи в главном суфийском печатном органе – «Журнале исламского мистицизма», – вышедшей в декабре 1981 г., видно, что муфтий не сомневается в осведомленности читателя об учении Фараджа, хотя «Забытый долг» был издан буквально накануне и вряд ли все успели с ним ознакомиться. Однако идеи трактата явно вышли за рамки узкого круга посвященных и распространились в народе[871]. Подавляющее большинство египтян считали совершенное убийство великим грехом, однако к самому Садату относились неоднозначно. Со времен смерти Насера многое изменилось. Теперь египтяне хотели видеть у своих руководителей истинно исламские черты и отворачивались от секулярного этоса.
Мубарак был вынужден считаться с этим религиозным настроем. Он немедленно амнистировал большинство отправленных за решетку во время ужесточения репрессий в 1981 г., продолжил попытки контролировать исламские движения, однако не все, а лишь определенные группировки, и позволил «Братьям-мусульманам» (которые до сих пор не восстановлены в легальном статусе) участвовать в парламентских выборах и занимать должности в правительстве. Новая политическая организация «братьев» «Исламский альянс» тщательно дистанцировалась от экстремистов, стараясь наладить отношения с христианами-коптами и мирно работать над созданием исламского государства. Египет стал глубоко религиозной страной. Сегодня ислам в нем так же силен, как насеризм в 1960-х. Лозунг «братьев» «Решение – в исламе» находит все больший отклик у народа[872]. Связанные с верой вопросы преобладают среди писем в редакцию, публикуемых на страницах периодической печати, а в СМИ ведутся оживленные дискуссии на исламские темы. Религиозная одежда стала повсеместной, разделение по половому признаку в учебных аудиториях – постоянным, а специальные участки для молитвы в общественных местах уже ни у кого не вызывают недоумения[873]. По-прежнему распространено желание вернуть Египет под власть исламского закона полностью и сделать ислам основой конституции. Религиозные кандидаты от выборов к выборам получают все больше голосов. Номинально Египет является многопартийным демократическим государством, однако коррупция все еще не изжита, как и автократия властей, а правящая партия не желает ограничиваться лишь руководством. Есть подозрение, что в случае честных выборов народ проголосовал бы за более религиозные власти. Все это делает ислам главной угрозой режиму Мубарака[874].
Религиозный подъем, начавшийся в 1970-х, набрал силу. Доминирующий общественный уклад, охватывающий египтян всех возрастов и классов, предполагает умеренную форму фундаментализма. Большинство не интересуются политикой, однако в силу своей религиозности охотно пойдут за исламскими лидерами в случае социального или экономического кризиса. Тем не менее многим представителям молодежи по-прежнему кажется, что современному Египту нет дела до их интересов. Студенты математических, естественно-научных и инженерных факультетов все так же тянутся к более экстремистским группировкам. Строгий мусульманский образ жизни дает им, в их представлении, надежную альтернативу секуляризму, помогая совершить непростой переход от сельского к современному городскому укладу, позволяя чувствовать себя своими в новой среде[875]. Кроме того, религия создает общность, которой очень не хватает жителю современного города, но которая является базовой человеческой потребностью. Эта молодежь не собирается поворачивать время вспять, но ищет новые способы применить исламскую парадигму, служившую мусульманам столетиями, в современных условиях.
Глубокое негодование, которое так трагически прорвалось наружу в убийстве Садата, и сейчас, спустя два десятилетия проводимой Мубараком частичной либерализации и демократизации, бурлит в недрах общества. Только теперь исламисты гораздо лучше организованы. В 1991 г. американский арабист Патрик Гаффни вновь посетил Минью и отметил, что толпа, каждую пятницу собирающаяся на полуденную молитву на главной улице у крошечной фундаменталистской мечети, отличается большей дисциплинированностью, чем в 1970-х. Исчезли оборванцы и ожесточенные. Среди собравшихся много было людей в возрасте 30–40 лет, преобладали положенные молящимся белые голобеи и правильные исламские головные уборы. Все вместе производило впечатление сложившейся субкультуры, с собственными целями, задачами и идентичностью. Гаффни обратил внимание и на огромное новое здание министерства внутренних дел, призванное символизировать могущественную власть государства. Этот символ власти в бывшей горячей точке было пустым местом для убежденных исламистов, ориентированных скорее на Мекку, чем на Каир[876]. В Египте существуют два отдельных государства в государстве, подобно расщепленному сознанию при шизофрении, и нет признаков, чтобы пропасть между ними сужалась.
Неудивительно, что «два народа» внутри одного государства находятся в состоянии войны. Периодически поступают новости об арестах и перестрелках между полицией и наиболее экстремистскими мусульманскими группировками. Если большинству исламистов достаточно фундаменталистского отделения от светского общества, то незначительное меньшинство, не удовлетворяясь этим, прибегает к террору. С 1986 г. нападениям по политическим мотивам подвергаются в Египте американцы, израильтяне и выдающиеся египтяне. В 1987-м исламисты стреляли в Хасана Абу Башу, бывшего министра внутренних дел, и Набави Ахмеда, редактора еженедельника «Аль-Муссавар». В октябре 1990-го они убили спикера египетского парламента Рифата Махгуба, а в 1992-м расстреляли убежденного секуляриста Фарага Фоду. В том же году состоялась первое нападение исламских боевиков на европейских и американских туристов[877]. Поскольку туризм жизненно важен для египетской экономики, Мубарак ответил облавами и беспорядочными массовыми арестами, которые только подлили масла в огонь. К 1997 г. защитники прав человека заявляли, что в египетских тюрьмах содержатся без суда и следствия 20 000 подозреваемых «партизан», многие из них – в который раз – были задержаны за наличие провокационной листовки или присутствие на митинге. 17 ноября 1997-го террористическая группировка «Джамаат аль-Исламии» уничтожила в Луксоре 58 иностранных туристов и четверых египтян, утверждая, что нападение «будет не последним, поскольку моджахеды не опустят рук, пока правительство не перестанет пытать и убивать сынов исламского движения»[878]. Война продолжается. Отчаяние и беспомощность по-прежнему побуждают отдельную, малую часть египетских суннитов превращать ислам в идеологию, которая своим оправданием убийства полностью искажает суть мусульманской религии.
Израиль, как и Египет, тоже становился более религиозным. Особенно ярко это проявлялось в политическом взлете харедим в 1980-х. Меньшая часть ультраортодоксальных иудеев продолжала считать государство Израиль неисправимо порочным, «отравой, которая вбирает в себя все прочие отравы, всеобъемлющей ересью, заключающей в себе все остальные ереси»[879]. «Сионизм по своему характеру полностью отвергает основы нашей веры, – писал Иерахмиэль Домб в бюллетене «Нетурей Карта» в 1975 г. – Это полное отрицание, достигающее самых глубин, самых основ, самых корней»[880]. Однако большинство харедим так далеко не заходили, они просто не считали государство сколько-нибудь значимым для религии и относились к нему с полным безразличием. Этот нейтралитет давал им возможность принимать участие в политике. Хасиды представляли свою политическую деятельность в религиозном свете – как спасение божественных искр, захваченных светскими государственными институтами. Лоббируя религиозные указы, вроде запрета на свинину или более строгое соблюдение шаббата, они приближали израильское сообщество к грядущей мессианской трансформации. Литовские миснагдимы занимали более прагматичную позицию. Они глубже прежнего окопались в своих иешивах и укрепляли их с государственной помощью. Вопросы государственного управления, обороны, внутренней и внешней политики их не интересовали совершенно, единственным критерием в пользу той или иной партии было финансирование и политическая поддержка, которую партия была готова оказать иешивам[881].
Основной целью харедим по-прежнему оставалось выживание. С 1960-х гг. они только подтвердили свое мнение относительно мира гоев. Суд над Адольфом Эйхманом, состоявшийся в Иерусалиме в 1961-м, привел к новому осмыслению холокоста, еще больше укрепившему стремление харедим держаться подальше от гойской культуры и светских евреев, к ней приобщающихся. Они объявили современной цивилизации войну, и им нечего было сказать гоям и тем светским и религиозным евреям, которые не разделяли их взгляды на иудаизм. Ощущение гнета и гонений в очередной раз привело к сужению религиозных горизонтов и требованиям идеологического конформизма. У харедим оставалось все меньше слов и понятий, которые можно было бы донести до кого-то вне стен иешивы или хасидского двора[882]. Они чувствовали себя такими же чужими своим израильским соседям, как их предки в диаспоре – гоям.
Напоминание о холокосте заставило их острее ощутить уязвимость иудаизма, и ради спасения Торы они готовы были принять участие в политике. Их позицию отлично выразил активист «Эда Харедит» в 1950 г.: «Мы слабы, все рычаги находятся в руках наших противников. Разделенные и разобщенные, мы пытаемся выстоять против бури, которая грозит уничтожить нас, Господи упаси. Законы, ранящие до глубины души, делают наше положение трагичным и невыносимым. Поэтому мы должны быть начеку и предупреждать атаки на нас, находясь внутри правительства»[883]. Однако в 1950-х обстановка складывалась неподходящая. «Агуддат Исраэль» в 1952-м порвала с правящей Партией труда, разойдясь с ней по вопросу о призыве женщин в армию, и с тех пор не имела представительства в кнессете. Однако после победы «Ликуд» в 1977 г. «Агуддат» вошла в коалиционное правительство. Тем самым совещательный орган партии – Совет мудрецов Торы (Моэцет Гдолей а-Тора) – приблизил пожилых раввинов, которых сионисты уже отправили мысленно на свалку истории, к рычагам власти. Однако давняя вражда между хасидами и миснагдимами, десятилетиями не дававшая о себе знать, в совете вспыхнула снова. Противники принялись соперничать друг с другом за финансирование, что привело к появлению новых партий харедим и новых политических игроков.
Так, например, рабби Элиэзера Шаха, главу Поновежской иешивы и предводителя литовского еврейства в Израиле, беспокоили сефарды, иммигрировавшие в Израиль из арабских стран после 1948 г. Многие из них попадали под влияние хасидских участников «Агуддат Исраэль», и Шах опасался, что растущий хасидский электорат поспособствует оттоку финансирования от миснагдимских иешив. Чтобы предотвратить угрозу и переманить сефардов, вместе с главным сефардским раввином Овадьей Иосифом он основал новую сефардскую партию «Хранители Торы» – ШАС. Сефарды не питали такой неприязни к сионизму, как европейские евреи. До образования государства Израиль в 1948 г. они не подвергались гонениям в мусульманских странах, поэтому характерного для гетто мировоззрения у них не выработалось. Им не претило принимать участие в государственных делах, они с удовольствием готовы были заняться политикой. На выборах 1984 г. ШАС получила четыре места в кнессете.
Однако в 1988-м седьмой любавический ребе решил дать отпор влиянию рабби Шаха и миснагдимов. Он приказал всем своим последователям голосовать на предстоящих выборах за «Агуддат»[884]. Кроме того, он хотел склонить «Агуддат» к тому, чтобы добиться от правительства более четкого определения еврейства. Эти действия доказывали безразличие харедим к политическому благополучию государства Израиль. Если бы израильское правительство, как того желал раввин, объявило, что евреем не может быть признан ребенок, рожденный в смешанном браке, или человек, обращенный в иудаизм раввином-реформистом, оно настроило бы против себя многих американских евреев, которые так удачно лоббировали интересы Израиля в Соединенных Штатах. Поддержка Америки была жизненно важна для Израиля, однако любавического ребе это не волновало. Он выполнял свою задачу перед еврейским народом. У его эмиссаров возникали сложности с теми, кто считал себя иудеем, но не отвечал требованиям Галахи. Если израильское государство официально провозгласит таких лиц неиудеями, любавическим хасидам станет гораздо проще. Вмешательство ребе тем не менее способствовало значительному пополнению «Агуддат» хасидами, и рабби Шах в ответ сформировал новую миснагдимскую партию – «Дегель ха-Тора» («Знамя Торы»).
К удивлению израильтян, на выборах 1988 г. религиозные партии завоевали рекордное число мест в кнессете – 18 – и обнаружили, что теперь именно от них будет зависеть перевес в сторону Партии труда или «Ликуд». Политики-секуляристы, прежде презиравшие ортодоксов и считавшие их безнадежным пережитком прошлого, вынуждены были теперь унижаться и переманивать их на свою сторону, чтобы сформировать правительство. Харедим по-прежнему принимали государство в штыки, полагая, что евреи-секуляристы намерены уничтожить религию. Они считали свою политическую деятельность вынужденным злом, актом самообороны, «проникновением в стан врага», как писал в 1991 г. в газете литовских евреев «Ятед Нееман» рабби Натан Гроссман[885]. И все же, почти вопреки собственной воле, харедим добились беспрецедентного влияния в государстве, с которым находились в состоянии войны. Со времен холокоста харедим стремились воссоздать потерянный мир европейской еврейской общины. Прежнюю жизнь в Восточной Европе они считали золотым веком и оглядывались в поисках вдохновения на великих раввинов прошлого. Однако к концу 1980-х они превзошли своих идейных вдохновителей. Со времен разрушения Храма в 70 г. н. э. ни один религиозный еврей не пользовался такой властью, как рабби Шах, который к 1988-му возглавлял две политические партии и перед которым заискивали ради его решающего голоса влиятельные политики[886].
26 марта 1990 г. стало драматическим и наглядным тому подтверждением. Баскетбольный стадион «Яд-Элияху» в Тель-Авиве сродни храму светской культуры Израиля. В Израиле баскетбол – почти национальная религия, воплощающая сионистскую мечту о новом иудее, который не чахнет над Талмудом в душной иешиве и не кутается в ортодоксальные черные одежды. Он деятельный, загорелый, поджарый, пышет здоровьем, может соревноваться на равных с гоями всего мира и побеждать их на их же собственном поле. Однако в тот мартовский вечер 1990-го трибуны заполняли не взволнованные болельщики «Маккаби» (национальной баскетбольной команды), а 10 000 бородатых харедим в черных лапсердаках. Ультраортодоксы наводнили центр светского Израиля и по крайней мере на этот вечер заняли одну из его главных цитаделей. Событие транслировалось по телевидению, за ним, затаив дыхание, следили и религиозные, и светские израильтяне во всех уголках страны. Что же происходило? Рабби Шах собирался обратиться к своим последователям с указаниями, как им голосовать на предстоящих выборах. Страна осознала, что рычаг власти находится в руках пожилого раввина в войлочной шляпе и с пейсами, который разговаривает на странной смеси иврита, арамейского и идиша, непонятной большинству светских телезрителей. В тот вечер рабби Шах решал судьбу Партии труда и «Ликуд».
Мирное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной продвигалось с огромным трудом, однако сумело расколоть национальное коалиционное правительство Израиля. И Партия труда, и «Ликуд» принялись формировать альянсы с более мелкими партиями, из которых самый большой блок образовывали религиозные. Лейбористы заключили неофициальные соглашения с «Агуддат» и ШАС, но рабби Иосиф, один из руководителей ШАС, опасался, что этот альянс расколет его партию. Сефарды тяготели к ультранационализму, ненавидели арабов и выступали категорически против территориальных уступок, на которые готова была пойти Партия труда. На помощь пришел рабби Шах, один из основателей ШАС, и теперь на стадионе он собирался обратиться к своим последователям в ШАС и «Дегель ха-Тора» с наставлениями по поводу неизбежных коалиционных переговоров.
Десятиминутная речь рабби не только привела в замешательство, но и встревожила израильтян, слушавших ее с телеэкрана. Рабби не упоминал коалиционные переговоры напрямую и не затронул ни один из вопросов, тревоживших остальное население. Его определенно не волновали такие проблемы, как права палестинцев, национальная оборона и целесообразность обретения мира в обмен на территориальные уступки. Он не произнес ни единого доброго слова в адрес государства Израиль, упомянув мрачно о «страшном и ужасном» времени, в которое приходится жить харедим. Мысли рабби занимал не арабо-израильский конфликт, а ополчившиеся на религию сионисты. «Война, которую мы ведем [с теми, кто противостоит традиции], началась не сегодня; она началась еще во времена Первой мировой, и лишь Всевышний знает, чего еще ожидать», – ораторствовал рабби. Но исход не вызывал сомнений: «Иудея не уничтожить. Его можно убить, но его дети останутся верными Торе».
Мало того, что секуляристы объявлялись врагами; лейбористы в смятении слушали, как их священные институты и саму партию объявляют не только неиудейскими, но и прямо антииудейскими. «Есть ли что-то святое у Партии труда? – саркастически вопрошал раввин. – Разве не порвали они с прошлым и не ищут новую Тору?» Эти киббуцники ничем не лучше гоев, они даже не знают, что такое шаббат или Иом-Киппур. Как можно доверить таким людям решение «ключевых вопросов, стоящих перед еврейским народом?» О соглашении с лейбористскими политиками не может быть и речи. «Они приходят в кнессет не за тем, чтобы укреплять религию. Наоборот, они намерены провести законы, которые уничтожат иудаизм»[887]. Собрание на стадионе «Яд-Элияху» не только наглядно демонстрировало, как рабби Шах в одиночку легким движением руки склоняет чашу весов в сторону «Ликуд», но и свидетельствовало о невероятном превращении харедим из презираемых изгоев в вершителей судеб. Кроме того, собрание обнажило раскол Израиля на «две нации», которые едва понимали язык друг друга и которых заботили совершенно разные вопросы. А еще оно выявило глубокую ненависть, питающую веру многих харедим и направленную не только на гоев, но и на иудеев.
Крайние религиозные сионисты и «Гуш Эмуним» тоже были готовы сражаться. Они бунтовали, планируя революцию против светского национализма с одной стороны и против ортодоксии – с другой. Жизнь евреев круто изменилась. Они считали, что необходимость связывать себя по рукам и ногам традициями, берущими начало в диаспоре, отпала, поскольку началась мессианская эпоха. Со времен Шабтая Цви это был первый крупный всплеск еврейского мессианизма. В те времена евреи тоже переживали переходный период и верили, что стоят на пороге небывалых перемен. Но если саббатиане бунтовали против ограничений гетто, гушистов не устраивала территориальная ограниченность. Границы заботили их не меньше, чем саббатиан, и хотя они вели речь прежде всего о государственных границах Эрец-Исраэль, на самом деле цель их борьбы состояла также в определении границ и пределов иудаизма. Они хотели сломать стену между светскими и религиозными евреями[888]. Кукисты не сомневались в том, что, вопреки мнению харедим, убежденный ортодокс вполне может быть сионистом. Кроме того, они утверждали, вопреки секуляристам, что без религиозной составляющей сионизм будет несовершенным. Однако времена были тяжелые. Кукисты переживали предательство со стороны правительства в лице «Ликуд», которое выдворило их из Ямита и, заключив мир с арабами, затормозило процесс искупления. Особенно отчетливо это проявилось, когда в 1987 г. палестинцы начали интифаду (от арабского «избавление») и вынудили лейбористское правительство подписать мирное соглашение, еще менее приемлемое, на взгляд кукистов, чем Кэмп-Дэвидское, поскольку по нему Израиль обязался отдать часть священной земли на Западном берегу. Кукисты чувствовали себя – как евреи в диаспоре – во враждебном окружении гоев, но и единоверцы тоже не давали осуществить то, до чего, казалось, было рукой подать.
В результате мистический восторг гушистов сменился экстазом гнева, который временами мог вылиться в устрашающее применение силы, в первую очередь против арабов. В ранние, более оптимистичные времена существования движения гушисты заявляли, что пришли «помочь» палестинцам оккупированных территорий и сломать «стену ненависти» между двумя народами, хотя даже слова, в которых выражалось это предложение помощи, выдавали непримиримую вражду: «Мы пришли очистить воздух от источаемого вами запаха крови, который вы перестали замечать», – заявил Левингер в 1970-х[889]. Он вел себя все более провокационно. Расхаживал с воинственным видом, сжимая в руках винтовку, по арабским городам на Западном берегу. После нападений палестинцев на поселения поднимал активистов «Гуш» на ответные действия – с битьем автомобильных стекол и поджогами магазинов. Когда разразилась интифада, он заявил, что при приближении к Хеврону в нем «просыпается ярость, которая не дает ему покоя»[890]. В 1988 г., когда палестинцы в Хевроне закидали камнями его машину, Левингер, выскочив и открыв огонь по обидчикам, застрелил Халеда Салаха, который просто стоял у своей обувной лавки, не принимая участия в нападении. Левингер, обезумев, принялся беспорядочно палить направо и налево, переворачивать тележки с овощами и громко сквернословить. На суде он заявил, что никого не убивал и жалеет, что «не удостоился чести застрелить араба»[891].
Гушисты расходились во мнении относительно того, как следует поступить с арабами в Эрец-Исраэль. Все соглашались, что палестинцы не имеют прав на эту землю и что им там не место. Идеология ненависти и исключительности, несомненно, искажала иудаизм. Израильские пророки, Тора и трактаты Талмуда настаивали на справедливости и милосердии даже к «чужакам», которые хоть и не принадлежали к их народу, но жили с ними на одной Святой земле[892]. Рабби Гиллель, старший современник Иисуса, сформулировал постулаты иудаизма в золотом правиле: «Не делай другим того, чего не пожелаешь себе»[893]. Однако кукисты с фундаменталистской избирательностью сосредоточились на самых агрессивных библейских текстах, где Господь повелевал израильтянам выдворить местные народы из Земли обетованной, не заключать с ними союзов, уничтожать их святыни и даже истреблять их[894]. Веру в богоизбранность евреев они толковали как свободу от законов, писанных для других народов: еврейский народ уникален, свят и избран для высшей цели. Повеление Господа завоевать эту землю, доказывал Шломо Авинер, важнее, чем «соображения морали и гуманизма, касающиеся национальных прав гоев на нашу землю»[895].
Большинство кукистов считали, что арабам нужно позволить остаться в Эрец-Исраэль, однако лишь в статусе «герим тошавим» (иноземных поселенцев). Если они уважают государство Израиль, обращение с ними будет подобающим, однако стать гражданами или обрести политические права они не смогут. Другие кукисты отрицали возможность предоставления палестинцам даже такого статуса и высказывались за выдавливание их с территории. Незначительное меньшинство предлагало истребление, приводя в пример библейских амаликитян, которые своей жестокостью вынудили Господа повелеть израильтянам безжалостно расправиться с ними[896]. В 1980 г. рабби Израиль Гесс опубликовал статью под названием «Геноцид: Заповедь Торы» в официальном вестнике Университета имени Бар-Илана, где утверждал, что палестинцы для евреев как тьма для света и заслуживают участи амаликитян[897]. В том же году гушист Хаим Цурия назвал ненависть «здоровой и естественной»: «В каждом поколении находятся те, кто хочет стереть нас с лица земли, поэтому в каждом поколении есть свои амаликитяне. Амаликизм нашего поколения выражается в глубочайшей ненависти арабов к национальному возрождению евреев на земле своих предков»[898]. 3 мая 1980 г. в Хевроне были убиты шесть учащихся иешивы, и наиболее экстремистски настроенные кукисты принялись мстить. Менахем Ливни, поселенец из Кирьят-Арба, и Иехуда Этцион, ветеран гушистского движения, заложили взрывчатку в автомобили пяти арабских мэров. Целью было не убить, а покалечить, чтобы жертвы остались живым напоминанием о последствиях антиеврейского террора. Услышав новости, рабби Хаим Друкман воскликнул в упоении: «Да сгинут так все враги Израиля!»[899]. Однако большинство израильтян ужаснула эта расправа, в результате которой было ранено лишь две из пяти намеченных жертв. Еще больше их ужаснуло то, что для Ливни и Этциона этот теракт был мелочью, попутным действием. В апреле 1984 г. израильское правительство раскрыло еврейскую подпольную организацию, планировавшую взорвать Купол Скалы – третью по значимости святыню исламского мира.
Во время Шестидневной войны в 1967 г. армия Израиля отвоевала у Иордании Восточный Иерусалим и Старый город; через несколько дней после окончания войны Израиль присоединил эти районы и, наперекор мнению международного сообщества, объявил Иерусалим вечной столицей еврейского государства. Решение было провокационным, поскольку в 1947 г. ООН сделала Иерусалим международной зоной, а после Шестидневной войны потребовала, чтобы Израиль вывел войска со всех территорий, оккупированных во время военных действий, включая Иерусалим. Город принадлежал мусульманам с 638 г., не считая краткого владычества крестоносцев (1099–1187); мусульмане называют его Аль-Кудс («Священный»), и в исламе он считается третьим священным городом после Мекки и Медины. Купол Скалы, достроенный в 691 г., стал первым крупным памятником мусульманской архитектуры и, по преданию, отмечает место, где Авраам собирался принести своего сына в жертву Господу. Позже стали считать, что именно с этой скалы вознесся в небо пророк Мухаммед. У иудеев это место тоже почитается как святыня, поскольку Купол находится на Храмовой горе, на которой располагался Храм, построенный царем Соломоном.
Однако веками иудеи и мусульмане уживались в Иерусалиме без трений. Иудеи верили, что Храм, разрушенный римлянами в 70 г. н. э., предстоит восстановить лишь Мессии, поэтому не посягали на территорию, которую мусульмане называют Харам аль-Шариф («Благородное святилище»). С XVI в. единственной сокровенной святыней иудейского мира выступала Западная стена, находящаяся прямо под Куполом Скалы, – последнее, что осталось от Храма, построенного царем Иродом в I в. н. э. Османский султан Сулейман Великолепный (1494–1566) разрешил евреям вновь молиться у Стены. Считается, что площадку для молитвы проектировал его придворный архитектор Синан.
Арабо-израильский конфликт положил конец мирному сосуществованию мусульман и иудеев в Святом городе, и с 1920-х гг. этот священный квартал повидал немало зла. В период иорданской оккупации Восточного Иерусалима и Старого города (1948–1967) евреям не разрешалось посещать Западную стену, а древние синагоги в еврейском квартале Старого города были разрушены. Возвращение евреев к Западной стене в 1967-м стало одним из самых больших триумфов Шестидневной войны, который даже светские израильтяне переживали как глубоко духовное событие.
Присоединив Иерусалим после войны, израильтяне пообещали, что христианам и мусульманам будет обеспечен беспрепятственный доступ к святым местам. Харам аль-Шариф остался под контролем мусульман, хотя это решение правительства вызвало крайнее неодобрение и израильских ультранационалистов, и крайних религиозных сионистов, которые настаивали на возвращении квартала еврейскому народу. Тем не менее официальная позиция иудеев оставалась неизменной: Храм не будет восстановлен, пока Мессия не осуществит Искупление. За столетия этот запрет обрел силу табу.
Однако к 1980-м начала меняться и эта концепция. Ливни и Этцион были не единственными среди еврейских экстремистов, кто мечтал о восстановлении Храма как о предпосылке Искупления. Как может вернуться Мессия, когда святыню «оскверняет» Купол Скалы? Как и остальные фундаменталисты, они считали, что должны взять инициативу в свои руки, отбросить осторожность и очистить Храмовую гору от мусульманского присутствия, чтобы подготовить путь для Мессии. Если они сделают первый шаг, Господь, несомненно, вмешается и в награду за это проявление веры пошлет долгожданного Мессию и даст Искупление народу Израиля. Ливни, Этцион и остальные заговорщики считали, что израильское правительство совершает великий грех, позволяя арабам контролировать Харам аль-Шариф, Храмовую гору. Купол Скалы в их глазах был «скверной» и «корнем всех духовных зол нашего поколения»[900].
Одним из главных идеологов еврейского подполья выступал Иешуа Бен-Шошан, спокойный, тихоголосый каббалист, считавший Купол Скалы средоточием злых сил «противной стороны», препятствующих Искуплению. Именно он подал Ливни и Этциону идею расправиться со «скверной» во время Кэмп-Дэвидских переговоров, за которыми, по его мнению, стояли демонические силы. Разрушение Купола должно было нейтрализовать их и прервать ненавистный процесс мирного урегулирования. А если нет, то хотя бы встряхнуть евреев всего мира, напомнив им о религиозном долге, чтобы они и думать забыли о примирении с врагом.
Опасность была велика. Помимо прекращения мирных переговоров, взрыв Купола Скалы почти наверняка привел бы к войне, в которой (впервые за все время) весь мусульманский мир выступил бы заодно, поднявшись против Израиля. Стратеги в Вашингтоне сходились во мнении, что в обстановке холодной войны, когда Советы поддерживали арабов, а Соединенные Штаты – Израиль, разрушение Купола Скалы могло вызвать третью мировую[901]. Однако призрак ядерной катастрофы не пугал экстремистски настроенных кукистов. Они были убеждены в том, что устроенный на Земле апокалипсис расшевелит высшие силы, «заставит» Бога вступиться за зачинщиков и послать Мессию спасти Израиль[902].
Они являли собой пример каббалистического мышления, доведенного до безумия, а также фундаменталистской склонности превращать мифологию в программу действий. С практической точки зрения ничего иррационального в плане заговорщиков не было. Ливни выучился в армии на подрывника, два года посвятил тщательному изучению Харам аль-Шарифа и позаимствовал большое количество взрывчатки из военных лагерей на Голанских высотах. Он изготовил 28 точечных взрывных устройств, которые разрушили бы только Купол, но не окрестности[903]. Все было готово для теракта. Остановило экстремистов лишь отсутствие раввина, который благословил бы их дело.
Заговор по уничтожению Купола Скалы являл собой отречение от разума, расчет на чудо, а также нигилизм, который мог полностью уничтожить еврейское государство. В этом катастрофическом мессианизме воплотилось стремление к смерти, которое давно уже стало частью сознания эпохи модерна. Самоубийственная тенденция обернулась также серьезным подрывом доверия к «Гуш Эмуним» – движение навсегда утратило авторитет, завоеванный в определенных кругах израильского народа в годы его расцвета.
Моральным нигилизмом отличалось и движение, основанное рабби Меиром Кахане, которому, к огорчению большинства израильтян, 1,2 % голосов обеспечили место в кнессете в 1984 г.[904]. Он начал свою деятельность в Нью-Йорке, организовав «Лигу защиты евреев», чтобы не оставлять безнаказанными нападения чернокожей молодежи на представителей еврейского народа. В 1974-м он перебрался в Израиль и поселился в Кирьят-Арба, где переименовал свою организацию в «Ках!» («Так!»). Теперь его целью было донимать арабов, вынуждая их покинуть Эрец-Исраэль. Фундаменталистские взгляды Кахане были почти архетипичными – его вера в своей крайней упрощенности и безжалостной избирательности превращалась в отвратительную карикатуру на саму себя. «В иудаизме всего одна идея, – объяснял он в интервью. – И идея эта в том, чтобы исполнять волю Бога». Месседж Господа в такой версии иудаизма был прост: «Бог хотел, чтобы мы пришли на эту землю и создали здесь еврейское государство»[905]. Иудейская доктрина святости («кодеш» – «отделение, обособление»), посредством обрядов подчеркивавшая различия среди объектов бытия, приобретала в интерпретации Кахане строго политическое значение: «Бог велит нам жить в собственной стране, обособленно, как можно меньше соприкасаясь со всем чужеземным»[906]. Это означало, что арабы должны уйти. Обещание, данное Аврааму, не утратило своего значения со времен патриархов, а значит, арабы выступают узурпаторами[907]. Миф Книги Бытия клался в основу политической программы этнических чисток, и из этого извращенного видения логически вытекала мессианская катастрофа гигантских масштабов. После победы в Шестидневной войне евреи стояли «на пороге Искупления», и цель их в свете такого представления об иудаизме была ясна: они должны оккупировать земли, выселить арабов и «очистить Храмовую гору от гойской скверны». Если бы все это осуществилось, Искупление не заставило бы себя ждать. Но поскольку Израиль не сумел этого сделать, явление Мессии будет сопровождаться огромной антисемитской катастрофой, гораздо страшнее холокоста, которая в результате все же вынудит евреев мира повиноваться завету Бога и заселить Израиль[908].
Эта мрачная картина разрушений и гибели проникнута нигилизмом. А еще ненавистью и жаждой мести. Искаженная донельзя вера Кахане демонстрирует последствия долгих гонений и гнета, которые, если им не помешать, глубоко проникают в душу и уродуют ее. Теология Кахане находит врагов повсюду, сводя их всех – христиан, нацистов, чернокожих, русских, арабов – к одному общему врагу. Все рассматривается с точки зрения страданий евреев и мщения за эти страдания. Государство Израиль – это не благословение Господне иудеям, а месть Его гоям: «Бог создал это государство не для евреев и не в качестве награды за справедливость и добрые дела. Святой, благословен Он решил, что не может больше терпеть осквернения имени Своего, а также глумления, позора и гонений народа, названного Его именем, поэтому повелел Он государству израильскому быть, вопреки диаспоре»[909]. Имя Господа осквернялось при каждом надругательстве над евреем, совершенном гоем: «Унижение еврея – это оскорбление Господа! Нападение на еврея – это поругание имени Бога!» Однако верным оказывалось и противоположное. Жестокий отпор представлял собой киддуш ха-шем, «освящение божьего имени»: «Еврейский кулак перед носом изумленного мира гоев, который не видел его уже два тысячелетия, – это киддуш ха-шем»[910].
Такая идеология побудила каханиста Баруха Голдштейна расстрелять 29 палестинцев, собравшихся на молитву в Пещере патриархов в Хевроне, во время праздника Пурим – 25 февраля 1994 г. Он мстил за гибель 59 евреев, убитых палестинцами 24 августа 1929-го, и эта месть привела к эскалации исламского террора в самом Израиле и на занятых им территориях.
Религиозный подъем, охвативший мусульманский мир после 1967 г., не затронул палестинцев. Их отклик на поражение арабов имел политический, секулярный и националистический характер. Ясир Арафат реорганизовал Организацию освобождения Палестины и начал кампанию по поиску решения палестинской проблемы, прибегая то к партизанской борьбе, то к террору, то к дипломатии. Движение было исключительно секулярным. Однако после того, как националисты из ООП потерпели в 1971 г. поражение в секторе Газа от Ариэля Шарона, шейх Ахмед Ясин основал исламское движение под названием «Муджама» («Конгресс»), развернувшее программу социальной поддержки сродни тем, которые организовывали «Братья-мусульмане». К 1987 г. «Муджама» выстроила в секторе Газа целую благотворительную империю: клиники, центры лечения от наркологической зависимости, молодежные клубы, спортивные комплексы и школы изучения Корана. Финансы поступали от закята (исламского налога), богатых нефтяных государств Персидского залива и от Израиля, который надеялся ослабить ООП, поддерживая «Муджаму». В этот период Ясин не планировал вооруженной борьбы с Израилем. Он выступал реформатором и хотел донести до беженцев Газы плоды эпохи модерна в исламской форме. Кроме того, он сражался с националистами за душу Палестины: идентичность палестинского народа, считал он, должна быть мусульманской, а не светской. Популярность «Муджамы» свидетельствовала о том, что многие палестинцы разделяли его точку зрения. Они гордились Арафатом, но его секулярный этос был понятен лишь верхушке, получившей современное западное образование[911].
Совершенно иную идеологию исповедовал «Исламский джихад», подпольная сеть, схожая с египетской организацией «Джихад». «Исламский джихад» применял идеологию Сайида Кутба к палестинской трагедии, интерпретируя ее в религиозном свете. Сейчас, считали активисты «Джихада», палестинское секулярное общество представляет собой джахилию, а участники движения – это авангард, сражающийся «против высокомерных, против колонизаторов всего мира», объяснял идеолог «Джихада» шейх Ауда. Они сражались за будущее всей уммы. В отличие от «Муджамы» «Исламский джихад» настраивался на вооруженную борьбу против Израиля и мишенью своей избирал религиозные объекты. Так, в октябре 1985 г. активисты забросали ручными гранатами военных и гражданских, собравшихся на церемонии принятия военной присяги у Западной стены, что привело к гибели отца одного из новобранцев. К этому времени организация действовала не только в секторе Газа, но и на Западном берегу[912].
9 декабря 1987 г. в Газе вспыхнуло народное восстание, получившее название интифады и распространившееся затем на Восточный Иерусалим и Западный берег. С 1967 г. на этих землях успело вырасти при израильской оккупации целое поколение палестинцев. Они возмущались прежним руководством ООП, так и не добившимся независимости Палестины, и устали от ежедневных унижений и тягот существования под гнетом чужой, враждебной власти. Израильтяне надеялись, что арабы на занятых территориях со временем покорятся, но к 1987 г. озлобленность против Израиля достигла пика. Палестинцы жаждали создать собственное независимое государство. Молодые руководители восстания сосредоточились на борьбе с оккупацией, агитируя каждого палестинца внести свой собственный вклад в это дело, поэтому женщины и дети швыряли камни в израильских солдат, потрясающих оружием и кичащихся своим силовым превосходством. Интифада потрясла и остальной арабский мир, и международное сообщество, а также придала сил израильским пацифистам, убедительно продемонстрировав, что палестинцы намерены обрести независимость и освободиться из-под израильского контроля любой ценой. Интифада произвела впечатление и на таких сторонников жестких мер, как Ицхак Рабин, который, будучи военным, осознал невозможность применения оружия против женщин и детей. Став премьер-министром в 1992 г., Рабин был готов к переговорам с ООП, и на следующий год Израиль и ООП подписали соглашения в Осло.
Однако уже в начале интифады была образована новая организация, придавшая палестинской борьбе пугающе нигилистический исламский уклон. Интифадой руководили светские лица, но часть активистов «Муджамы» основала движение ХАМАС (Харакат аль-мукавама аль-Исламия – Исламское движение сопротивления), призванное бороться и с израильской оккупацией, и с палестинским светским национализмом. ХАМАС сражался с секуляристами за мусульманскую душу Палестины, и молодежь вступала в организацию большими группами. Многие приходили из лагерей беженцев, но были и представители среднего класса, и «белые воротнички». Стремление действовать силой, как обычно, родилось в ответ на притеснение. ХАМАС ужесточил свои террористические действия после гибели 17 палестинских верующих на Харам аль-Шариф (Храмовой горе) 8 октября 1990 г. Страх уничтожения побуждал ХАМАС нападать и на палестинцев, которых считал пособниками Израиля. «Наши враги всеми силами пытаются уничтожить весь наш народ», – объяснял в 1993 г. представитель организации, поэтому любое сотрудничество с Израилем – это «страшное преступление»[913]. Как и «Исламский джихад», ХАМАС представлял арабо-израильский конфликт в религиозном свете. Причина палестинской трагедии, считали активисты, в том, что народ забыл свою религию, и освободиться из-под власти Израиля палестинцы смогут, лишь вернувшись к исламу[914]. ХАМАС утверждал, что Израиль обязан своими победами иудаизму и что Израиль намерен уничтожить ислам[915]. А значит, война палестинцев имеет оборонительный характер. После того как Барух Голдштейн расстрелял палестинских верующих в Хевроне, участники ХАМАС поклялись действовать по принципу «жизнь за жизнь». Активисты выждали 40 дней траура, а затем террорист-смертник уничтожил 7 израильтян – не на оккупированных территориях, а в самом Израиле, в городе Афула. Через неделю, 13 апреля 1994 г., другой смертник взорвал автобусную станцию в Хадере, убив пятерых. Насилие порождало новое насилие.
Действия террористов-смертников вызвали у многих израильтян настороженное отношение к подписанным годом ранее соглашениям в Осло, по которым ООП признавала Израиль в границах 1948 г. и обещала положить конец насилию и террору. Взамен палестинцам предлагалась частичная автономия на Западном берегу и в Газе на пятилетний период, после чего должна была начаться последняя стадия переговоров по таким вопросам, как израильские поселения на территориях, выплата компенсаций палестинским беженцам и будущее Иерусалима. Однако действия террористов-смертников в Израиле свидетельствовали: Арафат не может повлиять на исламских боевиков, противостоящих секулярному режиму. И некоторые израильтяне, особенно принадлежащие к правому крылу, обвинили Рабина в том, что подписанием соглашений он поставил под угрозу безопасность Израиля.
Кукистских раввинов соглашения привели в ярость: правительство совершало преступление, отказываясь от священной земли. В июле 1995 г. рабби Авраам Шапира с 14 гушистскими раввинами велел военным нарушить приказ командования, когда армия начала эвакуировать людей с оккупированных территорий. Это выглядело объявлением гражданской войны. Другие гушистские раввины поставили вопрос ребром: нельзя ли считать Рабина родефом (преследователем), который активно угрожает жизни иудея, а значит, по иудейскому закону заслуживает смерти?[916] 4 ноября 1995 г. Игаль Амир, учившийся в иешиве по программе хесдер, позволяющей совместить учебу со службой в армии, и студент Университета имени Бар-Илана, совершил покушение на Рабина во время мирной демонстрации в Тель-Авиве. Изучение иудейского закона, сообщил он впоследствии, привело его к выводу, что Рабин действительно родеф, враг еврейского народа, и его долг – уничтожить врага[917].
Как и гибель Садата, убийство Рабина продемонстрировало, что на Ближнем Востоке ведутся две войны. Одна – это арабо-израильский конфликт, а другая – война между секуляристами и верующими внутри таких непохожих стран, как Израиль и Египет. Религиозные евреи не единственные чувствовали себя оскорбленными до глубины души и пылали гневом. Израильские секуляристы тоже испытывали отторжение и оскорбления со стороны верующих. Знаменитый израильский писатель Амос Оз, гуляя по кварталу харедим в Иерусалиме, вспоминал, что первые сионисты не признавали ортодоксальный иудаизм и «изгоняли его из окружающего мира и из своей души. Охваченные ненавистью и презрением, они изображали его как болото, как нагромождение мертвых слов и погасших душ». На эту неприязнь харедим отвечали тем же. На стенах зданий в кварталах, населенных активистами «Нетурей Карта», Оз видел черные свастики и надписи «Смерть сионистским гитлеровцам!» и «Долой Тедди Коллека [мэра Иерусалима, сторонника Партии труда]!». Оз вспомнил и своего учителя Дов Садана, который утверждал, что светский сионизм – это лишь мимолетный эпизод еврейской истории и что ортодоксальный иудаизм воспрянет, «поглотит сионизм с потрохами и переварит». Бродя теперь по улицам ультраортодоксального квартала, Оз чувствовал, как давит со всех сторон набирающий силу харедистский иудаизм, «потому что он растет и ширится, угрожая вашей духовности, и точит корни вашего мира, готовясь завладеть им, когда вы и вам подобные исчезнут»[918]. Похоже, светские израильтяне тоже боятся уничтожения и испытывают иррациональный страх перед лицом религиозного противника.
Оз ухватил самую суть проблемы. Фундаменталисты и секуляристы – любой веры – враждуют друг с другом из-за своих кардинально разнящихся представлений о святом. О «Гуш Эмуним» Оз отзывался как о «жестокой и непримиримой секте», которая выползла «из темного угла иудаизма и угрожает уничтожить все, что нам дорого и свято». Для секуляристов и либералов – иудейских, христианских, мусульманских – такие ценности Просвещения, как независимость личности и свободомыслие, непреложны и святы. По отношению к ним не может быть компромиссов и уступок. Эти принципы настолько важны для либерального или секулярного мировоззрения, что удар по ним ощущается человеком как угроза самому его существованию. Если фундаменталисты боятся быть уничтоженными секуляристами, то либералы вроде Оза видят опасность в гушистах, способных «вовлечь нас в бессмысленную кровавую резню». Истинная цель гушистов, считает он, не завоевание Наблуса или Хеврона, а «навязывание государству Израиль уродливой и искаженной версии иудаизма. Истинная цель этого культа – изгнать арабов, а затем взяться за евреев и поставить всех на колени перед их лжепророками»[919]. И верующие, и секуляристы смотрят друг на друга с ужасом. И тем и другим застят глаза воспоминания о бесчинствах, жестокости и нетерпимости «противной стороны», поэтому, лелея свою кровную обиду, помириться они не могут.
Поляризация и вражда не обошли стороной и Америку. В Соединенных Штатах религиозные фундаменталисты отличались большей сдержанностью и законопослушностью: не покушались на президентов, не устраивали революций, не захватывали заложников. И тем не менее американское религиозное сообщество тоже не избежало глубокого раскола. По данным опросов, верующие Соединенных Штатов четко разделились на два почти равночисленных противоборствующих лагеря. Проведенное в июне 1984 г. службой социологических опросов Гэллапа исследование выявило, что 43 % американцев причисляют себя к либералам, 41 % – к консерваторам, а основные религиозные деноминации расколоты надвое. Большинство респондентов считали раскол «серьезным» и придерживались негативного мнения о «противной стороне», которое, в отличие от других предубеждений, не смягчалось при увеличении количества контактов[920]. Другие опросы показали, что, хотя фундаменталистами себя называют лишь 9 % американцев, основные доктрины протестантского фундаментализма распространены гораздо шире: 44 % считали, что спасение придет только через Иисуса Христа; 30 % причисляли себя к «пережившим второе рождение»; 28 % утверждали, что каждое слово в Библии следует толковать буквально; 27 % отрицали вероятность научно-исторических несоответствий в Библии[921].
Своими успехами американский фундаментализм был обязан не только маркетинговому мастерству Джерри Фолуэлла и других телеевангелистов. Сама американская культура и религиозный уклад способствовали отчасти такому буквалистскому пониманию веры, обеспечивая для него подготовленную почву[922].
Однако в 1980-х фундаментализму пришлось нелегко. Удар по репутации нанесло, в отличие от других стран, не убийство президента и не террористическая кампания, а по-своему не менее разрушительный и подорвавший доверие людей скандал, угрожавший утопить телеевангелистов в пучине пошлости, погони за прибылями и сексуальных интриг. Не в самой ли природе американского фундаментализма таилось что-то, что способствовало телевизионным скандалам 1987-го?
Поскольку в христианстве делался упор на доктрину, протестантский фундаментализм отличался своей направленностью от рассмотренных нами фундаменталистских течений. Характерная для иудеев и мусульман сосредоточенность на обрядовой стороне приводила к тому, что фундаменталисты этих религий превращали мифы своей веры в идеологию. Самые большие трагедии случались тогда, когда эту мифологию пытались напрямую воплотить в практической программе действий. Идеологи стремились подчинить свою теорию современному критерию эффективности, согласно которому «истина» должна работать результативно, практически, иначе ее не примут всерьез. Иудейские и мусульманские фундаменталисты превращали свои мифологемы в прагматические логемы, призванные обеспечивать практические результаты. Протестантские фундаменталисты искажали миф по-другому. Они представляли христианские мифы как научные факты, порождая мертвый и с научной, и с религиозной точки зрения гибрид. Это противоречило всей духовной традиции и требовало большого напряжения, поскольку религиозная истина по природе своей не рациональна и не может быть доказана научными методами. Протестантские фундаменталисты забывали об интуитивной и мистической составляющей, поэтому теряли связь с бессознательным, с глубинными побуждениями личности. В результате американский ревайвализм временами приобретал анархический и невротический характер. К концу 1980-х некоторые фундаменталисты были готовы взбунтоваться против неестественности этой рационалистической веры. Как мы уже видели, немало проблем доставляли фундаменталистам половые вопросы, заставляя беспокоиться о потенции и гендерных границах. Неудивительно в таком случае, что вспыхнувший бунт принял именно сексуальную направленность.
Телевидение и народная слава, которую оно способно принести, – опасная ловушка для неокрепшего духа. Кроме того, что нарциссизм, присущий культу личности, несовместим с преодолением эго, характеризующим духовные поиски, телеевангелист может попросту утратить связь с реальностью. Огромные суммы денег, сосредоточенные в руках успешных телепроповедников, плохо согласуются с евангельским требованием отказаться от погони за материальными благами. Джим и Тэмми Фэй Беккеры, ведущие передачи PTL (Praise the Lord and People That Love – «Славьте Господа и любящих людей») в Северной Каролине, своим экстравагантным образом жизни вызвали бурю негодования. Газета Charlotte Observer не один год печатала статьи о том, что, призывая зрителей вести скромную жизнь и жертвовать деньги в пользу неимущих, сами Беккеры покупали жилье в кондоминиуме с видом на океан за $375 000 и тратили $22 000 на зеркала во всю стену[923]. Ничего общего с Джерри Фолуэллом, который у себя в Линчбурге был образцом сдержанности и аскетизма.
Наибольшую известность Беккерам обеспечивал христианский тематический парк «Наследие США», созданный по образцу Диснейленда. Парк раскрывал евангелическую историю Северной Америки, привлекая большое количество посетителей. Американский антрополог Сьюзен Хардинг в своей увлекательной статье высказывает предположение, что Беккеры вполне сознательно устраивали бунт против Фолуэлла с его религиозностью здравого смысла, продвигая фундаментализм на новую, постмодернистскую стадию[924]. С конца XIX в. американские фундаменталисты отвечали на вызовы модерна попытками полностью рационализировать веру. Они подчеркивали ценность разума и рассудка, ударялись в сухой буквализм, отрицающий воображение и фантазию, делили мир на непроницаемые отсеки, где белое четко и безоговорочно отделялось от черного, а истинно верующие – от секуляристов и либеральных христиан. Их этика была сепаратистской. Фундаменталисты создали контркультуру, которая должна была содержать в себе все то, чего не хватало в лишенном Бога доминирующем укладе жизни: в качестве оружия против сомнений, неразрешенных вопросов и меняющихся ликов современного мира эта вера предлагала жесткую безапелляционность и иерархичность. Однако «Наследие США», как и другие формы постмодернистской культуры, отличалось смешением жанров, игровым характером, вседозволенностью и зрелищностью.
Пытаясь рационализировать веру и придать ей наукообразность, фундаменталисты ставили религию в неестественное положение. В свое время они, цепляясь за бэконовский идеал, боролись с научным рационализмом дарвиновской теории, основанным на гипотезах и свободном поиске, – теперь Беккеры точно так же бунтовали против рационализма традиционных фундаменталистов вроде Фолуэлла. Как отмечает Хардинг, христианская история Америки в изображении «Наследия США» представляла собой дикое смешение разнородных категорий. Неестественность и искусственность соединенных в парке «экспонатов» бросалась в глаза, не давая никакого представления о реалиях. Торговый центр представлял собой смесь викторианского и колониального стилей, эклектическое нагромождение, не претендующее на правдоподобие. При входе демонстрировался «настоящий» дом Билли Грэма, однако фотографии на стенах показывали процесс его сноса и постройки заново в тематическом парке, что, несомненно, нарушало аутентичность. «Точной копии» Сионской горницы (где Иисус совершил Тайную вечерю и установил обряд евхаристии) был намеренно придан вид декорации. Церковные службы проводились в телестудии; в отличие от Фолуэлла, Беккеры никогда не снимали обычную проповедь или литургию. Акцент всегда делался на зрелищность, на спектакль, на фантазии, а не на буквалистское прочтение, свойственное фундаментализму.
Хардинг предполагает, что Беккеры, проповедующие бесконечную любовь Господа, развивали параллельно народную теологию бесконечного прощения, которое, по сути, санкционировало грех, обещая заведомое прощение Всевышнего[925]. Как мы уже убедились на примерах из прошлого, подобный бунт в духе антиномианизма возникал иногда в переходные периоды, когда прежние правила и уклад перестают отвечать меняющимся обстоятельствам и часть верующих, которым стало тесно в этих рамках, пускается на поиски чего-то нового. И они находят утешение в нарушении прежних табу. Некоторые скатываются до того, что разрабатывают теологию «священного греха». Что-то подобное, видимо, происходило и в PTL, когда в марте 1987 г. разразился потрясший страну скандал. По утверждению Charlotte Observer, в 1980 г. Джим Беккер накачал наркотиками и соблазнил церковную служительницу Джессику Хан с Лонг-Айленда, а затем заплатил ей $250 000 за молчание[926]. Сразу после выяснилось, что Тэмми Фэй, влюбившись в кантри-певца Гэри Пакстона, разрушила его брак. Тем не менее, когда горькая правда выплыла наружу, Беккеры не ушли в тень, сгорая от стыда, а публично все подтвердили, разглагольствуя перед огромной телевизионной аудиторией о Господней любви и всепрощении.
Режим, которого придерживался Фолуэлл в Линчбурге, был попыткой опереться на рамки консервативной, премодернистской религии, помогавшей человеку смириться с неизбежными ограничениями. Пример Беккеров демонстрирует, что происходит, когда эти рамки полностью отбрасываются. Если другие фундаменталистские движения порождались ощущением гнета, то постмодернистское христианство Беккеров отражало присущее концу XX столетия убеждение, что «все дозволено». Огромные деньги внушали Беккерам уверенность, что законы им не писаны. Нет никаких границ, прежние категории добра и зла можно тасовать с такой же легкостью, как подлинное и искусственное в «Наследии США». Разумеется, эта позиция была искажением христианства.
Скандалы на этом не закончились. Джим Беккер ушел из PTL и попросил Джерри Фолуэлла спасти программу, временно взяв все дела на себя. Сам Беккер тем временем ополчился на Джимми Сваггерта, вытащившего скандальные подробности на свет, и выдвинул обвинение, что тот хочет прибрать PTL к рукам. Сваггерт, в свою очередь, тоже оказался антиномианистом. В этот период он был, пожалуй, самым успешным из телепроповедников. Его передачи транслировались на 145 стран и, по его утверждению, появлялись на экранах половины домов планеты. Однако в Батон-Руж (Луизиана) он посещал проститутку, которая позже ясно дала понять, что Сваггерта интересовал не столько секс, сколько садистские ритуалы унижения и подчинения. Он определенно любил играть с огнем, поскольку, даже будучи осведомленным о том, что в мотеле его видели и узнали, все равно продолжал туда наведываться, пока не грянул гром. На чистую воду его вывел другой священник, Марвин Горман, которого Сваггерт критиковал в своей программе[927].
Сваггерт принадлежал к пятидесятникам. На заре своего развития пятидесятничество выступало прямой противоположностью фундаментализма, пытаясь дать слово непогрешимой божественной истине, а разум отодвинуть на второй план. Оно не считалось с риском неподготовленного вторжения в область бессознательного и с опасностями, которыми чреват отказ от разума. Однако раннее пятидесятничество, надо отдать ему должное, отличалось всеохватностью и стремлением преодолевать расовые и классовые барьеры. Сваггерт же проповедовал религию ненависти. Он прославился своими яростными нападками на гомосексуалистов – этот поток сквернословия с головой выдавал его собственные глубоко запрятанные сексуальные отклонения. Кроме того, он поносил других священников и конкурентов-телепроповедников, а также присоединился к «Моральному большинству» в его крестовом походе под знаменем критиканства. Ломая ограничения, накладываемые разумом и требованиями милосердия, Сваггерт пришел к не менее саморазрушительной и нигилистической религиозности, чем некоторые из рассмотренных нами направлений фундаментализма.
Американского журналиста Лоуренса Райта покорили эмоциональные проповеди Сваггерта. Он чувствовал, что Сваггерт бунтует против оков рационального модерна, его «вызывающая эмоциональность» даже отдаленно не напоминала «сухие заумные выкладки», которыми пичкали Райта в церкви во времена его детства. Он обнаружил, насколько упоительно «экстатическое отречение от собственной зашоренности, критиканства и нелепости»[928], и то же самое, вероятно, испытывали остальные поклонники Сваггерта, приходящие в экстаз от его сногсшибательных проповедей. «Он погружался все глубже и глубже в подсознание, уходя от разума и осознанных смыслов в бурю эмоций, зарытые глубоко в душе страхи и безымянные желания, бурлящие в темной глубине. Его голос повышался и дрожал, слова путались, но он, спотыкаясь, продирался дальше, к ускользающей кровоточащей нервной струне, струне дерзости и жажды. Он знал, где она. Смотреть на него было одновременно страшно и соблазнительно, потому что за этой струной скрыта вера. Жажда любви и спасения – когда он наконец касался этой струны, слезы лились градом, зрители вскакивали с мест, воздевая руки, смеясь, рыдая, славя Господа, говоря на иных языках и дрожа от боли и наслаждения, которые дарила эта захватывающая публичная демонстрация потаенного»[929]. Лучшие представители премодернистской духовности, такие как Иоанн Крестный, Ицхак Лурия или мулла Садра, избегали подобных эмоциональных эксцессов, утверждая, что они не имеют отношения к религии. Их путешествие в глубь себя было спокойным, дисциплинированным, а в попутчики выбирался разум. Посвящения в каббалу удостаивался только человек, перешагнувший по крайней мере сорокалетний рубеж, женатый, достигший сексуального равновесия. Мир модерна, забывший о более интуитивных путях постижения истины, практически полностью утратил это мистическое знание. Успех Сваггерта доказывает, что в нашем сверхрационализированном мире человек жаждет экстаза, однако погоня за ним может расшатать психику. Неистовство Сваггерта, скорее всего, было выражением не духовности, а неудовлетворенных сексуальных потребностей, которые толкали его в том числе на «публичную демонстрацию потаенного» в мотеле Батон-Ружа.
Самым убедительным доказательством провала фундаменталистской веры служат те ненависть и грязь, которой поливали друг друга телепроповедники во время скандала. Прослышав о сексуальной связи Беккера с Джессикой Хан, Сваггерт «вцепился в Джима Беккера, как питбуль в пуделя. Порвал его в клочья, просто уничтожил», как вспоминал один из бывших помощников Сваггерта[930]. Затем Беккер ополчился на Джерри Фолуэлла, пришедшего на помощь PTL, и обвинил его в том, что он решил прибрать компанию к рукам, воспользовавшись ситуацией. Фолуэлл созвал пресс-конференцию, на которой продемонстрировал данные под присягой письменные показания лиц, вступавших в гомосексуальные отношения с Джимом Беккером, а также перечень отступных, которые требовала Тэмми Фэй от PTL за уход по-тихому: $300 000 в год для Джима, $100 000 для себя, авторские отчисления от продаж всех книг и записей PTL, свой особняк за $400 000, две машины, охрану, компенсацию судебных издержек и оплату бухгалтеров, которые пытались разобраться в запутанных финансовых делах Беккеров. Великое фундаменталистское предприятие завязло в отвратительном непролазном болоте. За год до скандалов Фолуэлл был полон уверенности. Он переименовал «Моральное большинство» в «Федерацию свободы» и объявил, что многие активисты будут участвовать в выборах 1988 г. в качестве кандидатов на муниципальном, штатном и федеральном уровнях. Однако после скандала с PTL 4 ноября 1987 г. Фолуэлл оставил пост главы «Морального большинства» и «Федерации свободы» и провозгласил окончание своей политической карьеры. Он больше не будет работать в штабе поддержки кандидата в президенты, как работал с Рональдом Рейганом, и не станет лоббировать законопроекты. После скандалов поток средств от его собственного «Евангельского часа доброго старого времени» иссяк, и Фолуэллу пришлось вернуться к обычному баптистскому приходу[931]. Время от времени он еще будет напоминать о себе, разглагольствуя о пороках страны, однако претендовать на скорое создание коалиции религиозных консерваторов, которая завоюет Америку, он уже не мог. Когда Пэт Робертсон проиграл президентские выборы, фундаменталистское наступление, так триумфально начавшееся в 1979 г., казалось, потерпело поражение. Дискредитированное Новое правое христианство с позором провалилось, и, хотя отдельные христиане продолжали заниматься лоббированием и агитировать избирателей, секуляристы склонялись к выводу о том, что фундаменталистская угроза миновала.
Тем не менее фундаментализм был не только жив, но и переходил в Америке в новую, более эстремистскую фазу. 28 ноября 1987 г. Рэндалл Терри, «переживший второе рождение» христианин из северной части штата Нью-Йорк, привел три сотни «спасателей» к клинике абортов в Черри-Хилле, Нью-Джерси. Они провели почти 11-часовую службу на «пороге ада», как выразился Терри, – молясь, распевая псалмы и не давая женщинам и персоналу пройти в клинику. К концу дня 211 «спасателей» были арестованы, но, триумфально подытожил Терри, «ни один младенец не погиб»[932]. Это была первая акция «Операции спасения», которая объявила войну доминирующему культурном укладу, подчеркивая в нем приятие убийства. Движение отличалось воинственной образностью. Во время съезда Демократической партии в Атланте в 1988 г. они организовали так называемую «осаду Атланты», в которой свыше 1300 демонстрантов были арестованы за блокаду абортных клиник города. С тех пор Дни спасения проводились по всей Канаде и Соединенным Штатам, устраивались также семинары, где будущих «спасателей» просвещали на тему пороков феминизма и либерального правительства, а также инструктировали по технологиям лоббирования. Свои «операции» активисты называли актами «библейского неповиновения». В отличие от Фолуэлла и Робертсона Терри был готов действовать вне закона. Он ставил перед собой фундаменталистскую задачу: создать «страну, где в основу политики, права, общественной морали будет возвращена иудеохристианская этика; страну, не болтающуюся по волнам гуманизма, а твердо стоящую на крепком фундаменте Высшего закона».
Кампания ведется не только против абортов – в свое время и процесс над Скоупсом касался не только эволюции. Как и Уильям Дженнингс Брайан в 1920-х, Терри и его «спасатели» считают, что сражаются против одного из самых суровых проявлений светского модерна. Терри убежден, что в случае провала «Операции спасения» «Америка пропадет». Однако он уверен в своих силах: «За нами стоит целая армия», – и в результате этих акций «с детоубийством будет покончено, за ним придет черед детской порнографии, эвтаназии, убийства новорожденных… мы возродим культуру»[933]. Цель этой войны – отвратить неминуемую катастрофу и спасти американскую цивилизацию.
Движение Христианской реконструкции, основанное техасским экономистом Гэри Нортом и его тестем Р. Дж. Рашдуни, тоже ведет войну против светского гуманизма, еще более ожесточенную, чем война «Морального большинства». Активисты движения променяли прежний премилленаристский пессимизм на более действенную идеологию. Как и мусульманских фундаменталистов, Норта и Рашдуни заботит в первую очередь господство Бога. Необходимо создать христианскую цивилизацию, которая сокрушит Сатану и приблизит наступление Тысячелетнего Царства. Ключевое понятие Реконструкции – Господство. Бог повелел Адаму, а затем и Ною подчинить мир. Христиане унаследовали эту волю, поэтому их обязанность до Второго Пришествия установить власть Иисуса на земле. Однако христианам не придется для этого ничего предпринимать, поскольку Господь сам устроит страшную катастрофу, в которой погибнет современное государство, а христианам останется только пожинать плоды.
В ожидании этого триумфа активисты Реконструкции готовят себя к тому, чтобы взять бразды правления, когда будет уничтожено светское гуманистическое государство[934]. Такая трактовка своим уходом от этики сострадания являет собой полное искажение христианской доктрины. Когда наступит Царство, исчезнет разделение церкви и государства, упразднится модернистская ересь демократии и общество заживет строго по библейским законам. Это означает, что каждый библейский завет должен обрести буквальное воплощение. Вернется рабство, не будет контроля над рождаемостью (поскольку верующие должны «плодиться и размножаться»), прелюбодеи, гомосексуалисты, святотатцы, астрологи и ведьмы будут преданы смерти. Побивать камнями Библия велит и детей, упорствующих в непослушании. Экономика обретет строго капиталистический уклон, социалисты и склонные к «левизне» – грешники, поскольку Господь не на стороне бедных. Как объясняет Норт, «порок тесно связан с бедностью»[935]. Налоги не следует тратить на программы социальной поддержки, поскольку «поощрение лености – это поощрение порока»[936]. То же самое касается стран третьего мира, которые навлекли на себя экономические проблемы своим распутством, язычеством и неправедностью. Библия запрещает принимать помощь от иноземцев[937]. В ожидании победы – которое, признает Норт, может быть долгим, – христиане должны готовиться к тому, чтобы перестроить общество по заветам Господа и поддерживать действия правительства, приближающиеся к этим строгим библейским нормам.
Господство, о котором говорят Норт и Рашдуни, – тоталитарное. В нем нет места иному мировоззрению и политическим взглядам, нет демократической терпимости к конкурирующим партиям, нет свободы личности. Вероятность, что эта теология завоюет большую популярность в Соединенных Штатах, крайне низка; однако предполагается, что в случае природного катаклизма или крупной экономической катастрофы на смену просвещенческому либерализму придет автократичная церковь. Как-никак, христианство смогло приспособиться к капитализму, который противоречил многому из того, чему учил Иисус. А еще оно способно поддержать фашистскую идеологию, которая в катастрофически изменившихся обстоятельствах может понадобиться для обеспечения общественного порядка[938].
Реконструкционной теологией заинтересовался ряд наиболее консервативных пятидесятников, несмотря на неприязнь Рашдуни к этому движению. Пэт Робертсон пока не определился: он баптист, склоняющийся к пятидесятничеству и к ривайвализму. Как и Норт, он считает, что до Второго пришествия еще далеко, – в отличие от традиционных премилленаристов[939]. В ожидании Пришествия, полагает Робертсон, христиане должны постараться получить должности во власти, чтобы перестроить общество по библейским законам[940]. Свой университет в Вирджиния-Бич он переименовал в Регентский, объясняя, что регент – это тот, кто «правит в отсутствие властителя». Задача университета – подготовить 700 своих студентов к тому, чтобы встать у руля, когда наступит Царство[941]. Со времен публикации «Фундаментальных основ» (1910–1915) американский фундаментализм успел измениться. В нем проявляются как постмодернистские, антиномианистские тенденции, так и более непримиримые, тоталитарные.
Фундаментализм не собирается уходить со сцены. В Америке религия уже долгое время составляет оппозицию правительству. Ее падения и взлеты всегда были цикличными, и события последних нескольких лет указывают на то, что огонь войны между консерваторами и либералами тлеет по-прежнему, иногда ярко разгораясь, что не может не тревожить. В 1992 г. Джерри Фолуэлл, который все еще придерживается традиционных фундаменталистских взглядов, объявил, что избрание президентом Билла Клинтона развязало руки Сатане. Клинтон, ярился Фолуэлл, развалит армию и страну, давая волю «геям». Разрешение проводить аборты в клиниках, финансируемых из федерального бюджета, исследование эмбриональных тканей, официальное закрепление прав гомосексуалистов – все это свидетельствовало о том, что Америка «объявила войну против Господа»[942].
В 1993 г. война принесла первые жертвы. 28 февраля 1993-го возглавляемую Дэвидом Корешем общину «Ветви Давидовой» в техасском городе Вако взяли штурмом представители Бюро по контролю за алкоголем, табачными изделиями и огнестрельным оружием, узнав, что в общине устроен оружейный склад. На самом деле, хотя представители секты (отколовшейся от адвентистов Седьмого дня), по примеру многих техасцев, владели впечатляющим арсеналом, революционных действий против правительства они не планировали. Штурм общины был призван продемонстрировать силу и правомочия правительства США, однако результат оказался обратным. За штурмом последовала осада общины представителями ФБР, поджог зданий и гибель 80 человек, в том числе женщин и детей. Вместо предполагаемой силы правительство продемонстрировало свое безразличие к людям, бессилие перед осажденными сектантами и трагическое неумение владеть ситуацией.
Наиболее экстремистски настроенные христиане, со своей стороны, тоже готовятся бороться со светским правительством. Так, фашистская идеология Христианской идентичности до сих пор не упоминалась в данной книге, поскольку оставила фундаментализм далеко позади и на самом деле не одобряет его идей. Приверженцы Идентичности отвергают Вознесение перед Судным днем, считая, что надежда на него выхолащивает американскую религию: они желают остаться на земле и самим сразиться с силами зла в День гнева Господня. Будучи ярыми антисемитами, они порицают фундаменталистов за поддержку сионизма, который считают величайшим грехом. По их представлению, евреи обманом забрали звание богоизбранного народа у арийской расы, а теперь присвоили и Святую землю, которая должна была оставаться британской подмандатной территорией. Они считают, что войны Судного дня разразятся не на Ближнем Востоке, а в Америке, предрекают новый холокост, в котором погибнет белая раса и Соединенные Штаты, и готовятся к грядущей катастрофе. Федеральное правительство, которое они называют ZOG (Сионистское оккупационное правительство), подчиняющееся Сатане и евреям и направленное на уничтожение арийской нации, постигнет неизбежная гибель. Часть приверженцев этой идеологии формируют военизированные отряды в удаленных уголках северо-запада Соединенных Штатов, где участники обучаются приемам выживания, собирают оружие и боеприпасы и готовятся к последней войне. Одни совершают нападения на ZOG, убивая государственных лиц, другие взрывают и поджигают клиники, где проводятся аборты[943]. Именно эта идеология побудила Тимоти Маквея совершить теракт в федеральном здании Оклахома-Сити 19 апреля 1995 г.
Четко обозначить все действия и идеологию Христианской идентичности сложно, поскольку это не единое движение, а конгломерат родственных организаций. Численность их невелика, в них состоит не более 100 000 человек, а может быть, всего 50 0001. Однако тенденция, выражаемая Христианской идентичностью, настораживает. Как и фундаменталисты, они в презрении и страхе удалились от мира и вынашивают планы по его захвату. Подобно наиболее экстремистски настроенным фундаменталистам, они повсюду видят заговоры и культивируют теологию ярости и негодования. Однако своим откровенным фашизмом, неприкрытой ненавистью к правительству США и крайностями при отгораживании от современной жизни они оставляют фундаменталистов позади. Их не заботят доктрины и непогрешимость Библии – приверженцы Идентичности хотят выкроить себе в Америке отдельное арийское государство. Они разработали идеологию отчуждения и террора, которой нет аналогов в американской истории. Как и движение Реконструкции, этот рыхлый конгломерат выступает хоть и мелким, но тревожным примером того, чем может обернуться в будущем религия, выражающая беспомощность, разочарование и недовольство. Секулярное большинство и основные деноминации могут считать, что фундаменталистская угроза в США сходит на нет, но с точки зрения отдельных христиан война продолжается, федеральное правительство подлежит уничтожению, и конфликт этот определенно потянется и в XXI в. от Рождества Христова.
Религия по-прежнему жива, а в некоторых кругах делается еще более воинственной. Фундаменталисты всех трех монотеистических религиозных систем давали яростный отпор попыткам подавить религию или превратить ее в частное дело, спасая ее, как им кажется, от забвения. Борьба была тяжелой, и в ходе нее вера нередко извращалась, что для религии пагубно. Однако фундаментализм – составная часть современного мира. Он отражает массовое разочарование, отчуждение, тревогу и ярость, которые ни одно правительство не вправе игнорировать без риска для себя. Пока попытки иметь дело с фундаментализмом были не особенно удачными. Какие уроки нам следует извлечь из прошлого, чтобы научиться более успешно справляться в дальнейшем со страхами, которые так лелеет фундаментализм?
Послесловие
Мы не можем исповедовать религию, как исповедовали ее наши предки в премодернистскую традиционную эпоху, когда мифы и обряды примиряли человека с присущими аграрной цивилизации ограничениями. Человек эпохи модерна ориентируется на будущее, и тем из нас, кто вырос на рационализме современного мира, трудно воспринять прежние формы духовности. Мы в чем-то похожи на Ньютона, который одним из первых на Западе, полностью проникшись научным духом, совершенно перестал понимать мифологию. Как бы мы ни старались приобщиться к традиционной религии, привычка считать истиной документальные, исторические и эмпирические факты – базовая. У многих сложилось убеждение, что веру нельзя воспринимать всерьез, если не доказана историческая достоверность ее мифов и способность продуктивного, с точки зрения модерна, практического осуществления. Все больше людей, особенно в Западной Европе, переживших огромные трагедии в XX в., отворачиваются от религии. Для тех, кто видит разум единственным путем постижения истины, это принципиальная и честная позиция. Как подтвердят первыми сами ученые, вечные философские вопросы находятся вне компетенции рационального логоса и эмпирического познания. Перед массовым истреблением людей, которым изобилует наш век, разум пасует.
Поэтому в самом сердце современной культуры зияет бездна, которая разверзлась перед Западом на раннем этапе научной революции. Паскаль содрогался в страхе перед космической пустотой; Декарт представлял человека единственным обитателем бездушной Вселенной; Гоббс считал, что Бог удалился от мира, а Ницше провозглашал: «Бог умер»; человечество сбилось с пути и катится в бесконечное ничто. Однако другим потеря веры давала чувство свободы, независимости от накладываемых ею уз. Сартр, увидевший в современном сознании дыру на месте Бога, по-прежнему вменял человеку в обязанность отвергать божество, лишающее нас свободы. Альбер Камю (1913–1960) полагал, что, отказавшись от Бога, мы сможем направить все свое внимание и любовь на человечество. Другие посвящали себя идеалам Просвещения, устремляясь мыслью в будущее, где человек станет более рациональным и толерантным; они предпочитают поклоняться священной свободе личности, а не далекому воображаемому божеству. Они создали секулярные формы духовности, дарующие озарение, возможность выхода к трансцендентному и восторг, внутри которых сложились собственные духовные ценности.
Тем не менее немалое количество людей по-прежнему хотят исповедовать религию и нащупывают новые направления веры. Фундаментализм представляет собой лишь один из этих современных религиозных экспериментов и, как мы уже убедились, добился определенных успехов в возвращении религии на международную арену, однако нередко он упускал из вида самые святые ценности конфессиональных религий. Фундаменталисты превращали миф своей религии в логос, либо отстаивая научную истинность ее догм, либо пытаясь из сложной мифологии создать рационализированную идеологию. Они смешивали два взаимодополняющих источника и способа познания, которые в премодернистскую эпоху обычно считали целесообразным разделять. Фундаменталистский опыт подтверждает мудрость этого традиционного представления. Утверждая объективность и научную доказуемость христианских истин, фундаменталисты из числа американских протестантов сотворили карикатуру и на религию, и на науку одновременно. Иудеи и мусульмане, пытавшиеся представить свою веру рациональной и систематизированной, чтобы не проиграть на фоне светских идеологий, также искажали традицию, безжалостным перекраиванием сужая ее до предела. В результате более толерантные, адресованные всем людям и проповедующие сострадание учения оставались за бортом, и появлялись теологии ярости, негодования и мести. Временами доходило до того, что отдельные малочисленные группы оправдывали подобной извращенной религией убийство людей. Но и большинство фундаменталистов, не приемлющих террористические акты, склонны к неприятию и порицанию инакомыслия.
Гнев фундаменталистов служит напоминанием о том, что современная культура предъявляет человеку крайне суровые требования. Она, несомненно, наделила нас могуществом, открыла новые миры, расширила горизонты и подарила многим более счастливую и здоровую жизнь. И она же нередко подрывает наше чувство собственного достоинства. Провозглашая человека мерой всех вещей и позволяя не зависеть от сверхъестественного божества, рациональное мировоззрение одновременно вынуждает нас осознать собственную хрупкость, уязвимость и отсутствие самоуважения. Коперник лишил человека статуса центра Вселенной, сместив на периферию мироздания. Кант заставил нас усомниться в соответствии наших представлений какой-то иной действительности, кроме существующей в нашем сознании. Дарвин поставил нас в один ряд с животными, а Фрейд показал, что человек подчиняется не только разуму, но и могущественному иррациональному влиянию бессознательного, проникнуть в которое весьма нелегко. И современная действительность это подтверждала. Несмотря на культ разума, история эпохи модерна изобиловала примерами «охоты на ведьм», а мировые войны являли собой образец безумия. Утратив способность погружаться в глубинные слои психики, которую давали древние мифы, литургия, мистические практики традиционной веры, разум в нашем дивном новом мире, казалось, периодически пропадал и сам. В конце XX в. либеральный миф, утверждающий, что человечество движется вперед к большей просвещенности и толерантности, выглядит не меньшей утопией, чем другие милленаристские мифы, рассмотренные нами в этой книге. Не сдерживаемый «высшей», мистической истиной, разум может временами принимать демонический характер и толкать человека на преступления не менее, если не более ужасные, чем бесчинства фундаменталистов.
Эпоха модерна несла благо, пользу, цивилизованность, однако зачастую, особенно на ранних стадиях, не могла обойтись без жестокости, особенно в развивающихся странах, воспринимающих современную западную культуру как чуждую, захватническую и империалистическую. В рассмотренных нами мусульманских государствах модернизация шла тяжело и совсем не так, как на Западе. Если на Западе ее отличительными чертами были независимость и инновации, то для Египта и Ирана модернизация означала зависимость и слепое копирование, что отчетливо сознавали мусульманские реформаторы и идеологи. Поэтому модернизация в этих странах принимала иной характер. Если замесить в тесто неправильные ингредиенты (яичный порошок, а не свежие яйца, рис вместо муки) и печь в плохой печи, получится совсем не то, что подразумевалось в рецепте. Может быть, вкусно, но скорее всего отвратительно. Поэтому лучше взять имеющиеся в наличии приемы и ингредиенты и постараться приблизиться к образцу, полагаясь на местный опыт и кулинарное мастерство. Выдающиеся исламисты – Афгани, Абдо, Шариати, Хомейни – хотели испечь из мусульманских ингредиентов собственный самобытный и современный пирог.
Однако тех представителей Запада, которые уже не мыслят религиозными категориями, этот религиозный подъем поверг в смятение, особенно его насильственные и жестокие проявления. Зачастую современное общество раскалывается на «два народа»: секуляристы и верующие, живущие в одной стране, не понимают языка друг друга и смотрят на мир совершенно по-разному. То, что свято и хорошо для одного лагеря, другому кажется абсурдным воплощением зла. Секуляристы и верующие внушают друг другу страх, а когда сталкиваются два непримиримых мировоззрения, как в скандале вокруг Салмана Рушди, отчуждение только усиливается. Это нездоровая и чреватая опасностями ситуация. Фундаментализм не исчезает. Местами он, наоборот, набирает силу или принимает крайние формы. Что может сделать либеральный, секулярный истеблишмент, чтобы навести мосты и предотвратить будущие столкновения?
Насильственные меры и принуждение, разумеется, исключены. Они неизменно дают обратный результат и могут только озлобить действующих или потенциальных фундаменталистов. У протестантских фундаменталистов в США после унижения, пережитого во время процесса над Скоупсом, усилилась склонность к реакционности, непримиримости и буквализму. Крайние формы суннитского фундаментализма родились в насеровских концлагерях, а репрессии со стороны иранского шаха способствовали исламской революции. Фундаментализм постоянно на страже, в ожидании неминуемого уничтожения. Неудивительно, что еврейских фундаменталистов, будь то сионисты или ультраортодоксы, до сих пор преследуют призраки холокоста и трагедии антисемитизма. Репрессии оставили глубокие раны в душе испытавших на себе агрессию секуляризма, исказили их религиозное мировоззрение, сделав его таким же жестоким и нетерпимым. Фундаменталисты повсюду видят заговор и временами впадают почти в безумную ярость.
Однако попытки использовать фундаментализм в секулярных, прагматичных целях тоже чреваты трагедиями. Садат заигрывал с египетскими мусульманами и движением «Джамаат аль-Исламия», чтобы обеспечить поддержку своего режима. Израиль поначалу поддерживал ХАМАС, надеясь с его помощью ослабить Организацию освобождения Палестины. В обоих случаях попытка манипуляции ударила по самому светскому государству, оборачиваясь катастрофическими последствиями. Необходимо вырабатывать более справедливый и объективный взгляд на эти религиозные движения.
Прежде всего важно понимать, что почвой этих теологий и идеологий служит страх. Стремление определять доктрины, очерчивать границы, возводить стены и обособлять верующих в священный анклав, где строго соблюдается закон, растет из того самого страха перед уничтожением, который в любые времена приводил фундаменталистов к убеждению, что секуляристы хотят стереть их с лица земли. Современный мир, восхищающий либерала, кажется фундаменталисту безбожным, лишенным смысла и даже сатанинским. Если бы с такими паранойяльными, конспирологическими, мстительными измышлениями человек пришел к психиатру, диагноз ему был бы обеспечен. Примером ужаса и разочарований, которые внушал модерн многим протестантским фундаменталистам, служит премилленаризм, считающий ряд самых положительных достижений современности делом рук дьявола, вынашивающий человекоубийственные планы и представляющий человечество скатывающимся к ужасной кончине. Нигилизм, присущий фундаменталистским программам, тоже питается страхом. Эти страхи невозможно развеять разумными доводами или искоренить насильственными методами. Правильнее было бы начать считаться с этим глубинным неврозом, пусть даже либерал или секулярист не сможет почувствовать этот застящий глаза страх.
Во-вторых, важно сознавать, что эти движения – не попытка вернуться к пережиткам прошлого, они вполне современны, инновационны и имеют модернизирующий характер. Протестантские фундаменталисты придерживаются буквалистского, рационального толкования Библии, кардинально отличающегося от более мистического, аллегорического подхода эпохи премодернизма. Разработанная Хомейни теория вилайат-и факих стала революционным переворотом для многовековой шиитской традиции. Мусульманские мыслители проповедовали теологию освобождения и выработали антиимпериалистическую идеологию, созвучную движениям в других странах третьего мира того же времени. Даже ультраортодоксальные иудеи, решительно отворачивающиеся от современного общества, превратили свои иешивы в современные по сути, самоопределяющиеся институты. Они подошли с беспрецедентной строгостью к соблюдению Торы и научились политическим манипуляциям, которые наделили их невиданной для религиозных евреев за последние два тысячелетия властью.
На протяжении всей книги мы наблюдали, как религия не раз помогала человеку приспосабливаться к модерну. Саббатианство, квакерство, методистская церковь, исламский мистицизм готовили иудеев, христиан и мусульман к глобальным переменам, обеспечивая контекст, в котором новые идеи обретали смысл. Американцев, не разделявших деизма отцов-основателей республики, подготовило к революционной борьбе Великое Пробуждение. У мусульман понимание таких современных идеалов, как отделение религии от политики, тоже выработалось благодаря движущим силам их собственной духовности. В Европе секуляризм и научный рационализм также поначалу воспринимались как новые направления веры. На модернизацию были направлены и некоторые из более поздних рассмотренных нами движений. Хасан аль-Банна, Шариати и даже Хомейни пытались привести мусульман к модерну, не отрываясь от исламской почвы – как более родной и знакомой народу, чем импортированная западная идеология. Только так они могли «вернуться к себе» и помочь тем, кто невольно оказался в стороне от модернизации, понять такие институты, как представительные органы власти и демократическое правление. Кроме того, это была попытка окружить модерн священным ореолом. В премодернистской религии миф и логос всегда были взаимодополняющими, и теперь исламские реформаторы помещали прагматические правительственные задачи в религиозно-мистический контекст.
Отчасти в этом же состоял фундаменталистский бунт против засилья секуляризма. Этот был способ вернуть Бога в сферу политики, из которой его исключили. Разными путями фундаменталисты преодолевали модернистские разделения (между государством и церковью, священным и мирским) и пытались воссоздать утраченную целостность. Религиозные сионисты «бунтовали против бунта» светских сионистов, которые провозгласили независимость от религии. Они хотели на Святой земле ввести Бога и Тору в свою жизнь в тех объемах, которые были им недоступны в диаспоре. Хомейни и Шариати в один голос утверждали, что невозможно исключить священное из политики; Кутб порицал безбожие секулярного режима в Египте, определяя его как джахилию. Те, кто не до конца проникся секулярным рационализмом модерна, по-прежнему ощущали незримую грань существования и хотели, чтобы она находила отражение и в политическом устройстве. Они не понимали, каким образом это помешает им модернизироваться, хотя в глубине души признавали, что придется порвать с рядом консервативных аспектов премодернистской религии. Фундаменталистские реформы в области веры означали, что активность, которая прежде религией порицалась, теперь обретала решающее значение. Религиозные сионисты, христианские и мусульманские фундаменталисты единодушно утверждали необходимость динамичного развития и революционной перестройки для того, чтобы выдержать бремя прогресса и прагматичности современного общества.
Эта битва за Бога была попыткой заполнить бездну в душе общества, основанного на научном рационализме. Вместо того чтобы осуждать фундаменталистов, секулярное большинство могло бы, присмотревшись повнимательнее к ряду их контркультурных течений, извлечь несомненную пользу. Общины Шукри Мустафы были полной противоположностью садатовской политике открытых дверей; благотворительные империи, созданные «Братьями-мусульманами», и практические действия активистов «Джамаат аль-Исламии» резко контрастировали с безразличием правительства к положению бедняков, а ведь в исламе забота о бедных – одна из главных ценностей. Популярность и могущество этих движений доказывали, что египетский народ по-прежнему, несмотря на секуляристские тенденции, стремится к религии. То же самое демонстрировал культ Хомейни в Иране: по мере усиления конфронтации с режимом Хомейни обретал в глазах народа все больше черт имама, являя собой несомненно более привлекательную для многих иранцев шиитскую альтернативу деспотизму шаха. Точно так же и иудейские иешивы служили контрастом прагматичному светскому образованию; в обществе, которое, казалось, отбросило Бога и его Закон, учащиеся иешивы в процессе учебы нащупывали путь к божественному, а не просто добывали ценные сведения, и изучение Торы получало определяющее значение в их жизни. Создавая альтернативные общества, фундаменталисты демонстрировали свое разочарование в культуре, не способной безболезненно воспринимать духовную составляющую.
Поскольку фундаменталисты занимали оборонительные позиции, кампания по ресакрализации общества приняла искаженную, агрессивную форму. Ей не хватало сострадания, которое в любой религии считалось основополагающим для праведника и для восприятия сверхъестественного. Вместо сострадания они проповедовали исключительность, ненависть и даже насилие. Однако это не значит, что фундаменталисты владели монополией на гнев. Их движения нередко складывались в диалектическом взаимоотношении с агрессивным секуляризмом, не особенно жаловавшим религию и ее приверженцев. Секуляристов и фундаменталистов словно подхватывает иногда мощный смерч ненависти и взаимных обвинений. Если фундаменталисты должны выработать более сострадательное отношение к своим врагам, которого требует от них собственная религия, то и секуляристам не следует забывать о великодушии, толерантности и гуманизме, которыми характеризуются лучшие образцы культуры модерна, и проявить больше внимания к страхам, тревогам и нуждам, которые присущи многим из их фундаменталистских соседей и которые ни одно общество не вправе игнорировать без риска для себя.
Глоссарий
Авода (ивр. труд, работа) – в библейские времена этим термином обозначали службу в Храме.
«Агуддат Исраэль» (ивр. Союз Израиля) – политическая партия евреев-ортодоксов, основанная в 1912 г.
Алам-аль-митхаль (араб. мир чистых образов) – область человеческой психики, выступающая источником визионерского опыта мусульманских мистиков и средоточием творческого воображения.
Алим (араб.) – см. Улема.
Алия (ивр. восхождение к более возвышенному образу жизни) – сионисты обозначают этим термином репатриацию из диаспоры на Святую землю.
Антихрист – лжепророк, чье появление, согласно некоторым источникам в Новом Завете, возвестит Конец Света. Антихрист будет ловким обманщиком, который склонит большинство христиан к вероотступничеству, а затем потерпит поражение от Христа в битвах, предсказанных в Откровении.
Апокалипсис – «Откровение». Греческое название последней книги Нового Завета, описывающей Судный день, авторство которой приписывается Иоанну Богослову. Этот термин употребляется также применительно к катастрофам, предшествующим Второму пришествию Христа и концу человеческой истории.
Ашкеназы – евреи Центральной и Восточной Европы, связанные с немецкой культурой и идиш, в отличие от сефардов испанского и ближневосточного происхождения.
Ашура (араб. десятый) – десятый день месяца Мухаррам, годовщина мученической гибели Хусейна, внука пророка Мухаммеда, в городе Кербела (ныне Ирак).
Аятолла (араб. аят алла, знамение Бога) – почетный титул ведущего муджтахида, вошедший в употребление в Иране в XX в.
Базаари (араб. bazaari) – представитель купеческого и ремесленного сословия, участник сообщества базара; средний класс.
Баптистская церковь – кальвинистская деноминация, отколовшаяся от основной ветви и образовавшая независимую секту в Англии 1630-х. Ее приверженцы проходили обряд крещения во взрослом возрасте, сознательно провозглашая свою веру. В поисках свободы вероисповедания некоторые баптисты эмигрировали в начале XVII в. в американские колонии.
Батин (араб.) – «скрытая» грань существования и религии, неподвластная органам чувств и рациональному мышлению, но раскрывающаяся посредством мистических, интуитивных дисциплин.
Бей (тюркск.) – военачальник, генерал в Османской армии.
Бида (араб.) – нововведения или отклонение от привычных исламских практик или убеждений.
Вакф (араб.) – пожертвования на религиозные нужды или в благотворительные организации.
Вилайат-и факих (араб. правление законоведа) – теория, разработанная аятоллой Рухоллой Хомейни в начале 1970-х и утверждавшая, что во главе государства должен стоять факих, который будет следить за тем, чтобы общество полностью подчинялось воле Аллаха, явленной в шариате. Распространение теории было революционным отходом от шиитской ортодоксии.
Вознесение – доктрина христианского фундаментализма, согласно которой избранные избегут ужасов Судного дня и будут «вознесены» на небеса Христом (1-е послание к Фессалоникийцам 4:17), чтобы там дожидаться Тысячелетнего Царства.
Выкрест, новообращенный – иудей, насильно обращенный в католицизм в Испании раннего Нового времени.
Газу (араб.) – вооруженные нападения, кампании.
Гайб (араб.) – незримое, священное или потустороннее.
Галаха (ивр.) – иудейский кодекс, основанный на 613 божественных заповедях из Торы и обширном своде разработанных впоследствии законов и уложений Талмуда.
Галут (ивр.) – изгнание.
Гаон (ивр.) – еврейский мудрец и высший авторитет в вопросах религии.
«Гахелет» (ивр. рдеющие угли) – группа молодых ортодоксов, образовавших ядро религиозного сионистского фундаментализма и строящих свою идеологию на учении рабби Цви Иехуды Кука.
Гулув (араб. преувеличение) – «перегибы», преувеличивающие определенные аспекты доктрины, особенно в раннем шиизме.
«Гуш Эмуним» (ивр. «Блок верных») – сионистская инициативная группа, основанная религиозными и светскими евреями с целью создания поселений на территории, занятой Израилем в ходе Июньской войны 1967 г.
Двекут (ивр.) – «близость» к Богу; непреходящее ощущение божественного, которое в хасидизме достигается только цадиком.
«Джамаа аль-Исламия» (араб. Исламская партия); множ.: джамаат – студенческая исламская организация, сформировавшаяся в Египте в 1970-х.
Джахилия (араб. эпоха невежества), прил.: джахили – изначально термином обозначался доисламский период в Аравии. В наше время мусульманские фундаменталисты понимают под ним любое общество, даже номинально мусульманское, которое, по их мнению, отвернулось от Аллаха и отказывается признавать его владычество.
Джихад (араб. усилие) – как правило, под этим термином понимается внутренняя борьба с плохими привычками или поведением в исламском сообществе или у отдельно взятого мусульманина. Кроме того, у термина имеется и специфическое значение – война во имя религии.
Диаспора – евреи, рассеянные за пределами Палестины. Также носит название «галут» (изгнание).
Диван (тюркск., букв. – низкое ложе) – палата для совещаний султана или наместников в провинциях Османской империи, где вершилось правосудие.
Закят (араб. чистота) – фиксированная сумма пожертвований (как правило, 2,5 % от доходов и капитала), которая ежегодно должна выплачиваться в пользу бедных. Один из столпов ислама.
Захир (араб. явление) – проявления Аллаха во внешнем мире, а также буквальное, прямое значение священных текстов, противопоставляемое батину.
Иджма (араб. единогласие) – «единогласие» мусульманской общины, одобрение судебного решения.
Иджтихад (араб. независимое суждение) – творческое переосмысление, позволяющее применить шариат к современным обстоятельствам. В XIV в. большинством мусульман было принято, что «врата иджтихада» затворились, поэтому мудрецы должны опираться на судебные решения авторитетов прошлого, а не на собственные суждения. Согласно учению шиизма «врата иджтихада» не закрывались.
Иешива (ивр.), мн.: иешивот. От глагола «сидеть» – иудейская религиозная академия, где учащиеся занимаются глубоким изучением Талмуда и другой раввинистической литературы.
Имам (араб. предводитель) – в самом крупном направлении ислама имам просто руководит общей молитвой мусульман. В шиизме этим термином обозначались потомки пророка Мухаммеда, носители божественной мудрости, кроме которых никто не мог выступать непогрешимым наставником верных.
Инфитах (араб.) – курс на «открытость» египетской экономики Западу, взятый в 1972 г.
Ирфан (араб.) – иранская мистическая традиция.
Ислам (араб. покорность) – полная покорность воле Господа. Мусульманином является тот, кто подчинился божественным и основополагающим законам бытия. Большинство мусульман, выступающих приверженцами Сунны пророка Мухаммеда, называются суннитами; шииты, имеющие другую направленность, составляют меньшинство.
Ислах (араб. реформа) – движение за возрождение исламского сообщества посредством возвращения к изначальным ценностям Корана и Сунны. Идейным вдохновителем одного из таких движений выступал ибн Таймия.
Кааба (араб.) – святыня в форме куба в Мекке, главная святыня исламского мира.
Каббала (ивр.) – иудейская мистическая традиция.
Кавванот (ивр. концентрация) – созерцательные практики в иудаизме, например медитация над буквами, составляющими имя Бога.
Кагал (ивр.) – орган управления в еврейской общине европейской диаспоры.
Кади (араб.) – судья, выносящий решения на основе шариата.
Кербела – равнина близ Куфы в Ираке, где в 660 г. н. э. омейядскими войсками был убит Хусейн, третий шиитский имам, внук пророка Мухаммеда. В наши дни Кербела входит в число шиитских святынь и является местом паломничества.
Кибуц (ивр.) – сионистская сельскохозяйственная коммуна, устроенная по социалистическим принципам.
Кнессет (ивр.) – парламент государства Израиль.
Конгрегационалисты – кальвинисты, утверждающие независимость приходской общины и отказывающиеся признавать руководство основной церкви. Участников связывают обязательства верности и взаимного просвещения. В начале XVII в. после гонений в Англии многие конгрегационалисты бежали в Нидерланды и в американские колонии. Особенную силу церковь набрала в Новой Англии.
Коран (араб. чтение вслух, назидание) – богодухновенный священный текст, ниспосланный пророку Мухаммеду.
Кукисты – религиозные сионисты, приверженцы учения рабби Цви Иехуды Кука.
Логос (греч. слово) – рациональный, логический или научный дискурс.
Любавические хасиды – см. Хабад.
Мамлюк (араб. раб) – военная каста из пленных черкесов, основавшая в XIII в. свою династию на Ближнем Востоке, которая в начале XVI в. была разгромлена османцами. Тем не менее в Египте мамлюкские военачальники сохраняли фактическую власть до XIX в., пока их не изгнал Мухаммед Али.
Марджа-е таклид (араб. образец для подражания) – титул, присваиваемый верховному муджтахиду, чьи решения становятся обязательными для всех шиитов, признающих его авторитет. Истории известны периоды, когда марджа был один и когда существовала коллегия из нескольких «мараджи».
Марран (исп. свинья) – прозвище насильно обращенных в христианство испанских иудеев и их потомков.
Маскилим (ивр.), ед.: маскил – «просвещенные»; приверженцы хаскалы.
Меджлис (араб.) – представительное собрание в Иране.
Медресе (араб.) – исламский университет или семинария, основную часть программы которых составляют религиозные дисциплины, прежде всего исламский закон.
Миснагдимы (ивр. противники) – изначально термин использовался хасидами применительно к своим противникам. В настоящее время он относится к ультраортодоксальным евреям литовского происхождения, чья духовность строится больше на изучении Торы, чем на мистической молитве.
Миф (греч.) – как и слова «мистерия» и «мистицизм», происходит от греческого musteion – «смыкать губы» или «закрывать глаза». Основанная на погружении в тишину и интуитивном озарении форма познания, которая наполняет жизнь смыслом, однако не поддается рациональному объяснению. В премодернистскую эпоху мифологическое знание считалось взаимодополняющим с логосом.
Муджахидин (араб.) – святые борцы за свободу, участвующие в войне за религию.
Муджтахид (араб.) – признанный шиитский богослов и законовед, наделенный правом иджтихада.
Мулла (араб.) – мусульманский богослов, назначаемый для руководства мечетью.
Муфтий (араб.) – консультант по исламскому праву.
Неоортодоксия – течение в иудаизме, родоначальником которого стал в XIX в. рабби Самуэль Рафаэль Гирш, попытавшийся объединить традиционную ортодоксию с некоторыми установками эпохи модерна.
«Нетурей Карта» (арамейск. «Защитники города») – ультраортодоксальная секта в иудаизме, считающая сионизм и светское государство Израиль злом.
Политика открытых дверей – см. Инфитах.
Постмилленаризм – эсхатологическая вера в возвращение Иисуса после того, как христиане собственными силами установят Тысячелетнее Царство. В конце этого тысячелетнего периода мира и праведной жизни Иисус сойдет на землю снова и будет вершить Страшный суд.
Премилленаризм – фундаменталистское представление о том, что Иисус вернется на землю до Тысячелетнего Царства. Упадок человеческого общества вынудит Господа вмешаться, и Он пошлет Иисуса на землю. Одержав победу в битвах, предсказанных в Откровении, Иисус установит свое Царство и будет править тысячу лет. В конце этого периода состоится Страшный суд, которым закончится история человечества.
Пресвитерианство – разновидность кальвинизма, зародившаяся в Шотландии. Подвергается постоянному реформированию, вероучение основывается на Библии, основное руководство принадлежит старейшинам (пресвитерам), а не священникам; в церковных делах участвуют все прихожане.
Пуритане – последователи кальвинизма в Англии конца XVI в., взбунтовавшиеся против Елизаветинских религиозных уложений и выступавшие за очищение протестантизма от «папских» обрядов англиканской церкви.
Рашидун (араб.) – четыре «праведных» калифа, соратники и непосредственные преемники пророка Мухаммеда: Абу Бакр, Умар, Усман и Али ибн Абу Талиб. Сунниты (см. Суннизм) считают рашидун единственными властителями, правившими в полном соответствии с исламскими принципами. Шииты (см. Шиизм), в отличие от них, не признают первых трех рашидун, а Али ибн Абу Талиба считают своим первым имамом.
Реконкиста (исп.) – «отвоевание» общества истинной верой.
Реформированный иудаизм – религиозное движение XIX в., пытавшееся рационализировать и переосмыслить иудаизм в свете западной мысли и культурных ценностей. Сегодняшние иудеи-реформисты кардинально отличаются от ортодоксов в понимании откровения, которое они считают учением прогрессивным и направленным на развитие, а значит, допускающим новые, отличающиеся от прежних толкования Торы.
Роузе (араб.) – декламация повествования о мученической гибели Хусейна, третьего шиитского имама.
Роши иешива (ивр.), мн.: рошей иешивот – глава или ректор иешивы.
Саббатианство – направление в иудаизме XVII в., основанное на вере в мессианство турецко-иудейского каббалиста и мистика Шабтая Цви (1626–1676). Движение прекратило свое существование в начале XX в.
Сефарды – изначально термин обозначал евреев, изгнанных из Испании, затем распространился на евреев ближневосточного происхождения, при противопоставлении вышеозначенных евреям-ашкеназам.
Сокрытие – шиитская доктрина, касающаяся сокрытия Аллахом 12-го имама, известного как «сокрытый имам», в X в. Шииты верят, что имам явится вновь незадолго до Судного дня, чтобы установить царство справедливости.
Столпы ислама – пять обязательных для всех мусульман предписаний ислама: провозглашение шахады (заявления о том, что нет божества, кроме Бога, и Мухаммед – пророк его), ежедневная молитва, соблюдение поста в Рамадан, пожертвования и хадж.
Сунна (араб. обычай) – религиозные деяния и высказывания пророка Мухаммеда, записанные для потомков его соратниками и родными и выступающие идеалом исламского образа жизни. Они были включены в исламский закон, чтобы мусульмане могли вплотную приблизиться к архетипичному образу Пророка. Образованное от Сунны прилагательное «суннитский» относится к основной ветви ислама, см. Суннизм.
Суннизм – основная ветвь ислама, строящаяся на Сунне пророка Мухаммеда. Приверженцев называют суннитами. В вопросах веры они не расходятся с шиитами, однако, в отличие от последних, не требуют, чтобы глава мусульманского сообщества вел происхождение от пророка Мухаммеда и его зятя Али ибн Абу Талиба.
Суфии, суфизм (от араб. тасаввуф) – мистическое течение в суннизме.
Тадждид (араб. обновление) – реформаторское движение, стремящееся восстановить чистоту ислама путем возвращения к Корану и Сунне, отрицая поздние уложения и традиции.
Тазия (араб.) – шиитская мистерия, в которой разыгрывается мученическая гибель Хусейна.
Такийя (араб. притворство) – защитная шиитская (см. Шиизм) доктрина, позволяющая верующему скрыть свои подлинные мысли в случае притеснения.
Таклид (араб. подражание) – подчинение авторитетам прошлого, существующим судебным решениям четырех признанных школ исламского закона или признанного факиха либо муджтахида.
Талмуд (ивр. учение, учеба) – свод суждений и заключений раввинов Палестины и Вавилонии с I по конец V в. н. э. и их толкований.
Таухид (араб. единение) – единобожие, которое мусульмане стремятся воспроизвести в личной и общественной жизни путем интеграции своих институтов и приоритетов, а также признания верховного владычества Господа.
Тиккун (ивр. исправление) – восстановительный процесс, определенный в каббале, согласно которому молитвы, обряды и преданность Закону приближают конец изгнания шехины и восстанавливают единство всего сущего с Богом.
Тора (ивр. учение) – Пятикнижие, первые пять книг иудейского канона, Моисеев закон.
Тфилин (ивр.) – кожаные коробочки со словами из Шема: «Внемли, Израиль! Господь – Бог наш, Господь – один!», которые, согласно Второзаконию 6:4–9, иудей должен прикреплять с помощью ремешков на лоб и на левую руку во время ежедневной утренней молитвы.
Тысячелетнее Царствие Божие – тысячелетняя эра мира и справедливости, которая, по убеждению части христиан, наступит под занавес истории человечества перед Судным днем. Эта вера основана на буквальном прочтении предсказаний еврейских пророков и некоторых глав Нового Завета.
Улемы (араб. ученые), ед.: алим – блюстители правовых и религиозных традиций суннизма и шиизма.
Умма (араб.) – мусульманское сообщество.
Усулиты (араб.) – течение в шиизме, преобладающее в Иране в конце XVIII в. Усулиты заявляли, что все шииты должны подчиняться законодательным решениям муджтахида и подражать его религиозному поведению, а не полагаться на собственные суждения.
Файласуф (араб.) – практикующий фальсафу.
Факих (араб.) – законовед, представитель фикха.
Фальсафа (араб. философия) – эзотерическое философское движение, пытавшееся примирить ниспосланную свыше религию Корана с греческим рационализмом Платона и Аристотеля.
Федаян (араб.) – борцы за свободу.
Феллахи (араб.) – египетские крестьяне.
Фетва (араб.) – официальное решение или указ богослова по вопросу, подведомственному исламскому закону.
Фикх (араб.) – исламское право, изучение и применение свода священных исламских законов.
Филактерии – см. Тфилин.
Хабад (ивр.) – акроним, составленный из слов hokhmah (мудрость), binah (понимание) и daath (знание); название хасидского движения, созданного рабби Шнеуром Залманом в конце XVIII в. Впоследствии центром движения стал российский город Любавич, отсюда второе название – любавический хасидизм.
Хадж (араб.) – паломничество в Мекку.
Хадис (араб. традиция), множ.: ахадис – зафиксированные документально изречения и поступки пророка Мухаммеда, не включенные в Коран, но записанные для потомков близкими знакомыми и родными пророка.
Халуц (ивр.), мн.: халуцим – сионистский первопоселенец.
Харедим (ивр. дрожащие), прил.: хареди – ультраортодоксальные иудеи.
Хасиды (ивр.) – мистическое движение, которое в XVIII в. основал Баал Шем Тов.
Хаскала (ивр. просвещение) – интеллектуальное движение, созданное Моисеем Мендельсоном в XVIII в. с целью прививать иудаизму ценности европейского Просвещения и интегрировать евреев в доминирующую европейскую культуру.
Хиджра (араб. уход) – изначально понятие обозначало уход пророка Мухаммеда с учениками из Мекки в Медину в 622 г. н. э., в первый год исламского календаря. Затем исламские фундаменталисты стали использовать этот термин как «отдаление от общества», предавшего, по их мнению, ислам.
Цадик (ивр. праведный) – в хасидизме цадиком провозглашался тот, кто постиг искусство «двекут» и может помочь своим последователям приблизиться к Богу.
Цимцум (ивр. сжатие) – в лурианской каббале Бог, Эйн Соф, сокращается, оставляя вокруг себя лишенное Бога пространство и тем самым освобождая место для материального космоса.
Шариат (араб. правильный путь) – свод священных законов ислама, извлеченных из Корана, Сунны и хадисов. Эти незыблемые, богодухновенные законы считаются единственно правильными для образа жизни и охватывают все аспекты мусульманского бытия.
Шехина (ивр.) – божественное присутствие на земле. В некоторых разновидностях каббалы шехина символически изображается женщиной, трагически разлученной с Эйн-Соф (и изгнанной вместе с людьми в материальный мир.
Шиизм – исповедуемое меньшинством направление ислама, не имеющее теологических различий с направлением большинства – суннизмом. Приверженцы шиизма (шииты) полагают, что во главе мусульман должен стоять потомок пророка Мухаммеда, почитают сменявших друг друга богодухновенных руководителей (см. Имам), происходящих от Пророка по линии его двоюродного брата и зятя Али ибн Абу Талиба. Второе название шиитов – «партия Али».
Шура (араб. согласие) – принцип исламского законодательства, требующий согласия всего сообщества (в обозначенной форме) для одобрения законопроекта.
«Эда-Харедит» (ивр.) – община ультраортодоксальных харедим в Иерусалиме.
Эйн-Соф (ивр. бесконечный) – каббалистический термин, обозначающий Бога, божественную сущность, недостижимую для человека, однако проявившую себя в процессе творения и десяти последующих эманациях (сфирот), делающих Всевышнего более доступным для ограниченного человеческого разума.
Эсхатология (греч. знание о конечном) – система доктрин и представлений о конце истории, включающих мессианизм, Страшный суд и окончательный триумф верных.
Янычары (тюрк. новое войско) – набиравшаяся из рабов пехота войск Османской империи.
Библиография
Abidi, A. Jordan: A Political Study. London, 1965.
Ahlstrom, Sidney E. A Religious History of the American People. Garden City, N. Y., 1972.
Ahmed, Akbar S. Postmodernism and Islam, Predicament and Promise. London and New York, 1972.
Ahmed, Leila. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. New Haven, Conn., and London, 1992.
Akhavi, Shahrough. Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period. Albany, N. Y., 1980.
–. "Shariati's Social Thought." In Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution. New Haven, Conn., and London, 1983.
Alatus, Syed H. Intellectuals in Developing Societies. London, 1977.
Al-e Ahmad, Jalal. Occidentosis: A Plague from the West. Trans. R. Campbell. Ed. Hamid Algar. Berkeley, 1984.
Algar, Hamid. Religion and State in Iran, 1785–1906. Berkeley, 1969.
–. "The Oppositional Role of the Ulama in Twentieth-Century Iran." In Nikki R. Keddie (ed.), Scholars, Saints and Sufis, Muslim Religious Institutions in the Middle East Since 1500. Berkeley, Los Angeles, and London, 1972.
–. Mirza Malkum Khan, A Biographical Study of Iranian Modernism. Berkeley, 1973.
Almann, Alexander. Moses Mendelssohn: A Biographical Study. University, Ala., 1973.
–. Essays in Jewish Intellectual History. Hanover, N. Y., 1981.
Amir-Moezzi, Mohammed Ali. The Divine Guide in Early Shiism: The Sources of Esotericism in Islam. Trans. David Streight. Albany, N. Y., 1994.
Ammerman, Nancy T. Bible Believers: Fundamentalists in the Modern World. New Brunswick, N. J., 1987.
–. "North American Protestant Fundamentalism." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed. Chicago and London, 1991.
Andrews, Samuel J. Christianity and Anti-Christianity in the Their Final Conflict. Chicago, 1937.
Annesley, George. The Rise of Modern Egypt: A Century and a Half of Egyptian History, 1798–1957. Durham, UK, 1994.
Appleby, R. Scott (ed.) Spokesmen for the Despised: Fundamentalist Leaders of the Middle East. Chicago, 1997.
Aran, Gideon. "The Roots of Gush Emunim," Studies in Contemporary Jewry 2, 1986.
–. "Jewish Zionist Fundamentalism." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed. Chicago and London, 1991.
–. "The Father, The Son and the Holy Land, The Spiritual Authorities of Jewish-Zionist Fundamentalism in Israel," in R. Scott Appleby (ed.), Spokesmen for the Despised: Fundamentalist Leaders of the Middle East. Chicago, 1997. Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism. New York, 1958. В рус. переводе: Арендт Х. Истоки тоталитаризма/пер. с англ. И.В. Борисовой и др.; послесл. Ю.Н. Давыдова; под ред. М.С. Ковалевой, Д.М. Носова – М.: ЦентрКом, 1996.
–. On Revolution. New York, 1963. В рус. переводе: Арендт Х. О революции. – М.: Европа, 2011.
Avineri, Schlomo. The Making of Modern Zionism: The Intellectual Origins of the Jewish State. London. 1981. Со взглядами Шломо Авинери на рус. языке можно ознакомиться по книге: Шломо Авинери. Происхождение сионизма. Основные направления в еврейской политической мысли. – М.: Иерусалим: Мосты культуры, 2004. (-i-ucheba/istory/103076-shlomo-avineri-proishozhdenie-sionizma-osnovnye-napravleniya-v-evreyskoy-politicheskoy-mysli.html).
Avishai, Bernard. The Tragedy of Zionism: Revolution and Democracy in the Land of Israel. New York, 1985.
Baer, Y. History of the Jews in Christian Spain. Philadelphia, 1961.
Baker, George W., and Dwight W. Chapman (eds.) Men and Society in Disaster. New York, 1902.
Bakker, Jim (with Robert Paul Lamb). Move That Mountain! Plainfield, N. J., 1976.
Bakker, Tammy (with Cliff Dudley). I Gotta Be Me. Harrison, Ark., 1978.
(with Cliff Dudley). Run to the Roar. Harrison, Ark., 1980.
Baktash, Magel. "Ta'ziyeh and Its Philosophy." In Peter J. Chelkowski (ed.), Ta'ziyeh: Ritual and Drama in Iran. New York, 1979.
Baring, Evelyn, Lord Cromer. Modern Egypt. 2 vols. New York, 1908. Barkett, Larry. Your Finances in Changing Times. Chicago, 1975. В рус. переводе: Беркит Л. Ваши финансы во времена перемен: Слово Божье о финансах. – СПб.: Библия для всех, 1999.
Barkun, Michael. Disaster and the Millennium. New Haven and London, 1974.
–. "Divided Apocalypse: Thinking About the End in Contemporary America," Soundings 66:3, 1983.
–. Religion and the Racist Right: The Origins of the Christian Identity Movement. Chapel Hill, N. C., 1994.
Baron, Salo Wittmayer. A Social and Religious History of the Jews. 16 vols. New York, 1952. Из многотомного труда Сало У. Барона на рус. языке вышел первый том: Барон С. У. Социальная и религиозная история евреев. – Т. 1. Древний мир: До зарождения христианства. – М.: Книжники; Текст, 2012.
Barr, James. Fundamentalism. Philadelphia, 1978.
Bateson, M. C., J. W. Clinton, J. B. M. Kassarjian, H. Safavi, and M. Soraya. "Safavi Batin: A Study of the Iranian Ideal Character Types." In L. Carl Brown and Norman Itzkowitz (eds.), Psychological Dimensions of Near Eastern Studies. Princeton, N. J., 1977. Bauman, Zygmunt. Modernity and the Holocaust. Ithaca, N. Y., 1989. В рус. переводе: Бауман З. Актуальность холокоста. – М.: Европа, 2010. Bayat, Mangol. Mysticism and Dissent: Socioreligious Thought in Qajar Iran. Syracuse, N. Y., 1982.
Beeman, William. "Cultural Dimensions of Performance Conventions in Iranian Ta'ziyeh." In Peter J. Chelkowski (ed.), Ta'ziyeh: Ritual and Drama in Iran. New York, 1979.
–. "Images of the Great Satan: Representations of the United States in the Iranian Revolution." In Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution. New Haven, Conn., and London, 1983.
Beinart, Haim. Conversos on Trial: The Inquisition in Ciudad Real. Jerusalem, 1981.
Bellah, Robert N., and Phillip E. Hammond. Varieties of Civil Religion. San Francisco, 1980.
Berger, Peter L. The Social Reality of Religion. London, 1969.
Berthoff, Rowland, and John M. Murrin. "Feudalism, Communalism, and the Yeoman Freeholder: The American Revolution Considered as a Social Accident." In Stephen G. Kurtz and James H. Hutson (eds.), Essays on the American Revolution. Chapel Hill, N. C., 1973.
Bloch, Ruth H. Visionary Republic: Millennial Themes in American Thought, 1756–1800. Cambridge, U. K., 1985.
–. "Religion and Ideological Change in the American Revolution." In Mark A. Noll (ed.), Religion and American Politics: From the Colonial Period to the 1980s. Oxford and New York, 1990.
Bloom, Harold. The American Religion: The Emergence of the Post-Christian Nation. New York, 1992.
Bollier, D., Liberty and Justice for Some: defending a free society from the radical right's holy war on democracy. Washington, D. C., 1982.
Bonomi, Patricia U. Under the Cope of Heaven: Religion, Society and Politics in Colonial America. New York and Oxford, 1986.
Boone, Kathleen C. The Bible Tells Them So: The Discourse of Protestant Fundamentalism. London, 1990.
Borujerdi, Mehrzad. Iranian Intellectuals and the West: The Tormented Triumph of Nativism. Syracuse, N. Y., 1996.
Bossy, John. Christianity and the West, 1400–1700. Oxford and New York, 1985.
Boyer, Paul. When Time Shall Be No More: Prophecy and Belief in Modern American Culture. Cambridge, Mass., and London, 1992.
Briggs, Robin. "Embattled Faiths: Religion and Natural Philosophy." In Euan Cameron (ed.), Early Modern Europe. Oxford, 1999.
Brinton, Crane. The Anatomy of Revolution. New York, 1950.
Brookes, James. Maranatha, or the Lord Cometh. New York, 1889.
Brooks, Pat. The Return of the Puritan, 2nd ed. Fletcher, N. C., 1979.
Brown, Jerry Wayne. The Rise of Biblical Criticism in America, 1800–1870: The New England Scholars, Middletown, Conn., 1969.
Brown, L. Carl, and Norman Itzkowitz (eds.). Psychological Dimensions of Near Eastern Studies. Princeton, N. J., 1977.
Browne, E. G. "The Babis of Persia," Journal of the Royal Asiatic Society 21, 1889.
–. A Year Amongst the Persians. Cambridge, U. K., 1927.
Bruce, Steve. The Rise and Fall of the New Christian Right: Conservative Protestant Politics in America 1978–1988. Oxford and New York, 1990.
Brumberg, Daniel. "Khomeini's Legacy: Islamic Rule and Islamic Social Justice." In R. Scott Appleby (ed.), Spokesmen for the Despised: Fundamentalist Leaders of the Middle East. Chicago, 1997.
Buber, Martin. Jewish Mysticism and the Legend of Baal Shem. London, 1932.
–. Hasidism and Modern Man. New York, 1958. С работами Мартина Бубера на религиозные темы на рус. языке можно ознакомиться в след. изданиях: Бубер М. Избранные произведения. – Иерусалим: Библиотека-Алия, 1979; Бубер М. Хасидские предания. – М.: Республика, 1997; Бубер М. Два образа веры. – М.: Республика, 1995; Бубер М. Путь человека по хасидскому учению. – Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2006; Бубер М. Проблема человека. – Киев.: Ника-Центр, 1998.
Buckley, Michael J. At the Origins of Modern Atheism. New Haven, Conn., and London, 1987.
Bull, Hedly. The Anarchic Society: A Study of Order in World Politics. New York, 1977. В рус. переводе: Булл Х. Анархическое общество: исследование проблемы порядка в мировой политике // Антология мировой политической мысли в 5 т. Т. II. Зарубежная политическая мысль.
ХХ в. – М.: Мысль, 1997.
Butler, Jon. Awash in a Sea of Faith, Christianizing the American People. Cambridge, Mass., and London, 1990.
Cameron, Euan (ed.). Early Modern Europe. Oxford, U. K., 1999.
Cantor, Norman. The Sacred Chain: A History of the Jews. New York, 1994; London, 1995.
Caplan, Lionel (ed.). Studies in Religious Fundamentalism. Albany, N. Y., 1987.
Cassirer, Ernst. The Philosophy of Enlightenment. 4 vols. Trans. F. C. A. Koelin and J. T. Peregrove. Princeton, N. J., 1951. В рус. переводе: Кассирер Э. Философия Просвещения. – М.: РОССПЭН, 2004.
Chadwick, Owen. The Victorian Church. 2 vols. London, 1970.
–. The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century. Cambridge, U. K., 1975.
Chelkowski, Peter J. (ed.). Ta'ziyeh: Ritual and Drama in Iran. New York, 1979.
Chilton, David. Paradise Restored: A Biblical Theology of Dominion. Fort Worth, Tex., 1985.
Choueiri, Youssef M. Islamic Fundamentalism. London, 1990.
Clarke, I. F. Voices Prophesying War: Future Wars 1763–3749. 2nd ed. Oxford and New York, 1992.
Clifford, James A., and G. E. Marcus (eds.). Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley and London, 1986.
Cohn, Norman. The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millennarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages. London, 1957.
–. Europe's Inner Demons. London, 1976.
–. Cosmos, Chaos and the World to Come: The Ancient Roots of Apocalyptic Faith. New Haven, Conn., and London, 1993.
Cole, Edwin Louis. Maximized Manhood: A Guide for Family Survival. Springdale, Pa., 1982. В рус. переводе: Коул Эдвин Луис. Мужчины: Достигая максимума (1994).
Cole, Juan R. "Imami Jurisprudence and the Role of the Ulama: Mortaza Ansari on Emulating the Supreme Exemplar." In Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution. New Haven, Conn., and London, 1983.
Colwell, Stephen. The Position of Christianity in the United States, in Its Relations with Our Political Institutions and Especially with Reference to Religious Instruction in the Public Schools. New York, 1853.
Cooper, John, Ronald L. Nettler, and Mohamed Mahmoud (eds.). Islam and Modernity: Muslim Intellectual Respond. London and New York, 1998.
Corbin, Henri. Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi. Trans. W. Trask. London, 1970.
Cox, Harvey. The Secular City: A Celebration of Its Liberties and an Invitation to Its Disciplines. New York, 1965. В рус. переводе: Кокс Х. Мирской град: Секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте. – М.: Восточная литература, 1995 ().
–. Fire from Heaven: The Rise of Pentecostal Spirituality and the Reshaping of Religion in the Twenty-first Century. New York, 1995.
Crecelius, Daniel. "Nonideological Responses of the Egyptian Ulama to Modernization." In Nikki R. Keddie (ed.), Scholars, Saints and Sufis: Muslim Religious Institutions in the Middle East Since 1500. Berkeley, Los Angeles, and London, 1972.
Cromartie, Michael (ed.) No Longer Exiles: The Religious New Right in American Politics. Washington, D. C., 1993.
Cromer, Gerald. "Withdrawal and Conquest: Two Aspects of the Haredi Response to Modernity." In Laurence J. Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective: Religion, Ideology, and the Crisis of Modernity (New York and London, 1993).
Cuddihy, John Murray. The Ordeal of Civility: Freud, Marx, Levi-Strauss and the Jewish Struggle with Modernity. Boston, 1974.
Darby, John N. The Hopes of the Church of God in Connexion with the Destiny of the Jews and the Nations as Revealed in Prophecy. 2nd ed. London, 1842.
–. Lectures on the Second Coming. Repr. London, 1909.
Davis, Joyce M. Between Jihad and Salaam: Profiles in Islam. New York, 1997.
Delumeau, Jean. Catholicism Between Luther and Voltaire: A New View of the Counter Reformation. London and Philadelphia, 1977.
De Nerval, Gerard. Oeuvres. Eds. Albert Beguin and Jean Richter. Paris, 1952.
DeVos, Richard. Believe!. Old Tappan, N. J., 1976. В рус. переводе: Вос Р. М. де, Конн Ч. П. Поверь! – СПб.: Диля, 2010.
Dinur, Benzion. "The Origins of Hasidism and Its Social and Messianic Foundations." In Gershon David Hundert (ed.), Essential Papers on Hasidism, Origins to Present. New York and London, 1991.
–. "The Messianic-Prophetic Role of the Baal Shem Tov." In Marc Saperstein (ed.), Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History. New York and London, 1992.
Djait, Hichem. Europe and Islam: Cultures and Modernity. Berkeley, 1985.
Dobson, Ed, and Ed Hindson. The Seduction of Power. Old Tappan, N. J., 1988. Dobson, James. Dare to Discipline. New York, 1977. В рус. переводе: Добсон Д. Ч. Не бойтесь быть строгими: Советы родителям. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1997.
Donovan, John B. Pat Robertson: The Authorized Biography. New York, 1988.
Douglas, Mary, and Steven Tipton (eds.). Religion and America: Spiritual Life in a Secular Age. Boston, 1982.
Dreshner, S. H. The Zaddik. New York, Toronto, and London, 1960.
Dubnow, Simon. "The Beginnings: The Baal Shem Tov (Besht) and the Center in Podolia." In Gershon David Hundert (ed.), Essential Papers on Hasidism, Origins to Present. New York and London, 1991.
–. "The Maggid of Miedzyrzecz, His Associates and the Center in Volhynia." In Gershon David Hundert (ed.), Essential Papers on Hasidism, Origins to Present. New York and London, 1991.
Duby, Georges. L'an Mil. Paris, 1980.
Dupre, Louis, and Don E. Saliers (eds.). Christian Spirituality: Post Reformation and Modern. New York and London, 1989.
Dupree, A. Hunter. Asa Grey 1810–1888. Cambridge, Mass., 1959.
–. "Christianity and the Scientific Community in the Age of Darwin." In David C. Lindberg and Ronald L. Numbers, God and Nature: Historical Essays on the Encounter between Christianity and Science. Berkeley, Los Angeles, and London, 1986.
Durkheim, Emile. The Elementary Forms of the Religious Life. New York, 1961. В рус. переводе: Эмиль Дюркгейм. Элементарные формы религиозной жизни.
–. Sociology and Philosophy. New York, 1974. В рус. переводе: Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М.: Терра; Книжный клуб, 2008.
Durraq, A. L'Egypte sous le Regne de Barsbay 1422–1438. Damascus, 1961.
Dwight, Timothy. A Valedictory Address to the Young Gentlemen Who Commenced Bachelors of Arts, July 25th, 1776. New Haven, Conn., 1776.
–. The Duty of an American. New Haven, Conn., 1798.
–. A Discourse in Two Parts. Boston, 1813.
Edwards, Jonathan. The Works of the Rev. Jonathan Edwards. Ed. E. Hickman. 2 vols. London, 1865.
Ehrenreich, Barbara. Blood Rites: Origins and History of the Passions of War. New York, 1997.
Eidsmore, John. God and Caesar: Biblical Faith and Political Action. Westchester, Ill., 1984.
Eisen, A. M. "Strategies of Modern Jewish Faith" in Arthur Green (ed.), Jewish Spirituality, Vol. II. London, 1988.
Eliade, Mircea. The Myth of the Eternal Return, of Cosmos and History. Trans. Willard J. Trask. Princeton, N. J., 1954. В рус. переводе: Элиаде М. Миф о вечном возвращении. – СПб.: Алетейя, 1998.
–. Patterns of Comparative Religion. Trans. Rosemary Sheed. London, 1958. В рус. переводе: Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. – М.: Ладомир, 1999.
–. The Sacred and the Profane. Trans. Willard J. Trask. New York, 1959. В рус. переводе: Элиаде М. Священное и мирское. – М.: МГУ, 1994.
–. Images and Symbols: Studies in Religious Symbolism. Trans. Philip Mairet. Princeton, N. J., 1991.
Elior, Rachel. "HaBaD: The Contemplative Ascent to God." In Arthur Green (ed.), Jewish Spirituality. Vol. II. London, 1988.
Eliot, Charles O. "The Future of Religion," Harvard Theological Review (2), 1909.
Elon, Amos. The Israelis: Founders and Sons. Rev. ed. London, 1984.
Enayat, Hamid. "The Politics of Iranology." Iranian Studies, 1973, 6. I.
Esposito, John. Islam, The Straight Path. Rev. ed. New York and Oxford, 1988.
–. The Islamic Threat: Myth or Reality. New York and Oxford, 1995.
–. (ed.). Voices of Resurgent Islam. New York and Oxford, 1983.
–, with John L. Donohue (eds.). Islam in Transition: Muslim Perspectives. New York and Oxford, 1982.
Ettinger, Shmuel. "The Hasidic Movement – Reality and Ideals." In Gershom David Hundert (ed.), Essential Papers in Hasidism, Origins to Present. New York and London, 1991.
Evenett, H. O. The Spirit of the Counter-Reformation. Cambridge, U. K., 1968.
Fakhry, Majid. A History of Islamic Philosophy. New York and London, 1970.
Falwell, Jerry. Listen America!. Garden City, N. Y., 1980.
–. Strength for the Journey: An Autobiography. New York, 1987.
–, with Ed Dobson and Ed Hindson (eds.). The Fundamentalist Phenomenon: The Resurgence of Conservative Christianity. Garden City, N. Y., 1981.
–, with Elmer Towns. Church Affairs. Nashville, Tenn., 1971.
Febvre, Lucien. The Problem of Unbelief in the Sixteenth Century. Trans. Beatrice Gottlieb. Cambridge, Mass., 1982.
Festinger, Leon. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford, Calif., 1957. В рус. переводе: Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. – СПб.: Ювента, 1999.
Feuerbach, Ludwig. The Essence of Christianity. Trans. George Eliot. New York, 1957. Фейербах Л. Сущность христианства // Избр. филос. произв. в 2 т. Т. 2. – М., 1965.
Fine, Lawrence. "The Contemplative Practice of Yehudim in Lurianic Kabbalah." In Arthur Green (ed.), Jewish Spirituality. Vol. II. London, 1988.
Finney, Charles Grandison. Lectures on Revivals of Religion. Ed. William G. McLaughlin. Cambridge, Mass., 1960.
Fisch, Harold. The Zionist Revolution: A New Perspective. Tel Aviv and London, 1978. С концепцией Г. Фиша можно познакомиться по книге: Фиш Г. Еврейская революция. – М.: Иерусалим: Амана, 1993.
Fischer, Michael J. Iran: From Religious Dispute to Revolution. Cambridge, Mass., and London, 1980.
–. "Imam Khomeini: Four Levels of Understanding." In John Esposito (ed.), Voices of Resurgent Islam. New York and Oxford, 1983.
Floor, Willem M. "The Revolutionary Character of the Ulama: Wishful Thinking or Reality?" In Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Islam: Shiism from Quietism to Revolution. New Haven, Conn., and London, 1983.
Focillon, Henri. L'An Mille. Paris, 1952.
Foster, Lawrence. Religion and Sexuality: Three American Communal Experiments in the Nineteenth Century. Oxford and New York, 1981.
Foucault, Michel. Language, Counter-Meaning, Practice: Selected Essays and Interviews. Ed. Donald F. Benchard. Ithaca, N. Y., 1977.
–. Power / Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. Ed. Colin Gordon. New York, 1980.
Fox, George. The Journal of George Fox. Ed. J. L. Nickalls. Cambridge, U. K., 1911.
Friedman, Menachem. "The Market Model and Religious Radicalism." In Laurence J. Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective: Religion, Ideology and the Crisis of Modernity. New York and London, 1993.
–. "Habad as Messianic Fundamentalism." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalisms. Chicago and London, 1994.
Friedman, Robert I. Zealots for Zion: Inside Israel's West Bank Settlement Movement. New York, 1992.
Fuller, Robert C. Naming the Antichrist: The History of an American Obsession. Oxford and New York, 1995.
Gaffney, Patrick D. The Prophet's Pulpit: Islamic Preaching in Contemporary Egypt. Berkeley, Los Angeles, and London, 1994.
Gay, Peter. The Enlightenment: An Interpretation. 2 vols. New York, 1966.
–. A Godless Jew: Freud, Atheism and the Making of Psychoanalysis. New Haven, Conn., and London, 1987.
Geertz, Clifford. Local Knowledge. New York, 1983.
–. Postmodernism, Reason and Religion. London and New York, 1992.
Gibb, H. A. R., and H. Bowen. Islamic Society and the West. London, 1957.
Gilsenan, Michael. Recognizing Islam: Religion and Society in the Modern Middle East. London, 1990.
Ginsberg, Asher (Ahad Ha-Am). Complete Writings. Jerusalem, 1965.
Ginsburg, Faye. "Saving America's Souls: Operation Rescue's Crusade Against Abortion." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms and the State. Chicago and London, 1993.
Göle, Nilufa. The Forbidden Modern: Civilization and Veiling. Ann Arbor, Mich., 1996.
Goodwyn, Lawrence. The Populist Movement: A Short History of the Agrarian Revolt in America. New York, 1978.
Grant, George. The Dispossessed: Homelessness in America. Fort Worth, Tex., 1986.
–. In the Shadow of Plenty: The Biblical Blueprint for Welfare. Fort Worth, Tex., 1986.
–. The Changing of the Guard: Biblical Blueprints for Political Action. Fort Worth, Tex., 1987.
–. Bringing In the Sheaves: Transforming Poverty into Productivity. Brentwood, Tex., 1988.
Green, Arthur (ed.). Jewish Spirituality. 2 vols. London, 1986, 1988.
Gütmann, Julius. Philosophies of Judaism: The History of Jewish Philosophy from Biblical Times to Franz Rosenzweig. London and New York, 1964.
Haddad, Yvonne. "Sayyid Qutb: Ideologue of Islamic Revival." In John Esposito (ed.), Voices of Resurgent Islam. New York and Oxford, 1983.
Haldeman, Isaac M. The Signs of the Times. New York, 1912.
Hall, David D. (ed.). The Antinomian Controversy, 1636–1638: A Documentary History. Middletown, Conn., 1968.
Hall, Stuart. "Signifcance, Representation, Ideology," Critical Studies in Mass Communication 2:2, 1985.
Halliday, Fred. Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the Middle East. London and New York, 1996.
HAMAS, The Covenant of the Islamic Resistance Movement. Jerusalem, 1988.
Hambrick-Stowe, Charles. "Puritan Spirituality in America." In Louis Dupre and Don E. Saliers (eds.), Christian Spirituality: Post Reformation and Modern. New York and London, 1989.
Hammond, Phillip E. (ed.). The Sacred in a Secular Age: Toward Revision in the Scientific Study of Religion. Berkeley, 1985.
–. The Protestant Presence in Twentieth-Century America: Religion and Political Culture. Albany, N. Y., 1992.
Hanan, Denis, and H. Aldersworth (eds.). British-Israel Truth. 14th ed. London, 1932.
Handy, Robert T. "Protestant Theological Tensions and Political Styles in the Progressive Period." In Mark A. Noll (ed.), Religion and American Politics: From the Colonial Period to the 1980s. Oxford and New York, 1990.
Hanna, Sami, and George H. Gardner (eds.). Arab Socialism:
A Documentary Survey. Leiden, Netherlands, 1969.
Harding, Susan. "Contesting Rhetorics in the PTL Scandal." In J. Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective: Religion, Ideology, and the Crisis of Modernity. New York and London, 1993.
–. "Imagining the Last Days: The Politics of Apocalyptic Language." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalisms. Chicago and London, 1994.
Hatch, Nathan O. The Democratization of American Christianity. New Haven, Conn., and London, 1989.
Hegland, Mary. "Two Images of Husain: Accommodation and Revolution in an Iranian Village." In Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution. New Haven, Conn, And London, 1983.
Heikal, Mohamed. Autumn of Fury: The Assassination of Sadat. London, 1984.
Heilman, Samuel. Defenders of the Faith: Inside Ultra-Orthodox Jewry. New York, 1992.
–. "Quiescent and Active Fundamentalisms: The Jewish Cases." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalisms. Chicago and London, 1994.
–. "Guides of the Faithful: Contemporary Religious Zionist Rabbis." In R. Scott Appleby (ed.), Spokesmen for the Despised: Fundamentalist Leaders of the Middle East. Chicago, 1997.
– (with Menachem Friedman). "Religious Fundamentalism and Religious Jews." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed. Chicago and London, 1991.
Heimert, Alan. Religion and the American Mind: From the Great Awakening to the Revolution. Cambridge, Mass., 1968.
Helms, Jesse. When Free Men Shall Stand. Grand Rapids, Mich., 1976.
Herberg, Will. Protestant, Catholic, Jew. Garden City, N. Y., 1955.
Hertzberg, Arthur. The Zionist Idea. New York, 1969.
Hill, Donna. Joseph Smith, The First Mormon. Garden City, N. Y., 1977.
Hobbes, Thomas. Leviathan. Ed. Michael Oakeshott. New York, 1962. В рус. переводе: Гоббс Т. Левиафан//Гоббс Т. Соч.: В 2 т. Т. 2. – М.: Мысль, 1991.
Hodge, Charles. What is Darwinism? Princeton, N. J., 1874.
Hodgson, Marshall G. S. The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization. 3 vols. Chicago and London, 1974.
Hoffer, Eric. The True Believer: Thoughts of the Nature of Mass Movements. New York and Evanston, Ill., 1951. В рус. переводе: Хоффер Э. Истинноверующий: Личность, власть и массовые общественные движения. – М.: Альпина Паблишер, 2004.
Hofstadter, Richard. Anti-Intellectualism in American Life. New York, 1962.
–. The Paranoid Strain in American Politics. New York, 1965.
Holt, P. M. (ed.). Political and Social Change in Modern Egypt: Historical Studies from the Ottoman Conquest to the United Arab Republic. London, 1968.
–. "The Pattern of Egyptian Political History from 1517 to 1798." In ibid.
Hoogland, Eric. "Social Origins of the Revolutionary Clergy." In Nikki R. Keddie and E. Hoogland (eds.), The Iranian Revolution and the Islamic Republic. Syracuse, N. Y., 1986.
Hourani, Albert. Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939. Oxford, 1962.
–. A History of the Arab Peoples. London, 1991.
Hudson, Bradford B. "Anxiety Response to the Unfamiliar." The Journal of Social Issues 10:3, 1954.
Hundert, Gershom David (ed.), Essential Papers in Hasidism, Origins to Present. New York and London, 1991.
Hunter, J. D. Evangelicalism, The Coming Generation. Chicago, 1987.
Hussain, Asaf. Islamic Iran: Revolution and Counter-Revolution. London, 1985.
Huxley, T. H. Science and Christian Tradition. New York, 1896.
Jacobs, Louis. Hasidic Prayer. New York, 1973.
–. "The Uplifting of the Sparks in Later Jewish Mysticism." In Arthur Green (ed.), Jewish Spirituality, Vol. II. London, 1988.
–. "Hasidic Prayer." In Gershom David Hundert (ed.), Essential Papers in Hasidism, Origins to Present. New York and London, 1991.
– (ed.). The Jewish Mystics. London, 1990; New York, 1996.
Jansen, Johannes J. G. The Neglected Duty: The Creed of Sadat's Assassins and Islamic Resurgence in the Middle East. New York and London, 1988.
Johnson, Paul. A History of the Jews. London, 1987. В рус. переводе: Джонсон П. История евреев. – М.: Вече, 2007.
Jones, Bob, II. Cornbread and Caviare. Greenville, S. C., 1985.
Jones, Richard F. Ancients and Moderns: A Study in the Rise of the Scientific Movement in Seventeenth-Century England. Berkeley, 1965.
Kamen, Henry. The Spanish Inquisition: An Historical Revision. London, 1997.
Kant, Immanuel. Critique of Practical Reason and Other Writings. Ed. Lewis Beck White. Indianapolis, Ind., 1963. В рус. переводе: Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение. Собр. соч. в 6 т. Т. 6. – М., 1966.
С. 25–35; Религия в пределах только разума. – М.: Либроком, 2012; Критика практического разума. – М.: Наука, 2007.
–. On History. Ed. Lewis Beck White. Indianapolis, Ind., 1963.
Kaplan, Laurence (ed.). Fundamentalism in Comparative Perspective. Amherst, 1992.
Karam, Azza M. Women, Islamism and the State: Contemporary Feminism in Egypt. London and New York, 1998.
Katouzian, Homa. "Shiism and Islamic Economics: Sadr and Bani Sadr." In Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution. New Haven, Conn., and London, 1983.
Katz, Jacob. "Halakah and Kabbalah as Competing Disciplines in Study." In Arthur Green (ed.). Jewish Spirituality. Vol. II. London, 1988.
–. "Israel and the Messiah." In Marc Saperstein (ed.), Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History. New York and London, 1992.
Kautsky, John H. (ed.). Political Change in Underdeveloped Countries. 7th ed. New York, 1967.
Keddie, Nikki R. Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Din «al-Afghani». Berkeley, 1968.
–. Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran. New Haven, Conn., and London, 1981.
– (ed.). Scholars, Saints and Sufis: Muslim Religious Institutions in the Middle East Since 1500. Berkeley, Los Angeles, and London, 1972.
– (ed.). Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution. New Haven, Conn., and London, 1983.
–, with Beth Baron (eds.). Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender. New Haven, Conn., and London, 1991.
–, with Eric Hoogland (eds.). The Iranian Revolution and the Islamic Republic. Syracuse, N. Y., 1986.
–. "The Roots of the Ulama's Power in Modern Iran." In Keddie (ed.), Scholars, Saints and Sufis.
Kedourie, E. Afghani and Abduh: An Essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam. London, 1966.
–, with S. Haim (eds.). Zionism and Arabism in Palestine and Israel. London, 1982.
Kepel, Gilles. The Prophet and Pharaoh: Muslim Extremism in Egypt. Trans. Jon Rothschild. London, 1985.
–. The Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the Modern World. Trans. Alan Braley. Cambridge, U. K. 1994.
Khan, Muhammad Zafrulla. Islam, Its Meaning for Modern Man. London, 1962.
Khomeini, Sayeed Ruholla. Islam and Revolution. Trans. and ed. Hamid Algar. Berkeley, 1981.
Kilpatrick, F. P. "Problems of Perception in Extreme Situations," Human Organization 16, Summer, 1957.
Köbben, A. J. F. "Prophetic Movements as an Expression of Social Protest," International Archives of Ethnography 49, part I, 1960.
Kook, Abraham Isaac. The Essential Writings of Abraham Isaac Kook. Ed. and trans. Ben Zion Bokser. Warwick, N. Y., 1988.
Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolution. 2nd ed. Chicago, 1970. В рус. переводе: Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ; АСТ Москва, 2009. Lacleu, Ernesto (ed.). The Making of Political Identities. London and New York, 1994.
LaHaye, Beverley. The Spirit-Controlled Woman. Eugene, Or., 1976.
–. I Am a Woman by God's Design. Old Tappan, N. J., 1980.
–. The Restless Woman. Grand Rapids, Mich., 1984.
LaHaye, Tim. How to Be Happy Though Married. Wheaton, Ill., 1968.
–. Understanding the Male Temperament. Eugene, Or., 1977.
–. The Battle for the Mind. Old Tappan, N. J., 1980.
–. The Battle for the Family. Old Tappan, N. J., 1982. –. Sex Education in the Family. Grand Rapids, Mich., 1985. Более поздняя работа Тима Ла-Хэя на ту же тему Raising Sexually Pure Kids: How to Prepare Your Children for The Act of Marriage на рус. языке выходила под именами обоих супругов – Тима Ла-Хэя и Беверли Ла-Хэй и называлась «Воспитание детей в сексуальной чистоте» (СПб.: Христианская миссия, 2008).
– (with Beverly LaHaye). The Act of Marriage: The Beauty of Sexual Love. Grand Rapids, Mich., 1976. Книга супругов Ла-Хэй The Act of Marriage: The Beauty of Sexual Love переиздавалась с дополнениями неоднократно с несколько видоизмененными названиями, на русском языке известна как «Тайны супружеского ложа».
Lambton, Ann K. S. "A Reconsideration of the Position of the Marja al-taqlid and the Religious Institutions," Studia Islamica 20, 1964.
Langton, Samuel. Government Corrupted by Vice and Recovered by Righteousness. Watertown, Mass., 1775.
Lawrence, Bruce B. Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against the Modern Age. London and New York, 1990.
Lea, H. C. A History of the Inquisition in Spain. 4 vols. New York, 1906–1907. В рус. переводе: Ли Г.Ч. История инквизиции в Испании // История инквизиции в Средние века: В 3 т. Т. 3. – СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1911–1914. Или: История инквизиции: В 3 т. Т. 3. – М.: Ладомир, 1994 (репринт). В Рунете доступно для скачивания: -library.pstu.ru/modules.php?name=1053 .
Leone, Mark. Roots of Modern Mormonism. Cambridge, Mass., 1979.
Lewis, Bernard. The Jews of Islam. New York and London, 1982.
Liebman, Charles. Deceptive Images. New Brunswick, N. J., 1988.
–. "Jewish Fundamentalism and the Israeli Polity." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms and Society. Chicago and London, 1993.
Lienesch, Michael. Redeeming America: Piety and Politics in the New Christian Right. Chapel Hill, N. C., and London, 1995.
Lindberg, David, and Ronald L. Numbers (eds.). God and Nature: Historical Essays on the Encounter Between Christianity and Science. Berkeley, Los Angeles, and London, 1986.
Lindsey, Hal. The Late Great Planet Earth. Grand Rapids, Mich., 1970.
–. The 1980s: Countdown to Armageddon. Grand Rapids, Mich., 1980.
Locke, John. A Letter Concerning Toleration. Indianapolis, Ind., 1955. В рус. переводе: Локк Дж. Послание о веротерпимости // Локк Дж. Соч. в 3 т. Т. 3. – М.: Мысль, 1988. – С. 66–90.
–. The Reasonableness of Christianity. Ed. George W. Ewing. Washington D. C., 1965.
–. The Treatises of Government. Ed. Peter Laslett. Cambridge, U. K. 1988. В рус. переводе: Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Соч. в 3 т. Т. 3. – М.: Мысль, 1988. – С. 137–405. ().
Lockyear, Herbert. Cameos of Prophecy: Are These the Last Days? Grand Rapids, Mich., 1942.
Louth, Andrew. Discovering the Mystery: An Essay on the Nature of Theology. Oxford, 1983.
Lovejoy, David S. Religious Enthusiasm in the New World: Heresy to Revolution. Cambridge, Mass., and London, 1985.
Lovelace, R. C. "Puritan Spirituality: The Search for a Rightly Reformed Church." In Louis Dupre and Don E. Saliers (eds.), Christian Spirituality: Post Reformation and Modern. New York and London, 1989.
Lowenthal, David. The Past Is a Foreign Country. Cambridge, U. K., 1965. В рус. переводе: Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. – СПб.: Владивосток: Владимир Даль; Русский остров, 2004.
Lustick, Ian S. For the Land and the Lord: Jewish Fundamentalism in Israel. New York, 1988.
–. "Jewish Fundamentalism and the Israeli-Palestinian Impasse." In Laurence J. Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective: Religion, Ideology, and the Crisis of Modernity. New York and London, 1993.
Lyotard, Jean-François. The Postmodern Condition. Manchester, U. K., 1986. В рус. переводе: Лиотар Ж.-Ф. Состояние. – М.; СПб.: Институт экспериментальной социологии; Алетейя, 1998 ().
Maccoby, Haim (ed. and trans.). Judaism on Trial: Jewish Christian Disputations in the Middle Ages. Princeton, N. J., 1982.
MacQuarrie, John. Thinking About God. London, 1975.
–. In Search of Deity: An Essay in Dialectical Theism. London, 1980.
Magonet, Jonathan. The Explorer's Guide to Judaism. London, 1998.
Mahler, Raphael. Hasidism and the Jewish Enlightenment: Their Confrontation in Galicia and Poland in the First Half of the Nineteenth Century. Trans. Aaron Klein and Jenny Machlowitz Klein. Philadelphia, New York, and Jerusalem, 1985.
Marius, Richard. Martin Luther, and Christian Between God and Death. Cambridge, Mass., and London, 1999.
Marsden, George M. Fundamentalism and American Culture: The Shaping of Twentieth-Century Evangelicalism, 1870–1925. New York and Oxford, 1980.
–. "The Religious Right: A Historical Overview." In Michael Cromartie (ed.), No Longer Exiles: The Religious New Right in American Politics. Washington, D. C., 1993.
Marshall, Peter, and David Manual. The Light and the Glory. Old Tappan, N. J., 1977.
Marsot, Araf Lutfi al-Sayyid. "The Role of the Ulema in Egypt During the Early Nineteenth Century." In P. M. Holt (ed.), Political and Social Change in Modern Egypt: Historical Studies from the Ottoman Conquest to the United Arab Republic. London, 1968.
–. "The Ulama of Cairo in the Eighteenth and Nineteenth Centuries." In Nikki R. Keddie (ed.), Scholars, Saints and Sufis: Muslim Religious Institutions in the Middle East Since 1500. Berkeley, Los Angeles, and London, 1972.
Marty, Martin E., and R. Scott Appleby (eds.). Fundamentalisms Observed. Chicago and London, 1991.
–. Fundamentalisms and Society. Chicago and London, 1993.
–. Fundamentalisms and the State. Chicago and London, 1993.
–. Accounting for Fundamentalisms. Chicago and London, 1994.
–. Fundamentalisms Comprehended. Chicago and London, 1995.
Marx, Karl. Karl Marx: Early Writings. Trans. T. B. Bottomore. London, 1963. В рус. переводе: Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года и другие ранние философские работы. – М.: Академический проект, 2010.
Masterson, Patrick. Atheism and Alienation: A Study of the Philosophic Sources of Contemporary Atheism. Dublin, 1971.
Matin-Asgari, Afshin. "Abdolkarim Sorush and the Secularization of Islamic Thought in Iran," Iranian Studies 30, 1997.
Mawdudi, Abul Ala. Islamic Law and Constitution. Lahore, 1967.
–. Jihad in Islam. Lahore, 1976. В рус. переводе: Маудуди Абул Ала. Джихад в исламе (-163480.html?page=11).
–. The Economic Problem of Man and Its Islamic Solution. Lahore, 1978.
–. Islamic Way of Life. Lahore, 1979. В рус. переводе: Маудуди А. А. Образ жизни в исламе. – М.: Сантлада, 1993.
Mayhew, Jonathan. Practical Discourses Delivered on the Occasion of the Earthquakes in November 1755. Boston, 1760.
McClelland, J. S. A History of Western Political Thought. London, 1996.
McGrath, Alister E. The Intellectual Origins of the European Reformation. Oxford and New York, 1987.
–. Reformation Thought: An Introduction. Oxford and New York. 1988. В рус. переводе: Макграт А. Богословская мысль Реформации. – Одесса: Богомыслие, 1994.
–. A Life of John Calvin: A Study in the Shaping of Western Culture. Oxford, 1990.
McLoughlin, William G. Revivals, Awakenings and Reform. Chicago, 1978.
Mead, Sidney. The Nation with the Soul of a Church. New York, 1975.
Mergui, Raphael, and Philippe Simonnot. Israel's Ayatollahs: Meir Kahane and the Far Right in Israel. London, 1987.
Miller, Perry. The New England Mind. From Colony to Province. Cambridge, Mass., 1953.
–. Errand into the Wilderness. Cambridge, Mass., 1956.
Milton-Edwards, Beverley. Islamic Politics in Palestine. London and New York, 1996.
Mitchell, Joshua. Not by Reason Alone: Religion, History and Identity in Early Modern Political Thought. Chicago, 1993.
Mitchell, Richard P. The Society of the Muslim Brothers. London, 1969.
Mittleman, Alan L. "Fundamentalism and Political Development: The Case of Agudat Yisrael." In Laurence J. Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective: Religion, Ideology, and the Crisis of Modernity. New York and London, 1993.
Moin, Baqer. Khomeini: Life of the Ayatollah. London, 1999.
Momen, Moojan. An Introduction to Shii Islam: The History and Doctrines of Twelver Shiism. New Haven, Conn., and London, 1985.
Moore, James R. "Geologists and Interpreters of Genesis in the Nineteenth Century." In David C. Lindberg and Ronald L. Numbers (eds.), God and Nature: Historical Essays on the Encounter Between Christianity and Science. Berkeley, Los Angeles and London, 1986.
Moore, R. Laurence. Religious Outsiders and the Making of Americans. Oxford and New York, 1986.
Mottahedeh, Roy. The Mantle of the Prophet: Religion and Politics in Iran. London, 1985.
Murrin, John M. "Religion and Politics in America from the First Settlement to the Civil War." In Mark A. Noll (ed.), Religion and American Politics: From the Colonial Period to the 1980s. Oxford and New York, 1990.
Nash, Ron. Poverty and Wealth: The Christian Debate Over Capitalism. Westchester, Ill., 1986.
Negus, Steve. "Carnage at Luxor." Middle East International, November 21, 1997.
Newton, Isaac. The Correspondence of Isaac Newton. Eds. A. R. Hall and L. Tilling. Cambridge, 1959. В рус. пер.: Четыре письма сэра Исаака Ньютона доктору Бентли, содержащие некоторые доказательства существования Бога // Вопросы истории естествознания и техники. 1993. № 1. С. 33–39.
Nieburg, H. L. "Agonistic – Rituals of Conflict." The Annuals 391, September, 1970. Nietzsche, Friedrich. The Gay Science. New York, 1974. В рус. переводе: Ницше Ф. Веселая наука // Ницше Ф. Соч. в 2 т. Т. 1. – М.: Мысль, 1990.
Nolan, Alan T. Lee Considered: General Robert E. Lee and Civil War History. Chapel Hill, N. C., 1991.
Noll, Mark A. (ed.). Religion and American Politics: From the Colonial Period to the 1980s. Oxford and New York, 1990.
North, Gary. Unconditional Surrender: God's Program for Victory. Tyler, Tex., 1981.
–. Honest Money. Fort Worth, Tex., 1986. В рус. переводе: Норт Г. Честные деньги. Библейские принципы денег и банковского дела. – М., 2007 ().
–. The Sinai Strategy: Economics and the Ten Commandments. Tyler, Tex., 1986.
–. In the Shadow of Plenty: The Biblical Blueprint for Welfare. Fort Worth, Tex., 1986.
–. Inherit the Earth: Biblical Blueprints for Economics. Fort Worth, Tex., 1987.
–. Is the World Running Down? Crisis in the Christian Worldview. Tyler, Tex., 1988.
Numbers, Ronald L. The Creationists: The Evolution of Scientific Creationism. Berkeley and Los Angeles, 1992.
–, with Jonathan M. Butler (eds.). The Disappointed: Millerism and Millennarianism in the Nineteenth Century. Bloomington, Ind., 1987.
O'Fahey, R. S. "Pietism, Fundamentalism and Mysticism: An Alternative View of the Eighteenth and Nineteenth-Century Islamc World." Lecture delivered at Northwestern University, November 12, 1997.
Otis, George. God, Money and You. Van Nuys, Calif., 1975.
Otto, Rudolf. The Idea of the Holy: An Inquiry into the Non-Rational Factor in the Idea of the Divine and Its Relation to the Rational. Trans., John W. Harvey. Oxford, 1923. В рус. переводе: Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008.
Outler, Albert C. John Wesley. Oxford and New York, 1964.
Oz, Amos. In the Land of Israel. Trans. Maurice Goldberg-Bartura. London, 1983.
Paine, Thomas. Common Sense and the Crisis. New York, 1975. С работами Т. Пэйна на рус. языке можно ознакомиться по следующим изданиям: Пэйн Т. Избранные сочинения. – М., 1959; Американские просветители. Избр. произведения. Т. 2. – М., 1969.
Parsons, Jonathan. Seven Discourses. Portsmouth, N. H., 1756.
Partner, Peter. God of Battles: Holy Wars of Christianity and Islam. London, 1997.
Pascal, Blaise. Pensees. Trans. and ed. A. J. Krailsheimer. London, 1966. В рус. переводе: Паскаль Б. Мысли о религии. – М.: Харвест, АСТ, 2001.
Paton, Andrew A. A History of the Egyptian Revolution. 2 vols. Trubner, Germany, 1876.
Pelikan, Jaroslav. The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine. 5 vols. IV: Reformation of Church and Dogma, Chicago and London, 1985. V: Christian Doctrine and Modern Culture (Since 1700), Chicago and London, 1989. В настоящее время на рус. языке вышли следующие тома из пятитомного труда Я. Пеликана: Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. – Т. 1. Возникновение кафолической традиции (100–600 гг.); Т. 2. Дух восточного христианства (600–1700 гг.). – М.: Духовная библиотека, 2007–2009.
Peters, Rudolph. Jihad in Classical and Modern Islam. A Reader. Princeton, N. J., 1996.
Plath, David (ed.). Aware of Utopia. Urbana, Ill., 1971.
Qutb, Sayyid. Islam and Universal Peace. Indianapolis, Ind., 1977.
–. Fi Zilal al-Koran. 6 vols. Beirut, 1981.
–. Milestones. Delhi, 1988. В рус. переводе: Кутб, Саид. Вехи на пути Аллаха ().
–. This Religion of Islam. Gary, Ind., n. d. В рус. переводе: Кутб С. Эта религия (/5-1-0-63).
Rahman, Fazlur. The Philosophy of Mulla Sadra. Albany, N. Y., 1975.
–. Islam. Chicago, 1979.
–. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago, 1982.
Raitt, Jill, with Bernard McGinn and John Meyendorff (eds.). Christian Spirituality: High Middle Ages and Reformation. New York, 1988; London, 1989.
Rajaee, Farhang. "Islam and Modernity." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms and Society. Chicago and London, 1993.
Rauschenbusch, Walter. Christianity and the Social Crisis. New York, 1907.
–. Christianity and the Social Order. New York, 1912.
Ravitsky, Aviezer. Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism. Trans. Michael Swirsky and Jonathan Chipman. Chicago and London, 1993.
Renan, Ernest. Histoire generale et systeme compare de langues semitiques. Ed. H. Pischiari. Paris, 1955.
–. L'Islamisme et la science. Paris, 1883. В рус. пер.: Ренан Э. Ислам и наука… – СПб., 1883.
Richard, Yann. "Ayatollah Kashani: Precursor of the Islamic Republic?" In Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution. New Haven, Conn., and London, 1983. Riesebrodt, Martin. Pious Passion: The Emergence of Modern Fundamentalism in the United States and Iran. Trans. Don Reneau. Berkeley, Los Angeles, and London, 1993. На рус. языке в реферативном изложении см.: Васильев А. В. Ризеброт. Набожные страсти. Возникновение современного фундаментализма в Соединенных Штатах и в Иране // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История. Реферативный журнал. ИНИОН РАН. – 1996. – № 4. – С. 231–232.
Rifkin, Jeremy, and Ted Howard. The Emerging Order: God in the Age of Scarcity. New York, 1979.
Robertson, Pat. The Secret Kingdom. Nashville, Tenn., 1982.
–. America's Dates with Destiny. Nashville, Tenn., 1986.
–. The New Millennium. Dallas, Tex., 1990.
–. The New World Order. Dallas, Tex., 1991.
–, with Jamie Buckingham. Shout It from the Housetops. Plainfield, N. J., 1972.
Robertson, Roland, and JoAnn Chirico. "Humanity, Globalization and Worldwide Religious Resurgence: A Theoretical Exploration," Sociological Analysis 46, 1985.
Robison, James. Thank God I'm Free: The James Robison Story. Nashville, Tenn., 1988.
Rose, Gregory. "Velayat-e Faqih and the Recovery of the Islamic Identity in the Thought of Ayatollah Khomeini." In Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution. New Haven, Conn., 1983.
Rose, Susan. "Christian Fundamentalism and Education in the United States." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms and Society. Chicago and London, 1993.
Rosenak, Michael. "Jewish Fundamentalism in Israeli Education." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms and Society. Chicago and London, 1993.
Ross, Andrew (ed.), Universal Abandon: The Politics of Postmodernism. Minneapolis, Minn., 1988.
Royster, Charles. The Destructive War: William Tecumseh Sherman, Stonewall Jackson, and the Americans. New York, 1991.
Rubinstein, Richard. After Auschwitz: Radical Theology and Contemporary Judaism. Indianapolis, Ind., 1966.
–. The Coming of History. New York, 1978.
Rudavsky, David. Modern Jewish Religious Movements: A History of Emancipation and Adjustment. Rev. ed. New York, 1967.
Rugh, Andrea B. "Reshaping Personal Relations in Egypt." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms and Society. Chicago and London, 1993.
Rushdoony, R. J. This Independent Republic: Studies in the Nature and Meaning of American History. Nutley, N. J., 1964.
–. The Kingdom Come: Studies in Daniel and Revelation. Fairfax, Va., 1978.
–. Politics of Guilt and Pity. Fairfax, Va., 1978.
–. God's Plan for Victory: The Meaning of Post-Millennialism. Fairfax, Va., 1980.
Rutherford, Jonathan (ed.). Identity, Community, Culture Difference. London, 1990.
Ruthven, Malise. A Satanic Affair: Salman Rushdie and the Rage of Islam. London, 1990.
Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein. Islamic Messianism: The Idea of the Mahdi in Twelver Shiism. Albany, N. Y., 1981.
–. "Ali Shariati: Ideologue of the Iranian Revolution." In John Esposito (ed.), Voices of Resurgent Islam. New York and Oxford, 1983.
Sacks, Jonathan. The Persistence of Faith: Religion, Morality and Society in a Secular Age. London, 1991.
Sadat, Anwar. Revolt on the Nile. New York, 1957.
Said, Edward W. Orientalism: Western Conceptions of Orient. New York, 1978.
Sandeen, Ernest. The Roots of Fundamentalism. Chicago, 1970.
Saperstein, Marc (ed.). Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History. New York and London, 1992.
Schaeffer, Franky. A Time for Anger: The Myth of Neutrality. Westchester, Ill., 1982.
Schlafly, Phyllis. The Power of the Christian Woman. Cincinnati, 1981. Scholem, Gershom. Major Trends in Jewish Mysticism. London, 1955. В рус. переводе: Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. – М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2004.
–. On the Kabbalah and Its Symbolism. New York, 1965.
–. The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality. New York, 1971.
–. Sabbatai Sevi, The Mystical Messiah, 1626–1676. London and Princeton, N. J., 1973.
Schultze, Quentin. "The Two Faces of Fundamentalist Higher Education." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms and Society. Chicago and London, 1993.
Schweid, Eliezer. The Land of Israel: National Home or Land of Destiny. Trans. Deborah Greniman. New York, 1985.
Scofield, C. I. The Scofield Reference Bible. New York and Oxford, 1917.
–. Addresses on Prophecy. New York, n. d.
Selengut, Charles. "By Torah Alone: Yeshiva Fundamentalism in Jewish Life." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalisms. Chicago and London, 1994.
Shariati, Ali. Community and Leadership. (n. p.) 1972.
–. The Sociology of Islam. Berkeley, 1979.
–. Hajj. Tehran, 1988. На рус. языке (отрывок): Шариати. Хадж (/a-115.html).
Shayyal, Gamal el-Din. "Some Aspects of Intellectual and Social Life in Eighteenth-Century Egypt." In P. M. Holt (ed.), Political and Social Change in Modern Egypt: Historical Studies from the Ottoman Conquest to the United Arab Republic. London, 1968.
Shriver, Peggy L. "The Paradox of an Inclusiveness-Than-Divides," Christian Century, January 21, 1984.
Sick, Gary. All Fall Down: America's Fateful Encounter with Iran. London, 1985.
Sidahared, Abdel Salam, and Anonshiravan Ehteshani (eds.). Islamic Fundamentalism. Boulder, Colo., 1996.
Silberstein, Laurence J. (ed.). Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective: Religion, Ideology, and the Crisis of Modernity. New York and London, 1993.
–. "Religion, Ideology, Modernity: Theoretical Issues in a Study of Jewish Fundamentalism." In ibid.
Silverman, R. M. Baruch Spinoza: Outcast Jew, Universal Sage. Northwood, U. K. 1995.
Sloek, Johannes. Devotional Language. Trans. Henrick Mossin. Berlin and New York, 1996.
Smart, Ninian. Beyond Ideology: Religion and the Future of Western Civilization. London, 1981. На рус. языке со взглядами Н. Смарта можно ознакомиться по публикациям: Смарт Н. Исследование религии и образование (http://rrs-journal.ru/RRS2/12%20smatr%20religion%20and%20education.pdf); Смарт Н. Новый взгляд на религиоведение: Ланкастерская идея (http://rrs-journal.ru/RRS2/13%20smart%20lancaster.pdf); Смарт Н. После Элиаде: Будущее теории религии. – Религиоведческие исследования. – 2010. – № 3–4; (http://rrs-journal.ru/RRS2/14%20smart%20beyond%20eliade.pdf); Смарт Н. (в соавт.). Сравнительная антология священных текстов. – М.: Республика, Терра; Книжный клуб, 1995.
Smith, Wilfred Cantwell. Islam in Modern History. Princeton and London, 1957.
–. Belief and History. Charlottesville, Va., 1977.
–. Faith and Belief. Princeton, N. J., 1979.
Soloveitchic, Hayim. "Migration, Acculturation, and New Role of Texts." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalisms. Chicago and London, 1994.
Sontag, Susan. A Susan Sontag Reader. New York, 1982. В рус. переводе: Зонтаг С. Эстетика молчания. Ч. I (-theory/412-i): Зонтаг С. Эстетика молчания. Ч. II (-theory/415-ii).
Spinoza, Baruch. A Theologico-Political Treatise. Trans. R. H. M. Elwes. New York, 1951. В рус. переводе: Богословско-политический трактат. Бенедикт Спиноза. // Спиноза Б. Избр. произв. в 2 т. Т. 2. – М.: Госполитиздат, 1957.
Sprinzak, Ehud. The Ascendance of Israel's Radical Right. Oxford and New York, 1991.
–. "The Politics, Institutions and Culture of Gush Emunim." In Laurence J Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective: Religion, Ideology, and the Crisis of Modernity. New York and London, 1993.
–. "Three Models of Religious Violence: The Case of Jewish Fundamentalism in Israel." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms and the State. Chicago and London, 1993.
Stampp, Kenneth. The Imperilled Union: Essays on the Background of the Civil War. New York, 1980.
Steiner, George. In Bluebeard's Castle: Some Notes Toward the Re-definition of Culture. New Haven, Conn., 1971. На рус. языке можно ознакомиться с одним отрывком из книги: Стайнер Дж. Великая Ennui: Эссе из книги «В замке Синей Бороды. Заметки к новому определению культуры» // Иностр. лит. – 2000. – № 8. – С. 261–271.
Stout, Harry S. "Rhetoric and Reality in the Early Republic: The Case of the Federalist Clergy." In Mark A. Noll (ed.), Religion and American Politics: From the Colonial Period to the 1980s. Oxford and New York, 1990.
Strauss, Leo. Spinoza's Critique of Reason. New York, 1982.
Strozier, Charles B. Apocalypse: On the Psychology of Fundamentalism in America. Boston, 1994.
Swierenga, Robert P. "Ethno-religious Political Behavior in the Mid-Nineteenth Century." In Mark A. Noll (ed.), Religion and American Politics: From the Colonial Period to the 1980s. Oxford and New York, 1990.
Szasz, Ferenc Morton. The Divided Mind of Protestant America, 1880–1930. University, Ala., 1982.
Tabari, Azar. "The Role of the Shii Clergy in Modern Iranian Politics." In Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution. New Haven, Conn., and London, 1983.
Taheri, Amir. The Spirit of Allah: Khomeini and the Islamic Revolution. London, 1985.
Tal, Uriel. "Foundations of a Political Messianic Trend in Israel." In Marc Saperstein (ed.), Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History. New York and London, 1992.
Talmon, J. L. The Origins of Totalitarian Democracy. London, 1953. На рус. языке: Талмон Дж. Л. Истоки тоталитарной демократии / Тоталитаризм: Что это такое (исследования зарубежных политологов). Сб. статей, обзоров, рефератов, переводов. – М.: ИНИОН, 1993. – Ч. 1.
Tancoigne, J. M. A Narrative of a Journey into Persia and Residence in Tehran. Trans. William Wright. London, 1820.
Tarnas, Richard. The Passion of the Western Mind: Understanding the Ideas That Have Shaped Our World View. New York and London, 1991. В рус. переводе: Тарнас Р. История западного мышления («Страсти западного ума»). – М.: КРОН-ПРЕСС, 1995. Terdiman, Richard. Discourse / Counter-Discourse. Ithaca, N. Y., 1985.
Thaiss, Guster. "Religious Symbolism and Social Change." In Nikki R. Keddie, Scholars, Saints and Sufis: Muslim Religious Institutions in the Middle East Since 1500. Berkeley, Los Angeles, and London, 1972.
Thompson, Thomas L. The Bible in History: How Writers Create a Past. London, 1999.
Tibi, Bassam. The Crisis of Political Islam: A Pre-Industrial Culture in the Scientific-Technological Age. Salt Lake City, Utah, 1988.
–. Arab Nationalism, A Critical Enquiry. Trans. Marion Farouk Sluglett and Peter Sluglett. 2nd ed. London, 1990.
Tuveson, Ernest Lee. Millennium and Utopia: A Study in the Background of the Idea of Progress. New York, 1964.
–. Redeemer Nation. Chicago, 1968.
Viguerie, Richard A. The New Right: We're Ready to Lead. Falls Church, Va., 1981.
Voll, John, Islam: Continuity and Change in the Modern World. Boulder, Colo., 1982.
–. "Renewal and Reform in Islamic History." In John Esposito (ed.), Voices of Resurgent Islam. New York and Oxford, 1983.
–. "Fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt and the Sudan," in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed. Chicago and London, 1991.
Walton, Rus. FACS! Fundamentals for American Christians. Nyack, N. Y., 1979.
–. One Nation Under God. Nashville, Tenn., 1987.
–. Biblical Solutions to Contemporary Problems: A Handbook. Brentwood, Tenn., 1988.
Walvoord, John. Israel and Prophecy. Grand Rapids, Mich., 1962.
–. Armageddon, Oil and the Middle East Crisis. Grand Rapids, Mich., 1990.
Ward, Mrs. Humphry. Robert Elsmere. Lincoln, Neb., 1969 edn. В рус. переводе: Уорд Х. Отщепенец. – СПб., 1889.
Warfield, Benjamin B. Selected Shorter Writings of Benjamin B. Warfield. 2 vols. Ed. John E. Meeber. Nutley, N. J., 1902.
Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. New York, 1958. В рус. переводе: Вебер М. Протестантская этика дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990.
Weber, Timothy. Living in the Shadow of the Second Coming: American Premillenialism, 1875–1982. Grand Rapids, Mich., 1983.
Weit, Gaston, ed. and trans. Nicolas Turc, Chronique d'Egypte, 1798–1804. Cairo, 1950.
Wells, H. G. The War of the Worlds. London, 1898. В рус. переводе: Уэллс Г. Война миров. – М.: АСТ; Астрель, 2010.
–. Anticipations. London, 1902. В рус. переводе: Уэллс Г. Прозрения (/).
Werblowsky, R. J. Zvi. "The Safed Revival and Its Aftermath." In Arthur Green (ed.), Jewish Spirituality. Vol. II. London, 1988.
–. "Messianism in Jewish History." In Marc Saperstein (ed.), Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History. New York and London, 1992.
Westfall, Richard S. "The Rise of Science and Decline of Orthodox Christianity: A Study of Kepler, Descartes and Newton." In David C. Lindberg and Ronald L. Numbers (eds.), God and Nature: Historical Essays on the Encounter Between Christianity and Science. Berkeley, Los Angeles, and London, 1986.
Whitehead, John W. The Second American Revolution. Westchester, Ill., 1982.
–. The Stealing of America. Westchester, Ill., 1983.
–. An American Dream. Westchester, Ill., 1987.
–, with John Conlon. "The Establishment of the Religion of Secular Humanism and Its First Amendment Implications." Texas Tech Law Review 10, 1978.
Willems, Emilio. Followers of the New Faith. Nashville, Tenn., 1967.
Williams, G. H. The Radical Revolution. Philadelphia, 1962.
Wilson, John F. "Religion, Government and Power in the New American Nation." In Marc A. Noll (ed.), Religion and American Politics: From the Colonial Period to the 1980s. Oxford and New York, 1990.
Wirt, Sherwood Eliot (ed.). Spiritual Awakening: Classic Writings of the Eighteenth Century. Devotions to Inspire and Help the Twentieth-Century Reader. Tring, U. K., 1988.
Wolfenstein, Martha. Disaster: A Psychological Essay. Glencoe, Ill., 1957.
Wood, Gordon S. The Creation of the American Republic. Chapel Hill., N. C., 1969.
Wright, Lawrence. Saints and Sinners. New York, 1993.
Wright, Melton. Fortress of Faith: The Story of Bob Jones University. Greenville, S. C., 1984.
Wuthnow, Robert, and Matthew P. Lawson. "Religious Movements and Counter Movements in North America." In James Beckford (ed.), New Religious Movements and Rapid Social Change. Paris, 1987.
–. "Quid Obscurum: The Changing Terrain of Church-State Relations." In Marc A. Noll (ed.), Religion and American Politics: From the Colonial Period to the 1980s (Oxford and New York, 1990).
–. "Sources of Christian Fundamentalism in the United States." In Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalisms. Chicago and London, 1994.
Yovel, Yirmiyahu. Spinoza and Other Heretics. 2 vols. I: The Marrano of Reason; II: The Adventures of Immanence. Princeton, N. J., 1989.
–. Dark Riddle: Hegel, Nietzsche, and the Jews. Cambridge, U. K., 1998.
Благодарности
Как всегда, выражаю особую сердечную признательность моим литературным агентам Фелисити Брайан, Питеру Гинсбергу и Эндрю Нюрнбергу, а также моим редакторам – Джейн Гарретт, Майклу Фишвику и Робберту Амерлану. Все эти годы их поддержка, энтузиазм и преданность делу служили мне незаменимым источником вдохновения и радости. Кроме того, я бесконечно благодарна редакционной команде издательства Knopf за мастерство и терпение – Мелвину Розенталю (выпускающему редактору), Антее Лингман (дизайнеру), Клэр Брэдли Онг (руководителю производственного отдела) и Арчи Фергюсону, который создавал обложку.
Не могу не поблагодарить сотрудниц Felicity Bryan – Мишель Топем и Кэрол Робинсон – за постоянную поддержку и спокойствие в критические моменты; Джона Эспозито, пригласившего меня в Центр мусульманско-христианского взаимопонимания при Джорджтаунском университете в Вашингтоне (который стал для меня кладезем неоценимой информации и опыта) и вместе со своей супругой Джанет явившего мне чудеса гостеприимства. Я очень признательна Рози Толлмаш, которая три месяца вплоть до рождения своей дочери Лиззи была мне замечательной ассистенткой, и Хенрику Моссину, моему датскому переводчику, за возможность познакомиться с работами Йоханнеса Слёка. И наконец, огромная благодарность Кейт Джонс и Джону Такаберри за дружескую поддержку в минуты отчаяния и вкуснейшие блюда, которые замечательно разнообразили мой скудный рацион в долгие месяцы работы над книгой.
Руководство для чтения
Интервью с Карен Армстронг
С Карен Армстронг беседовал Джонатан Кирш, литературный обозреватель Los Angeles Times, широко освещающий библейскую, литературную и правовую тематику в своих статьях и лекциях. Его авторству принадлежат такие завоевавшие признание читателей и критиков произведения, как King David («Царь Давид»), Moses: A Life n («Жизнь Моисея») и The Harlot by the Side of the Road («Блудница у дороги»).
Д. К.: Ваша самая первая книга Through the Narrow Gate («Узкими вратами») представляет собой воспоминания о жизни в женском монастыре. Что побудило вас стать монахиней?
К. А.: Наши мотивы редко бывают простыми, ясными и незамутненными. В религию меня тоже привел целый клубок причин. Разумеется, среди них было и желание обрести Бога, но имелись и менее благородные побуждения – мне было всего 17, смятение переходного возраста сыграло свою роль. Я была очень застенчивой, верите ли, и не представляла, как справиться с огромным взрослым миром. А монастырь казался чем-то знакомым. Я воображала, что стану необыкновенно чистой и мудрой и преодолею всякое смятение, растворюсь в сущности под названием Бог, достигну праведности и обрету счастье. Но этого не произошло. Если человек просто пытается убежать от себя, в монастыре он долго не выдержит, потому что все 24 часа в сутки, 365 дней в году вы находитесь там наедине с собой.
Д. К.: Как вы решили уйти из монастыря?
К. А.: Здесь тоже все непросто. Я совсем не хотела уходить. Мне было страшно. Я не думала: «Вот, теперь наконец-то я смогу красиво одеваться, влюбляться и наслаждаться свободой». Уходила в страхе. Я пропустила 1960-е и вышла в совершенно изменившийся мир. Но я знала, что по-другому нельзя, что хорошей монахини из меня не выйдет. Есть женщины, которым полное целомудрие не мешает достигать зрелости, они живут, не принимая никаких самостоятельных решений, только повинуясь и не имея ничего собственного. Но такое под силу лишь единицам, и я знаю, что к их числу не отношусь. Я понимала, что это не для меня. Пришлось уйти.
Д. К.: Можно ли, пользуясь вашим определением фундаментализма из «Битвы за Бога», назвать ваш опыт пребывания в монастыре фундаменталистским?
К. А.: Да, в том смысле, что это была намеренная попытка отвернуться от современного мира. Кроме того, монастырь в определенной степени можно считать осажденной цитаделью, обороняющейся от внешнего мира – «нам не положено знать, наш приказ – исполнять, наш приказ – умирать». Но есть и различия. Многие фундаменталисты озлоблены и готовы объявить миру войну. Мы до этого не доходили. Мы удалялись от мира.
Д. К.: После ухода из монастыря вы стали необыкновенно плодовитым писателем. Как протекает ваша писательская жизнь?
К. А.: Я работаю одна в своем лондонском доме, сижу в библиотеке, все время пишу. Пишу от руки, потом перепечатываю на машинке. Так медленнее, но мне кажется, что медленно писать полезнее. Я не из луддитов, которые в свое время противились механизации, но у меня эпилепсия как последствие родовой травмы, поэтому сидеть за компьютером день напролет для меня опасно. Но компьютер приобрести все же придется, потому что пишущие машинки больше не производят, и вскоре их можно будет найти только в антикварных лавках.
Когда не пишу, то читаю лекции и преподаю в Колледже Лео Бека в Лондоне, но это занимает лишь малую часть года. Преподаю христианство, однако в колледже есть доминиканский священник, который считает, что я недостаточно истовая христианка, чтобы вести полный курс.
Д. К.: Среди ваших книг есть и биографии – апостола Павла (The First Christian, «Первый христианин»), Мухаммеда (Muhammad:
A Biography of the Prophet, «Жизнеописание пророка Мухаммеда») и Будды (Buddha, «Будда»), – и исследования христианства, ислама и иудаизма («История Бога» и «Иерусалим. Один город, три веры»). «Битва за Бога», в частности, рассматривает фундаментализм во всех трех основанных на Библии религиях. Чем для вас интересно изучение таких разных и несовместимых вероучений?
К. А.: Именно эта разница в выражении веры и привела меня обратно к религии. Выйдя из монастыря, я была сыта религией по горло и думала, что с ней покончено навсегда. Мы с ней не поладили, я не переносила ее на дух. Это как неудачный сексуальный опыт в юности, который может отвратить от секса на всю жизнь. Первые мои книги проникнуты глубочайшим скепсисом.
Затем я отправилась в Иерусалим снимать документальный фильм про апостола Павла и там столкнулась с иудаизмом и исламом – живыми, динамичными, независимыми религиями, перекликающимися при этом с моей собственной. Очарованная, завороженная, я поняла, что мне необходимо в них разобраться.
Изучение иудаизма, ислама и учений христиан-ортодоксов дало мне понять, что в монотеизме есть еще много такого, с чем я никогда не сталкивалась, но принимаю всей душой, и тогда я глубже оценила то, к чему вела меня собственная вера. Я всегда старалась подавать монотеистические религии в этом триединстве, рассматривая все три ветви как равноценные пути к Господу.
Д. К.: Вы по-прежнему считаете себя католичкой?
К. А.: Нет, я бы назвала себя свободным монотеистом. Мой главный источник духовности – научное исследование. Погружаясь в священные тексты, любого происхождения, я испытываю благоговение, ощущение чуда и чувство трансцендентного.
Это общая тенденция XX в. Люди не хотят отказываться от собственной веры, но инстинктивно тянутся и к другим. Наше общество подвергается все большей глобализации, и религиозный плюрализм – одна из ее составляющих.
Д. К.: Однако фундаменталистов, о которых вы пишете в «Битве за Бога», мысль о религиозном плюрализме привела бы в ужас?
К. А.: Некоторых очень пугает плюрализм, и они пытаются, из чувства страха, сильнее прежнего утвердиться в своей идентичности, возводя новые барьеры. Фундаментализмом движет страх – страх потерять себя.
Но от эпохи модерна никуда не скрыться. Как ни парадоксально, сама возможность выбора фундаменталистской позиции – уже современная реалия, и большинство фундаменталистских идеологий просто не прижились бы в другую эпоху. Христианское прочтение Библии с фундаменталистской точки зрения, например, было бы невозможно до изобретения печатного станка и распространения грамотности.
Аятолла Хомейни тоже был представителем XX столетия, революционером и новатором, и его политические убеждения – антиимпериалистические и антиамериканские – типичны для стран «третьего мира». Как и любой современный политик, он обращался непосредственно к народу – и перевернул многовековую шиитскую традицию.
Д. К.: Последняя глава «Битвы за Бога» называется «Поражение?». Что вы хотите сказать о будущем фундаментализма этим провокационным вопросительным знаком?
К. А.: Фундаментализм нельзя победить, и в определенном смысле фундаменталисты одержали огромную победу. К середине XX в. общепризнанным стало убеждение, что религии уже не суждено играть никакой роли в значимых событиях. Однако сегодня ни одно правительство не может закрывать на нее глаза. Израиль, например, создавался как сугубо светское государство, однако сейчас его премьер-министру приходится идти на поклон к религиозным партиям, чтобы сформировать правительство. В Египте у исламского фундаментализма не меньше приверженцев, чем у насеризма в 1960-х. Даже в Соединенных Штатах политикам приходится завоевывать доверие «переживших второе рождение»: на пике скандала вокруг Моники Левински мы наблюдали, как Клинтон с рыданиями кается в грехе на собрании верующих.
Однако, если посмотреть с другой стороны, фундаментализм означает поражение тех религиозных традиций, которые фундаменталисты с боем отстаивают, поскольку он умаляет роль сострадания, провозглашаемого всеми мировыми религиями основной добродетелью, и выводит на первый план более воинственные и непримиримые составляющие. В основе фундаментализма лежат нигилизм, отчаяние и безнадежность.
Нам необходимо включить воображение и посмотреть вокруг глазами фундаменталистов, поскольку не только мы несем угрозу их ценностям, но и они – нашим. Если разберемся, чего на самом деле добиваются фундаменталисты, научимся читать фундаменталистские образы, мы сделаем первый шаг к взаимопониманию. Если войну можно развязать за минуту, то мир требует долгой подготовки.
Я назвала свою книгу «Битва за Бога» не только потому, что это броский заголовок. Общество настолько расколото, что две стороны еще не готовы сесть за стол переговоров. Противники жмутся по углам и смотрят на один и тот же мир разными глазами. Нам нужно научиться слушать. Одна из задач моей книги – расшифровать некоторые из фундаменталистских образов, чтобы сделать понятнее те мифы и мечты, страхи и тревоги, которые лежат в основе их представлений. Вместо того чтобы отмахиваться от фундаменталистов как от горстки невменяемых, мы должны прислушаться к тому, что они пытаются сказать.
Вопросы и темы для коллективного обсуждения прочитанного
1. Принадлежали ли когда-либо вы сами или кто-то из ваших близких к религиозному течению, которое Карен Армстронг определяет как фундаменталистское? Согласны ли вы с ее видением фундаментализма?
2. Карен Армстронг называет «два способа мышления, выражения мысли и обретения знаний» мифом и логосом. Миф, по ее определению, связан с «вечным и универсальным», а логос – с «рациональным, прагматичным и научным мышлением». Как соотносятся эти термины с вашим собственным представлением о религиозной и светской жизни?
3. Армстронг отмечает, что первый Великий инквизитор, которому предстояло искоренить иудаизм в Испании, сам был иудеем, обратившимся в католицизм. Считаете ли вы, что новообращенный склонен проявить большую истовость в новой для него вере, чем исповедующий эту веру с рождения?
4. Стало ли для вас открытием, что в исламе христиане и иудеи считались «защищенным меньшинством» (зимми)? Изменила ли история ислама в изложении Армстронг ваше представление об исламском мире, полученное из СМИ и популярных развлекательных источников?
5. Согласно Армстронг, события 1492 г. в Испании – изгнание иудеев и мусульман – знаменовали переход к «новому устройству» мировой истории. Историческими событиями схожей значимости автор считает приход к власти Наполеона, промышленную революцию и Первую мировую войну. Согласны ли вы с тем, что эти события изменили мир коренным образом?
6. Описывая модернизацию Запада, Армстронг отмечает, что некоторые ученые и мыслители пришли к убеждению: «абсолютно достоверными могут считаться лишь сведения, получаемые от пяти наших органов чувств, а все остальное – чистая фантазия». Соответственно «философия, метафизика, богословие, искусство, творчество, мистицизм и мифология отбрасывались как ненужные и суеверные формы деятельности, поскольку не подлежали эмпирической проверке». Исходя из собственного жизненного опыта, склонны ли вы разделить эту точку зрения?
7. Армстронг утверждает, что модерн, несмотря на все материальные блага, которые он принес человечеству, не мог полностью заменить религию и духовность. «Людям необходимо сознавать, что, несмотря на все обескураживающие доказательства обратного, в жизни есть конечный смысл и ценность». Каким «конечный смысл и ценность» жизни в современном мире видится вам лично? Постигаете ли вы смысл и ценность жизни, исповедуя религию?
8. Армстронг пишет: «Фундаменталисты были ярыми модернистами, но по-своему». Согласны ли вы с тем, что фундаментализм, описанный в книге, присущ именно современному миру и не мог бы появиться в более раннюю эпоху?
9. «Концлагерь и ядерный гриб – символы, которые необходимо хранить в памяти, чтобы не проникнуться шовинизмом по отношению к современной научной культуре, благами которой мы, жители развитых стран, массово пользуемся», – утверждает Армстронг. Считаете ли вы, что блага современного мира перевешивают такие ужасы, как холокост и угроза ядерного уничтожения?
10. Армстронг доказывает, что «в сердце современной культуры» имеется «бездна», которую французский философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр назвал «дырой на месте Бога». Знакомо ли вам ощущение этой бездны? Если да, как вы пытаетесь заполнить «дыру на месте Бога»?
11. Автор выражает надежду, что фундаменталисты и современное секулярное общество придут к пониманию и смогут жить друг с другом в мире. «Если фундаменталисты должны выработать более сострадательное отношение к своим врагам, которого требует от них собственная религия, то и секуляристам не следует забывать о великодушии, толерантности и гуманизме, которыми характеризуются лучшие образцы современной культуры», – пишет она. Видите ли вы способы, которыми «секуляристы» могли бы выразить эти чувства понятным для фундаменталистов языком?
12. В чем отличие конфликтов между евреями и мусульманами на Ближнем Востоке от конфликтов между католиками и протестантами в Северной Ирландии? Применимы ли высказанные автором «Битвы за Бога» идеи к обеим этим горячим точкам?
13. Изменила ли «Битва за Бога» ваше понимание роли религии в определении и поддержании морали в общественной и частной жизни? Положительную или отрицательную роль сыграла религия в формировании существующего мира?
14. Изменила ли «Битва за Бога» ваше отношение к фундаментализму в религии? В какую сторону? Прибавилось или убавилось у вас сочувствия к фундаменталистам после прочтения?
Об авторе
Карен Армстронг – ведущий специалист по религиозной проблематике. В число ее работ входят такие бестселлеры, как A History of God («История бога», 1993), Ierusalem («Иерусалим», 1997), Islam: A Short History («Краткая история ислама», 2000) и Buddha («Будда», 2001). Проведя семь лет в католическом женском монастыре, она вышла из ордена в 1969 г. и получила степень бакалавра литературы в Оксфорде, преподавала современную литературу в Лондонском университете и заведовала кафедрой английского языка в частной женской школе. В 1982 г. Карен Армстронг стала писателем и начала работать на телевидении, в 1983-м снимала на Ближнем Востоке шестисерийный документальный фильм о жизни и трудах апостола Павла. Среди других ее телепроектов – Varieties of Religious Experience («Виды религиозного опыта», 1984) и Tongues of Fire («Языки пламени», 1985); последняя превратилась впоследствии в одноименную антологию о способах религиозного и поэтического самовыражения. В 1996 г. Карен Армстронг принимала участие в съемках телесериала Билла Мойерса «Книга Бытия». Преподает в лондонском колледже Лео Бека, занимающемся изучением иудаизма и подготовкой раввинов и преподавателей. В 1999-м была удостоена награды Мусульманского совета по связям с общественностью. Статьи и обзоры Карен Армстронг регулярно появляются в периодической печати.
Ссылки
1
Abdel Salam Sidahared and Anonshiravan Ehteshani (eds.) Islamic Fundamentalism (Boulder, Colo, 1996), 4.
(обратно)2
Martin E. Marty and R. Scott Appleby, «Conclusion: An Interim Report on a Hypothetical Family,» Fundamentalisms Observed (Chicago and London, 1991), 814–842.
(обратно)3
Johannes Sloek, Devotional Language (trans. Henrik Mossin; Berlin and New York, 1996), 53–96.
(обратно)4
Mircea Eliade, Patterns in Comparative Religion (trans. Rosemary Sheed; London, 1958), 453–455. В рус. переводе: Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. – М.: Ладомир, 1999.
(обратно)5
Sloek, Devotional Language, 75–76.
(обратно)6
Ibid., 73–74; Thomas L. Thompson, The Bible in History: How Writers Create a Past (London, 1999), 15–33.
(обратно)7
Sloek, Devotional Language, 50–52, 68–71.
(обратно)8
Karen Armstrong, Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World (London, 1988; New York and London, 1991), 3–75, 147–274.
(обратно)9
Sloek, Devotional Language, 134.
(обратно)10
Paul Johnson, A History of the Jews (London, 1987), 229. В рус. переводе: Джонсон П. История евреев. – М.: Вече, 2007; Yirmiyahu Yovel, Spinoza and Other Heretics. I: The Marrano of Reason (Princeton, N. J., 1989), 17–18.
(обратно)11
Johnson, A History of the Jews, 230, в рус. переводе: Джонсон П. История евреев. – М.: Вече, 2007; Frederich Heer, The Medieval World 1100–1350 (trans. Janet Sondheimer; London, 1962), 318.
(обратно)12
Yovel, The Marrano of Reason, 17.
(обратно)13
Johnson, A History of the Jews, 217–225, в рус. переводе: Джонсон П. История евреев. – М.: Вече, 2007.
(обратно)14
Ibid., 217–225; Haim Maccoby, Judaism on Trial: Jewish Christian Debates in the Middle Ages (Princeton, N. J., 1982); Haim Beinart, Conversos on Trial: The Inquisition in Ciudad Real (Jerusalem, 1981), 3–6.
(обратно)15
Johnson, A History of the Jews, 225–229, в рус. переводе: Джонсон П. История евреев. – М.: Вече, 2007.
(обратно)16
Ibid., p. 230–231.
(обратно)17
Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism (London, 1955), 246–249. В рус. переводе: Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. – М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2004.
(обратно)18
Gershom Scholem, Sabbatai Sevi, The Mystical Messiah (London and Princeton, N. J., 1973), 118–119.
(обратно)19
Ibid., 19.
(обратно)20
Ibid., 30–45; Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, 245–280, в рус. переводе: Шолем. Г. Основные течения в еврейской мистике. – М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2004.; Gershom Scholem, «The Messianic Idea in Kabbalism,» in Scholem, The Messianic Idea in Judaism and Other Essays on Jewish Spirituality (New York, 1971), 43–48.
(обратно)21
Johannes Sloek, Devotional Language (trans. Henrik Mossin; Berlin and New York, 1996), 73–76.
(обратно)22
Scholem, Sabbatai Sevi, 24.
(обратно)23
Ibid., 23–25; R. J. Werblowsky, «Messianism in Jewish History,» in Marc Sapperstein (ed.), Essential Papers in Messianic Movements in Jewish History (New York and London, 1992), 48.
(обратно)24
Scholem, Sabbatai Sevi, 37–42.
(обратно)25
Richard L. Rubinstein, After Auschwitz: Radical Theology and Contemporary Judaism (Indianapolis, Ind., 1966)
(обратно)26
R. J. Werblowsky, «The Safed Revival and Its Aftermath,» in Arthur Green (ed.), Jewish Spirituality, 2 vols. (London, 1986, 1989), II, 15–19.
(обратно)27
Gershom Scholem, On the Kabbalah and Its Symbolism (New York, 1965), 150.
(обратно)28
Lawrence, Fine, «The Contemplative Practice of Yehudin in Lurianic Kabbalah,» in Green (ed.), Jewish Spirituality II, 73–78.
(обратно)29
Ibid., p. 8990; Werblowsky, «The Safed Revival and Its Aftermath,» 21–24; Louis Jacobs, «The Uplifting of Sparks in Later Jewish Mysticism,» in Green (ed.), Jewish Spirituality II, 108–111.
(обратно)30
Werblowsky, «The Safed Revival and Its Aftermath,», 17; Jacob Katz, «Halakah and Kabbalah as Competing Disciplines of Study,» in Green (ed.), Jewish Spirituality II, 52–53.
(обратно)31
Yovel, The Marrano of Reason, 91, 102
(обратно)32
Ibid., 26–27.
(обратно)33
Y. Baer, History of the Jews in Christian Spain (Philadelphia, 1961), 276–277.
(обратно)34
Yovel, The Marrano of Reason, 88–89.
(обратно)35
Ibid., 93.
(обратно)36
Рохас Ф. де. Селестина. – М., 1989. – Акт 27.
(обратно)37
Yovel, The Marrano of Reason, 18–19.
(обратно)38
Ibid., 19–24.
(обратно)39
Ibid., 54–57.
(обратно)40
Ibid., 51.
(обратно)41
Prologue, Epistola Invecta Contra Prado, quoted in Yovel, ibid., 51–52.
(обратно)42
Ibid., 53.
(обратно)43
Ibid., 75–76.
(обратно)44
Ibid., 42–51.
(обратно)45
Ibid., 57–73.
(обратно)46
Ibid., 4–13, 172–174.
(обратно)47
Спиноза Бенедикт. Богословско-политический трактат // Спиноза Б. Избр. произв.: В 2-х т. Т. 2. – М.: Госполитиздат, 1957.
(обратно)48
R. M. Silverman, Baruch Spinoza: Outcast Jew, Universal Sage (Northwood, U. K., 1995), 154–170.
(обратно)49
Ibid., 175–191.
(обратно)50
Yovel, The Marrano of Reason, 31–32.
(обратно)51
David Rudavsky, Modern Jewish Religious Movements: A History of Emancipation and Adjustments (New York, 1967), 28–33, 95.
(обратно)52
Bernard Lewis, The Jews of Islam (New York and London, 1982), 24–45.
(обратно)53
Johnson, A History of the Jews, 259.
(обратно)54
Scholem, Sabbatai Sevi, 139.
(обратно)55
Ibid., 12338.
(обратно)56
Ibid., 162.
(обратно)57
Ibid., 198.
(обратно)58
Ibid., 204, 206.
(обратно)59
Ibid., 227.
(обратно)60
Ibid., 237–38.
(обратно)61
Ibid., 243–259, 262–267, 370–426.
(обратно)62
Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, 306–07; в рус. переводе: Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. – М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2004.
(обратно)63
Scholem, Sabbatai Sevi, 367, 403.
(обратно)64
Ibid., с. 720–721; 800–801.
(обратно)65
Ibid., с. 796–797.
(обратно)66
Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, 312–15, в рус. переводе: Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. – М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2004.
(обратно)67
Scholem, Sabbatai Sevi, 618–622.
(обратно)68
Ibid., 622–637; 829–833.
(обратно)69
Ibid., 840–41.
(обратно)70
Ibid., 748.
(обратно)71
Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, 300–304; в рус. переводе: Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. – М.; Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2004.
(обратно)72
Gershom Scholem, «The Crypto-Jewish Sect of the Donmeh», in Scholem, The Messianic Idea in Jewdaism, 147–166.
(обратно)73
Saying Number 2152, quoted in Scholem, «Redemption Through Sin,» in The Messianic Idea in Jewdaism, 130.
(обратно)74
Saying Number 1419, in ibid.
(обратно)75
Ibid., 136–140.
(обратно)76
Marshall G. C. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, 3 vols. (Chicago and London, 1974), II, 334–360.
(обратно)77
Ibid., III, 14–15.
(обратно)78
Ibid., II, 406–407.
(обратно)79
Ibid., III, 107–123.
(обратно)80
Johannes Sloek, Devotional Language (trans. Henrik Mossin; Berlin and New York, 1996), 89–90.
(обратно)81
Коран 80:11.
(обратно)82
Коран 35:24–26.
(обратно)83
Коран 2:100; 13:37; 16:,101; 17:, 41; 17:86.
(обратно)84
Hodgson, The Venture of Islam I, 320–346, 386–389.
(обратно)85
Ibid., II, 560; III, 113–22. Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939 (Oxford, 1962), 25–36.
(обратно)86
John Voll, «Renewal and Reform in Islamic History,» in John Esposito (ed.), Voices of Resurgent Islam (New York and Oxford, 1983).
(обратно)87
Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy (New York and London, 1970), 350–54; Hodgson, The Venture of Islam, II, 470–471.
(обратно)88
Hodgson, The Venture of Islam, I, 383–409, 416–436; II, 194–198; Henri Corbin, Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi (trans. W. Trask; London, 1970), 10–29; 78–79.
(обратно)89
P. M. Holt, «The Pattern of Egyptian Political History from 1517 to 1798,» in P. M. Holt (ed.), Political and Social Change in Modern Egypt: Historical Studies from the Ottoman Conquest to the United Arab Republic (London, 1968), 80–82.
(обратно)90
Ibid., 82–86.
(обратно)91
Araf Lufti al-Sayyid Marsot, «The Role of the Ulema in Egypt During the Early Nineteenth Century,» in Holt (ed.), Political and Social Change in Modern Egypt, 264–265.
(обратно)92
Gemal el-Din Shayyal, «Some Aspects of Intellectual and Social Life in Eighteenth-Century Egypt,» in Holt (ed.), Political and Social Change in Modern Egypt, 117–123.
(обратно)93
Araf Lufti al-Sayyid Marsot, «The Ulema of Cairo in the Eighteenth and Nineteenth Centuries,» in Nikki R. Keddie (ed.), Scholars, Saints and Sufis: Muslim Religious Institutions in the Middle East Since 1500 (Berkeley, Los Angeles and London, 1972), 154.
(обратно)94
Marsot, «The Role of the Ulema During the Early Nineteenth Century,» 267–269.
(обратно)95
Ibid., 270; Daniel Crecelius, «Nonideological Responses of the Egyptian Ulema to Modernization,» in Keddie (ed.), Scholars, Saints and Sufis, 172.
(обратно)96
Crecelius, «Nonideological Responses,» 167–172.
(обратно)97
Hodgson, The Venture of Islam, III, 126–141, 158–159.
(обратно)98
Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 41–44.
(обратно)99
Voll, «Renewal and Reform in Islamic History,» 37, 39–42; Hodgson, The Venture of Islam, III, 160–161; Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 37–38.
(обратно)100
R. S. O'Fahey, «Pietism, Fundamentalism and Mysticism: An Alternative View of the 18th and 19th Century Islamic World»; lecture delivered on November 12, 1997, at Northwestern University.
(обратно)101
Moojan Momen, An Introduction to Shii Islam: The History and Doctrines of Twelver Shiism (New Haven, Conn., and London, 1985), 27–33.
(обратно)102
Magel Baktash, «Taziyeh and Its Philosophy,» in Peter J. Chelkowski (ed.), Tacziyeh, Ritual and Drama in Iran (New York, 1979), 98–102; Michael J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution (Cambridge, Mass., and London, 1980), 19–20; Hamid Algar, «The Oppositional Role of the Ulama in Twentieth Century Iran,» in Keddie (ed.) Scholars, Saints and Sufis, 233.
(обратно)103
Momen, An Introduction to Shii Islam, 35–38; 46–47.
(обратно)104
Ibid., 37, 69–70, 145–58; Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, Islamic Messianism: The Idea of the Mahdi in Twelver Shiism (Albany, 1981), 14–39.
(обратно)105
Momen, An Introduction to Shii Islam, 43–45.
(обратно)106
Ibn Babuya, «Kamal ad-Din,» in Momen, An Introduction to Shii Islam, 164, 161–90; Sachedina, Islamic Messianism, 24–30, 78–112, 150–183.
(обратно)107
Fischer, Iran, 25–26.
(обратно)108
Sachedina, Islamic Messianism, 151–159.
(обратно)109
Nikki R. Keddie, Roots of Revolution: An Interpretative History of Modern Iran (New Haven, Conn., and London, 1981), 10; Sachedina, Islamic Messianism, 30.
(обратно)110
Juan R. Cole, «Imami Jurisprudence and the Role of the Ulema: Mortaza Ansari on Emulating the Supreme Exemplar,» in Keddie (ed.) Scholars, Saints and Sufis, 36–37; Hodgson, The Venture of Islam, II, 323–324, 472–476.
(обратно)111
Sachedina, Islamic Messianism, 110–112.
(обратно)112
Hodgson, The Venture of Islam, III, 22–23, 30–33.
(обратно)113
Двунадесятников следует отличать от исмаилитов, которые признают только семь первых имамов.
(обратно)114
Momen, An Introduction to Shii Islam, 101–109.
(обратно)115
Hodgson, The Venture of Islam, III, 23.
(обратно)116
Momen, An Introduction to Shii Islam, 110–113.
(обратно)117
Martin Riesebrodt, Pious Passions: The Emergence of Modern Fundamentalism in the United States and Iran (trans. Don Reneau; Berkeley, Los Angeles and London, 1993), 102–103. На рус. языке в реферативном изложении см.: Васильев А. В. Ризеброт. Набожные страсти. Возникновение современного фундаментализма в Соединенных Штатах и в Иране // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История. Реферативный журнал. ИНИОН РАН. 1996. № 4. С. 231–232.
(обратно)118
Keddie, Roots of Revolution, 16–17.
(обратно)119
Momen, An Introduction to Shii Islam, 114–116.
(обратно)120
Baktash, «Taziyeh and Its Philosophy,» 105.
(обратно)121
Mary Hegland, «Two Images of Husain: Accommodation and Revolution in an Iranian Village,» in Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution (New Haven, Conn., and London, 1983), 221–225.
(обратно)122
Hodgson, The Venture of Islam, III, 42–46; Mangol Bayat, Mysticism and Dissent: Socioreligious Thought in Qajar Iran (Syracuse, N. Y., 1982), 28–47.
(обратно)123
Hodgson, The Venture of Islam, III, 43.
(обратно)124
Fakhry, A History of Islamic Philosophy, 340.
(обратно)125
Fischer, Iran, 239–242.
(обратно)126
Momen, An Introduction to Shii Islam, 117–123, 225; Bayat, Mysticism and Dissent, 21–23.
(обратно)127
Bayat, Mysticism and Dissent, 30.
(обратно)128
Nikki R. Keddie, «Ulema's Power in Modern Iran,» in Keddie (ed.), Scholars, Saints and Sufis, 223; Momen, An Introduction to Shii Islam, 117–118.
(обратно)129
Keddie, Roots of Revolution, 21–22; Momen, An Introduction to Shii Islam, 124–126.
(обратно)130
Keddie, «Ulema's Power in Modern Iran,» 226.
(обратно)131
Momen, An Introduction to Shii Islam, 127–128; Cole, «Imami Jurisprudence and the Role of the Ulema,» 39–40; Bayat, Mysticism and Dissent, 22–23; Hamid Algar, «The Oppositional Role of the Ulema,» 234–235.
(обратно)132
George Annesley, The Rise of Modern Egypt, A Century and a Half of Egyptian History, 1790–1957 (Durham, U. K., 1994), 4–5.
(обратно)133
Robin Briggs, «Embattled Faiths: Religion and Natural Philosophy,» in Euan Cameron (ed.), Early Modern Europe (Oxford, 1999), 197–205.
(обратно)134
Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, 3 vols. (Chicago and London, 1974), III, 179–195.
(обратно)135
Norman Cantor, The Sacred Chain: A History of the Jews (New York, 1994; London, 1995), 237–252.
(обратно)136
Richard Marius, Martin Luther, the Christian Between God and Death (Cambridge, Mass., and London, 1999), 73–74, 214–215, 486–487.
(обратно)137
Alister E. McGrath, Reformation Thought: An Introduction (Oxford and New York, 1988), 73–74. В рус. переводе: Макграт А. Богословская мысль Реформации. – Одесса: Богомыслие, 1994; A Life of John Calvin, A Study in the Shaping of Western Culture (Oxford, 1990), 70.
(обратно)138
Marius, Martin Luther, 101–104, 111, 443.
(обратно)139
Jaroslav Pelikan, The Christian Tradition: A History of the Development of the Doctrine, 5 vols. IV, Reformation of Church and Dogma (Chicago and London, 1985), 165–67. В настоящее время на русском языке вышли следующие тома из пятитомного труда Я. Пеликана: Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Т. 1. Возникновение кафолической традиции (100–600). – М.: Духовная библиотека, 2007; Т. 2. Дух восточного христианства (600–1700). М.: Духовная библиотека, 2009.
(обратно)140
Joshua Mitchell, Not By Reason Alone: Religion, History and Identity in Early Modern Political Thought (Chicago, 1993), 23–30.
(обратно)141
McGrath, John Calvin, 130–132.
(обратно)142
Richard Tarnas, The Passion of the Western Mind: Understanding the Ideas That Have Shaped Our World View (New York and London, 1991), 300. В рус. переводе: Тарнас Р. История западного мышления («Страсти западного ума»). – М.: Крон-Пресс, 1995.
(обратно)143
Ibid.
(обратно)144
Letter to Bentley, December 10, 1692, in Isaac Newton, The Correspondence of Isaac Newton (ed. A. H. Hall and L. Tilling; Cambridge, 1959), 223–225. В рус. переводе: Четыре письма сэра Исаака Ньютона доктору Бентли, содержащие некоторые доказательства существование Бога // Вопросы истории естествознания и техники. 1993. № 1. С. 33–39.
(обратно)145
Richard S. Westfall, "The Rise of Science and the Decline of Orthodox Christianity:
A Study of Kepler, Descartes and Newton," in David C. Lindberg and Ronald L. Numbers (eds.), God and Nature: Historical Essays on the Encounter Between Christianity and Science (Berkeley, Los Angeles, and London, 1986), 231.
(обратно)146
Ibid., 231–232.
(обратно)147
Gregory of Nyssa, «Not Three Gods,» in Karen Armstrong, A History of God: The Four Thousand Year Quest in Judaism, Christianity and Islam (London and New York, 1993), 116–18. В рус. перереводе: Нисский Г. К Авлалию о том, что не «три Бога» см.: Карен Армстронг. История Бога. 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе. – М.: Альпина нон-фикшн, 2011; русский текст св. Григория Нисского «К Авлалию о том, что не „три Бога“» см.: Творения святаго Григория Нисского. Часть четвертая. – М.: Типография В. Готье, 1862. С. 111–132 (Творения святых отцев в русском переводе, издаваемыя при Московской Духовной Академии, т. 40).
(обратно)148
Tarnas, The Passion of the Western Mind, 300. В рус. переводе: Тарнас Р. История западного мышления. – М.: Крон-Пресс, 1995.
(обратно)149
Rene Descartes, Discours de la methode, II: 6:19. В рус. переводе: Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках // Декарт Р. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989.
(обратно)150
Mitchell, Not By Reason Alone, 58, 61.
(обратно)151
Паскаль Б. Мысли о религии. – М.: Харвест, АСТ, 2001.
(обратно)152
John Locke, Letter Concerning Toleration (Indianapolis, Ind., 1955). В рус. переводе: Локк Дж. Послание о веротерпимости // Локк Дж. Соч.: В 3 т. – Т. 3. – М.: Мысль, 1988.
(обратно)153
John Toland, Christianity Not Mysterious (1606) in Jaroslav Pelikan, The Christian Tradition, V, Christian Doctrine and Modern Culture (Since 1700) (Chicago and London, 1989), 66–69.
(обратно)154
Ibid., 101.
(обратно)155
Иммануил К. Ответ на вопрос: Что такое просвещение. Собр. соч. в 6 т. Т. 6. – М., 1966. – С. 25–35.
(обратно)156
Tarnas, The Passion of the Western Mind, 341–48. В рус. переводе: Тарнас Р. История западного мышления. – М.: Крон-Пресс, 1995.
(обратно)157
Immanuel Kant, Religion Within the Limits of Reason Alone (1793). В рус. переводе: Кант И. Религия в пределах только разума. – М.: Либроком, 2012.
(обратно)158
Immanuel Kant, Critique of Practical Reason (1788). В рус. переводе: Кант И. Критика практического разума. – М.: Наука, 2007.
(обратно)159
Patrick Masterson, Atheism and Alienation: A Study of the Philosophic Sources of Contemporary Atheism (Dublin, 1971), 30.
(обратно)160
Norman Cohn, Europe's Inner Demons (London, 1976).
(обратно)161
Norman Cohn, The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millennarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages (London, 1957), 303–318.
(обратно)162
David S. Lovejoy, Religious Enthusiasm in the New World: Heresy to Revolution (Cambridge, Mass. and London, 1985), 67–90.
(обратно)163
Ibid., 69.
(обратно)164
Ibid., 112.
(обратно)165
Pelikan, Christian Doctrine and Modern Culture, 118.
(обратно)166
Jon Butler, Awash in a Sea of Faith, Christianity and the American People (Cambridge, Mass., and London, 1990), 36–66.
(обратно)167
Ibid., 98–128.
(обратно)168
Lovejoy, Religious Enthusiasm in the New World, 113.
(обратно)169
R. C. Lovelace, «Puritan Spirituality: The Search for a Rightly Reformed Church,» in Louis Dupre and Don E. Saliers (eds.), Christian Spirituality: Post Reformation and Modern (London and New York, 1989), 313–315.
(обратно)170
Jonathan Edwards, «A Faithful Narrative of the Surprising Work of God in Northhampton, Connecticut,» in Sherwood Eliot Wirt (ed.), Spiritual Awakening: Classic Writings of the Eighteenth Century to Inspire and Help the Twentieth-Century Reader (Tring, 1988), 110.
(обратно)171
Ibid., 113.
(обратно)172
Ruth H. Bloch, Visionary Republic: Millennial Themes in American Thought (1756–1800) (Cambridge, U. K., 1985), 14–15.
(обратно)173
Ibid., 18–20.
(обратно)174
Butler, Awash in a Sea of Faith, 160.
(обратно)175
Ibid., 150.
(обратно)176
Practical Discourses on the Occasion of the Earthquakes, November 1755 (Boston, 1760), 369–370.
(обратно)177
Seven Discourses (Portsmouth, 1756), 168.
(обратно)178
Bloch, Visionary Republic, 37–58.
(обратно)179
Ibid., 60–61.
(обратно)180
Butler, Awash in a Sea of Faith, 218–226.
(обратно)181
Bloch, Visionary Republic, 7781.
(обратно)182
Ibid., 65–67.
(обратно)183
Butler, Awash in a Sea of Faith, 198.
(обратно)184
Bloch, Visionary Republic, 81–88.
(обратно)185
A Valedictory Address to the Young Gentlemen Who Commenced Bachelors of Arts, July 27, 1776 (New Haven, Conn., 1776), 14.
(обратно)186
Lovejoy, Religious Enthusiasm in the New World, 226.
(обратно)187
Ibid.
(обратно)188
Thomas Paine, Common Sense and the Crisis (New York, 1975), 59. С работами Т. Пейна на рус. языке можно ознакомиться по следующим изданиям: Пейн Т. Изб. соч. – М., 1959; Американские просветители. Избр. произв. Т. 2. – М., 1969.
(обратно)189
Bloch, Visionary Republic, 55.
(обратно)190
Ibid., 60–63.
(обратно)191
Ibid., 29, 31.
(обратно)192
Butler, Awash in a Sea of Faith, 262–265.
(обратно)193
John F. Wilson, «Religion, Government and Power in the New American Nation,» in Mark A. Noll (ed.), Religion and American Politics: From the Colonial Period to the 1980s (Oxford and New York, 1990).
(обратно)194
Butler, Awash in a Sea of Faith, 222.
(обратно)195
Ibid., 216.
(обратно)196
Timothy Dwight, The Duty of an American (New Haven, 1798), 29–30.
(обратно)197
Butler, Awash in a Sea of Faith, 216.
(обратно)198
Ibid., 219.
(обратно)199
Henry S. Stout, «Rhetoric and Reality in the Early Republic: The Case of the Federalist Clergy,» in Noll (ed.), Religion and American Politics, 65–66, 75.
(обратно)200
Nathan O. Hatch, The Democratization of American Christianity (New Haven, Conn., and London, 1989), 22.
(обратно)201
Ibid., 25–129.
(обратно)202
Ibid., 68–157.
(обратно)203
Ibid., 9.
(обратно)204
Ibid., 36–37, 68–71.
(обратно)205
Ibid., 115–120.
(обратно)206
Ibid., 138–139.
(обратно)207
Ibid., 71.
(обратно)208
Ibid., 57.
(обратно)209
Paul Boyer, When Time Shall Be No More: Prophecy Belief in Modern American Culture (Cambridge, Mass., and London, 1992), 83–84.
(обратно)210
Ibid., 83.
(обратно)211
Ibid., 82.
(обратно)212
Daniel Walker Howe, «Religion and Politics in the Antebellum North,» in Noll (ed.), Religion and American Politics, 132–133; George M. Marsden, «Afterword,» in ibid., 382–383.
(обратно)213
Robert P. Swierenga, «Ethno-Religious Political Behavior in the Mid-Nineteenth Century,» in Noll (ed.), Religion and American Politics, 158; Hatch, Democratization of American Christianity, 198–200.
(обратно)214
Ruth H. Bloch, «Religion and Ideological Change in the American Revolution,» in Noll (ed.), Religion and American Politics, 55–56.
(обратно)215
Boyer, When Time Shall Be No More, 82.
(обратно)216
Robert C. Fuller, Naming the Antichrist: The History of an American Obsession (Oxford and New York, 1995), 95.
(обратно)217
Swierenga, «Ethno-Religious Political Behavior in the Mid-Nineteenth Century,» 159–160; Marsden, «Afterword», 283–284.
(обратно)218
Howe, «Religion and Politics in the Antebellum North,» 125–28; Swierenga, «Ethno-Religious Political Behavior,» 152–158.
(обратно)219
Butler, Awash in a Sea of Faith, 270.
(обратно)220
The Essence of Christianity (trans. George Eliot; New York, 1957), 33. В рус. переводе: Л. Фейербах. Сущность христианства // Избранные философские произведения: В 2 т. Т. 2. – М., 1965.
(обратно)221
Karl Marx, «Economic and Philosophical Manuscripts,» in Karl Marx: Early Writings (trans, and ed. T. B. Borrowmore; London, 1963), 166–167. В рус. переводе: Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года и другие ранние философские работы. – М.: Академический проект, 2010.
(обратно)222
James R. Moore, «Geologists and Interpreters of Genesis in the Nineteenth Century,» in Lindberg and Numbers (eds.), God and Nature, 341–343.
(обратно)223
Essays and Reviews, 4th ed. (London, 1861).
(обратно)224
Owen Chadwick, The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century (Cambridge, U. K., 1975), 161–188.
(обратно)225
Quoted in Peter Gay, A Godless Jew: Freud, Atheism and the Making of Psychoanalysis (New Haven, Conn., and London, 1987), 6–7.
(обратно)226
T. H. Huxley, Science and Christian Tradition (New York, 1896), 125.
(обратно)227
Ницше Ф. Веселая наука // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. – М.: Мысль, 1990.
(обратно)228
Ibid.
(обратно)229
Paul Johnson, A History of the Jews (London, 1987), 309. В рус. переводе: Джонсон П. История евреев.
(обратно)230
Yirmanyahu Yovel, Dark Riddle: Hegel, Nietzsche and the Jews (Cambridge, U. K., 1998), 3–20, 83–97.
(обратно)231
«On the Jewish Question,» in Karl Marx: Early Writings (trans. and ed. T. B. Borrowmore; London, 1963). В рус. переводе: Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. – М, 1955. – С. 382–413.
(обратно)232
Benzion Dinur, «The Origin of Hasidism and Its Social and Messianic Foundations,» in Gershom David Hundert (ed.), Essential Papers on Hasidism: Origins to Present (New York and London, 1991), 86–161.
(обратно)233
Simon Dubnow, «The Maggid of Miedzyryrzecz, His Associates and the Center in Volhynia,» in Hundert, Essential Papers, 58.
(обратно)234
Gershom Scholem, «The Neutralization of Messianism in Early Hasidism,» in The Messianic Idea and Other Essays on Jewish Spirituality (New York, 1971), 189–200; «Devekut or Communion with God,» in ibid., 203–237; Louis Jacobs, «The Uplifting of the Sparks in Later Jewish Mysticism,» in Arthur Green (ed.), Jewish Spirituality, 2 vols. (New York and London, 1986, 1988), II, 116–125; Jacobs, «Hasidic Prayer,» in Hundert, Essential Papers, 330–348.
(обратно)235
Benzion Dinur, «The Messianic-Prophetic Role of the Baal Shem Tov,» in Marc Saperstein (ed.), Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History (London and New York, 1992), 378–380.
(обратно)236
Dubnow, «The Maggid of Miedzyryrzecz,» 65.
(обратно)237
Ibid., 61.
(обратно)238
Scholem, «The Neutralization of Messianism in Early Hasidism,» 196–198.
(обратно)239
Louis Jacobs (ed.), The Jewish Mystics (London, 1990; New York, 1991), 208–215.
(обратно)240
Название «Хабад» представляет собой акроним, составленный из трех божественных атрибутов каббалы: Hokhmah (мудрость), Binah (понимание) и Daat (знание).
(обратно)241
Rachel Elior, «HaBaD: The Contemplative Ascent to God,» in Green (ed.), Jewish Spirituality, II, 158–203.
(обратно)242
Jacobs, «Hasidic Prayer,» 350–355.
(обратно)243
Jonathan Magonet, The Explorer's Guide to Judaism (London, 1998), 11.
(обратно)244
David Rudavsky, Modern Jewish Religious Movements: A History of Emancipation and Adjustment, rev. ed. (New York, 1967), 85.
(обратно)245
Norman Cantor, The Sacred Chain, A History of the Jews (New York, 1994; London, 1995), 236–37.
(обратно)246
Ibid., 247–248.
(обратно)247
Английские евреи были реабилитированы Оливером Кромвелем и после реставрации монархии по административному недосмотру получили юридическое признание вместе с другими «раскольниками».
(обратно)248
Cantor, The Sacred Chain, 241–256.
(обратно)249
Rudavsky, Modern Jewish Religious Movements, 157–164.
(обратно)250
Ibid., 286–287.
(обратно)251
Ibid., 290.
(обратно)252
Julius Guttmann, Philosophies of Judaism, the History of Jewish Philosophy from Biblical Times to Franz Rosenzweig (London and New York, 1964), 308–351.
(обратно)253
Rudavsky, Modern Jewish Religious Movements, 188, 194–195, 201–204.
(обратно)254
Ibid., 218–219.
(обратно)255
Samuel C. Heilman and Menachem Friedman, «Religious Fundamentalism and Religious Jews,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed (Chicago and London, 1991), 211–215; Charles Selengut, «By Torah Alone: Yeshiva Fundamentalism in Jewish Life,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalisms (Chicago and London, 1994), 239–241; Menachem Friedman, «Habad as Messianic Fundamentalism,» in ibid., 201.
(обратно)256
Hayim Soloveitchic, «Migration, Acculturation and the New Role of Texts,» in Marty and Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalisms, 333–334.
(обратно)257
Rudavsky, Modern Jewish Religious Movements, 219–243.
(обратно)258
Andrew A. Paton, A History of the Egyptian Revolution, 2 vols. (Trubner, Germany, 1876), I, 109–111.
(обратно)259
George Annesley, The Rise of Modern Egypt: a Century and a Half of Egyptian History (Durham, U. K., 1994), 7.
(обратно)260
Gaston Wait (ed. and trans.), Nicolas Turc, Chronique D'Egypte: 1798–1804 (Cairo, 1950), 78.
(обратно)261
Youssef M. Choueiri, Islamic Fundamentalism (London, 1990), 19.
(обратно)262
Araf Lufti al-Sayyid Marsot, «The Ulama of Cairo in the Eighteenth and Nineteenth Centuries,» in Nikki R. Keddie, Scholars, Saints and Sufis: Muslim Religion Institutions in the Middle East Since 1500 (Berkeley, Los Angeles, and London, 1972), 161–162; Daniel Crecelius, «Nonideological Responses of the Egyptian Ulama to Modernization,» in ibid., 173–175.
(обратно)263
Bassam Tibi, Arab Nationalism, A Critical Enquiry, 2nd ed. (trans. Marion Farouk Sluglett and Peter Sluglett; London, 1990), 81.
(обратно)264
Marsot, «The Ulama of Cairo,» 162.
(обратно)265
Annesley, The Rise of Modern Egypt, 28–238.
(обратно)266
Ibid., 51–56.
(обратно)267
Ibid., 57–59.
(обратно)268
Ibid., 59–60.
(обратно)269
Ibid., 62.
(обратно)270
Marsot, «The Role of the Ulama in Egypt During the Early Nineteenth Century,» in P. M. Holt (ed.) Political and Social Change in Modern Egypt: Historical Studies from the Ottoman Conquest to the United Arab Republic (London, 1968), 227–228.
(обратно)271
Annesley, The Rise of Modern Egypt, 61.
(обратно)272
Из обзора Али Мубарака (1875), в: Crecelius, «Nonideological Responses of the Egyptian Ulama,» 181–182.
(обратно)273
Ibid., 180–189; Marsot, «The Role of the Ulama,» 278–279.
(обратно)274
Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939 (Oxford, 1962), 42–45.
(обратно)275
Ibid., 46–49.
(обратно)276
Annesley, The Rise of Modern Egypt, 129–141, 152.
(обратно)277
Ibid., 147.
(обратно)278
Ibid., 153–155.
(обратно)279
Gerard de Nerval, Oeuvres (ed. Albert Beguin and Jean Richter; Paris, 1952), 895.
(обратно)280
Michael Gilsenan, Recognizing Islam: Religion and Society in the Modern Middle East (London, 1990), 199.
(обратно)281
Ibid., 198–201.
(обратно)282
Nikki R. Keddie, Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran (New Haven, Conn., and London, 1981), 37–38.
(обратно)283
Ibid., 25, 38–39, 42–43; Keddie, «The Roots of the Ulama's Power in Modern Iran,» in Keddie (ed.), Scholars, Saints and Sufis, 214–215.
(обратно)284
Keddie, Roots of Revolution, 44–47, 56–63.
(обратно)285
Juan R. Cole, «Imami Jurisprudence and the Role of the Ulama: Mortaza Ansari on Emulating the Supreme Exemplar,» in Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution (New Haven, Conn., and London, 1983), 41.
(обратно)286
J. M. Tancoigne, A Narrative of a Journey into Persia and Residence in Teheran (trans. William Wright; London, 1820), 196–201.
(обратно)287
William Beeman, «Cultural Dimensions of Performance Conventions in Iranian Taziyeh,» in Peter J. Chelkowski (ed.), Taziyeh, Ritual and Drama in Iran (New York, 1979), 26.
(обратно)288
Michael J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution (Cambridge, Mass., and London, 1980), 20, 176.
(обратно)289
Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization 3 vols. (Chicago and London, 1974), III, 155. Mangol Bayat, Mysticism and Dissent: Socioreligious Thought in Qajar Iran (Syracuse, N. Y., 1982), 37–58.
(обратно)290
Bayat, Mysticism and Dissent, 60–86.
(обратно)291
Ibid., 87–91.
(обратно)292
Ibid., 90–97, 101–109.
(обратно)293
Ibid., 97–100.
(обратно)294
Ibid., 110–116.
(обратно)295
Ibid., 118–125.
(обратно)296
Ibid., 127–129.
(обратно)297
George Steiner, In Bluebeard's Castle: Some Notes Toward the Re-definition of Culture (New Haven, Conn., 1971), 17–27. На рус. языке можно ознакомиться с одним отрывком из книги: Стайнер Дж. Великая Ennui: Эссе из книги «В замке Синей Бороды. Заметки к новому определению „культуры“ // Иностранная литература. – 2000. – № 8. – С. 261–271.
(обратно)298
Блейк У. Мильтон. // Блейк У. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. – М.: Художественная литература, 1969.
(обратно)299
Steiner, In Bluebeard's Castle, 23–24. На рус. языке можно ознакомиться с одним отрывком из книги: Стайнер Дж. Великая Ennui: Эссе из книги «В замке Синей Бороды. Заметки к новому определению культуры» // Иностр. лит. – 2000. – № 8. – С. 261–271.
(обратно)300
I. F. Clarke, Voices Prophesying War: Future Wars 1763–3749, rev. ed. (Oxford and New York, 1992), 37–88.
(обратно)301
Charles Royster, The Destructive War: William Tecumseh Sherman, Stonewall Jackson and the Americans (New York, 1991), 82.
(обратно)302
Alan T. Nolan, Lee Considered: General Robert E. Lee and Civil War History (Chapel Hill, N. C., 1991), 112–133; Charles B. Strozier, Apocalypse: On the Psychology of Fundamentalism in America (Boston, 1994), 173–174, 177.
(обратно)303
Robert C. Fuller, Naming the Antichrist: The History of an American Obsession (Oxford and New York, 1995), 111, 148.
(обратно)304
Paul Boyer, When Time Shall Be No More: Prophecy Belief in Modern American Culture (Cambridge, Mass., and London, 1992), 87–90; George M. Marsden, Fundamentalism and American Culture: The Shaping of Twentieth Century Evangelicalism, 1870–1925 (Oxford and New York, 1980), 50–55; Strozier, Apocalypse, 183–185.
(обратно)305
2-е послание к фессалоникийцам, 2:3–8.
(обратно)306
1-е послание к фессалоникийцам, 4:16.
(обратно)307
Marsden, Fundamentalism and American Culture, 57–63.
(обратно)308
Ibid., 14–17; Nancy Ammerman, «North American Protestant Fundamentalism,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed (Chicago and London, 1991), 8–12.
(обратно)309
Marsden, Fundamentalism and American Culture, 55.
(обратно)310
Johannes Sloek, Devotional Language (trans. Henrik Mossin; Berlin and New York, 1996), 83.
(обратно)311
Marsden, Fundamentalism and American Culture, 110–117.
(обратно)312
«Inspiration,» Princeton Review 2, April 11, 1881.
(обратно)313
Benjamin B. Warfield, Selected Shorter Writings of Benjamin B. Warfield, 2 vols. (ed. John B. Meeber; Nutley, N. J., 1902), II, 99–100.
(обратно)314
Charles Hodge, What is Darwinism? (Princeton, N. J., 1874), 142.
(обратно)315
Ibid., 60.
(обратно)316
Ibid., 139.
(обратно)317
Marsden, Fundamentalism and American Culture, 22–25; Fuller, Naming the Antichrist, 111–112.
(обратно)318
Ferenc Morton Szasz, The Divided Mind of Protestant America, 1880–1930 (University, Ala., 1982), 16–34, 37–41; Ammerman, «North American Protestant Fundamentalism,» 11–12.
(обратно)319
Mrs. Humphry Ward, Robert Elsmere (Lincoln, Neb., 1969), 414.
(обратно)320
New York Times, April 5, 1894.
(обратно)321
Ibid., February 1, 1897.
(обратно)322
Ibid., April 18, 1899.
(обратно)323
Union Seminary Magazine, 19, 1907–1908.
(обратно)324
Szasz, The Divided Mind, 28, 35–41.
(обратно)325
Marsden, Fundamentalism and American Culture, 30, 78; Boyer, When Time Shall Be No More, 93.
(обратно)326
Szasz, The Divided Mind, 75.
(обратно)327
Ammerman, «North American Protestant Fundamentalism,» 12.
(обратно)328
Fuller, Naming the Antichrist, 98–99.
(обратно)329
Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust (Ithaca, N. Y., 1989), 40–77. В рус. переводе: Бауман З. Актуальность холокоста. – М.: Европа, 2010.
(обратно)330
Paul Johnson, A History of the Jews (London, 1987), 365. В рус. переводе: Джонсон П. История евреев. – М.: Вече, 2007.
(обратно)331
Ibid., 380.
(обратно)332
Menachem Friedman, «Habad as Messianic Fundamentalism,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalisms (Chicago and London, 1994), 335–336.
(обратно)333
Arthur Hertzberg, The Zionist Idea (New York, 1969), 106.
(обратно)334
Aviezer Ravitsky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism (trans. Michael Swirsky and Jonathan Chipman; Chicago and London, 1993), 16–18.
(обратно)335
Ibid., 22–25, 49.
(обратно)336
Laurence J. Silberstein, «Religion, Ideology, Modernity: Theoretical Issues in the Study of Jewish Fundamentalism,» in Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective: Religion, Ideology and the Crisis of Modernity (New York and London, 1993), 13–15.
(обратно)337
Mangol Bayat, Mysticism and Dissent: Socioreligious Thought in Qajar Iran (Syracuse, N. Y., 1982), 133–178.
(обратно)338
Sad Kitaba, Letter 37, Bayat, Mysticism and Dissent, 160.
(обратно)339
Paharthana Yizirat, in ibid., 161.
(обратно)340
Bayat, Mysticism and Dissent, 44.
(обратно)341
Quhnikhani yi – Sirat, Bayat, Mysticism and Dissent, 161.
(обратно)342
Bayat, Mysticism and Dissent, 174–179.
(обратно)343
Nikki R. Keddie, Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran (New York and London, 1981), 66–67.
(обратно)344
Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939 (Oxford, 1962), 69–109; Bassam Tibi, The Crisis of Political Islam: A Pre-Industrial Culture in the Scientific-Technological Age (Salt Lake City, Utah, 1988), 103–104; Tibi, Arab Nationalism, A Critical Enquiry, 2nd ed. (trans. Marion Farouk Sluglett and Peter Sluglett; London, 1990), 84–88.
(обратно)345
Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 69.
(обратно)346
Albert Hourani, A History of the Arab Peoples (London, 1991), 304–305.
(обратно)347
Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 77–78.
(обратно)348
Ibid., 81.
(обратно)349
Ibid., 195–97, 245–259; Tibi, Arab Nationalism, 99–105.
(обратно)350
Nikki R. Keddie, Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamal al-Din «Al-Afghani» (Berkeley, 1968); Bayyat, Mysticism and Dissent, 134–148; Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 108–192; Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy (New York and London, 1970), 372–375.
(обратно)351
Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 127–128.
(обратно)352
Tibi, The Crisis of Political Islam, 70.
(обратно)353
Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 123–124.
(обратно)354
Ibid., 126; Bayat, Mysticism and Dissent, 148.
(обратно)355
Keddie, Islamic Response to Imperialism, 187.
(обратно)356
Tibi, The Crisis of Political Islam, 90.
(обратно)357
Bayat, Mysticism and Dissent, 147.
(обратно)358
Коран 13:11.
(обратно)359
E. Kedourie, Afghani and Abduh: An Essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam (London, 1966), 45.
(обратно)360
Ernest Renan, Histoire generale et systeme compare des langues semitiques (ed. H. Pischiari; Paris, 1955), 145–146; Renan, L'Islamisme et la science (Paris, 1983). В рус. переводе: Ренан Э. Ислам и наука… – СПб., 1883.
(обратно)361
The Philosophy of Law, Paragraphs 246, 248.
(обратно)362
Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, 3 vols. (Chicago and London, 1974), III, 208; Tibi, The Crisis of Political Islam, 1–25.
(обратно)363
Evelyn Baring, Lord Cromer, Modern Egypt, 2 vols. (New York, 1908), II, 146–147.
(обратно)364
Ibid., II, 184.
(обратно)365
Youssef M. Choueiri, Islamic Fundamentalism (London 1990), 36.
(обратно)366
Fakhry, A History of Islamic Philosophy, 376–81; Tibi, Arab Nationalism, 90–93; Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 130–161; Hodgson, The Venture of Islam, III, 274–276.
(обратно)367
Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 131–132.
(обратно)368
George Annesley, The Rise of Modern Egypt: A Century and a Half of Egyptian History, 1798–1957 (Durham, U. K., 1994), 308–309.
(обратно)369
Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 137.
(обратно)370
Ibid., 144.
(обратно)371
Ibid., 137–139.
(обратно)372
Ibid., 154–155.
(обратно)373
Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate (New Haven, Conn., and London, 1992), 160.
(обратно)374
Ibid., 139–140.
(обратно)375
Ibid., 144–156.
(обратно)376
Baring, Modern Egypt, II, 134, 155, 538–539.
(обратно)377
Ahmed, Women and Gender in Islam, 154.
(обратно)378
Ibid., 160–161.
(обратно)379
Ibid., 163–167.
(обратно)380
У. Б. Йейтс. Второе пришествие, пер. Г. Кружкова (-butler-yeats.html#40).
(обратно)381
Peter Gay, A Godless Jew: Freud, Atheism and the Making of Psychoanalysis (New Haven, Conn., and London, 1987), 39–50.
(обратно)382
Robert T. Handy, «Protestant Theological Tensions and Political Styles in the Progressive Period,» in Mark A. Noll (ed.), Religion and American Politics: From the Colonial Period to the 1980s (Oxford and New York, 1990), 282–288.
(обратно)383
Christianity and the Social Order (New York, 1912), 458.
(обратно)384
Ferenc Morton Szasz, The Divided Mind of Protestant America, 1880–1930 (University, Ala., 1982), 42–55.
(обратно)385
Ibid., 56–57.
(обратно)386
Charles O. Eliot, «The Future of Religion,» Harvard Theological Review 20, 1909.
(обратно)387
George M. Marsden, Fundamentalism and American Culture: The Shaping of Twentieth-Century Evangelism, 1870–1925 (New York and Oxford, 1980), 117–122.
(обратно)388
Szasz, The Divided Mind, 78–81; Nancy T. Ammerman, «North American Protestant Fundamentalism,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed (Chicago and London, 1974), 22.
(обратно)389
Даниил 11:15, Иеремия 1:14
(обратно)390
Robert C. Fuller, Naming the Antichrist: The History of an American Obsession (Oxford and New York, 1995), 115–117; Paul Boyer, When Time Shall Be No More: Prophecy Belief in Modern American Culture (Cambridge, Mass., and London, 1992), 101–105; Marsden, Fundamentalism and American Culture, 141–144, 150, 157, 207–210.
(обратно)391
Marsden, Fundamentalism and American Culture, 90–92; Fuller, Naming the Antichrist, 119. Пресвитерианцы, например, Уильям Дженнингс Брайан, не являвшийся премилленаристом, смотрели на демократию более оптимистично, считая ее торжеством кальвинизм, который выражает равенство всех людей перед Господом.
(обратно)392
Boyer, When Time Shall Be No More, 192; Marsden, Fundamentalism and American Culture, 154–155.
(обратно)393
Szasz, The Divided Mind, 85.
(обратно)394
Marsden, Fundamentalism and American Culture, 147–148.
(обратно)395
Szasz, The Divided Mind, 86.
(обратно)396
Marsden, Fundamentalism and American Culture, 147–148.
(обратно)397
The King's Business, 19, 1918.
(обратно)398
«Unprincipled Methods of Postmillenalists,» in ibid.
(обратно)399
Marsden, Fundamentalism and American Culture, 147.
(обратно)400
Ibid., 162.
(обратно)401
Szasz, The Divided Mind, 91.
(обратно)402
Ibid, 90–91.
(обратно)403
The Watchtower Examiner, July 1920; Fuller, Naming the Antichrist, 120.
(обратно)404
Marsden, Fundamentalism and American Culture, 182–183.
(обратно)405
Ibid., 157–60, 165–75, 180–84; Szasz, The Divided Mind, 94–100.
(обратно)406
Marsden, Fundamentalism and American Culture, 171–174.
(обратно)407
Szasz, The Divided Mind, 102.
(обратно)408
Ammerman, «North American Protestant Fundamentalism,» 26; Marsden, Fundamentalism and American Culture, 169–183; Ronald L. Numbers, The Creationists: The Evolution of Scientific Creationism (Berkeley, Los Angeles, and London, 1992), 41–44, 48–50; Szasz, The Divided Mind, 107–118.
(обратно)409
To J. Baldwin, March 27, 1923, in Numbers, The Creationists, 41.
(обратно)410
Marsden, Fundamentalism and American Culture, 184–189; R. Laurence Moore, Religious Outsiders and the Making of Americans (Oxford and New York, 1986), 160–163; Szasz, The Divided Mind, 117–135; Numbers, The Creationists, 98–103.
(обратно)411
Union Seminary Magazine 32 (1922); Szasz, The Divided Mind, 110.
(обратно)412
«The Evolution Trial», Forum, 74 (1925)
(обратно)413
Marsden, Fundamentalism and American Culture, 187.
(обратно)414
Ibid., 187–188.
(обратно)415
Moore, Religious Outsiders, 161–63.
(обратно)416
Marsden, Fundamentalism and American Culture, 217.
(обратно)417
The King's Business, 40, 1922.
(обратно)418
Деяния апостолов, 2:1–6.
(обратно)419
Иоиль, 3:1–5.
(обратно)420
Harvey Cox, Fire from Heaven: The Rise of Pentecostal Spirituality and the Reshaping of Religion in the Twenty-first Century (New York, 1995), 48–74.
(обратно)421
К римлянам 8:26, Cox, Fire from Heaven, 87.
(обратно)422
Cox, Fire from Heaven, 63.
(обратно)423
Ibid., 76–77.
(обратно)424
Ibid., 57, 69–71.
(обратно)425
Ibid., 63.
(обратно)426
Ibid., 67.
(обратно)427
Ibid., 81–122.
(обратно)428
Ibid., 81.
(обратно)429
«The Aesthetics of Silence,» in A Susan Sontag Reader (New York, 1982), 195. В рус. переводе: Сьюзен Зонтаг. Эстетика молчания. Ч. I (-theory/412-i); Сьюзен Зонтаг. Эстетика молчания. Ч. II (-theory/415-ii ).
(обратно)430
Ibid.; Cox, Fire from Heaven, 91–92.
(обратно)431
Cox, Fire from Heaven, 75.
(обратно)432
Asher Ginsberg (Ahad Ha-Am), «Slavery in the Midst of Freedom,» Complete Writings (Jerusalem, 1965), 160.
(обратно)433
Amos Elon, The Israelis, Founders and Sons, rev. ed. (London, 1984), 105, 112.
(обратно)434
Eliezer Schweid, The Land of Israel: National Home of Land of Destiny (trans. Deborah Greniman; New York, 1985), 158.
(обратно)435
Arthur Hertzberg (ed.), The Zionist Idea (New York, 1969), 377.
(обратно)436
На самом деле подобного постановления Второй сионистский конгресс не выносил, однако светский характер сионизма действительно обозначил.
(обратно)437
«Brooks of the Negev,» in Aviezer Ravitsky, Messianism, Zionism and Jewish Religious Radicalism (trans. Michael Swirsky and Jonathan Chipman; Chicago and London, 1993), 95.
(обратно)438
«On Zion,» in Ravitsky, Messianism, 89.
(обратно)439
«Eulogy», in Ravitsky, Messianism, 99.
(обратно)440
«Eder Ha-Yakel,» in Ravitsky, Messianism, 107.
(обратно)441
«Orot,» in Ravitsky, Messianism, 102.
(обратно)442
Ibid.
(обратно)443
M. Sotah 9:7. С трактатом Сота на рус. языке можно ознакомиться здесь: .
(обратно)444
«Orot,» in Ravitsky, Messianism, 108.
(обратно)445
Ibid., 104–111.
(обратно)446
«Arpeli Tohar,» in Ravitsky, Messianism, 105.
(обратно)447
«Orot ha Kodesh,» in Ravitsky, Messianism, 117.
(обратно)448
Kook, «The War,» in Herzberg, The Zionist Idea, 423.
(обратно)449
Bernard Avishai, The Tragedy of Sionism: Revolution and Democracy in the Land of Israel (New York, 1985), 94.
(обратно)450
«Iggerot ha Regati,» in Ravitsky, Messianism, 120.
(обратно)451
«Orot,» in Ravitsky, Messianism, 120.
(обратно)452
«Iggerot ha Regati,» in Ravitsky, Messianism, 121.
(обратно)453
Alan L. Mittelman, «Fundamentalism and Political Development: The Case of Agudat Israel,» in Lawrence J. Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective: Religion, Ideology, and the Crisis of Modernity (New York and London, 1993), 225–231.
(обратно)454
Ibid., 231.
(обратно)455
Ibid., 234.
(обратно)456
Ibid., 235.
(обратно)457
Youssef M. Choueiri, Islamic Fundamentalism (London, 1990), 64.
(обратно)458
Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, 3 vols. (Chicago and London, 1974), III, 171.
(обратно)459
Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939 (Oxford, 1962), 170–183.
(обратно)460
Ibid., 183–189.
(обратно)461
Ibid., 240–243.
(обратно)462
Ibid., 224, 230.
(обратно)463
Ibid., 243–244.
(обратно)464
Ibid., 242.
(обратно)465
Azar Tabari, «The Role of the Clergy in Modern Iranian Politics,» in Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution (New Haven, Conn., and London, 1983), 57.
(обратно)466
Nikki R. Keddie, Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran (New Haven, Conn, And London, 1981), 72, 73.
(обратно)467
Mangol Bayat, Mysticism and Dissent: Socioreligious Thought in Qajar Iran (Syracuse, N. Y., 1982), 184–186.
(обратно)468
Nikki R. Keddie, «The Roots of the Ulama's Power in Modern Iran,» in Keddie (ed.), Scholars, Saints and Sufis: Muslim Religious Institutions in the Middle East Since 1500 (Berkeley, Los Angeles, and London, 1972), 227.
(обратно)469
Hamid Algar, «The Oppositional Role of the Ulama in Twentieth-Century Iran,» in Keddie (ed.), Scholars, Saints and Sufis, 231–234.
(обратно)470
Ibid., 237–238; Riesebrodt, Pious Passion: The Emergence of Modern Fundamentalism in the United States and Iran (trans. Don Reneau; Berkeley, Los Angeles, and London, 1993), 109–110. На рус. языке в реферативном изложении см.: Васильев А. В. Ризеброт. Набожные страсти. Возникновение современного фундаментализма в Соединенных Штатах и в Иране // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История. Реферативный журнал. ИНИОН РАН. – 1996. – № 4. – С. 231–232; Tabari, «The Role of the Shii Clergy,» 58.
(обратно)471
Algar, «The Oppositional Role of the Ulama,» 238.
(обратно)472
Ibid., 238–40; Tabari, «The Role of the Clergy,» 58–59.
(обратно)473
Keddie, Roots of Revolution, 82.
(обратно)474
George Steiner, In Bluebeard's Castle: Some Notes Toward the Re-definition of Culture (New Haven, Conn., 1971), 32. На рус. языке можно ознакомиться с одним отрывком из книги: Стайнер Дж. Великая Ennui: Эссе из книги «В замке Синей Бороды. Заметки к новому определению культуры» // Иностр. лит. – 2000. – № 8. – С. 261–271.
(обратно)475
Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust (Ithaca, N. Y., 1989), 77–92. В рус. переводе: Бауман З. Актуальность холокоста. – М.: Европа, 2010.
(обратно)476
Steiner, In Bluebeard's Castle, 47–48. На рус. языке можно ознакомиться с одним отрывком из книги: Стайнер Дж. Великая Ennui: Эссе из книги «В замке Синей Бороды. Заметки к новому определению культуры» // Иностр. лит. – 2000. – № 8. – С. 261–271.
(обратно)477
Samuel C. Heilman and Menachem Friedman, «Religious Fundamentalism and Religious Jews,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby, Fundamentalisms Observed (Chicago and London, 1991), 223.
(обратно)478
Aviezer Ravitsky, Messianism, Zionism and Jewish Religious Radicalism (trans. Michael Swirsky and Jonathan Chipman; Chicago and London, 1993), 43.
(обратно)479
Preface to Va Yoel Moshe, in Ravitsky, Messianism, 65.
(обратно)480
Ravitsky, Messianism, 45.
(обратно)481
Ibid., 50–51.
(обратно)482
Ibid., 63–65.
(обратно)483
Ibid., 54–55.
(обратно)484
Ibid., 42.
(обратно)485
Ibid., 53. Хесед (милость) и дин (сила, строгий суд) – две из 10 божественных эманаций в каббале, которые необходимо тщательно уравновешивать, иначе мир постигнет «строгий суд» Господа.
(обратно)486
Армстронг К. Иерусалим. Один город, три религии. – М.: Альпина нон-фикшн, 2011.
(обратно)487
Хагига, 2:7.
(обратно)488
Heilman and Friedman, «Religious Fundamentalism and Religious Jews,» 226–29; Gerald Cromer, «Withdrawal and Conquest: Two Aspects of the Haredi Response to Modernity,» in Laurence J. Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective: Religion, Ideology, and the Crisis of Modernity (New York and London, 1993), 166–68; Ravitsky, Messianism, 77.
(обратно)489
Ravitsky, Messianism, 67.
(обратно)490
Ibid., 67.
(обратно)491
Ibid., 69.
(обратно)492
Ibid., 71.
(обратно)493
Heilman and Friedman, «Religious Fundamentalism and Religious Jews,» 226–229; Gerald Cromer, «Withdrawal and Conquest: Two Aspects of the Haredi Response to Modernity,» in Laurence J. Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective: Religion, Ideology, and the Crisis of Modernity (New York and London, 1993), 166–168; Ravitsky, Messianism, 77.
(обратно)494
Ehud Sprinzak, «Three Models of Religious Violence: The Case of Jewish Fundamentalism in Israel,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms and the State (Chicago and London, 1993), 465–469.
(обратно)495
Ravitsky, Messianism, 60.
(обратно)496
Heilman and Friedman, «Religious Fundamentalism and Religious Jews,» 220.
(обратно)497
Michael Rosenak, «Jewish Fundamentalism in Israeli Education,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms and Society (Chicago and London, 1993), 383–384.
(обратно)498
Mishneh Rav Aaron (Lakewood, 1980), in Hayim Soloveitchic, «Migration, Acculturation and the New Role of Texts,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalisms (Chicago and London, 1994), 247.
(обратно)499
Ibid., 250–251.
(обратно)500
Ibid., 202.
(обратно)501
Menachem Friedman, «The Market Model and Religious Radicalism,» in Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective, 194.
(обратно)502
Ис. 23:10–11, Лев. 25:1–7.
(обратно)503
Heilman and Friedman, «Religious Fundamentalism and Religious Jews,» 229–31.
(обратно)504
Friedman, «The Market Model,» 194.
(обратно)505
Ibid., 197–205.
(обратно)506
Ibid., 194.
(обратно)507
Soloveitchic, «Migration, Acculturation and the New Role of Texts,» 210, 220–221; Rosenak, «Jewish Fundamentalism in Israeli Education,» 382–389.
(обратно)508
David Hoffman, in Rosenak, «Jewish Fundamentalism in Israeli Education,» 385.
(обратно)509
Ibid., 382.
(обратно)510
Menachem Friedman, «Habad as Messianic Fundamentalism,» in Marty and Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalisms, 337–341.
(обратно)511
Ibid., 340–351.
(обратно)512
Ravitsky, Messianism, 186–187.
(обратно)513
Ibid., 188–192.
(обратно)514
Nancy T. Ammerman, «North American Protestant Fundamentalism,» in Marty and Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed, 32–33; George M. Marsden, Fundamentalism and American Culture: The Shaping of Twentieth Century Evangelicalism 1870–1925 (New York and Oxford, 1980), 194.
(обратно)515
Quentin Schultze, «The Two Faces of Fundamentalist Higher Education,» in Marty and Appleby (eds.), Fundamentalisms and Society, 499.
(обратно)516
Melton Wright, Fortress of Faith: The Story of Bob Jones University (Greenville, S. C., 1984), 295.
(обратно)517
Bob Jones II, Cornbread and Caviare (Greenville, S. C., 1985), 217.
(обратно)518
Bulletin: Undergraduate, 1990–1991.
(обратно)519
Schultze, «The Two Faces of Fundamentalist Higher Education,» 502.
(обратно)520
Bob Jones II, Cornbread and Caviare, 203–204, 163, 165.
(обратно)521
R. Laurence Moore, Religious Outsiders and the Making of Americans (Oxford and New York, 1986), 116.
(обратно)522
Robert C. Fuller, Naming the Antichrist: The History of an American Obsession (Oxford and New York, 1995), 137–38; Ammerman, «North American Protestant Fundamentalism,» 35.
(обратно)523
Ammerman, «North American Protestant Fundamentalism,» 29, 37.
(обратно)524
Herbert Lockyear, Cameos of Prophecy: Are These the Last Days? (Grand Rapids, Mich., 1942), 66, 71.
(обратно)525
2-е послание Петра 3:10.
(обратно)526
Paul Boyer, When Time Shall Be No More: Prophecy Belief in Modern American Culture (Cambridge, Mass., and London, 1992), 117–118.
(обратно)527
Fundamentalist Journal, May 1988.
(обратно)528
Boyer, When Time Shall Be No More, 187–189.
(обратно)529
Зах. 13:8.
(обратно)530
John Walvoord, Israel and Prophecy (Grand Rapids, Mich., 1962).
(обратно)531
Richard P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers (New York and Oxford, 1969), 1–4.
(обратно)532
John Exposito, «Islam and Muslim Politics,» in Esposito (ed.), Voices of Resurgent Islam (New York and Oxford, 1983), 10.
(обратно)533
Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, 4–5.
(обратно)534
Ibid., 7.
(обратно)535
Ibid., 6.
(обратно)536
Ibid., 7, 185–189.
(обратно)537
Ibid., 14, 232–234.
(обратно)538
Ibid., 8. История и обращение могут быть апокрифичными, однако они вполне передают первоначальный дух общества «Братья-мусульмане», основанного в ту ночь Хасаном аль-Банной.
(обратно)539
Ibid., 9–13, 328.
(обратно)540
A. Abidi, Jordan: A Political Study (London, 1965), 197.
(обратно)541
Mitchell, The Society of Muslim Brothers, 260, 308, 224, 226–227.
(обратно)542
Ibid., 233.
(обратно)543
Ibid., 236–239.
(обратно)544
Ibid., 195–198.
(обратно)545
Ibid., 287.
(обратно)546
Ibid., 200–204.
(обратно)547
Ibid., 288–289.
(обратно)548
Ibid., 274–281.
(обратно)549
Ibid., 281.
(обратно)550
Ibid., 235, 240–241.
(обратно)551
Ibid., 245–253.
(обратно)552
Ibid., 242.
(обратно)553
Muhammad al-Ghazzali, in Mitchell, ibid., 229.
(обратно)554
Mitchell, The Society of Muslim Brothers, 205–206.
(обратно)555
Ibid., 206.
(обратно)556
Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, 3 vols. (Chicago and London, 1974), III, 171.
(обратно)557
Anwar Sadat, Revolt on the Nile (New York, 1957), 142–143.
(обратно)558
Mitchell, The Society of Muslim Brothers, 16, 313–318.
(обратно)559
Ibid., 312.
(обратно)560
Ibid., 70.
(обратно)561
Ibid., 319.
(обратно)562
Обвинение было ложным: после смерти Банны внутренние распри настолько истощили братство, что ему было не до переворотов.
(обратно)563
Ibid., 152–161.
(обратно)564
Martin Riesebrodt, Pious Passion: The Emergence of Modern Fundamentalism in the United States and Iran (trans. Don Reneau; Berkeley, Los Angeles, and London, 1993), 110–13. На рус. языке в реферативном изложении см.: Васильев А. В. Ризеброт. Набожные страсти. Возникновение современного фундаментализма в Соединенных Штатах и в Иране // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История. Реферативный журнал. ИНИОН РАН. – 1996. – № 4. – С. 231–232.; Nikki R. Keddie, Roots of Revolution, An Interpretive History of Modern Iran (New Haven, Conn., and London, 1981), 87–112.
(обратно)565
Moojan Momen, An Introduction to Shii Islam: The History and Doctrines of Twelver Shiism (New Haven, Conn., and London, 1985), 251; Keddie, Roots of Revolution, 93–94.
(обратно)566
Keddie, Roots of Revolution, 96–97.
(обратно)567
Ibid, 95.
(обратно)568
Ibid., 90, 110.
(обратно)569
Momen, An Introduction to Shii Islam, 226; Riesebrodt, Pious Passion, 111–112. На рус. языке в реферативном изложении см.: Васильев А. В. Ризеброт. Набожные страсти. Возникновение современного фундаментализма в Соединенных Штатах и в Иране // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История. Реферативный журнал. ИНИОН РАН. – 1996. – № 4. – С. 231–232; Azar Tabari, «The Role of the Shii Clergy in Modern Iranian Politics,» in Keddie (ed.), Religion and Politics: Shiism from Quietism to Revolution (New Haven, Conn., and London, 1983), 60; Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period (Albany, N. Y., 1980), 38–40.
(обратно)570
Tabari, «The Role of the Shii Clergy,» 63.
(обратно)571
Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran, 58–59.
(обратно)572
Ibid., 27.
(обратно)573
Tabari, «The Role of the Shii Clergy,» 60–64.
(обратно)574
Yann Richard, «Ayatolla Kashani: Precursor of the Islamic Republic?» in Keddie (ed.), Religion and Politics, 101–24.
(обратно)575
Ibid., 108.
(обратно)576
Ibid., 107–108.
(обратно)577
Ibid., 108.
(обратно)578
Keddie, Roots of Revolution, 132–141.
(обратно)579
Ibid., 142–45.
(обратно)580
Richard, «Ayatollah Kashani,» 118.
(обратно)581
J. L. Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy (London, 1953). В рус. переводе: Талмон Дж. Л. Истоки тоталитарной демократии / Тоталитаризм: что это такое (исследования зарубежных политологов). Сб. статей, обзоров, рефератов, переводов. – М.: ИНИОН, 1993. – Ч. 1.
(обратно)582
Daniel Crecelius, «Nonideological Responses of the Egyptian Ulama to Modernization,» in Nikki R. Keddie (ed.), Scholars, Saints and Sufis, Muslim Religious Institutions in the Middle East Since 1500 (Berkeley, Los Angeles, and London, 1972), 205–208.
(обратно)583
Youssef M. Choueiri, Islamic Fundamentalism (London, 1990), 92.
(обратно)584
Charles T. Adams, «Mawdudi and the Islamic State,» in John Esposito (ed.), Voices of Resurgent Islam (New York and Oxford, 1983); Choueiri, Islamic Fundamentalism, 94–139.
(обратно)585
Adams, «Mawdudi and the Islamic State,» 101.
(обратно)586
Mawdudi, Islamic Way of Life (Lahore, 1979), 37.
(обратно)587
Choueiri, Islamic Fundamentalism, 109.
(обратно)588
Mawdudi, Jihad in Islam (Lahore, 1976), 5–6.
(обратно)589
Adams, «Mawdudi and the Islamic State,» 119–120.
(обратно)590
Jihad in Islam.
(обратно)591
John O. Voll, «Fundamentalism in the Sunni Arab World: Egypt and the Sudan,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed (Chicago and London, 1991), 369–74; Yvonne Haddad, «Sayyid Qutb: Ideologue of Islamic Revival,» in Esposito (ed.), Voiced of Islamic Revival; Choueiri, Islamic Fundamentalism, 96–151.
(обратно)592
Haddad, «Sayyid Qutb,» 70.
(обратно)593
Voll, «Fundamentalism in the Sunni Arab World,» 369.
(обратно)594
Haddad, «Sayyid Qutb,» 69.
(обратно)595
Qutb, Islam and Universal Peace (Indianapolis, Ind., 1977), 45.
(обратно)596
Fi Zilal al-Koran, I, 556; in Choueiri, Islamic Fundamentalism, 122.
(обратно)597
Ibid., I, 510–511, in Choueiri, ibid., 124.
(обратно)598
Ibid., III, 1255, in Choueiri, ibid., 131.
(обратно)599
Кутб, Саид. Вехи на пути Аллаха ( ).
(обратно)600
Кутб Саид. Эта религия (/5-1-0-63 ).
(обратно)601
Ibid.
(обратно)602
Haddad, «Sayyid Qutb,» 90.
(обратно)603
Ibid., 130.
(обратно)604
Ibid., 88–89.
(обратно)605
«Вехи на пути Аллаха» ( ).
(обратно)606
Коран 5:65, 22:40–43, 2:213–15.
(обратно)607
Коран 49:13.
(обратно)608
Коран 2:256.
(обратно)609
«Вехи на пути Аллаха» ( ).
(обратно)610
Fi Zilal al-Koran, II, 924–25.
(обратно)611
Ibid., II, 1113, 1132, 1164.
(обратно)612
Martin Riesebrodt, Pious Passion: The Emergence of Modern Fundamentalism in the United States and Iran (Berkeley, Los Angeles, and London, 1993), 116–118. На рус. языке в реферативном изложении см.: Васильев А. В. Ризеброт. Набожные страсти. Возникновение современного фундаментализма в Соединенных Штатах и в Иране // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История. Реферативный журнал. ИНИОН РАН. 1996. № 4. – С. 231; Nikki R. Keddie, Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran (New Haven, Conn., and London, 1981), 153–83; Mehrzad Borujerdi, Iranian Intellectuals and the West: The Tormented Triumph of Nativism (Syracuse, N. Y., 1996), 25–31.
(обратно)613
Keddie, Roots of Revolution, 160–180.
(обратно)614
Borujerdi, Iranian Intellectuals, 27; Choueiri, Islamic Fundamentalism, 156.
(обратно)615
Borujerdi, Iranian Intellectuals, 49.
(обратно)616
Keddie, Roots of Revolution, 144.
(обратно)617
Borujerdi, Iranian Intellectuals, 65.
(обратно)618
Jalal Al-e Ahmad, Occidentosis: A Plague from the West (trans. R. Campbell, ed. Hamid Algar; Berkeley, 1984), 34, 37.
(обратно)619
Borujerdi, Iranian Intellectuals, 74–75.
(обратно)620
Ibid., 72–75.
(обратно)621
Sharough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period (Albany, N. Y., 1980), 81–83.
(обратно)622
Riesebrodt, Pious Passion, 120–121. На рус. языке в реферативном изложении см.: Васильев А. В. Ризеброт. Набожные страсти. Возникновение современного фундаментализма в Соединенных Штатах и в Иране // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5: История. Реферативный журнал. ИНИОН РАН. – 1996. – № 4. – С. 231; Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran, 117–129; Borujerdi, Iranian Intellectuals, 81–83.
(обратно)623
Hamid Algar, «The Oppositional Role of the Ulama in Twentieth-Century Iran,» in Keddie (ed.), Scholars, Saints and Sufis, 245–246.
(обратно)624
Hamid Algar, «The Fusion of the Mystical and Political in the Personality and Life of Imam Khomeini»: lecture delivered at the School of Oriental and African Studies, London, June 9, 1998.
(обратно)625
Michael J. Fischer, «Imam Khomeini: Four Levels of Understanding,» in Esposito (ed.), Voices of Resurgent Islam, 154–156.
(обратно)626
Keddie, Roots of Revolution, 158–159; Moojan Momen, An Introduction to Shii Islam: The History and Doctrines of Twelver Shiism (New Haven, Conn., and London, 1985), 254; Algar, «The Oppositional Role of the Ulama,» 248.
(обратно)627
Momen, An Introduction to Shii Islam, 254.
(обратно)628
Fischer, «Four Levels of Understanding,» 157.
(обратно)629
Willem M. Floor, «The Revolutionary Character of the Ulama: Wishful Thinking or Reality?» in Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution (Berkeley, Los Angeles, and London, 1983), Appendix, 97.
(обратно)630
Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran, 129–131.
(обратно)631
Algar, «The Oppositional Role of the Ulama,» 251.
(обратно)632
Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran, 138.
(обратно)633
Keddie, Roots of Revolution, 215–259; Sharough Akhavi, «Shariati's Social Thought,» in Keddie (ed.), Religion and Politics, 145–155; Abdulaziz Sachedina, «Ali Shariati, Ideologue of the Islamic Revolution,» in Esposito (ed.), Voices of Resurgent Islam; Michael J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution (Cambridge, Mass., and London, 1980), 154–167; Borujerdi, Iranian Intellectuals, 106–115.
(обратно)634
Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran, 144.
(обратно)635
Sachedina, «Ali Shariati,» 209–210.
(обратно)636
Akhavi, «Shariati's Social Thought,» 130–131.
(обратно)637
Sachedina, «Ali Shariati,» 198–200.
(обратно)638
Borujerdi, Iranian Intellectuals, 108.
(обратно)639
Shariati, Hajj (Tehran, 1988), 54–56. На рус. языке (отрывок): Шариати. Хадж (/a-115.html ).
(обратно)640
Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran, 146–149.
(обратно)641
Shariati, The Sociology of Islam (Berkeley, 1979), 72.
(обратно)642
Sharough Akhavi, «Shariati's Social Thought,» in Keddie (ed.), Religion and Politics, 132.
(обратно)643
Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, 3 vols. (Chicago and London, 1974), II, 334–360.
(обратно)644
Mangol Bayat, Mysticism and Dissent: Socioreligious Thought in Qajar Iran (Syracuse, N. Y., 1982), 5–8.
(обратно)645
Fischer, Iran, 154–155.
(обратно)646
Ali Shariati, Community and Leadership (n. p., 1972), 165–166.
(обратно)647
Sachedina, «Ali Shariati,» 203.
(обратно)648
Akhavi, «Shariati's Social Thought,» 134.
(обратно)649
Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran, 153–154.
(обратно)650
Akhavi, «Shariati's Social Thought,» 144.
(обратно)651
Sayeed Ruhollah Khomeini, Islam and Revolution (trans., and ed. Hamid Algar; Berkeley, 1981), 28.
(обратно)652
Ibid., 29.
(обратно)653
Asaf Hussain, Islamic Iran: Revolution and Counter – Revolution (London, 1985), 75.
(обратно)654
Khomeini, Islam and Revolution, 374.
(обратно)655
Fischer, «Four Levels of Understanding,» 159.
(обратно)656
Khomeini, Islam and Revolution, 352–353.
(обратно)657
Michael Rosenak, «Jewish Fundamentalism in Israeli Education,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms and Society (Chicago and London, 1993), 392.
(обратно)658
Ibid., 391.
(обратно)659
Ibid., 392.
(обратно)660
Ibid., 395.
(обратно)661
Gideon Aran, «The Roots of Gush Emunim,» Studies in Contemporary Judaism, 2, 1986; Aran, «Jewish Religious Zionist Fundamentalism,» in Marty and Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed, 270–271; Aran, «The Father, the Son, and the Holy Land,» in R. Scott Appleby (ed.), Spokesmen for the Despised: Fundamentalist Leaders in the Middle East (Chicago, 1997), 318–320; Samuel C. Heilman, «Guides of the Faithful, Contemporary Religious Zionist Rabbis,» in ibid., 329–330.
(обратно)662
Interview with Maariv (14 Nisan 5723, 1963), in Aviezer Ravitsky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism (trans. Michael Swirsky and Jonathan Chipman; Chicago and London, 1993), 85.
(обратно)663
Aran, «The Father, the Son, and the Holy Land,» 310.
(обратно)664
Ibid., 311.
(обратно)665
Ian S. Lustick, For the Land and the Lord: Jewish Fundamentalism in Israel (New York, 1988), 84.
(обратно)666
Ravitsky, Messianism, 127.
(обратно)667
Aran, «The Father, the Son, and the Holy Land,» 310.
(обратно)668
Ibid., 312.
(обратно)669
Harold Fisch, The Zionist Revolution: A New Perspective (Tel Aviv and London, 1978), 77, 87.
(обратно)670
Aran, «Jewish Religious Zionist Fundamentalism,» 271.
(обратно)671
Hilkhot Tshava 9:2. Галахот Тшува по Рамбаму 9:2 ().
(обратно)672
Heilman, Guides of the Faithful, 357.
(обратно)673
Ehud Sprinzak, «Three Models of Religious Violence: The Case of Jewish Fundamentalism in Israel,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms and the State (Chicago and London, 1993), 472.
(обратно)674
Aran, «Jewish Religious Zionist Fundamentalism,» 277.
(обратно)675
Uriel Tal, «Foundations of a Political Messianic Tradition in Israel,» in Marc Saperstein (ed.), Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History (New York and London, 1992), 495; Ehud Sprinzak, «The Politics, Institutions and Culture of Gush Emunim,» in Laurence J. Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective: Religion, Ideology and the Crisis of Modernity (New York and London, 1993), 119.
(обратно)676
Michael Lienesch, Redeeming America: Piety and Politics in the New Christian Right (Chapel Hill, N. C., and London, 1995), 1–2.
(обратно)677
Nancy T. Ammerman, «North American Protestant Fundamentalism,» in Marty and Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed, 39–40; Steve Bruce, The Rise and Fall of the New Christian Right, Conservative Protestant Politics in America, 1978–88 (Oxford and New York, 1990), 46–47.
(обратно)678
Nathan O. Hatch, The Democratization of American Christianity (New Haven, Conn., and London, 1989), 218.
(обратно)679
Lienesch, Redeeming America, 10.
(обратно)680
Bruce, The Rise and Fall of the New Christian Right, 38–40.
(обратно)681
Ammerman, «North American Protestant Fundamentalism,» 40–41; Bruce, The Rise and Fall of the New Christian Right, 68–69.
(обратно)682
Ammerman, «North American Protestant Fundamentalism», 42.
(обратно)683
Susan Rose, «Christian Fundamentalism and Education in the United States,» in Marty and Appleby (eds.) Fundamentalisms and Society, 455.
(обратно)684
Ibid., 456–458.
(обратно)685
Pro-Family Forum, Is Humanism Molesting Your Child? (Fort Worth, Tex., 1983).
(обратно)686
D. Bollier, Liberty and Justice for Some: defending a free society from the radical right's holy war on democracy (Washington, D. C., 1982), 100.
(обратно)687
Tim LaHaye, The Battle for the Family (Old Tappan, N. J., 1982), 31–32.
(обратно)688
Tim LaHaye, The Battle for the Mind (Old Tappan, N. J., 1980), 181.
(обратно)689
John W. Whitehead (with John Conlon), «The Establishment of the Religion of Secular Humanism and Its First Amendment Implications,» Texas Tech Law Review, 10, 1978.
(обратно)690
The Second American Revolution (Westchester, Ill., 1982), 112.
(обратно)691
Pat Brooks, The Return of the Puritans, 2nd ed. (Fletcher, N. C., 1979), 14.
(обратно)692
Ibid., 92–94.
(обратно)693
Franky Schaeffer, A Time for Anger: The Myth of Neutrality (Westchester, Ill, 1982), 122.
(обратно)694
Rus Walton, One Nation Under God (Nashville, Tenn., 1987), 10.
(обратно)695
Walton, FACS! Fundamentals for American Christians (Nyack, N. Y., 1979), 62.
(обратно)696
Pat Robertson, America's Date with Destiny (Nashville, Tenn., 1986), 68, 73.
(обратно)697
John Edismore, God and Caesar: Biblical Faith and Political Action (Westchester, Ill., 1984), 88.
(обратно)698
John Rushdoony, This Independent Republic: Studies in the Nature and Meaning of American History (Nutley, N. J., 1964), 37.
(обратно)699
Lienesch, Redeeming America, 154.
(обратно)700
The Battle of the Mind, 218–219.
(обратно)701
Hal Lindsey, The 1980s: Countdown to Armageddon (Grand Rapids, Mich., 1980), 157.
(обратно)702
Bruce, Rise and Fall of the New Christian Right, 47.
(обратно)703
Pat Robertson, The Secret Kingdom (Nashville, Tenn., 1982), 108–109.
(обратно)704
Susan Harding, «Contesting Rhetorics in the PTL Scandal,» in Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective, 63.
(обратно)705
Bruce, Rise and Fall of the New Christian Right, 47–48.
(обратно)706
Quentin Shultze, «The Two Faces of Fundamentalist Higher Education,» in Marty and Appleby (eds.), Fundamentalisms and Society, 505.
(обратно)707
Ibid.
(обратно)708
Jerry Falwell (with Elmer Towns), Church Affairs (Nashville, Tenn., 1971), 41.
(обратно)709
Gideon Aran, «Jewish Zionist Fundamentalism,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed (Chicago and London, 1991), 290.
(обратно)710
Ibid.
(обратно)711
Ibid.
(обратно)712
Ис. 19:7.
(обратно)713
Laurence J. Silberstein, «Religion, Ideology, Modernity: Theoretical Issues in a Study of Jewish Fundamentalism,» in Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective: Religion, Ideology, and the Crisis of Modernity (New York and London, 1993), 17.
(обратно)714
Aran, «Jewish Zionist Fundamentalism,» 303.
(обратно)715
Ibid., 312.
(обратно)716
Robert I. Friedman, Zealots for Zion: Inside Israel's West Bank Settlements Movement (New York, 1992), 20.
(обратно)717
Samuel C. Heilman, «Guides for the Faithful, Contemporary Religious Zionist Rabbis,» in R. Scott Appleby (ed.), Spokesmen for the Despised: Fundamentalist Leaders of the Middle East (Chicago, 1997), 338.
(обратно)718
Aran, «Jewish Zionist Fundamentalism,» 279; Ehud Sprinzak, «The Politics, Institutions and Culture of Gush Emunim,» in Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective, 131–32.
(обратно)719
Aran, «Jewish Zionist Fundamentalism,» 280.
(обратно)720
Ibid., 308.
(обратно)721
Ibid., 300.
(обратно)722
Ibid., 315.
(обратно)723
Haaretz (April 14, 1986), in Ian S. Lustick, For the Land and the Lord: Jewish Fundamentalism in Israel (New York, 1988), 37.
(обратно)724
Ibid., 47.
(обратно)725
Lustick, «Jewish Fundamentalism and the Israeli-Palestinian Impasse,» in Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective, 141.
(обратно)726
Artzai, 3, 1983, in Lustick, For the Lord and the Land, 82–83.
(обратно)727
Heilman, «Guides of the Faithful», 339.
(обратно)728
Aran, «Jewish Zionist Fundamentalism,» 281.
(обратно)729
Heilman, «Guides of the Faithful», 341.
(обратно)730
Friedman, Zealots for Zion, 41.
(обратно)731
Mohamed Heikal, Autumn of Fury: The Assassination of Sadat (London, 1984), 36–39.
(обратно)732
Ibid., 94–96.
(обратно)733
Gilles Kepel, The Prophet and Pharaoh: Muslim Extremism in Egypt (trans. Jon Rothschild; London, 1985), 85; Heikhal, Autumn of Fury, 94–97.
(обратно)734
Так учил Али ибн Аби Талиб, четвертый из почитаемых суннитами праведных калифов и первый имам у шиитов. Asaf Hussain, Islamic Iran, Revolution and Counter-Revolution (London, 1985), 55.
(обратно)735
Kepel, Prophet and Pharaoh, 125–26.
(обратно)736
Rudolph Peters, Jihad in Classical and Modern Islam, A Reader (Princeton, N. J., 1996), 153–154.
(обратно)737
Коран 2:47, 5:64, 78, ср. 61:6, 29:46, 2:129–32.
(обратно)738
Kepel, Prophet and Pharaoh, 113.
(обратно)739
Ibid., 78–84.
(обратно)740
Ibid., 72.
(обратно)741
Ibid., 74–76.
(обратно)742
Ibid., 76–78.
(обратно)743
Ibid, 85–86, 89–91.
(обратно)744
Ibid., 94–99.
(обратно)745
Ibid., 135–138.
(обратно)746
Ibid., 152–155.
(обратно)747
Ibid., 138–139.
(обратно)748
Ibid., 143–144.
(обратно)749
Nilufa Gole, The Forbidden Modern: Civilization and Veiling (Ann Arbor, Mich., 1996), 135–37.
(обратно)750
Leila Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate (New Haven, Conn., and London, 1992), 226–228.
(обратно)751
Ibid., 229–232.
(обратно)752
Gole, The Forbidden Modern, 22.
(обратно)753
Ahmed, Women and Gender in Islam, 220–225.
(обратно)754
Patrick D. Gaffney, The Prophet's Pulpit: Islamic Preaching in Contemporary Egypt (Berkeley, Los Angeles, and London, 1994), 91–112.
(обратно)755
Ibid., 97–107.
(обратно)756
Kepel, Prophet and Pharaoh, 150–151.
(обратно)757
William Beeman, «Images of the Great Satan: Representations of the United States in the Iranian Revolution,» in Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution (New Haven, Conn., and London, 1972), 203.
(обратно)758
Nikki R. Keddie (ed.), Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran (New Haven, Conn., and London, 1981), 282–283; Mehrzad Borujerdi, Islamic Intellectuals and the West: The Tormented Triumph of Nativism (Syracuse, N. Y., 1996), 29–42.
(обратно)759
Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy – State Relations in the Pahlavi Period (Albany, N. Y., 1980), 168; Keddie, Roots of Revolution, 209–11.
(обратно)760
Keddie, Roots of Revolution, 260.
(обратно)761
Ibid., 283.
(обратно)762
Borujerdi, Iranian Intellectuals, 50–51.
(обратно)763
Keddie, Roots of Revolution, 242; Michael J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution (Cambridge, Mass., and London, 1980), 193.
(обратно)764
Gary Sick, All Fall Down: America's Fateful Encounter with Iran (London, 1985), 30.
(обратно)765
Коран 7:9–15.
(обратно)766
Beeman, «Images of the Great Satan,» 196.
(обратно)767
Ibid, 257–273.
(обратно)768
Ibid., 192.
(обратно)769
Ibid., 215.
(обратно)770
Ibid., 216.
(обратно)771
Keddie, Roots of Revolution, 243.
(обратно)772
Ibid.; Fischer, Iran, 194.
(обратно)773
Beeman, «Images of the Great Satan,» 198–99.
(обратно)774
Fischer, Iran, 195; Keddie, Roots of Revolution, 246–247.
(обратно)775
Moojan Momen, An Introduction to Shii Islam: The History and Doctrines of Twelver Shiism (New Haven, Conn., and London, 1985), 284.
(обратно)776
Ibid., 288.
(обратно)777
Fischer, Iran, 184.
(обратно)778
Ibid., 196–97.
(обратно)779
Keddie, Roots of Revolution, 249–250.
(обратно)780
Fischer, Iran, 198–199.
(обратно)781
Sick, All Fall Down, 51; Keddie, Roots of Revolution, 250; Fischer, Iran, 199. По официальным данным, погибли всего 122 демонстранта и 2000 были ранены. В других источниках количество погибших варьируется от 500 до 1000.
(обратно)782
Sick, All Fall Down, 51–52.
(обратно)783
Fischer, Iran, 202.
(обратно)784
Ibid., 204.
(обратно)785
Ibid., 205.
(обратно)786
Ibid. Кедди (Roots of Revolution, 252–253) полагает, что число участников демонстрации едва достигало 1 млн.
(обратно)787
Momen, An Introduction to Shii Islam, 288.
(обратно)788
Keddie, Roots of Revolution, 252–253.
(обратно)789
Fischer, Iran, 207–208.
(обратно)790
Amir Taheri, The Spirit of Allah: Khomeini and the Islamic Revolution (London, 1985), 227.
(обратно)791
Steve Bruce, The Rise and Fall of the New Christian Right: Conservative Protestant Politics in America 1978–1988 (Oxford and New York, 1990), 56–65.
(обратно)792
Ibid., 90.
(обратно)793
Nancy T. Ammerman, «North American Protestant Fundamentalism,» in Marty and Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed, 46.
(обратно)794
Bruce, Rise and Fall of the New Christian Right, 86–89.
(обратно)795
Tim LaHaye, The Battle for the Mind (Old Tappan, N. J., 1980), 179.
(обратно)796
Richard A. Vignerie, The New Right: We're Ready to Lead (Falls Church, Va., 1981), 126.
(обратно)797
Susan Harding, «Imagining the Last Days: The Politics of Apocalyptic Language,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalisms (Chicago and London, 1994), 70.
(обратно)798
Paul Boyer, When Time Shall Be No More: Prophecy and Belief in Modern American Culture (Cambridge, Mass., and London, 1992), 145.
(обратно)799
Phyllis Shlafly, The Power of the Christian Woman (Cincinnati, Ohio, 1981), 117.
(обратно)800
Ibid., 30.
(обратно)801
Beverly LaHaye, The Restless Woman (Grand Rapids, Mich., 1984), 54, 126.
(обратно)802
Tim and Beverly LaHaye, The Act of Marriage: The Beauty of Sexual Love (Grand Rapids, Mich., 1976), 285, 173. Книга супругов Ла-Хэй The Act of Marriage: The Beauty of Sexual Love переиздавалась с дополнениями неоднократно с несколько видоизмененными названиями, на русском языке известна как «Тайны супружеского ложа».
(обратно)803
Tim LaHaye, Sex Education in the Family (Grand Rapids, Mich., 1985), 188. Более поздняя работа Тима Ла-Хэя на ту же тему Raising Sexually Pure Kids: How to Prepare Your Children for The Act of Marriage на рус. языке выходила под именами обоих супругов – Тима Ла-Хэя и Беверли Ла-Хэй и называлась «Воспитание детей в сексуальной чистоте» (СПб.: Христианская миссия, 2008).
(обратно)804
Tim LaHaye, How to Be Happy Thought Married (Wheaton, Ill., 1968), 106.
(обратно)805
James Robison, Thank God I'm Free: The James Robison Story (Nashville, Tenn., 1988), 124.
(обратно)806
Jerry Falwell, Listen, America! (Garden City, N. Y., 1980), 185.
(обратно)807
Edwin Louis Cole, Maximized Manhood: A Guide for Family Survival (Springdale, Pa., 1982), 63. В рус. переводе: Эдвин Луис Коул. Мужчины. Достигая максимума (1994) ( )
(обратно)808
Tim LaHaye, The Battle for the Family (Old Tappan, N. J., 1982), 23.
(обратно)809
Bruce, Rise and Fall of the New Christian Right, 95.
(обратно)810
Ibid., 106–107.
(обратно)811
A. Crawford, Thunder on the Right: The New Right and the Politics of Resentment (New York, 1980), 156–157.
(обратно)812
A. Weissmann, «Building a Tower of Babel,» Texas Outlook, Winter, 1982, 13.
(обратно)813
Gary Sick, All Fall Down: America's Fateful Encounter with Iran (London, 1985), 165.
(обратно)814
Арендт Х. О революции. Пер. И. В. Косича. – М.: Европа, 2011.
(обратно)815
Shahrough Akhavi, Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in the Pahlavi Period (Albany, N. Y., 1980), 172–179; Moojan Momen, An Introduction to Shii Islam: The History and Doctrines of Twelver Shiism (New Haven, Conn., and London, 1985), 289–292.
(обратно)816
Baqer Moin, Khomeini, Life of the Ayatollah (London, 1999), 227–228.
(обратно)817
Sick, All Fall Down, 200.
(обратно)818
Ibid., 231–233, 360.
(обратно)819
Коран 8:68, 47:5, 24:34, 2:178.
(обратно)820
Muhammad Zafrullah Khan, Islam, Its Message for Modern Man (London, 1962), 182.
(обратно)821
Michael J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution (Cambridge, Mass., and London, 1980), 235.
(обратно)822
Momen, An Introduction to Shii Islam, 293–297.
(обратно)823
Gregory Rose, «Velayat-e Faqih and the Recovery of Islamic Identity in the Thought of Ayatollah Khomeini,» in Nikki R. Keddie (ed.), Religion and Politics in Iran: Shiism from Quietism to Revolution (New Haven, Conn., and London, 1983).
(обратно)824
Foreign Broadcasting and Information Service (FBIS), October 1, 1979.
(обратно)825
Khomeini, «The Greater Jihad,» in Daniel Brumberg, «Khomeini's Legacy: Islamic Rule and Islamic Social Justice,» in R. Scott Appleby (ed.), Spokesmen for the Despised: Fundamentalist Leaders of the Middle East (Chicago, 1997), 35.
(обратно)826
FBIS, December 24, 1979.
(обратно)827
Michael J. Fischer, «Imam Khomeini: Four Levels of Understanding,» in John Esposito (ed.), Voices of Resurgent Islam (New York and Oxford, 1983), 171.
(обратно)828
FBIS, December 12, 1983.
(обратно)829
Brumberg, «Khomeini's Legacy,» 40.
(обратно)830
Ibid.
(обратно)831
Fischer, «Four Levels of Understanding,» 169.
(обратно)832
Homa Katouzian, «Shiism and Islamic Economics: Sadr and Bani Sadr,» in Keddie (ed.), Religion and Politics, 161–162.
(обратно)833
Эту версию развития событий см. Brumberg, «Khomeini's Legacy».
(обратно)834
FBIS, February 11 and 12, 1991, in Brumberg, «Khomeini's Legacy,» 54.
(обратно)835
FBIS, March 21, 1981, in ibid., 56.
(обратно)836
Amir Taheri, The Spirit of Allah: Khomeini and the Islamic Revolution (London, 1985), 286.
(обратно)837
FBIS, October 29, 1980, in Brumberg, «Khomeini's Legacy,» 56.
(обратно)838
FBIS, May 2, 1979, in ibid., 40.
(обратно)839
Brumberg, «Khomeini's Legacy,» 55–56.
(обратно)840
FBIS, December 24, 1987, in Brumberg, 59.
(обратно)841
FBIS, January 7, 1988, in ibid., 60.
(обратно)842
FBIS, January 19, 1988, in ibid., 63.
(обратно)843
Brumberg, «Khomeini's Legacy,» 64–65.
(обратно)844
FBIS, October 4, 1988, in ibid., 66.
(обратно)845
Malise Ruthven, A Satanic Affair: Salman Rushdie and the Rage of Islam (London, 1990), 29.
(обратно)846
Brumberg, «Khomeini's Legacy,» 67–68.
(обратно)847
Abdolkarim Sorush, «Three Cultures»: Mehrzad Borujerdi, Iranian Intellectuals and the West: The Tormented Triumph of Nativism (Syracuse, N. Y., 1996), 162.
(обратно)848
Farhang Rajaee, «Islam and Modernity,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms and Society (Chicago and London, 1993), 113.
(обратно)849
Farhang Jahanpour, «Abdolkarim Sorush,» unpublished paper.
(обратно)850
Kiyan, 5, 1955.
(обратно)851
Mohamed Heikal, Autumn of Fury: The Assassination of Sadat (London, 1984 ed.), 230.
(обратно)852
Ibid., 118–119.
(обратно)853
Ibid., 241–242.
(обратно)854
Коран 57:16.
(обратно)855
Johannes J. G. Jansen, The Neglected Duty: The Creed of Sadat's Assassins and Islamic Resurgence in the Middle East (New York and London, 1988), 162.
(обратно)856
Ibid., 183–184.
(обратно)857
Коран 2:216.
(обратно)858
Коран 9:5.
(обратно)859
Jansen, Neglected Duty, 195.
(обратно)860
Ibid., 167–182.
(обратно)861
Ibid., 167.
(обратно)862
Ibid., 169.
(обратно)863
Ibid., 199.
(обратно)864
Ibid., 200.
(обратно)865
Ibid., 192–193.
(обратно)866
Коран 9:4.
(обратно)867
Jansen, Neglected Duty, 90, 198.
(обратно)868
Ibid., 200.
(обратно)869
Ibid., 201–202.
(обратно)870
Ibid., 49–88.
(обратно)871
Ibid., 60, 71.
(обратно)872
Patrick D. Gaffney, The Prophet's Pulpit: Islamic Preaching in Contemporary Egypt (Berkeley, Los Angeles, and London, 1994), 260.
(обратно)873
Andrea B. Rugh, «Reshaping Personal Relations in Egypt,» in Marty and Appleby (eds.), Fundamentalisms and Society, 152, 168–170.
(обратно)874
Gaffney, The Prophet's Pulpit, 260–61.
(обратно)875
Rugh, «Reshaping Personal Relations in Egypt,» 153–162.
(обратно)876
Gaffney, The Prophet's Pulpit, 262–264.
(обратно)877
Ibid., 261–262.
(обратно)878
Steve Negus, «Carnage at Luxor,» Middle East International, November 21, 1997.
(обратно)879
«Kuntres Misayon,» in Aviezer Ravitsky, Messianism, Zionism and Jewish Religious Radicalism (trans. Michael Swirsky and Jonathan Chipman; Chicago and London, 1993), 69.
(обратно)880
Ha Homah, in ibid., 68.
(обратно)881
Ibid., 151–59; Charles Selengut, «By Torah Alone: Yeshiva Fundamentalism and Religious Jews,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalisms (Chicago and London, 1994), 257–258.
(обратно)882
Ravitsky, Messianism, 148–50.
(обратно)883
Ibid., 164.
(обратно)884
Samuel C. Heilman and Menachem Friedman, «Religious Fundamentalism and Religious Jews,» in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed (Chicago and London, 1991), 243–250.
(обратно)885
Ravitsky, Messianism, 178.
(обратно)886
Heilman and Friedman, «Religious Fundamentalism and Religious Jews,» 254.
(обратно)887
Ibid., 253; Selengut, «By Torah Alone,» 236.
(обратно)888
Gideon Aran, «Jewish Zionist Fundamentalism,» in Marty and Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed, 294–295.
(обратно)889
Ibid., 293.
(обратно)890
Samuel C. Heilman, «Guides of the Faithful: Contemporary Religious Zionist Rabbis,» in Appleby (ed.), Spokesmen for the Despised, 345.
(обратно)891
Ibid.
(обратно)892
Лев. 19:33–34.
(обратно)893
Шаббат 31А.
(обратно)894
Ис. 23:23–33, Иисус Навин 6:17–21, 8:20–29, 11:21–25.
(обратно)895
«The Messianic Legacy,» Morasha 9; Ian S. Lustick, For the Land and the Lord: Jewish Fundamentalism in Israel (New York, 1988), 75–76.
(обратно)896
Кн. 1 Царств 15:3
(обратно)897
Bat Kol, February 26, 1980.
(обратно)898
«The Right to Hate,» Nekudah, 15; Ehud Sprinzak, «The Politics, Institutions and Culture of Gush Emunim,» in Laurence J. Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective: Religion, Ideology, and the Crisis of Modernity (New York and London, 1993), 127.
(обратно)899
Ehud Sprinzak, The Ascendance of Israel's Far Right (Oxford and New York, 1991), 97.
(обратно)900
Ibid., 94–95.
(обратно)901
Aran, «Jewish Zionist Fundamentalism,» 267–268.
(обратно)902
Ravitsky, Messianism, 133–34; Sprinzak, Ascendance of Israel's Far Right, 96.
(обратно)903
Sprinzak, Ascendance of Israel's Far Right, 97–98.
(обратно)904
Ibid., 220.
(обратно)905
Raphael Mergui and Phillippe Simonnot, Israel's Ayatollahs: Meir Kahane and the Far Right in Israel (London, 1987), 45.
(обратно)906
Ibid.
(обратно)907
Sprinzak, Ascendance of Israel's Far Right, 223–225.
(обратно)908
Ibid., 221.
(обратно)909
Sprinzak, «Three Models of Religious Violence: The Case of Jewish Fundamentalism in Israel," in Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms and the State (Chicago and London, 1993), 479.
(обратно)910
Ibid., 480.
(обратно)911
Beverly Milton-Edwards, Islamic Politics in Palestine (London and New York, 1996), 73–116.
(обратно)912
Ibid., 116–123.
(обратно)913
Ibid., 149.
(обратно)914
Ibid., 184–185.
(обратно)915
Ibid., 186.
(обратно)916
Heilman, «Guides of the Faithful," 352–353.
(обратно)917
Ibid., 354.
(обратно)918
Amos Oz, In the Land of Israel (trans. Maurice Goldberg-Bartura; London, 1983),6, 9.
(обратно)919
Quoted by Charles Liebman, «Jewish Fundamentalism and the Israeli Polity,» in Marty and Appleby (eds.), Fundamentalisms and Society, 79.
(обратно)920
Robert Wuthnow, «Quid Obscurum: The Changing Terrain of Church-State Relations,» in Mark A. Noll (ed.), Religion and American Politics: From the Colonial Period to the 1980s (Oxford and New York, 1990), 14.
(обратно)921
Robert Wuthnow and Mattew P. Lawson, «Sources of Christian Fundamentalism in the United States,» in Marty and Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalisms, 20.
(обратно)922
Ibid., 26–27.
(обратно)923
Steve Bruce, The Rise and Fall of the New Christian Right: Conservative Protestant Politics in America 1978–88 (Oxford and New York, 1990), 143.
(обратно)924
Susan Harding, «Contesting Rhetorics in the PTL Scandal,» in Silberstein (ed.), Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective.
(обратно)925
Ibid., 67.
(обратно)926
Bruce, The Rise and Fall of the New Christian Right, 144.
(обратно)927
Lawrence Wright, Saints and Sinners (New York, 1993), 81–82.
(обратно)928
Ibid., 82.
(обратно)929
Ibid., 72–73.
(обратно)930
Ibid., 79.
(обратно)931
Bruce, The Rise and Fall of the New Christian Right, 144–45, 193.
(обратно)932
Faye Ginsburg, «Saving America's Souls: Operation Rescue's Crusade Against Abortion,» in Marty and Appleby (eds.), Fundamentalisms and State, 557.
(обратно)933
Ibid., 568.
(обратно)934
Nancy T. Ammerman, «North American Protestant Fundamentalism,» in Marty and Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed, 49–53; Michael Lienesch, Redeeming America: Piety and Politics in the New Christian Right (Chapel Hill, N. C., and London, 1995), 226.
(обратно)935
Gary North, In the Shadow of Plenty: The Biblical Blueprint for Welfare (Fort Worth, Tex., 1986), xiii.
(обратно)936
Ibid., 55.
(обратно)937
North, The Sinai Strategy: Economics and the Ten Commandments (Tyler, Tex., 1986), 213–214.
(обратно)938
Jeremy Rifkin and Ted Howard, The Emerging Order: God in the Age of Scarcity (New York, 1979), 239.
(обратно)939
Harvey Cox, Fire from Heaven: The Rise of Pentecostal Spirituality and the Reshaping of Religion in the Twenty-first Century (New York, 1995), 287–288.
(обратно)940
Lienesch, Redeeming America, 228.
(обратно)941
Cox, Fire from Heaven, 290.
(обратно)942
Susan Harding, «Imagining the Last Days: The Politics of Apocalyptic Language,» in Marty and Appleby (eds.), Accounting for Fundamentalisms, 75.
(обратно)943
Michael Barkun, Religion and the Racist Right: The Origins of the Christian Identity Movement (Chapel Hill, N. C., 1994).
(обратно)
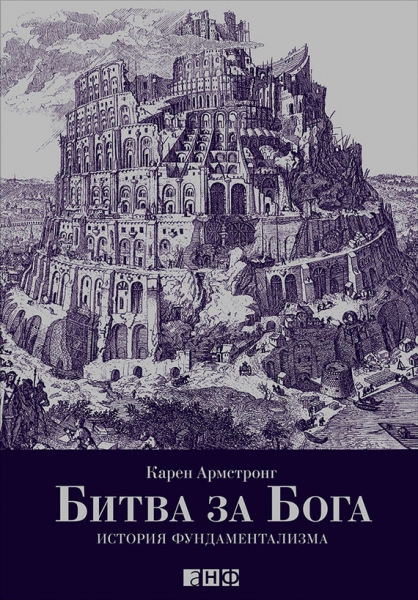

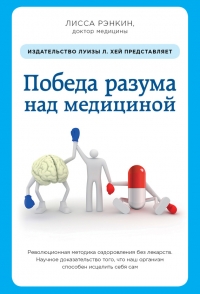


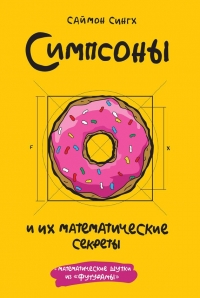

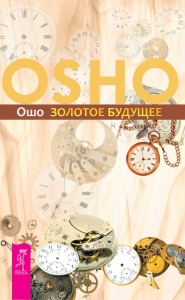



Комментарии к книге «Битва за Бога. История фундаментализма», Карен Армстронг
Всего 0 комментариев