Джошуа Фоер Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания
Переводчик Е. Воинова
Менеджер проекта А. Василенко
Корректор Е. Аксёнова
Компьютерная верстка К. Свищёв
Арт-директор С. Тимонов
Дизайн обложки В. Молодов
© Joshua Foer, 2011
All rights reserved
© «Издательство Ломоносовъ», 2013
© Перевод «Издательство Ломоносовъ», 2013
© Издание на русском языке, оформление ООО «Альпина Паблишер», 2013
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
* * *
Мы – то, что мы помним.
Больше никто не выжил.
К месту катастрофы – груде развалин, в которую превратился находившийся здесь совсем недавно зал для пиршеств, – стекались члены семей погибших. Среди руин они искали кольца, сандалии – все, что позволило бы им опознать и предать достойному погребению останки своих родных. Шел V в. до н. э.
Незадолго до бедствия греческий поэт Симонид Кеосский поднялся, чтобы произнести оду в честь фессалийского аристократа Скопаса. Едва Симонид успел закончить, как слуга, тронув его за плечо, сообщил: двое молодых всадников ожидают поэта снаружи с важной вестью. Симонид опять встал и вышел за дверь. И в тот самый момент, когда он перешагнул порог, крыша пиршественного зала рухнула с оглушительным треском, рассыпавшись в мраморные осколки и пыль.
Теперь перед его взором были лишь каменные обломки и похороненные под ними тела. Там, где минутою ранее слышался веселый смех, царила мгла и безмолвие. Отряд спасателей поспешно разгребал завалы. Искалеченные тела, извлеченные на свет, было невозможно опознать. Никто даже не мог с уверенностью назвать имена людей, находившихся внутри. Одна трагедия дополнила другую.
А затем произошло нечто значительное, то, что навсегда изменило отношение людей к воспоминаниям. Симонид мысленно отгородился от царящего вокруг хаоса и отмотал время назад. Груды мрамора вновь сложились в колонны, и разбросанные кусочки фриза собрались в единое целое под потолком. Глиняные черепки, рассеянные по развалинам, опять стали чашами, деревянные щепки, выглядывающие из руин и тут и там, воссоединились и превратились в стол. Симонид мысленно увидел каждого из гостей сидящим на своем месте, не подозревающим о надвигающейся катастрофе. Перед его глазами промелькнул смеющийся Скопас во главе стола; собрат-поэт, кусочком хлеба подбирающий остатки еды с тарелки, ухмыляющийся сановник. Симонид обернулся, взглянул в окно и заметил приближающихся гонцов.
Симонид открыл глаза. Он подошел к безутешным родственникам погибших и, осторожно ступая по камням, провел их, одного за другим, к тем местам, где некогда сидели их близкие.
Согласно легенде, именно в этот момент родилось искусство запоминания.
Глава 1 Мудрейшего в мире найти нелегко
Знаменитый толстяк Дом Делуиз[1] (пятерка треф) возник у меня в воображении и начал дебоширить: набрав в рот побольше слюны (девятка треф), он плюнул в густую седину (тройка бубен) Альберта Эйнштейна и нанес сокрушительный каратистский удар (пятерка пик) в пах папе римскому Бенедикту XVI (шестерка бубен). Майкл Джексон (король червей) занимался вещами, странными даже для него. Он опорожнил кишечник (двойка треф) на сэндвич с лососем (король треф), а газами (дама треф) надул воздушный шарик (шестерка пик). Я видел, как Риа Перлман[2], миниатюрная девушка-бармен из «Будем здоровы» (дама пик), кувыркается с высоченным Мануте Болом (семерка треф), баскетбольной звездой из Судана, совершая крайне откровенный (и в данном случае физически невозможный) двойной кульбит (тройка треф).
Я не горжусь абракадаброй, которую написал чуть выше, но без нее было бы невозможно понять, как я оказался там, где нахожусь в настоящий момент. Слева от меня Рэм Колли, небритый двадцатипятилетний бизнес-консультант из города Ричмонд, штат Вирджиния, защищает свой титул чемпиона Соединенных Штатов по запоминанию. Справа – телекамеры национальной кабельной телесети. Позади, недоступные моему взгляду и не имеющие возможности отвлечь меня, разместились сотня зрителей, а также пара ведущих прямой репортаж телекомментаторов. Один из них, с уложенными феном волосами, – заслуженный комментатор боксерских матчей Кенни Райс, который, хотя и вещает своим обычным, скрипучим и баюкающим, голосом, явно чувствует себя не в своей тарелке на этом слете умников. Другой комментатор, бородач Скотт Хэгвуд, столь же знаменит в мире спортивного запоминания, как Пеле в мире футбола. Хэгвуду сорок три года, он инженер-химик из Фейетвилла, Северная Каролина, и четырехкратный чемпион Америки по запоминанию. В углу комнаты находится предмет моего вожделения – приз в виде аляповатой «двухэтажной» статуэтки: вверху серебряная рука с золотыми ногтями, выставившая напоказ роял-флеш, а ниже как символ патриотизма примостились три белоголовых орлана. По высоте трофей сравним с моей двухлетней племянницей (а весит меньше, чем большая часть ее мягких игрушек).
Зрителей попросили не снимать со вспышкой и соблюдать тишину. Хотя, конечно, ни я, ни Рэм никак не смогли бы их услышать: у нас обоих беруши. К тому же на мне производственные противошумные наушники, которые были бы куда уместнее на палубе авианосца (поскольку в самом разгаре соревнований нет такого понятия как «слишком тихо»). Мои глаза закрыты. Руки лежат передо мной на столе, а между ними – две перемешанные колоды игральных карт картинками вниз. Вот-вот судья щелкнет секундомером, и у меня будет пять минут на то, чтобы запомнить порядок карт в обеих колодах.
Невероятная история о том, как я, онемевший и обливающийся потом, оказался в финале чемпионата Соединенных Штатов по запоминанию, началась год назад на заснеженной трассе в центральной Пенсильвании. Я ехал из моего дома в Вашингтоне, округ Колумбия, в долину Лихай, чтобы взять для журнала Discover интервью у физика-теоретика из университета Куцтауна. Этот ученый изобрел прибор с вакуумной камерой для получения самых больших в мире хлопьев попкорна. Путь мой пролегал через город Йорк, где располагался Зал славы и Музей тяжелой атлетики. Я подумал: в этом названии что-то есть и не хотелось бы прожить жизнь, ни разу не посетив это место. Плюс мне нужно было как-то убить час.
Зал славы оказался скучным собранием старых фотографий и памятных вещичек, размещенных в подвале офисного здания крупнейшего в Америке производителя гантелей. Как музей он никуда не годился. Но именно здесь я впервые увидел черно-белую фотографию Джо «Могучего Атома» Гринштейна, приземистого – ростом пять футов четыре дюйма[3] – американского силача еврейского происхождения. Он заслужил свое прозвище еще в 1920 г. за то, что мог раскусить четвертак надвое или терпеливо лежать на утыканной гвоздями кровати, пока на его груди играл диксиленд в составе 14 музыкантов. А однажды Джо без инструментов заменил все четыре колеса у машины. Табличка рядом с фотографией провозглашала Гринштейна «сильнейшим человеком в мире».
Разглядывая снимок, я подумал, что было бы забавно, если бы самый сильный человек в мире встретился с самым умным. Только представьте: объятья Могучего Атома и Эйнштейна – великий союз интеллекта и силы. Такую фотографию не стыдно повесить над рабочим столом. «Интересно, а существуют ли такие снимки?» – подумал я и, вернувшись домой, начал искать ответ на этот вопрос в Google. Сильнейший человек в мире нашелся легко – это был Мариуш Пудзяновский. Он жил в польском городе Бяла-Равска и мог поднять 924 фунта[4] (это примерно 30 моих племянниц).
Выявить же самого умного человека оказалось не так просто. После того как я ввел в графу поиска «высочайший IQ», «гениальный мыслитель», «самый умный в мире», я узнал, что в Нью-Йорке живет человек с IQ, равным 228, а в Венгрии – шахматист, который сыграл вслепую на 52 досках одновременно. Мне попалась индианка, способная за 50 секунд вычислить в уме корень 23-й степени из числа, состоявшего из двух сотен цифр, и кто-то, способный собрать четырехмерный кубик Рубика, чем бы этот кубик ни был. Само собой, было и множество претендентов уровня Стивена Хокинга. Да уж, мозги куда труднее поддаются классификации, чем мускулы.
Однако в процессе поиска я обнаружил одного удивительного кандидата – он был если не самым умным в мире человеком, то по крайней мере гением. Звали его Бен Придмор, и он был способен за час запомнить последовательность 1528 случайных цифр и – чтобы впечатлить тех из нас, кто тяготеет к гуманитарным знаниям, – любое предложенное ему стихотворение. Он был действующим чемпионом мира по запоминанию.
Следующие несколько дней мои мысли постоянно обращались к Бену Придмору. Лично у меня память вполне посредственная. Я то и дело забываю: куда положил ключи от машины (и где припарковал саму машину, если уж на то пошло); вовремя вытащить еду из духовки; правописание некоторых слов; поздравить свою девушку с днем рождения, годовщиной нашего знакомства и Днем святого Валентина; высоту дверного проема, ведущего в подвал моих родителей (ох!); номера телефонов друзей; зачем я только что открыл холодильник; зарядить мобильник; имя главы администрации президента Буша; последовательность площадок для стоянки на автостраде в Нью-Джерси; в каком году «Редскинс» выиграли Суперкубок; опустить сиденье унитаза.
А вот Бен Придмор мог за 32 секунды запомнить, в каком порядке лежат карты в перемешанной колоде. За пять минут он мог запомнить 96 исторических дат и связанные с ними события. Этот человек знал 50 000 знаков после запятой в числе π. Скажете, что вам не завидно? Я как-то прочел, что среднестатистический человек тратит примерно 40 дней в году на то, чтобы устранить ущерб от своей забывчивости. Бен, конечно, временно безработный, но вы только представьте, насколько выше могла бы быть его производительность.
С каждым днем объем того, что необходимо помнить, у нас увеличивается: больше имен, больше паролей, больше правил. Мне кажется, с такой памятью, как у Бена Придмора, жизнь была бы совершенно иной – и намного лучше. Наша культура постоянно наполняет наш мозг новой информацией, но он способен запомнить лишь малую ее долю. Остальное влетает в одно ухо и вылетает из другого. Если бы весь смысл чтения сводился к запоминанию содержащейся в книгах информации, это занятие дало бы мне минимум результатов. Я могу потратить шесть часов на чтение книги и запомнить сюжет лишь в общих чертах. Факты, анекдоты и даже все те интересные вещи, которые стоили бы запоминания, быстро проносятся через мой мозг и исчезают в неизвестном направлении. На моей полке есть даже такие книги, про которые я не помню, читал их или нет.
Что бы было, если бы все эти утерянные знания оставались в моем распоряжении? Не могу не думать, что это сделало бы меня куда убедительнее, увереннее и в некотором, глубинном, смысле умнее. Само собой, я стал бы лучше как журналист, друг и мужчина. И еще мне кажется, обладай я памятью Бена Придмора, я был бы и внимательнее, и даже мудрее. Если предположить, что опыт – это сумма наших воспоминаний, а мудрость – сумма опытов, то хорошая память значила бы, что мы больше знаем не только о мире вокруг нас, но и о себе самих. Хотя некоторая забывчивость идет нам только на пользу. Если бы я не забывал все те глупые поступки, которые успел совершить, я был бы сейчас невыносимым невротиком. Но сколько же стоящих идей остались необдуманными и сколько связей так и не налажено из-за ограниченности моей памяти?
Я мысленно прокручивал в голове слова, сказанные Беном Придмором в газетном интервью, – слова, заставившие меня задуматься о том, насколько его память отличается от моей.
«То, как работает память, – это дело техники и понимания, – сказал он репортеру. – Любой на такое способен».
Пару недель спустя после визита в Музей тяжелой атлетики я стоял в самом конце зала на 19-м этаже головного офиса компании Con Edison[5] возле Юнион-скуэр на Манхэттене, наблюдая за ходом чемпионата Соединенных Штатов по запоминанию-2005. Увлечение Беном Придмором натолкнуло меня на мысль написать небольшую статью для журнала Slate о том, что я считал аналогом Суперкубка среди ученых.
Но действие, развернувшееся перед моими глазами, было мало похоже на битву титанов: небольшая группка мужчин (и пара женщин) разного возраста и разной степени ухоженности, напряженно вглядывались в страницы со случайными цифрами и длинными списками слов. Себя они называли «интеллектуальные спортсмены» или же ИС для краткости.
Испытаний было пять. На первом от участников требовалось выучить наизусть неопубликованное стихотворение «Мой гобелен» из 50 строк. Затем соперникам раздали 99 портретных фотографий с написанными на них именами и фамилиями изображенных людей, и за 15 минут нужно было запомнить как можно больше из них. Еще 15 минут отводилось на запоминание 300 произвольно отобранных слов, пять – на страницу, заполненную тысячей случайно взятых цифр (25 строк по 40 цифр в каждой) и еще пять минут – на запоминание порядка карт в перемешанной колоде. Среди конкурсантов были два магистра памяти (всего в мире их насчитывается 36) – этого титула удостаиваются те, кто сумел менее чем за час запомнить последовательность из тысячи случайных чисел, порядок карт в десяти смешанных колодах (тоже менее чем за час) и порядок карт в одной колоде (за две минуты).
На первый взгляд все это кажется не более чем бессмысленными и даже немного жалкими трюками для эксцентричной вечеринки. Однако, разговаривая с конкурсантами, я понял, что все намного серьезнее, и задумался о своем образовании и истинных возможностях собственной памяти.
Я спросил у Эда Кука – молодого магистра памяти из Англии, для которого соревнования в Штатах служили лишь тренировкой перед чемпионатом мира (не являясь гражданином Соединенных Штатов, он не мог претендовать на победу), – о том, когда он впервые осознал, что является савантом.
– Да я не савант, – усмехнулся он.
– Значит, у вас фотографическая память? – спросил я.
Эд усмехнулся вновь.
– Фотографическая память – это дурацкий миф, – ответил он. – Ее попросту не существует. На самом деле у меня самая обыкновенная память, как и у всех здесь.
Такое заявление с трудом соотносилось с тем, что Эд только что перечислил 252 случайно выбранные цифры с такой легкостью, будто это был его номер телефона. «Поймите, что даже средняя память может быть мощнейшим инструментом, если правильно ей пользоваться», – пояснил он.
У Эда грубоватые черты лица и копна вьющихся каштановых волос до плеч. Его можно было причислить к тем из участников, кто хоть как-то за собой следит. На нем был костюм, галстук с ослабленным узлом, и совершенно не подходящие к этому наряду шлепанцы с изображением флага Великобритании. Ему исполнилось всего 24 года, но он держался так, будто был как минимум в три раза старше. Ходил Эд с тростью, которую называл «подпорка для победы», – она потребовалась в связи с обострением хронического ювенильного артрита. И он, и другие интеллектуальные спортсмены, с которыми я беседовал, утверждали то же самое, что и Бен Придмор в интервью: каждый способен делать то, что делают они. Нужно просто «мыслить так, чтобы больше запоминать», используя «простейший» мнемонический прием, именуемый «дворцом памяти», который Симонид Кеосский предположительно изобрел две с половиной тысячи лет назад в руинах обрушившегося пиршественного зала.
Техника «Дворец памяти», известная также как метод путешествия, или метод локи, а в более широком смысле – как ars memorativa, или искусство запоминания, представляет собой набор правил и инструкций, разработанных такими знаменитыми римлянами, как Цицерон и Квинтилиан. В Средние века метод получил вторую жизнь у особо ревностных христиан как способ запоминать проповеди, молитвы и даже список наказаний, ожидающих грешников в аду. Это были те самые приемы, которые применялись римскими сенаторами для запоминания речей, помогли знаменитому афинскому политику Фемистоклу выучить имена 20 000 афинян и позволили средневековым ученым запоминать целые книги.
Эд рассказал, что конкурсанты считают себя «участниками любительского исследования», чья цель – воскресить методику тренировки памяти, утерянную столетия назад. В старину, утверждал Эд, память была связана со всеми сторонами жизни. Хорошая память была не просто полезным орудием, а главной принадлежностью любого практичного человека. Более того, в тренировке памяти видели путь к формированию характера, способ развить такое важнейшее качество, как благоразумие, и, в более широком плане, нравственное начало. Тогда думали, что только благодаря запоминанию человек может воспринимать и впитывать различные идеи и ценности. Методики запоминания существовали не для бесполезного усвоения последовательности игральных карт в колоде, а для того, чтобы наполнить мозг человека основополагающими знаниями и идеями.
Но затем в XV столетии Гутенберг превратил книги в продукт массового потребления, и в итоге стало неважным, помнишь ли ты то, что за тебя помнит страница. В эпоху Возрождения методики запоминания, основы основ античной и средневековой культуры, влились в оккультные и эзотерические практики алхимии, а к XIX в. их назначение свелось к использованию на второсортных ярмарочных представлениях и в бессмысленных книжках типа «помоги себе сам» – только чтобы возродиться в конце XX в. на этом странном и необычном соревновании.
Лидер этого возрождения искусства запоминания – хитрый шестидесятисемилетний английский преподаватель и самопровозглашенный гуру Тони Бьюзен, утверждающий, что он имеет самый большой «коэффициент креативности» в мире. Когда я встретил его в кафетерии в здании Con Edison, Тони был одет в темно-синий костюм с пятью огромными пуговицами с золотым обрамлением и рубашку без воротника с еще одной крупной пуговицей на горле, придававшей ему вид священника. Брошь в форме нейрона украшала лацкан. На циферблате его часов изображена картина Дали «Постоянство памяти» (та самая, где изображены стекающие и свисающие часы). Конкурсантов Тони назвал «воинами разума».
Из-за морщин на лице Бьюзен выглядит на десять лет старше своих 67, а вот его тело – это тело тридцатилетнего. Тони рассказал, что он каждое утро пробегает от шести до десяти километров вдоль Темзы и питается исключительно «полезными для мозга» овощами и рыбой.
«Неполноценная пища – неполноценный мозг. Здоровая еда – и мозг здоров», – объяснил он.
Казалось, что при ходьбе Бьюзен скользит по полу подобно аэрохоккейной шайбе (по его словам, этого удалось достичь благодаря сорокалетним тренировкам по технике Александера[6]). Его жесты во время разговора были такими точными и четкими, каких можно добиться только оттачиванием перед зеркалом. Зачастую он подчеркивал важные моменты, резко разжимая кулак.
Бьюзен впервые организовал чемпионат мира по запоминанию в 1991 г., и с тех пор он устроил национальные соревнования более чем в дюжине стран, от Китая и ЮАР до Мексики. Он утверждает, что трудился как миссионер, чтобы техники улучшения памяти были включены в программы школ по всему миру. Речь идет, говорит Тони, о «всемирной революции в системе образования, которая заставит сконцентрироваться на обучении тому, как надо учиться».
Попутно он сколотил себе немалое состояние. (Согласно сообщениям в прессе, Майкл Джексон незадолго до смерти пожертвовал $343 000 на реализацию идей Бьюзена о развитии умственных способностей.)
Бьюзен считает, что в школах придерживаются неверного подхода к преподаванию. Учащихся заваливают огромным количеством информации, но не учат, каким образом ее можно надолго удержать в памяти. Заучивание наизусть заслужило дурную репутацию как бессмысленный способ хранить в голове факты столь долго, сколько надо для того, чтобы сдать очередной экзамен. Но зло не в заучивании как таковом; нудная зубрежка – вот, что подрывает систему западного образования, утверждает Бьюзен.
«Все последнее столетие мы неправильно определяли понятие "память", не до конца его понимали, неверно применяли и признали негодным для использования, поскольку оно не работало и не приносило нам удовлетворения», – говорит Бьюзен.
Тони пояснил: механическое запоминание позволяет на короткий период закрепить информацию в мозгу при помощи примитивного повторения – старого доброго «долбежа», тогда как мнемоническое запоминание куда более изящная и точная техника. Этот метод и быстрее, и менее утомителен, и информация остается в памяти на более длительное время.
«Мозг похож на мускулы», и тренировка памяти – это своего рода упражнение для мозга, сказал Бьюзен. Со временем, как и любая другая форма тренировки, она принесет плоды: мозг начнет работать эффективнее, быстрее и проворнее. Именно эта идея легла в основу самых первых тренировок памяти. Римские ораторы утверждали, что искусство запоминания – надлежащее упорядочивание и сохранение информации в памяти – жизненно важный инструмент для генерирования новых идей. В наши дни «тренировка мозга» становится распространенным занятием. Умственная гимнастика и центры по развитию памяти становятся модными, а доходы индустрии по производству компьютерных программ для тренировки мозга составили в 2008 г. $265 млн{1}. Эта тенденция отчасти объясняется исследованиями, доказавшими, что люди, регулярно тренирующие мозг решением кроссвордов и игрой в шахматы, могут избежать прогрессирующего слабоумия и болезни Альцгеймера, но в большей степени она обусловлена тем, что поколение беби-бумеров стремится обезопасить себя от потери рассудка. Но если эффективность тренировок как средства против старческого слабоумия во многом подтверждена наукой, то заявления Бьюзена о гипотетических дополнительных плюсах тренировок памяти должны были бы вызывать некоторую (как минимум) долю скептицизма. Тем не менее с результатами не поспоришь. Только что на моих глазах сорокасемилетний конкурсант перечислил в заданном порядке сто случайно выбранных слов, которые заучил за несколько минут до этого.
Бьюзен активно убеждал меня в том, что его собственная память год от года улучшается даже несмотря на то, что он становится все старше.
«Люди полагают, что ухудшение памяти свойственно человеческой природе и, следовательно, совершенно естественно, – сказал он. – Но в этих рассуждениях кроется логическая ошибка, потому что "нормально" не значит "естественно". Причина наблюдаемого снижения функций человеческой памяти в том, что мы ежедневно совершаем антиолимпийские тренировки. То, что мы творим с нашим мозгом, это все равно как если бы мы поручили кому-нибудь тренироваться для участия в Олимпийских играх и при этом сделали так, чтобы этот спортсмен ежедневно выпивал по десять банок пива и выкуривал по 50 сигарет, ездил на работу на машине и, может быть, раз в месяц изматывал себя тренировками, а остальное время лежал на диване и смотрел телевизор. И потом мы бы удивлялись, почему он так плохо выступил. Вот так же мы поступаем со своей памятью».
Я закидал Бьюзена вопросами: насколько трудно овладеть этой техникой? Как упражняются конкурсанты? Как быстро улучшается их память? Используют ли эти техники в повседневной жизни? Если методика тренировки памяти действительно так проста и эффективна, как он утверждает, почему я никогда до этого о ней не слышал? Почему все мы ее не применяем?
– Знаешь, – ответил Тони, – вместо того чтобы спрашивать, попробовал бы сам.
– Теоретически, что понадобится, чтобы подготовить кого-нибудь вроде меня к чемпионату Соединенных Штатов по запоминанию? – спросил я.
– Если хочешь войти в первую тройку чемпионата Америки, тебе следовало бы тренироваться шесть дней в неделю по часу в день. Потратив такое количество времени, ты точно хорошо выступишь. Если же тебя интересует участие в мировом чемпионате, придется тратить от трех до пяти часов в день в течение шести месяцев, предшествующих соревнованиям. Это уже непросто.
Позднее, когда конкурсанты пытались запомнить «Мой гобелен», Бьюзен отвел меня в сторонку и положил руку мне на плечо. «Помнишь наш разговор? Подумай об этом. Там, на сцене, мог бы быть ты – новый чемпион Соединенных Штатов по запоминанию».
В перерыве между соревнованиями по двум дисциплинам – выучиванием стихотворения и запоминанием имен и лиц – я выбрался на тротуар у здания Con Edison, чтобы отдохнуть от жары и духоты. Здесь я столкнулся с опирающимся на трость английским мнемоником с нечесаными волосами Эдом Куком и его долговязым закадычным другом, австрийским магистром памяти Лукасом Амзюссом, вышедшими покурить.
Эд закончил Оксфорд прошлой весной – первым в выпуске по специальности «психология и философия». Он рассказал, что пишет книгу под названием «Искусство самоанализа» и одновременно получает ученую степень по когнитивистике в Парижском университете, где проводит необычное исследование с целью «заставить людей почувствовать себя уменьшившимися до одной десятой своего размера». Кроме того, он работает над изобретением нового цвета – «не просто нового цвета, а нового способа видеть цвет!».
Лукас изучает право в венском университете и представляет себя автором книжицы под названием «Как быть в три раза умнее своего IQ». Он стоял, прислонившись к стене здания и пытаясь оправдаться перед Эдом за свое неудачное выступление в дисциплине «Случайные слова».
«Я слов таких в английском не знаю: "зевота", "язва", "неф", – с явным австрийским акцентом настаивал он. – Как я мог их запомнить?»
В настоящее время Эд и Лукас занимают соответственно одиннадцатую и девятую строчку в мировом рейтинге мастеров спортивного запоминания, на этом мероприятии они единственные магистры памяти и единственные, кто пришел в костюмах и галстуках.
Им не терпелось поделиться со мной (или с кем-нибудь еще) планами заработать денег на своей известности, основав «учебный центр по развитию памяти» под названием Оксфордская мыслительная академия. Они рассчитывали, что подписчики – в основном руководящие работники – будут платить за услуги персональных тренеров по развитию памяти. А как только мир прослышит о том, какие преимущества дает тренировка памяти, их доходы взлетят до небес.
«В конце концов, – сказал мне Эд, – мы выправим западное образование». «Которое мы считаем вконец деградировавшим», – добавил Лукас.
Эд рассказал, что к участию в чемпионатах по запоминанию его подтолкнуло желание постичь секреты человеческой памяти.
«Есть два способа понять, как устроен мозг, – говорил он. – Первый применяется в эмпирической психологии: вы со стороны наблюдаете за разными людьми и оцениваете их по определенным критериям. Второй способ вытекает из идеи о том, что оптимальная работа системы может кое-что подсказать вам о ее устройстве. Вероятно, эффективнейший путь к постижению человеческой памяти – попытаться ее оптимизировать, лучше всего – в группе одаренных людей и в условиях, когда есть точная и объективная ответная реакция. То есть на соревнованиях по запоминанию».
Само по себе соревнование разворачивалось по сценарию, например, школьных выпускных экзаменов со всеми их волнующими моментами. Соперники безмолвно изучали листы бумаги, затем писали ответы, которые передавались судьям. После каждого вида программы оценки быстро подсчитывались и выводились на экран, находившийся в передней части зала. Но больше всего меня, как журналиста, задавшегося целью написать о национальном чемпионате по запоминанию, разочаровало то, что в этом виде «спорта» не было ничего, что могло породить такое же зрительское возбуждение, какое вызывается баскетболом или хотя бы состязанием по правописанию. Иногда я даже затруднялся сказать, задумались ли участники чемпионата или уснули. Да, было много нервного массирования висков, постукивания ногой или пустых взглядов, полных предчувствия поражения, но большая часть драмы происходила в головах состязавшихся, невидимая публике.
Неприятная мысль всплыла у меня в мозгу, пока я стоял в дальнем углу аудитории и наблюдал за вроде бы обычными людьми, демонстрировавшими умственные чудеса: я понятия не имею, как работает моя память. Да и есть ли вообще такое место в моем мозгу, которое отвечает за запоминание? Волна вопросов накрыла меня с головой – все те вещи, о которых я раньше даже не задумывался, сейчас вдруг навалились на меня. Что такое «память»? Как она создается? И как сохраняются воспоминания? Я провел первые 25 лет жизни с памятью, которая работала так стабильно, что я ни разу не остановился, чтобы задуматься о механизмах, обеспечивающих ее действие. И вот теперь, когда я остановился и задумался, я осознал, что моя память на самом деле не так уж и стабильна. Некоторые области ей совершенно не поддаются, тогда как в других она работает отлично. Были у моей памяти и другие необъяснимые причуды. В то утро, например, в голове у меня засела невыносимая песня Бритни Спирс, и, чтобы избавиться от нее, я провел большую часть дороги в метро, мурлыча ханукальные мелодии себе под нос. Это вообще как? А пару дней назад я пытался рассказать другу об авторе, которым восхищался, но выяснилось, что я помню только первую букву его фамилии. Вот как так случилось? И почему я не помню ничего из того, что было до моего третьего дня рождения? И, если уж на то пошло, почему я не помню, что ел вчера на завтрак, хотя четко помню, чем завтракал четыре года назад (кукурузными шариками, кофе и бананом), когда мне сообщили, что самолет врезался в башни-близнецы? И почему я всегда забываю, зачем только что открыл дверцу холодильника?
Я вернулся с чемпионата Соединенных Штатов по запоминанию жаждущим узнать секрет Эда и Лукаса. Являются ли они экстраординарными индивидуумами в длинном хвосте кривой нормального распределения, или все мы могли почерпнуть что-то из их талантов? Я отнесся к ним столь же скептически, как и к Тони Бьюзену. Любой самопровозглашенный гуру, отхвативший себе выгодное местечко в озабоченном «самопомощью» современном мире, включает у журналиста режим «это – полный бред», и Бьюзен включил его на полную мощность. Я пока еще не знал, пускает ли он пыль в глаза или же развивает науку, но его слоган – «революция в мировом образовании» – побуждал меня остановиться на первом предположении.
Правда ли, что каждый может научиться быстро запоминать огромные объемы информации? Каждый? Я был готов поверить Бьюзену (или Эду), когда он утверждал, что с помощью техник можно значительно улучшить память, но в то, что любой недоумок может научиться запоминать колоды игральных карт или тысячи двоичных знаков, я не верил. Альтернативное объяснение казалось намного более правдоподобным: Эд и его коллеги обладают неким врожденным талантом – ментальным эквивалентом росту Гиганта Андре[7] или ногам Усейна Болта.
И все же многое сказанное всеми этими гуру об улучшении памяти, отдавало навязчивой рекламой. Когда в близлежащем книжном магазине я заглянул в отдел литературы по самоусовершенствованию, я обнаружил множество книг, суливших научить меня никогда «не забывать номера телефонов и даты» или «развить моментальное запоминание». В одной книге даже утверждалось, что она расскажет, как использовать «иные девяносто процентов» моего мозга – одно из тех псевдонаучных заявлений, которые равнозначны обещанию научить меня применять «другие девяносто процентов» моей руки.
Но вопросы улучшения памяти занимали и тех, кто едва ли собирался извлекать выгоду из своих изысканий. Расширение возможностей нашей памяти интересовало ученых-психологов с 1870-х гг. – с момента когда Герман Эббингауз впервые принес в лабораторию свой труд о памяти.
Книга, которую вы держите в руках, посвящена тем 12 месяцам, которые я провел, пытаясь постичь свою память – ее внутренние механизмы, естественные способы защиты, скрытый потенциал – и натренировать ее. Я расскажу о том, как я из первых рук узнал, что наша память действительно поддается улучшению в определенных пределах и что мы все можем овладеть умением Эда и Лукаса. Вы узнаете о том, что психологи думают о специфике профессиональных навыков и опыта, и о том, как исследователи, изучающие чемпионов по запоминанию, открыли основные принципы достижения мастерства – тайный рецепт улучшения всего чего угодно.
Хотя эта книга и не задумывалась как набор советов по самоусовершенствованию, я надеюсь, что вы вынесете из нее знание о том, как нужно тренировать память и как методики запоминания могут быть использованы в повседневной жизни.
У этих методик долгая и богатая история. Их значение в развитии западной культуры является одним из тех важнейших аспектов интеллектуальной истории, которые мало известны за пределами узкого круга избранных ученых, занимающихся соответствующей темой. Мнемонические методы, вроде придуманного Симонидом дворца памяти, определяли образ жизни людей во времена античности, в Средние века и эпоху Возрождения. А потом они исчезли.
На психологическом уровне мы ничем не отличаемся от наших предков, оставивших на стенах пещеры Ласко во Франции изображение бизона – старейший культурный артефакт, сохранившийся по сей день. Наш мозг не больше, и он не лучше развит, чем мозг древних. Если бы одного из их детей вручили приемным родителям из Нью-Йорка XXI в., малыш, скорее всего, вырос бы таким же, как и его сверстники.
Все, что отличает нас от них, – это наши воспоминания. Не те, что присутствуют в нашем разуме, поскольку современный ребенок – точно такая же «чистая доска», как и первобытный младенец, а те, что хранятся везде – в книгах, музеях, на фотографиях и цифровых носителях. Давным-давно память была основой всех культур, но за 30 тысячелетий, прошедших с тех пор, как люди начали рисовать свои воспоминания на стенах пещер, мы постепенно заменили свою внутреннюю – естественную – память обширной системой внешних носителей информации. Этот процесс существенно ускорился в последние годы. Представьте, что проснетесь завтра и все чернила в мире вдруг станут невидимыми, а все байты информации сотрутся. Нашему миру тут же придет конец. Литература, музыка, политика, наука, математика – вся наша культура держится на внешних носителях информации.
Если память – это то, что позволяет нам сохранить ценные для нас вещи, она также печальным образом связана с нашей недолговечностью. Наши воспоминания умирают вместе с нами. В каком-то смысле вся созданная нами сложная система внешних хранителей информации – это наше средство защиты от нашей бренности. Она позволяет идеям передаваться сквозь время и развиваться так, как они не могли бы развиться, если бы попросту передавались из одного разума в другой.
Переход на внешние носители не только изменил образ человеческого мышления: он изменил и сам смысл понятия «мыслящий человек». Внутренняя память существенно обесценилась. Эрудиция эволюционировала от простого владения информацией до знания того, где и как найти ее в мире внешних носителей информации. Единственное, где еще можно увидеть людей, развивающих память, это чемпионаты мира по запоминанию и дюжина национальных чемпионатов в разных странах мира. То, что однажды было краеугольным камнем Западной цивилизации, стало в лучшем случае любопытным явлением. Но как на нас и наше общество повлиял тот факт, что основанная на внутренних воспоминаниях культура трансформировалась в культуру, базирующуюся на воспоминаниях, которые хранятся вне нашего мозга? Приобретенное нами говорит само за себя. Но что мы отдали взамен? Что означает эта потеря памяти?
Глава 2 Человек, который помнил слишком многое
В мае 1928 г. молодой журналист Ш.[8] вошел в кабинет знаменитого русского нейропсихолога А. Р. Лурии[9] и вежливо попросил протестировать его память. К врачу Ш. пришел по совету своего начальника, редактора газеты. Каждое утро на редакционном собрании босс раздавал задания набившимся в комнату репортерам, быстро перечисляя факты, контакты и адреса, которые понадобятся для написания статей. Все репортеры делали подробные записи в блокнотах. Кроме одного. Ш. просто смотрел и слушал.
Однажды утром редактор, который был по горло сыт очевидной безответственностью своего сотрудника, отвел Ш. в сторонку и прочитал ему лекцию о том, что работу надо принимать всерьез. Уж не думал ли Ш., что редактор зачитывал по утрам всю эту информацию просто потому, что ему нравилось слышать звук собственного голоса? Или, может, Ш. способен написать статью, не имея нужных контактов? Может, он мог связываться с людьми телепатически, не зная их реальных адресов? Если Ш. хотел закрепиться в журналистике, сказал редактор, ему стоило более внимательно относиться к своим обязанностям и начать делать записи.
Ш. терпеливо ждал, когда редактор закончит свою отповедь. А потом он спокойно повторил все сказанное на утреннем собрании вплоть до мельчайших подробностей, слово в слово. Редактор был ошарашен. Он понятия не имел, как реагировать. Впрочем, Ш. потом утверждал, что и сам был шокирован. До этого момента, утверждал Ш., он всегда считал, что помнить все – совершенно естественно для любого человека.
Вплоть до визита к Лурии Ш. относился к собственной уникальности весьма скептически. «Он не видел в себе никаких особенностей и не представлял, что его память чем-либо отличается от памяти окружающих»[10], – писал позже психолог, проведший с Ш. серию тестов по оценке способности к запоминанию. Лурия начал с того, что попросил Ш. запомнить исписанную цифрами страницу, и с изумлением слушал, как его скромный пациент перечислил все 70 цифр, сначала в прямом, а затем и в обратном порядке. «Ему было безразлично, предъявлялись ли ему осмысленные слова или бессмысленные слоги, числа или звуки, давались ли они в устной или в письменной форме; ему нужно было лишь, чтобы один элемент предлагаемого ряда был отделен от другого паузой в две-три секунды, и последующее воспроизведение ряда не вызывало у него никаких затруднений»..
Лурия давал Ш. тест за тестом и получал все тот же результат: Ш. невозможно было поставить в тупик.
«Вскоре экспериментатор начал испытывать чувство, переходящее в растерянность, – писал Лурия. – …Приходилось признать, что… экспериментатор оказался бессильным, казалось бы, в самой простой для психолога задаче – измерении объема памяти».
Лурия продолжил изучать Ш. в течение следующих 30 лет и в конце концов написал о нем книгу «Маленькая книжка о большой памяти. Ум мнемониста», которая надолго стала классическим трудом в области патопсихологии. Ш. мог запомнить сложные математические формулы, совершенно не разбираясь в математике, итальянские стихи, не зная итальянского, и даже фразы, представлявшие собой совершенную тарабарщину. Но еще удивительнее было то, что он никогда ничего не забывал.
Для большинства людей естественно, что со временем воспоминания стираются; есть даже такое понятие, как «кривая забывчивости». С того момента, как память завладевает поступившей вам новой информацией, ее хватка начинает постепенно ослабевать, покуда не разожмется совсем. В последних десятилетиях XIX в. немецкий психолог Герман Эббигауз решил найти количественное выражение неумолимого процесса забывания. Чтобы понять, каким образом наши воспоминания меркнут со временем, он в течение нескольких лет запоминал 2300 бессмысленных слогов, наподобие «гуф», «лер» или «нок». В определенные моменты он проверял себя, чтобы понять, сколько слогов он забыл и сколько удалось сохранить в памяти. Представив результаты в графическом виде, он получил такую кривую:
Сколько бы раз он ни проводил этот эксперимент, результаты выходили одни и те же: за первый час после заучивания набора бессмысленных звуков более половины из них успевали забыться. Через день исчезали из памяти еще 10 %. Месяц спустя – еще 14 %. Затем оставшиеся воспоминания более-менее стабилизировались, отложившись в долгосрочной памяти, и скорость забывания замедлялась.
Память Ш. совершенно не соответствовала кривой забывчивости. Не имело значения ни то, как много он запомнил, ни то, как давно это было (16 лет назад в некоторых случаях), – он всегда был способен выдать информацию с такой точностью, словно только что ее запомнил.
«Ш. садился, закрывал глаза, делал паузу, а затем говорил: "Да-да… это было у вас на той квартире… вы сидели за столом, а я на качалке… вы были в сером костюме и смотрели на меня так… вот… я вижу, что вы мне говорили…" – и дальше следовало безошибочное воспроизведение прочитанного ряда», – писал Лурия.
В книге Лурии Ш. временами казался пришельцем с иной планеты, а в литературе по патопсихологии его случай зачастую расценивали как sui generis[11].
Но, как мне предстояло узнать, у истории Ш. есть еще одно, более волнующее толкование: каким бы редким и необыкновенным ни был случай с Ш., есть в нем и то, что наши заурядные, ослабленные и забывчивые мозги могут из него вынести.
На самом деле невероятные способности Ш. дремлют внутри каждого из нас.
Отослав последний репортаж с соревнований, ради которых я приехал в Нью-Йорк, я должен был бы, как любой нормальный журналист, отправиться домой, написать коротенькую статью и переключиться на другую тему. Но этого не случилось. Вместо того чтобы мчаться в поезде в Вашингтон, я занял место в одном из последних рядов теперь уже в другой аудитории – государственной школе в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, где Эд Кук должен был учить шестнадцатилетних подростков, как применять техники запоминания для успешной сдачи экзаменов. Я отменил все планы на этот день и присоединился к ним, потому что Эд пообещал, что, если мы проведем вместе побольше времени, он в подробностях расскажет, как ему и Лукасу удалось натренировать свою память так, чтобы достичь уровня Ш. Но прежде чем углубиться в дебри эзотерики, требовалось основательно подготовиться. Эд хотел продемонстрировать студентам и мне, что возможности нашей памяти и так чрезвычайно велики, особенно когда речь заходит о выучивании определенного вида информации. Для этого он принес с собой вариант теста на запоминание, известного как тест на узнавание изображения с двухвариантным выбором.
Эд начал свое выступление с самокритичной шутки: «Я из Англии, где люди предпочитают тратить время не на налаживание полноценной жизни, а скорее на запоминание ее истории». Потом, желая доказать, что он не какой-нибудь шарлатан, а настоящий мнемоник, Эд выучил семидесятизначное число за одну минуту (в три раза быстрее, чем Ш.), а затем уже перешел к тестированию памяти студентов и заодно моей.
«Я вам покажу несколько фотографий, и я буду это делать очень, очень быстро, – объявил он, повысив голос, чтобы перекричать шумных подростков. – Я хочу, чтобы вы попытались запомнить как можно больше из этих снимков». Он нажал на кнопку пульта, и верхний свет погас. На экране проектора начали одно за другим появляться изображения, сменяясь каждые полсекунды. На одной фотографии был изображен Мухаммед Али, триумфально возвышающийся над «Сонни» Листоном[12]. На следующей – гантели. Потом отпечаток ноги Нила Армстронга на Луне. Затем обложка книги Фридриха Ницше «Генеалогия морали». И красная роза.
Всего было 30 изображений, появляющихся и исчезающих так быстро, что с трудом верилось, что мы потом сможем вспомнить хотя бы одно из них, не говоря уж обо всех. Но я старался запомнить хоть какую-нибудь яркую деталь каждой картинки и сделать мысленную пометку о том, что я только что увидел. После последнего слайда с изображением козла экран погас, и верхний свет загорелся вновь.
– Итак, как вы думаете, сможете ли вы вспомнить все эти картинки? – спросил у нас Эд.
– Да ни в жизнь! – саркастически выкрикнула сидевшая передо мной девушка, а вслед за ней хохотнул кое-кто из ее товарищей.
– Так держать! – крикнул в ответ Эд и опустил взгляд на часы, чтобы засечь время.
Само собой, смысл этого упражнения был в том, что мы сможем вспомнить все эти изображения, – иначе зачем нам его давали? Но, как и девушка передо мной, я с трудом в это верил.
Подождав 30 минут, чтобы сработал закон кривой забывчивости и изображения, которые мы только что просмотрели, выветрились из нашей памяти, Эд достал новые слайды. В этот раз на экране появились всего две картинки. Одну из них мы видели раньше, а другую нет. Слева был изображен Мухаммед Али, а справа – шипящая таблетка Alka-Seltzer.
Эд спросил, какую из фотографий мы узнаем. Это было легко. Мы все знали, что видели Мухаммеда Али и не видели таблетку Alka-Seltzer. «Не поразительно ли то, с какой легкостью вы это вспомнили?» – спросил Эд, переходя к следующим изображениям: олень слева и книга Ницше справа.
И здесь мы знали ответ. Таким образом Эд показал нам 30 картинок, и все присутствующие в комнате узнали каждую из увиденных ранее фотографий.
«Вот что знаменательно, – говорил Эд студентам, расхаживая перед ними туда-сюда по линолеуму. – Мы могли бы проделать это с тысячей картинок, и ваши результаты были бы почти так же хороши. Ваша память на изображения именно настолько хороша».
Он сослался на часто упоминаемый эксперимент, проведенный в 1970-х, в котором использовался тот же тест, только слайдов было не 30, а 10 000. (На проведение этого теста ушла целая неделя.) Сохранить в памяти 10 000 изображений – задача нелегкая, особенно учитывая, что испытуемые видели каждое из них всего по одному разу. При всем при этом, однако, ученые обнаружили, что люди оказались способны запомнить более 80 % увиденного{2}. В ходе другого, более позднего эксперимента тот же тест был проведен с 2500 изображений{3}. На этот раз участникам следовало сделать выбор не между изображениями Мухаммеда Али и таблетки Alka-Seltzer (очень легкий, надо признать), а между двумя практически идентичными картинками: пачкой пятидолларовых купюр и пачкой долларовых; зеленым вагоном и красным вагоном; колокольчиком с тонким языком и колокольчиком с толстым языком. Но, хотя изображения различались незначительными деталями, люди по-прежнему вспоминали почти 90 %.
Эти показатели изумили меня. Вместе с тем я понял, что они лишь выражали то, что я подсознательно и так знал: наша память проделывает очень хорошую работу. Как мы ни досадуем ежедневно на собственную забывчивость, когда кладем не на место ключи, забываем имена или делаем одни и те же орфографические ошибки, самое серьезное упущение – это то, что мы забываем, как редко мы забываем.
«А сейчас я расскажу вам самое удивительное, – объявил Эд. – Мы можем сыграть в эту игру еще раз через несколько лет. Я спрошу, какие из этих фотографий вы видели раньше, и среди ваших ответов будет больше правильных, чем неправильных. Где-то в нашей памяти остается отпечаток всего, что вы когда-либо видели».
Это прозвучало как смелое и, похоже, спорное утверждение, так что мне захотелось разобраться в этом вопросе. Действительно, насколько хороша наша память? Возможно ли, что мы способны помнить все?
Идея о том, что мы на самом деле ничего не забываем, очевидным образом присутствует в том, как мы говорим о своей памяти. Когда речь заходит о памяти, наиболее часто используемые метафоры – «фотография», «запоминающее устройство», «зеркало» «компьютер»; все они предполагают механическую точность, как будто наш мозг тщательно запечатлевает весь наш жизненный опыт. На самом деле, выяснил я, до недавнего времени большинство психологов подозревали, что наш мозг является идеальным регистратором – то есть большая часть наших воспоминаний хранится в самых дальних отделах мозга, и мы не можем их найти не потому, что они исчезли, а потому, что мы их поместили в неподходящее место. В одной часто цитируемой работе, опубликованной в 1980 г., психолог Элизабет Лофтус рассказывает о результатах опроса, проведенного ей среди своих коллег: 84 % ее сослуживцев были согласны с утверждением: «Все, что мы выучиваем, навсегда сохраняется в памяти, хотя некоторые специфические детали могут оказаться недоступны. При помощи гипноза или иной специальной методики эти недоступные детали могут в конце концов опять поступить в наше распоряжение»{4}.
Лофтус полагает, что это убеждение родилось как следствие серии экспериментов, проводимых в 1934–1954 гг. канадским нейрохирургом Уайлдером Пенфилдом. Пенфилд применял электрический ток, чтобы стимулировать мозг своих пациентов-эпилептиков, лежащих на операционном столе со вскрытой черепной коробкой и в сознании. Врач пытался выявить и, возможно, устранить источник эпилептической активности, но обнаружил другое: когда электрод касался определенных зон височной доли мозга, происходило нечто неожиданное. Пациенты вдруг начинали пересказывать очень яркие, но давно забытые воспоминания. Повторно касаясь электродом того же участка мозга, Пенфилд часто извлекал на свет то же воспоминание. Этот эксперимент натолкнул нейрохирурга на мысль, что мозг сохраняет все, на что сознательно обратил хоть какое-то внимание, и сохраняет навсегда.
Нидерландский психолог Виллем Вагенар пришел к такому же выводу{5}. В течение шести лет, с 1978 до 1984-го, он ежедневно фиксировал одно-два значимых события, произошедших с ним за сутки. Относительно каждого события он записывал, в чем его суть, кто в нем участвовал и где оно происходило – все на отдельных карточках. В 1984 г. он начал проверять себя, чтобы посмотреть, какие из событий этих шести лет ему удастся вспомнить.
Виллем доставал любую карточку и проверял, остались ли какие-либо воспоминания, связанные с этим днем. Он обнаружил, что при помощи пары подсказок может вспомнить практически все, что происходило, особенно в более поздние даты. Но почти 20 % самых старых воспоминаний, казалось, полностью выпали из памяти. Складывалось впечатление, что о событиях, описанных в его дневнике, Виллем слышит впервые, словно они происходили с другим человеком.
Но полностью ли пропали те воспоминания? Вагенар в это не верил. Он решил снова вернуться к десяти событиям, которые казались совершенно забытыми и в которых, судя по его записям, принимали участие другие люди. Виллем обратился к этим людям с просьбой подсказать ему какую-нибудь деталь, способную помочь возродить утерянные воспоминания. И в каждом случае находился тот, кто подкидывал Вагенару факт, дававший возможность восстановить ход событий. Ни одно из воспоминаний не исчезло. Исходя из этого ученый заключил: «Никто не может утверждать, что какое-либо событие оказалось полностью забытым».
Но за последние 30 лет психологи стали с меньшим оптимизмом относиться к идее о том, что память сохраняет все воспоминания и их просто необходимо вернуть к жизни. По мере того как нейробиологи начали все глубже проникать в тайны памяти, стало ясно, что угасание, изменение и со временем исчезновение воспоминаний обусловлены естественными процессами в клетках головного мозга. Что же касается эксперимента Пенфилда, то теперь большинство психологов пришли к мнению, что этот опыт вызывал галлюцинации – нечто более похожее на сон или ощущение déjà vu, чем на настоящие воспоминания.
Но все же неожиданное возвращение давно ушедших из памяти эпизодов случается в жизни практически каждого, и до сих пор жива мысль о том, что при помощи верных подсказок мы способны извлечь из памяти все те крупицы информации, которые однажды туда поместили. На самом деле та самая идея, которую Эд высказал шутливо и мимоходом – дескать, некоторые люди обладают фотографической памятью, – возможно, является наиболее распространенным заблуждением относительно человеческой памяти. Когда я расспросил его поподробнее, Эд ответил, что раньше просыпался по ночам в холодном поту при мысли о том, что кто-то, имеющий фотографическую память, прослышит о мировом чемпионате по запоминанию, объявится там и разнесет Эда и его коллег в пух и прах. Он успокоился только тогда, когда узнал, что появление такого человека большинство ученых расценивают как маловероятное. Хоть многие люди и клянутся, что обладают фотографической памятью, наукой не доказано, что человек способен хранить производимые в уме снимки и воспроизводить их потом с абсолютной точностью. В научной литературе был описан всего один случай фотографической памяти{6}.
В 1970 г. Чарльз Стромейер Третий, изучавший зрение ученый из Гарварда, опубликовал в самом авторитетном научном журнале мира Nature статью{7}, в которой говорилось о гарвардской студентке Элизабет, умевшей выполнять невероятный трюк. Стромейер дал Элизабет посмотреть правым глазом на узор из 10 000 случайно расставленных точек, а на следующий день показал другой узор, на который девушка посмотрела левым глазом. К удивлению исследователя, Элизабет сумела мысленно объединить два изображения, как будто это была одна из тех стереограмм «Волшебный глаз» (Magic Eye), что станут популярны в 1990-е. Элизабет утверждала, что способна видеть новое изображение, составленное из двух наложенных друг на друга точечных узоров. Казалось бы, Элизабет представила первое существенное свидетельство возможности существования фотографической памяти. Но затем, как в мыльной опере, Стромейер женился на ней, и больше никаких экспериментов не проводил.
В 1979-м другой ученый, Джон Меррит, заинтересовался исследованием Стромейера. В выходящих по всей стране газетах и журналах он опубликовал тест на обладание фотографической памяти – два рисунка из расставленных произвольно точек. Меррит надеялся, что найдется еще кто-то, чьи способности, сходны со способностями Элизабет, и докажет, что ее случай не единичный. По прикидкам ученого, выполнить тест попробовали миллион человек. Из них 30 прислали верные ответы, а 15 согласились стать объектом исследования Меррита. Но, окруженные учеными, они не сумели повторить ловкий трюк Элизабет{8}.
В случае с Элизабет было настолько много неблаговидных обстоятельств – и брак между исследователем и объектом исследования, и отсутствие дальнейших испытаний, и невозможность найти кого-либо еще с такими же способностями, – что некоторые психологи сочли открытия Стромейера подозрительными. Он сам отрицает критику. «Нет ничего сомнительного в наших данных», – сообщил он мне по телефону. Но все же он признает, что проведенное на одной женщине исследование не является «надежным доказательством того, что другие люди могут обладать фотографической памятью»{9}.
В детстве я был очарован, узнав, что ультраортодоксальные евреи помнили все 5422 страницы Вавилонского Талмуда настолько точно, что могли сказать, через какие слова пройдет булавка, воткнутая в страницу любого из 63 трактатов. Я всегда считал, что эти рассказы – выдумка, народная сказка, вроде предания о летающем раввине или истории о сшитом из крайней плоти кошельке, который можно превратить в чемодан. Но оказалось, что выдающиеся знатоки Талмуда – такие же реальные личности, причисленные к пантеону великих евреев, как и Могучий Атом. В 1917 г. психолог Джордж Стрэттон опубликовал в журнале Psychological Review статью о группе польских талмудистов «Шас Поллак» («Талмуд поляков», если переводить дословно), которые изучили Талмуд так хорошо, что помнили, где в нем расположена каждая буква на странице. Но, как заметил Стрэттон в комментарии, несмотря на впечатляющую память членов «Шас Поллак», «ни один из них не добился заметных результатов как ученый-теолог»{10}. Их достижения объяснялись не фотографической памятью, а однонаправленным упорством в учении. Если вдруг совершенно обыкновенный человек решит посвятить всю свою жизнь заучиванию 5422 страниц текста, он рано или поздно добьется своего.
Но все же, если фотографическая память – это миф, что можно сказать о русском журналисте Ш.? Как он запоминал информацию, если не мог мысленно фотографировать?
Поразительная память была не единственной странностью мозга Ш. Он обладал редкой особенностью восприятия, известной как синестезия: ощущения журналиста были причудливым образом взаимосвязаны. Каждый звук, услышанный им, имел для него свой цвет, структуру и иногда даже вкус – и все это порождало «целый комплекс ощущений». Некоторые слова были «гладкими и белыми», другие – «оранжевыми и острыми, как стрелы». Голос коллеги Лурии известного психолога Льва Выготского казался Ш. «желтым и рассыпчатым». Голос кинематографиста Сергея Эйзенштейна – это «как будто какое-то пламя с жилками надвигалось на меня», рассказывал Ш.
Слова заполняли сознание Ш. ментальными образами. Когда мы с вами слышим или видим слово «слон», мы мгновенно связываем его с большим серым толстокожим животным с толстыми ногами и длиннющим хоботом. Но чаще всего образ слона не возникает перед нашим мысленным взором. Мы, конечно, можем этого добиться, если захотим, но это потребует от нас дополнительных усилий, совершенно бесполезных для обычного разговора или рядового чтения. Но Ш. делал с каждым услышанным словом именно это – мгновенно и автоматически. Он просто не мог удержаться. «Когда я услышу слово "зеленый", появляется зеленый горшок с цветами; "красный" – появляется человек в красной рубашке, который подходит к нему. "Синий" – и из окна кто-то помахивает синим флажком…» – рассказывал он Лурии. Поскольку каждое слово генерировало соответствующий синестезический образ, а иногда еще и запах или вкус, Ш. существовал в мире подвижных снов, вырванных из реальности. Пока вокруг Ш. кипела реальная жизнь, в его сознании расцветала иная вселенная – вселенная образов.
Эти образы, населявшие голову Ш., были такими яркими, что иногда казались неотделимыми от реальности. «И трудно было сказать, что было реальнее – мир воображения, в котором он жил, или мир реальности, в котором он оставался временным гостем», – писал Лурия. Чтобы увеличить частоту пульса, Ш. было достаточно представить, что он бежит за поездом, а чтобы повысить температуру – вообразить, что он сунул руку в духовку. Ш. утверждал, что способен даже заглушить боль. «Вот я иду к зубному врачу… у меня болят зубы… Сначала это красная, оранжевая ниточка… Она меня беспокоит… Я знаю, что если это оставить так, то ниточка расширится, превратится в плотную массу… Я сокращаю ниточку, все меньше, меньше… вот уже одна точка – и боль исчезает».
Даже цифры имели для Ш. собственное лицо. «Вот "1" – это гордый стройный человек; "2" – женщина веселая; "3" – угрюмый человек, не знаю почему…; "6" – человек, у которого распухла нога; "7" – человек с усами; "8" – очень полная женщина, мешок на мешке… а вот "87" – я вижу полную женщину и человека, который крутит усы».
Но в то время как синестезия оживляла для Ш. цифры, с метафорами и абстрактными понятиями ему было трудно. «Чтобы понять глубокий смысл… я в этот момент должен увидеть», – объяснил он. Слова «бесконечность» и «ничто» были вне его понимания. «"Что-то" – это для меня как бы облачко пара, сгущенное, определенного цвета, похожее на цвет дыма. Когда говорят "ничто", это более жидкое облако, но совершенно прозрачное, и когда я хочу из этого "ничто" уловить частицы, получаются мельчайшие частицы этого "ничто"».
Ш. был просто неспособен понимать переносный смысл слов. Выражение «взвешивать слова» связывалось у него с весами, а не с осмотрительностью. Читать поэтические произведения он мог только в том случае, если в стихотворении отсутствовали метафоры. Даже рассказы были трудны для восприятия Ш., поскольку приходилось визуализировать каждое слово, из-за чего либо один образ наталкивался на другой, либо воспоминания накладывались друг на друга.
Все наши воспоминания, так же как и у Ш., связаны воедино в сеть ассоциаций. Это даже не метафора, а отображение физической структуры мозга. Трехфунтовая масса, балансирующая на вершине нашего позвоночного столба, – это около 100 млрд нейронов, каждый из которых способен установить от 5000 до 10 000 синаптических связей с другими нейронами. На фундаментальном физиологическом уровне память – это сеть связанных между собой нейронов{11}. Каждое чувство, которое мы помним, каждая наша мысль меняют наш мозг путем изменения связей внутри этой огромной сети. К тому времени, как вы добрались до конца этого предложения, ваш мозг уже успел физически измениться.
Если слово «кофе» вызывает у вас мысли о черном цвете, завтраке или горечи – это потому, что электрические импульсы последовательно проносятся по реальным физическим маршрутам у вас в голове и в результате нейроны, кодирующие понятие «кофе», оказываются связаны с другими нейронами, имеющими отношение к «черноте», «завтраку» и «горечи». Все это ученые знают. Но вот как скопление клеток может «хранить» память – остается сложнейшей загадкой неврологии.
Как ни продвинулась наука за последние тысячелетия, увидеть воспоминание в человеческом мозгу по-прежнему невозможно. Новые технологии формирования и обработки изображений позволили неврологам исследовать большую часть поверхности мозга, а изучение нейронов дало представление о том, что происходит внутри мозговых клеток и между ними. Но наука все еще остается в относительном неведении о том, что происходит в коре головного мозга – морщинистом верхнем слое мозга, который позволяет нам строить планы на будущее, делить в столбик и писать стихи и в котором хранятся все наши воспоминания. Если говорить о том, насколько хорошо мы изучили мозг, то мы – как пассажиры самолета, разглядывающие оставшийся далеко внизу город. Мы можем отличить промышленные районы от жилых, увидеть аэропорт и основные автотрассы, догадаться, где начинается пригород. Еще мы знаем в мельчайших подробностях, как выглядят жители этого города (в данном случае нейроны). Но в целом мы понятия не имеем, где эти люди утоляют голод, чем они зарабатывают на жизнь и куда и откуда держит путь каждый отдельный человек. Мозг понятен, когда на него смотришь вблизи и издалека. Все, что между этим, – мысли и память, язык мозга – остается полнейшей загадкой.
Ясно одно: нелинейная ассоциативная природа нашего мозга делает совершенно невозможным сознательное извлечение из памяти воспоминаний в надлежащем порядке. Воспоминание выплывает на поверхность, только если его хорошо подтолкнуть какой-либо другой мыслью или хотя бы смутным ощущением – другим узлом в почти бесконечной паутине взаимосвязей. Так что, когда нужное воспоминание пропадает или имя крутится на самом кончике языка, но никак не вспоминается, поиск может стать долгим и зачастую тщетным. Нам приходится толкаться в темноте с фонариком, выискивая подсказки, которые могут привести нас к нужной информации. «Ее имя начинается с "Л"… она художница… мы познакомились на вечеринке пару лет назад…» – пока одно из этих других воспоминаний не подстегнет то, которое мы ищем. «Ах да, ее зовут Лиза!» Из-за того, что наша память не следует законам линейной логики, мы не можем ни последовательно искать информацию, ни просматривать ее.
Но Ш. мог. Воспоминания Ш. были так же строго упорядочены, как карточки в каталоге. Каждый отрезок информации, которую он запоминал, отправлялся в его память по определенному адресу.
Предположим, я попросил вас запомнить следующую последовательность слов: «медведь», «грузовик», «колледж», «ботинок», «драма», «мусор» и «арбуз». Вполне возможно, что вам удастся вспомнить все семь этих слов, но едва ли вы запомните их порядок. Но у Ш. все происходило иначе. Для него первый кусочек информации в списке был непременно связан со вторым, за которым мог идти только третий. Не важно, запоминал ли он «Божественную комедию» Данте или математическую формулу, – его воспоминания всегда выстраивались в линейную цепочку. Вот почему он мог с одинаковой легкостью читать наизусть стихи и с начала, и с конца.
Ш. тщательно организовывал хранившиеся в его голове воспоминания, нанося их на карту мест, которые он уже хорошо знал. «Когда Ш. прочитывал длинный ряд слов, каждое из этих слов вызывало наглядный образ, но слов было много, и Ш. должен был "расставлять" эти образы в целый ряд, – писал Лурия. – Чаще всего… он "расставлял" эти образы по какой-нибудь дороге. Иногда это была улица».
Когда Ш. хотелось что-то запомнить, он просто совершал мысленную прогулку по улице Горького в Москве, вокруг своего дома в Торжке или в любом другом месте, где он когда-либо бывал. Во время такой прогулки он помещал образы в разных точках вдоль маршрута. Первый образ мог оказаться в дверях дома, второй – у уличного фонаря, третий – на заборе, четвертый – в саду, пятый – в витрине магазина. Все это происходило в сознании журналиста без всяких усилий с его стороны, как будто он размещал реальные предметы на реальной улице. Если бы Ш. попросили запомнить те же семь слов – «медведь», «грузовик», «колледж», «ботинок», «драма», «мусор» и «арбуз», он вызвал бы в памяти связанные с ними воспоминания и разместил бы их вдоль воображаемой дороги.
Если же Ш. хотел вспомнить эту информацию днем, месяцем, годом или десятилетием позже, ему требовалось всего лишь мысленно пройтись по тому маршруту, где хранились эти воспоминания, и он видел все те же изображения на тех же местах, где он их оставил. Если же Ш. что-то забывал, что случалось крайне редко, «ключ к его ошибкам лежал в психологии восприятия, а не в психологии памяти», писал Лурия. Однажды Ш. забыл слово «карандаш» в длинном списке слов, которые ему нужно было запомнить. Вот как он это объяснил: «Я поставил "карандаш" около ограды – вы знаете эту ограду на улице, – и вот карандаш слился с этой оградой, и я прошел мимо него…» В другой раз он забыл слово «яйцо». «Оно было поставлено на фоне белой стены и слилось с ней. Как я мог разглядеть белое яйцо на фоне белой стены?»
Память Ш. была чудовищем, без разбора поглощавшим все, что ему скармливали, и Ш. не различал, какая информация заслуживает быть сохраненной, а какая нет. Самой большой проблемой для Ш. было то, что Лурия назвал «искусством забывать». К несчастью Ш., яркие образы, порождаемые каждым из его ощущений, никуда не девались. Он пробовал разные техники, чтобы стереть из памяти ненужные воспоминания. Пытался записывать информацию, чтобы избавиться от необходимости ее запоминать, а когда это не помогло, попытался сжечь листы, но видел цифры на обуглившейся бумаге. Но однажды к нему пришло прозрение. Одним вечером, когда особенно надоедливая таблица совсем его допекла, он обнаружил секрет забывания. Все, что для этого требовалось, – убедить себя, что информация, которую он силится забыть, не нужна. «Если я не хочу, значит, она [таблица] не появляется… Значит, нужно было просто это осознать!» – воскликнул Ш.
Кто-то может решить, что память, подобная пылесосу, сделала Ш. выдающимся журналистом. Думаю, что, научись я учитывать любые сведения, не записывая их, и получи мгновенный доступ ко всей информации, которую когда-либо усвоил, я бы стал гуру в своей профессии. Стал бы гуру во всем.
Но в профессиональном плане Ш. был неудачником. В газете он долго не продержался, потому как был неспособен к постоянной работе. Он был, по словам Лурии, «каким-то неустроенным человеком, ожидающим, что вот-вот с ним случится что-то хорошее». В конце концов, его состояние не оставило ему ничего, кроме сцены, сделав театральной диковинкой наподобие мнемоника из «Тридцати девяти ступеней» Альфреда Хичкока. Человек с лучшей в мире памятью попросту помнил слишком многое.
В рассказе Хорхе Луиса Борхеса «Фунес памятливый» действует вымышленный персонаж, человек типа Ш., обладающий совершенной памятью и страдающий от неумения забывать. Герой Борхеса Фунес не может отличить важное от ненужного, не в состоянии расставлять приоритеты или обобщать. «Общие, отвлеченные идеи» совершенно не для него. Его память, так же как и память Ш., была слишком хороша. Возможно, заключил Борхес, способность именно забывать, а не запоминать делает нас людьми. Чтобы понимать, что происходит в мире, нужно уметь фильтровать информацию.
«Мыслить, – писал Борхес, – значит забывать».
Хотя способность Ш. удерживать в памяти огромные объемы информации кажется совершенно невероятной, он, по сути, просто пользовался хорошо развитой пространственной памятью, которая есть у каждого из нас. Если вы окажетесь в Лондоне, рано или поздно натолкнетесь на юношей (и реже девушек) на скутерах, разъезжающих туда-сюда и постоянно сверяющихся с картами, прикрепленными к рулю. Эти люди учатся на таксистов. Чтобы получить аккредитацию от Лондонского управления общественного транспорта, им нужно потратить от двух до четырех лет, запоминая расположение и особенности дорожного движения на всех 25 000 улицах огромного и ужасно запутанного города, а также местонахождение 1400 достопримечательностей. Обучение завершается труднейшим экзаменом под названием «знание», когда потенциальные таксисты должны не только найти кратчайший путь между двумя указанными точками, но еще и назвать все знаменитые места, встречающиеся по пути. И только трое из десяти, сдающих экзамен по «знанию», получают сертификат.
В 2000 г. Элеонор Магуайер (невролог из Университетского колледжа Лондона), захотела выяснить, какой эффект оказывает на мозг таксистов езда по лабиринту улиц Лондона и есть ли этот эффект вообще. Изучив с помощью магнитно-резонансного томографа мозг 16 водителей, она сделала одно удивительное и важное открытие. Правая задняя часть гиппокампа – часть мозга, отвечающая за ориентацию в пространстве, – у таксистов оказалась на 7 % крупнее, чем у обычных людей. Разница небольшая, но очень важная. Магуайер заключила, что постоянный поиск правильного маршрута на улицах Лондона физически изменил структуру их мозга{12}. Чем больше времени водитель провел на дороге, тем ярче был выражен этот эффект.
Мозг – орган, который подвержен мутации; он в определенных пределах способен перестраиваться и адаптироваться к новым видам сенсорных входных сигналов. Этот феномен называется нейропластичностью. Раньше считалось, что мозг взрослого человека не способен производить новые нейроны – что в то время, как усвоение новой информации сопряжено с реорганизацией синапсов[13] и формированием новых связей между клетками мозга, основная структура мозга остается более-менее статичной. Эксперимент Магуайер позволил предположить, что это представление просто-напросто ошибочно.
Завершив изучение мозга лондонских таксистов, Магуайер решила обратить внимание на интеллектуальных спортсменов. Она объединилась с Элизабет Валентайн и Джоном Уайлдингом (авторами научной монографии «Превосходная память»), чтобы провести эксперимент с десятью спортсменами, занявшими призовые места на мировом чемпионате по запоминанию. Ученые хотели проверить, не является ли мозг спортсменов-интеллектуалов (как мозг лондонских таксистов) структурно отличным от мозга обычных людей или же мнемоники попросту лучше используют данные всем нам способности.
Исследователи поместили интеллектуальных спортсменов и контрольных испытуемых внутрь магнитно-резонансных томографов и попросили запомнить трехзначные число, черно-белые фотографии людей и увеличенные изображения снежинок за то время, пока прибор будет сканировать их мозг. Магуайер и ее команда считали вполне возможным обнаружить анатомические отличия мозга чемпиона – доказательства того, что в процессе интенсивного запоминания мозг меняется.
Но, изучив полученные результаты, исследователи не обнаружили ни одного значительного структурного отличия{13}. Мозг мнемоника никак не отличался от мозга людей из контрольной группы. Более того, выполняя тесты на когнитивные способности, интеллектуальные спортсмены всякий раз показывали результаты, лежащие в пределах нормы. Чемпионы по запоминанию не были умнее и не обладали особой структурой мозга. Так что, когда Эд и Лукас сказали, что они самые обычные парни с самой обычной памятью, они вовсе не скромничали.
Впрочем, одно многозначительное различие между мозгом мнемоника и мозгом члена контрольной группы существовало. Когда ученые стали смотреть, какие части мозга работали в процессе запоминания, они обнаружили, что те зоны мозга, которые у контрольных испытуемых были практически неактивны, у интеллектуальных спортсменов работали с повышенной нагрузкой.
Как ни странно, в процессе запоминания новой информации интеллектуальные спортсмены задействовали те зоны мозга, которые отвечают за зрительную память и ориентацию в пространстве, включая тот участок, которым активно пользовались лондонские таксисты. На первый взгляд это кажется бессмыслицей{14}. Зачем интеллектуальным спортсменам создавать в уме некий образ, когда они запоминали трехзначное число? Зачем им ориентация в пространстве, как лондонским таксистам, если они должны запомнить форму снежинки?
Магуайер и команда попросили интеллектуальных спортсменов описать, что именно происходит в их головах, когда они запоминают. В ответ спортсмены рассказали о процессах, практически повторяющих те, что, по словам Ш., происходили в его мозгу. Хоть мнемоники и не страдали синестезией, как Ш., они сознательно переводили информацию, которую требовалось запомнить, в образы и размещали получившиеся картинки вдоль воображаемого знакомого маршрута. У них это происходило не так, как в случае Ш.: не автоматически и не благодаря врожденному таланту, взлелеянному с детства. Наоборот, неожиданная активность некоторых частей мозга, засвидетельствованная магнитно-резонансной томографией, оказалась итогом тренировок и практики. Интеллектуальные спортсмены научили себя запоминать так же хорошо, как это делал Ш.
Я вдруг понял, что совершенно пленен Эдом и его молчаливым другом Лукасом с их невероятной идеей развивать свою память как можно усерднее и до всех возможных пределов. А их точно так же увлек я – почти ровесник, а также журналист, который может написать о них статью в каком-нибудь заумном журнале и (не исключено) положить начало их карьере звездных мнемоников. После лекции в школе Эд и Лукас пригласили меня в близлежащий бар, где мы познакомились с начинающим режиссером и старым школьным приятелем Эда. Он следовал за Эдом и Лукасом по Нью-Йорку с видеокамерой наперевес, запечатлевая все их шалости, включая попытку Лукаса запомнить последовательность карт в колоде за 53 секунды, в течение которых поднимался лифт на обзорную площадку Эмпайр-Стейт-Билдинг. («Мы хотели проверить, окажется ли самый скоростной лифт более быстрым, чем австрийский чемпион по скоростному запоминанию карт, – с невозмутимым видом объяснил Эд. – Оказалось, нет».)
После того как мы расправились с несколькими напитками, Эд решил погрузить меня в причудливый мир интеллектуальных спортсменов. Он предложил познакомить меня с ритуалами KL7, «тайного общества мнемоников», которое они с Лукасом основали на чемпионате в Куала-Лумпуре 2003 г. и которое, очевидно, вовсе не было тайным.
– КЛ – это сокращение от Куала-Лумпур? – спросил я.
– Нет, это «Рыцари запоминания»[14]. А семь потому, что вначале нас было семеро, – объяснил Лукас, потягивая бесплатное пиво, которое он, запомнив колоду карт, выиграл у официантки. – Это международное сообщество, посвященное развитию образования.
– Членство в нашем клубе очень престижно, – добавил Эд.
Несмотря на то что на банковском счету Лукаса лежат $1000 пожертвований в адрес клуба, Эд признался, что пока деятельность KL7 ограничилась тем, что все члены собирались после чемпионатов по запоминанию и напивались (периодически используя изобретенное Лукасом хитроумное приспособление, которое облегчало розлив пива из кега и умещалось в чемодане). Когда я попытался выудить у Эда другие сведения, он предложил продемонстрировать единственный и излюбленный обряд клуба.
– Назовем это сатанинским ритуалом, – сказал Эд и попросил Джонни, их оператора, включить таймер на наручных часах. – У каждого из нас есть ровно пять минут, чтобы выпить две бутылки пива, поцеловать трех женщин и запомнить 49 случайных цифр. Почему 49? Это семь в квадрате.
– Я с удивлением обнаружил, что это реально трудно, – признался Лукас. Он был одет в блестящий темно-серый костюм и еще более блестящий галстук и без проблем уговорил официантку, которую успел покорить, трижды поцеловать его в щеку.
– Технически плохо, но засчитано, – объявил Эд, при этом по его подбородку стекала тоненькая струйка пива. Он вынул из кармана лист бумаги с напечатанными на нем цифрами и разорвал его на несколько частей. Провел пальцем по обрывку бумаги, пока не добрался до 49-й цифры, вскочил, неразборчиво произнес: «Почти все!» – и захромал к ближайшему столику, где попытался объяснить свою проблему трем седоволосым женщинам, которые в силу своего возраста, казалось, были недовольны шумной обстановкой в баре. Пять минут истекали, и прежде чем дамы поняли, о чем их просят, Эд перегнулся через столик и коснулся губами их впалых раскрасневшихся щек.
Эд вернулся как победитель и был встречен приветственными жестами и возгласами «браво!». И тут же заказал еще по напитку для каждого.
Я не знал, что думать об Эде. Как мне постепенно открывалось, он был эстет – в том смысле, которое придавал этому слову Оскар Уайльд. Более чем кто-либо другой из моих знакомых Эд относился к жизни как к искусству, и ему было свойственно сознательное, тщательно обдуманное легкомыслие. Его представление о «достойном внимания» имело мало общего с любым принятым в обществе представлением о «полезном», и его жизнью управляло лишь одно призвание: принимать участие во всем, что могло бы увеличить капитал. Эд был типичным бонвиваном, однако к теме своей докторской диссертации – взаимосвязь между памятью и восприятием – относился крайне серьезно, что предполагало, что он намерен добиться существенных успехов. Он не был красив в привычном смысле, но позже той же ночью я наблюдал, как он подходит к женщинам на улице, чтобы попросить сигарету, а пару минут спустя возвращается, уже запомнив их номер телефона. Его «обычный барный трюк», рассказал он, заключался в том, чтобы быстро подойти к молодой девушке, предложить ей выдумать «номер любой длины» и пообещать бутылку шампанского, если ему удастся его запомнить.
Тем вечером Эд услаждал меня показательными историями из своей жизни. Однажды в Новой Зеландии он босиком впрыгнул в окно бара, чтобы обмануть вышибалу. В другой раз посетил без приглашения вечеринку супермоделей. («Тогда это было проще: я перемещался в инвалидном кресле и умело этим пользовался».) Потом он заявился на прием в английское посольство в Париже. («Я видел, как посол шел по моим грязным следам через всю комнату».) И как он мог забыть о тех 12 часах, что он провел, попрошайничая, дабы собрать денег на билет на автобус в пригороде Лос-Анджелеса?
К рассказам нового знакомого, мифологизирующего свою жизнь, я поначалу отнесся с порядочной долей скептицизма, но лишь потому, что в то время я еще недостаточно знал Эда и не понимал, что, рассказывая о своем вызывающем поступке, он может что-то не договаривать. Мы выпили еще по паре напитков, и тут до меня дошло, что, хотя я и провел с Эдом и Лукасом уже порядочно времени, ни один из них не обращался ко мне по имени, которое я им назвал в нашу первую встречу. В присутствии официанток Эд говорил обо мне как о «нашем приятеле-журналисте», а Лукас попросту не обращался ко мне напрямую. Все эти увертки были мне хорошо знакомы.
Но Эд ранее утверждал, что способен запомнить имя и номер каждой девушки, с которой встречался. Я счел это весьма полезным талантом, который мог очень помочь в жизни. Билл Клинтон, говорят, не забывает ни одного имени, и посмотрите, куда это его привело! Но сейчас я заподозрил, что слово «способен» в устах Эда звучит несколько сомнительно и, вероятно, относится к той же серии, что и «он мог досчитать от миллиона до нуля» – то есть «О да, мог бы, если бы очень захотел». Я спросил Эда, помнит ли он мое имя.
– Конечно. Джош.
– А фамилию?
– Черт! А ты мне ее называл?
– Называл. Фоер. Джош Фоер. Все же ничто человеческое тебе не чуждо.
– Да уж…
– Я считал, что у вас должна быть какая-то хитроумная техника, чтобы не забывать имена.
– Теоретически она есть. Но на практике все зависит от того, сколько я выпью.
Эд рассказал, какую тактику применял, чтобы запомнить имя на соревнованиях, где требовалось запомнить имена и фамилии людей, изображенных на 99 портретных фотографиях. Эту технику, пообещал он, я смогу применять, чтобы сохранять в памяти имена людей, которых встречу на собраниях и вечеринках.
«Все на самом деле очень просто, – сказал Эд. – Главное – ассоциировать звучание имени человека с чем-то, что ты легко можешь себе представить. Смысл в том, чтобы создать в уме такой яркий образ, который соединит твою визуальную память о лице человека с визуальным воспоминанием, связанным со звучанием его имени. Если тебе понадобится вспомнить это имя чуть позже, выдуманный тобой образ сам всплывет в памяти… Так, ты сказал, тебя зовут Джош Фоер, да? – Эд выгнул бровь и мелодраматично потер подбородок. – Ага, я представил, как ты подшучиваешь[15] надо мной в нашу первую встречу, а я в ответ разделяюсь на четыре[16] части. Шутка – Джош, четверка – Фоер. Понимаешь? Все сразу становится куда интереснее и запоминается намного лучше». Этот метод, как я понял, был искусственной синестезией.
Чтобы понять, почему этот мнемонический трюк работает, вам стоит ознакомиться с одной странной разновидностью забывчивости, названной психологами «парадоксом Бейкера/пекаря[17]»{15}. Выглядит это так: исследователь показывает один и тот же портрет мужчины двум людям и одному испытуемому говорит, что на снимке пекарь, а другому – человек по фамилии Бейкер. Через несколько дней экспериментатор показывает тем же двум людям ту же фотографию и спрашивает о связанном с ней слове. Тот, кому говорили, что изображен пекарь, вспоминает это намного чаще, чем тот, кому называли фамилию. Почему же так? Одно и то же слово. Но одно забывается, а другое – нет.
Когда вы слышите, что мужчина на портрете – пекарь, этот факт внедряется в существующую у вас в голове целую сеть идей о том, что значит быть пекарем: этот человек печет хлеб, носит большой белый колпак и вкусно пахнет, когда возвращается домой с работы. Фамилия же Бейкер вспоминается лишь потому, что вы помните лицо человека. Эта связь непрочна и быстро разрушится, а имя отправится в мир утерянных воспоминаний. (Когда слово крутится на кончике языка, это, скорее всего, обусловлено тем, что мы имеем доступ не ко всей нейронной сети, «содержащей» идею, а лишь к ее части.) Но когда речь заходит о профессии, множественные нити вытянут это воспоминание, вернув его к жизни. Даже если вы не помните поначалу, что мужчина был пекарем, все равно вокруг него будет виться хлебный дух, или вам покажется, что его лицо как-то связано с белым колпаком, или вы вдруг вспомните о булочной по соседству. Очень многие узлы в этом переплетении ассоциаций могут привести к воспоминанию о профессии мужчины. Секрет успешного выступления на соревнованиях по запоминанию в дисциплине «имена и фамилии» – и запоминания имен и фамилий в реальной жизни – обращать Бейкеров в пекарей или Фоеров в четверки. Или Рейганов в лучевые пистолеты[18]. Просто, но эффективно.
Я попытался воспользоваться этой техникой, чтобы запомнить имя оператора, следовавшего с камерой за Эдом и Лукасом всю эту неделю. Он представился Джонни Лаундесом.
– Мы зовем его Паундс[19] -Лаундес, – встрял Эд. – В школе он был верзилой.
В детстве у моего старшего брата было прозвище Джонни, поэтому я закрыл глаза и представил их вместе, рука к руке, пожирающими фунтовый кекс[20].
– Знаешь, мы тебя можем и другим приемам научить, – сказал Эд и, полный воодушевления, посмотрел на Лукаса. – Я вот тут думаю, сможем ли мы добиться того, чтобы он победил на чемпионате Америки?
– Сдается мне, что вы невысоко цените американцев, – сказал я.
– Как раз наоборот. Просто у них не было правильного тренера, – ответил Эд, снова оборачиваясь ко мне. – Полагаю, ты сможешь выиграть чемпионат следующего года, если будешь тренироваться по часу в день. – Он взглянул на Лукаса. – Так?
Лукас кивнул.
– И Тони Бьюзен так думает, – сообщил я.
– О да, многоуважаемый Тони Бьюзен, – фыркнул Эд. – Он и тебе пытался впарить идею, что мозг – это мышца?
– М-м… да.
– Любой, кому известны свойства мозга и мышц, знает, что это сравнение попросту смехотворно, – эта фраза стала первым намеком на сложные и запутанные взаимоотношения Эда и Бьюзена. – На самом деле тебе очень нужен я в роли тренера, наставника, менеджера… и духовного проводника.
– А ты что с этого получишь? – спросил я.
– Удовольствие, – с улыбкой ответил Эд. – А еще, раз уж ты журналист, я бы не отказался, чтобы, когда ты будешь описывать свой опыт изучения мнемотехник, умудрился дать понять, что я тот самый человек, которому любой может доверить тренировать свою дочь в Хэмптонсе[21], скажем, за целую кучу денег в час.
Я рассмеялся и пообещал подумать. Честно говоря, меня не увлекала идея тратить по часу в сутки, разглядывая игральные карты, запоминая страницы случайных чисел или делая всю ту умственную гимнастику, которая требовалась для превращения в «интеллектуального спортсмена». Я никогда не отрицал, что являюсь ботаном – я был капитаном школьной команды, участвовавшей в викторинах, и долгое время носил часы-калькулятор, – но такие тренировки – это чересчур даже для меня.
Но все же мне было любопытно узнать о возможностях собственной памяти, да и Эд меня заинтриговал, так что я рассмотрел его предложение.
Все интеллектуальные спортсмены, которых я встречал, утверждали, что любой способен улучшить свою память – что способности Ш. есть в каждом из нас. Я решил проверить, так ли это. Той ночью, вернувшись домой, я обнаружил в почте короткое письмо от Эда: «Так что, я буду твоим тренером?»
Глава 3 Эксперт по экспертам
Хотя родиться курицей – и так весьма сомнительное удовольствие, еще хуже родиться петухом. С точки зрения птичника, петухи бесполезны. У них жилистое мясо, они не могут откладывать яйца и агрессивны по отношению к курам, на которых ложится весь тяжкий труд по обеспечению нас пищей{16}. Профессиональные птичники относятся к петухам как к обрезкам ткани или металлолому, бесполезному, но обязательно присутствующему при любом производстве, побочному продукту. Поскольку зачастую петухи могут объесть всех других обитателей птичника, важно избавиться от них как можно быстрее. Но здесь возникала проблема, которая была сопряжена с большими затратами и которая в течение многих столетий мучила птицеводов: невозможно определить пол цыпленка до тех пор, пока ему не исполнится от четырех до шести недель, когда у цыплят начинают появляться характерные перья и такие вторичные половые признаки, как гребешок. С виду они все одинаковы – комочки пуха, которые нужно кормить и обихаживать, что недешево.
Это оставалось проблемой вплоть до 1920-х гг., когда нашлось ее решение. Группа японских ветеринаров сделала важнейшее открытие: под хвостом цыпленка находится комбинация из складок, отметин, пятен и шишечек, которые обычному человеку кажутся случайными, но при должном прочтении могут сообщить специалисту пол однодневного цыпленка. После того как об этом открытии рассказали на Всемирной конференции птицеводов в 1927 г. в Оттаве, оно произвело революцию в индустрии и в итоге снизило цены на яйца по всему миру. Профессиональные определители пола цыплят, вооруженные навыком, на оттачивание которого уходят многие годы, стали одними из самых ценных сотрудников в агропромышленности. Лучшими из лучших были выпускники школы «Дзен-Ниппон», специализирующейся на подготовке специалистов по определению пола цыплят, – стандарты обучения там были такими жесткими, что только 5–10 % студентов получали аккредитацию. Но те, кому удавалось окончить эту школу, получали не менее $500 в день и, подобно лучшим бизнес-консультантам, летали по миру от птицефермы к птицеферме. Так диаспора японских определителей пола цыплят рассеялась по всему миру.
Определение пола цыпленка – тонкое искусство, требующее сосредоточенности дзен-буддиста и ловкости рук нейрохирурга. Птицу зажимают в левой руке и осторожно стискивают, чтобы птенец опорожнил кишечник (если сжать слишком сильно, то все кишки цыпленка вылезут наружу, после чего птенец погибнет, а его пол станет уже не важным). Большим и указательным пальцем определитель пола переворачивает цыпленка и раскрывает крошечный клапан, за которым скрывается отверстие клоаки – узкого выводного отверстия, где размещены гениталии и анус. Чтобы сделать это надлежащими образом, ногти должны быть тщательно подстрижены. В простых случаях – тех, которые определитель пола может объяснить, – он высматривает так называемую «мушку», размером с булавочную головку. Если мушка выпуклая, то птенец – мальчик и отправляется налево, а если вогнутая или плоская – то это девочка и помещается с правой стороны. Это простые случаи. На деле доказано, что новички могут научиться определять «мушку» всего после нескольких минут тренировок. Но в 80 % случаев форма «мушки» неявная и нет ни одной отличительной черты, на которую определитель пола мог бы сослаться.
По некоторым подсчетам, существует не меньше тысячи различных типов конфигурации клоаки, которые определителю пола необходимо помнить, чтобы считаться компетентным. Задача усложняется еще и тем, что установить пол цыпленка нужно с первого взгляда: на тщательное обдумывание попросту нет времени. Если специалист помедлит хотя бы пару секунд, то, сжимая птенца, он рискует привести к тому, что клоака птенца-девочки опухнет и станет похожа на выводное отверстие птенца-мальчика. Ошибка стоит дорого. В 1960 г. одна птицеферма платила определителям пола по пенни за каждого верно определенного цыпленка и вычитала по 35 центов за каждую ошибку. Лучшие в своем деле могли установить пол 1200 цыплят за час с точностью 98–99 %. А в Японии пара передовиков производства научились работать обеими руками и выявлять пол двух цыплят одновременно, доведя результаты до 1700 птенцов в час.
Что делает определение пола цыплят такой интересной темой – и объясняет, почему философы-теоретики и когнитивные психологи написали по этому вопросу так много диссертаций и почему я натолкнулся на этот, весьма специфический навык в процессе исследования памяти, – это то, что даже лучшие профессиональные определители пола не могут рассказать, каким образом они определяют пол цыпленка в особенно сложных случаях. Их мастерство непостижимо. Спустя три секунды они уже «знают», является ли птенец мальчиком или девочкой, но не могут объяснить, откуда пришло это знание. Даже при помощи тщательнейшего перекрестного опроса, учиненного исследователями, они не сумели перечислить признаки, по которым один цыпленок будет считаться мальчиком, а другой – девочкой. Они утверждают, что это просто интуиция. По сути, профессиональный определитель пола цыпленка воспринимает мир – по крайней мере мир цыплячьих внутренностей – совершенно иначе, нежели мы с вами. Когда они смотрят под хвост цыпленка, они видят то, что нормальному человеку недоступно.
Так что же определение пола цыплят имеет общего с моей памятью? Все.
Я решил, что хорошо бы было нырнуть, а на деле шлепнуться животом в научную литературу. Я хотел обнаружить серьезные доказательства того, что Бьюзен и интеллектуальные спортсмены не ошибаются, говоря, что наша память может существенно улучшаться. Искать долго не пришлось. Пока я пропахивал специальные книги, одно имя то и дело всплывало: К. Андерс Эрикссон. Он был профессором психологии в Университете Флориды и автором статьи «Люди с выдающейся памятью – приобретенной, а не врожденной»{17}.
До того как Тони Бьюзен привнес на мировой рынок идею об «использовании нашей совершенной памяти», Эрикссон подвел научную основу под то, что известно как теория искусной памяти, объяснив, как и почему наша память может улучшиться. В 1981 г. он и его коллега Билл Чейз провели ставший впоследствии классическим эксперимент, объект которого, студент последнего курса Университета Карнеги – Меллона (Питсбург, штат Пенсильвания), теперь известен всему миру под инициалами S.F.
Чейз и Эрикссон заплатили S.F., чтобы тот проводил в их лаборатории несколько часов в неделю, снова и снова выполняя несложный тест на запоминание. Задания в тесте были похожи на те, что Ш. выполнял для Лурии. S.F. садился и пытался запомнить как можно больше чисел, которые зачитывались по одному в секунду. Поначалу испытуемый мог удержать в голове не больше семи цифр. Но к тому времени, как эксперимент завершился (то есть два года, или двести пятьдесят мучительных часов спустя), S.F. стал запоминать в десять раз больше цифр. Этот эксперимент рассеял старые заблуждения, что возможности памяти фиксированы. Эрикссон верил: путь, приведший S.F. к такому результату, – ключ к пониманию базового когнитивного процесса, лежащего в основе всех специальных умений, которыми в своей профессиональной деятельности пользуются самые разные люди – от интеллектуальных спортсменов до шахматных гроссмейстеров и определителей пола цыплят.
У каждого из нас есть хорошая память на что-то. Мы уже знаем о памятливых лондонских таксистах, и есть множество научных публикаций о «выдающейся памяти» официантов, необычайных способностях актеров к запоминанию своей роли и прочих талантах, присущих экспертам в разных областях знаний. Исследователи изучили выдающуюся память докторов, бейсбольных фанатов, виолончелистов, футболистов, игроков в крикет, танцоров балета, математиков, любителей кроссвордов, поклонников волейбола{18}. Возьмите любое занятие, в котором люди добиваются успехов, и, уверяю вас, вы непременно найдете научную работу, написанную каким-нибудь психологом о замечательной памяти, свойственной экспертам в данной области.
Так почему же профессиональным официантам не приходится записывать заказы? По какой причине лучшие виолончелисты мира так легко запоминают ноты? Как так получается, что, по данным одного исследования, элитному футболисту достаточно взглянуть на телевизионную запись футбольного матча, чтобы быстро воссоздать почти все, что произошло в игре до этого момента? Казалось бы, вот как все это можно объяснить: людей, хорошо запоминающих, какие блюда другие люди заказывают на обед, манит ресторанная индустрия; футболисты с самой лучшей памятью на расположение игроков на поле просто обязаны пробиться в премьер-лигу, а люди, знающие толк в цыплячьих задницах, сами собой притягиваются в школу «Дзен-Ниппон». Но это кажется маловероятным. Куда правильнее было бы думать, что все происходит наоборот. В процессе овладевания профессиональным мастерством есть нечто, что взращивает хорошую профессиональную память. Но что такое это нечто? И можно ли его раскрыть всем и сделать доступным каждому?
В лабораторию человеческих возможностей, которой Эрикссон руководит вместе с группой других исследователей из Университета Флориды, приходят эксперты, чтобы протестировать свою память – и не только память. Эрикссон, наверное, ведущий мировой эксперт по экспертам. Действительно, за прошедшие годы он приобрел некоторую известность благодаря своим исследованиям, показавшим, что экспертам требуется как минимум 10 000 часов подготовки, чтобы стать профессионалами мирового класса. Когда я позвонил Эрикссону и сообщил, что подумываю развить собственную память, Эрикссон спросил, начал ли я уже тренироваться. Я ответил, что пока нет. Он был в восторге: ему почти никогда не доводилось изучать процесс превращения новичка в эксперта. Эрикссон сказал, что, если я настроен серьезно, он хотел бы сделать меня объектом исследования. Он тут же пригласил меня во Флориду на пару дней, чтобы провести тестирование. Ему хотелось узнать базовые характеристики моей памяти до того, как я начну ее улучшать.
Лаборатория человеческих возможностей расположилась в шикарном офисном здании в пригороде Таллахасси. На книжных полках вдоль стен – эклектичная коллекция трудов, тематически связанных с исследованиями Эрикссона: «Темперамент музыканта», «Хирургия стопы», «Как быть звездой на работе», «Секреты современных шахмат», «Все о беге», «Профессиональный определитель пола цыплят».
Дэвид Родрик, молодой ассистент лаборатории, весело назвал свое место работы «нашим игрушечным домиком». Я приехал через пару недель после первого звонка Эрикссону и увидел установленный в одной из комнат экран от пола до потолка размером девять на четырнадцать футов. На экране демонстрировалась видеозапись: машина (изображение в натуральную величину) останавливается для полицейской проверки, причем ситуация выглядела так, как ее видит офицер, приближающийся к остановившейся машине.
Предыдущие несколько недель Эрикссон и коллеги приглашали в лабораторию представителей полицейского спецназа города Таллахасси и выпускников полицейской академии. Их ставили перед экраном, а в портупеях у них находились зараженные холостыми патронами пистолеты Beretta. Ученые наблюдали, как полицейские реагируют на пугающие сценарии, разыгрывавшиеся на экране. В одном эпизоде офицер видел пред собой человека, который направлялся к входу в школу с подозрительной бугром под одеждой, словно там была бомба. Исследователей интересовало, как офицеры с разным уровнем подготовки отреагируют на данную ситуацию.
Результаты были поразительны. Опытные спецназовцы незамедлительно выхватывали оружие и выкрикивали подозреваемому приказы остановиться. Если же тот не подчинялся, они непременно расстреливали его до того, как он достигал школы. Но недавние выпускники чаще всего позволяли мужчине подняться по ступеням и зайти в здание. Им попросту не хватало опыта, чтобы должным образом оценить ситуацию и отреагировать. Таким было бы поверхностное объяснение. Но что же именно значит опыт? Что именно видели старшие офицеры такого, что было недоступно младшим? Как они управляли своим зрением, что происходило в их голове и почему они воспринимали ситуацию иначе? Какие воспоминания они вытаскивали из своей памяти? Так же как и профессиональные определители пола цыплят, старшие офицеры спецназа имели навык, который сложно было описать словами. Коротко говоря, исследовательская программа Эрикссона представляла собой попытку обособить то, что мы зовем профессиональным опытом, с целью создать условия, позволяющие его препарировать и определить его когнитивную основу.
Чтобы добиться этого, Эрикссон и его коллеги попросили офицеров произносить вслух все, что приходило в голову по мере развития ситуации. Эрикссон ожидал увидеть то же, с чем сталкивался во всех случаях с представителями иных профессий, которые ему доводилось изучать: эксперты видят мир иначе. Они отмечают то, что неэксперты не видят. Эксперты фокусируют внимание на той информации, что действительно важна, и почти безотчетно чувствуют, что с ней нужно делать. И, что существеннее, эксперты обрабатывают огромные объемы информации, поступающей на все их органы чувств, более сложным способом. Они способны преодолеть самое фундаментальное ограничение нашего разума: магическое число семь.
В 1956 г. психолог из Гарварда Джордж Миллер опубликовал статью, которая впоследствии стала вехой в истории исследования памяти. Начиналась она важным вступлением:
«Проблема моя в том, что меня преследует целое число. Семь лет эта цифра следует за мной по пятам, врывается в мои самые личные записи, набрасывается на меня со страниц наших самых известных журналов. Цифра эта принимает различные формы, иногда становясь чуть больше, а иногда чуть меньше обычного, но никогда не меняется до неузнаваемости. Постоянство, с которым это число травит меня, говорит о том, что ситуация моя не случайна. Есть, как говорил один известный сенатор, умысел, система, регулирующая его появления. Или в этом числе действительно есть нечто необычное, или же у меня развилась мания преследования».
На самом деле всех нас преследует то же самое целое число, которое мучило Миллера. Его статья озаглавлена «Магическое число семь плюс-минус два: пределы нашей памяти». Миллер обнаружил, что наша способность воспринимать информацию и принимать решения ограничена: мы можем думать не более чем о семи вещах разом.
Когда новые мысли или ощущения возникают в нашей голове, они не сразу отправляются в долговременную память. Сначала они содержится во временном хранилище, известном как кратковременная память, – то есть в тех отделах мозга, где хранится то, что в настоящий момент крутится у нас в голове.
Не заглядывая в начало и не перечитывая, попытайтесь повторить первые четыре слова этого предложения.
Не заглядывая в начало.
Это довольно легко.
Теперь, не перечитывая, попытайтесь повторить первые четыре слова предложения, стоящего перед предыдущим. Вы поймете, что это куда труднее, потому что предложение уже исчезло из вашей кратковременной памяти.
Кратковременная память играет важную роль фильтра между нашим восприятием мира и нашей долговременной памятью. Если бы каждая мысль или каждое ощущение немедленно отправлялись в гигантскую базу данных, которой является наша долговременная память, мы бы, как Ш. и Фунес, утонули в потоке незначительной информации. Большая часть проходящей через наш мозг информации не стоит запоминания на период более длительный, чем тот, который необходим для ее обработки и, если придется, реакции на нее. На самом деле разделение памяти на кратко– и долговременную – настолько целесообразный подход к упорядочению информацию, что большинство компьютеров устроено именно по этому принципу. У них есть долговременная память в виде жесткого диска и сверхоперативная память в центральном процессоре, где хранится все, что процессор обрабатывает в настоящий момент.
Как и компьютер, в своих возможностях функционировать в окружающем мире мы ограничены тем количеством информации, которое можем хранить в настоящий момент. Если мы не повторяем одну и ту же информацию раз за разом, она может забыться. Все знают, что наша кратковременная память никуда не годится. Статья Миллера объяснила, что никуда не годится она в рамках вполне конкретных параметров. Некоторые люди могут одновременно удержать в голове пять объектов, некоторые – девять, но «магическое число семь» – это, похоже, универсальная вместимость нашей кратковременной памяти. Что хуже, эти семь объектов хранятся лишь пару секунд или могут не сохраниться вообще, если мы недостаточно сосредоточены на них. Это базовое ограничение, которое есть у всех нас, как раз и делает искусство корифеев запоминания таким удивительным явлением.
Мою собственную память в Лаборатории человеческих возможностей проверяли не перед экраном от пола до потолка. Не потребовалось ни пистолета, пристегнутого к ремню, ни надетого на голову устройства, отслеживающего направление взгляда. Свой скромный вклад в науку я вносил в комнате № 218 кафедры психологии Университета Флориды – маленьком офисе без окон с запятнанным ковром и старыми IQ-тестами, разбросанными по полу. Только великодушие мешает описать эту комнату как кладовку.
Тестированием руководил студент третьего курса аспирантуры Трес Роринг. Трес вырос в Оклахоме, в семье нефтяника, хотя, глядя на его шлепанцы и светлые, как у серфера, волосы, я верил в это с трудом. В 16 лет он стал чемпионом штата по шахматам. Его полное имя было Рой Роринг Третий – отсюда и пошло «Трес».
Мы с Тресом провели три полных дня в комнате № 218, проводя тест за тестом: я – с громоздкими подсоединенными к старому магнитофону наушниками с микрофоном, а Трес, сидевший позади меня скрестив ноги и делая пометки, – с секундомером на коленях.
Мы проверили мою память на последовательности чисел (в прямом и обратном порядке), на слова, на лица людей и на всякие разные вещи, не очень-то имевшие отношение к запоминанию, – например, способен ли я мысленно представить себе вращающиеся кубики и знаю ли, что такое «гривуазный», «гуттаперчевый» и «воркотун». Другое испытание, называвшееся «набор тестов для многосторонней оценки информированности», должно было оценить мою общую эрудицию с помощью вопросов (и вариантов ответа) вроде:
В какое время жил Конфуций?
а) 1650 г. н. э.
б) 1200 г. н. э.
в) 500 г. н. э.
г) 500 г. до н. э.
д) 40 г. до н. э.
или
Основное назначение карбюратора в двигателе внутреннего сгорания?
а) Смешивать бензин с воздухом.
б) Сохранять заряд аккумулятора.
в) Воспламенять топливо.
г) Служить вместилищем для поршней.
д) Закачивать топливо в двигатель.
Многие из тестов были взяты непосредственно с чемпионата Соединенных Штатов по запоминанию: пятнадцатиминутное стихотворение, сопоставление имен и лиц, случайно выбранные слова, скоростное запоминание последовательности цифр и карт. Трес хотел посмотреть, как я справлюсь с ними до того, как начну улучшать память. Еще он хотел проверить мои возможности в нескольких дисциплинах – двоичных числах, исторических датах и числах на слух, – соревнования по которым включены только в международные состязания. К концу трех дней, проведенных мною в Таллахасси, у Треса скопилось аудиозаписей на семь часов, и все это он передал для анализа Эрикссону и его аспирантам. Повезло ребятам!
Затем были интервью, проводимые другой аспиранткой, Кейти Нандагопал. Как вы думаете, у вас хорошая природная память? (Неплохая, но ничего особенного.) Играли ли вы в игры, связанные с запоминанием, в детстве? (Не припоминаю.) В настольные игры? (Только с бабушкой.) Вам нравятся загадки? (А кому нет?) Вы можете собрать кубик Рубика? (Нет.) Вы поете? (Только под душем.) Танцуете? (Аналогично.) Делаете зарядку? (Болезненная тема.) Пользуетесь видео с упражнениями? (А вам точно нужно это знать?) Есть ли у вас опыт прокладки электропроводов? (Вы что, серьезно?)
Оказалось, что быть объектом научного исследования весьма непросто, если ты намереваешься рассказать о нем другим людям, и поэтому тебе нужно точно знать, что с тобой делают.
– Зачем мы это делаем? – спрашивал я Треса.
– Я бы предпочел сейчас этого не говорить. (Если бы ему пришлось протестировать какую-нибудь из моих способностей позже – и, как оказалось, ему пришлось, – он не хотел, чтобы я заранее знал.)
– Как мои результаты в прошлом тесте?
– Мы расскажем, когда закончим.
– Ну, может, ты мне хоть предположительно скажешь?
– Не сейчас.
– Какой у меня IQ?
– Не знаю.
– Ну высокий хотя бы?
Утомительный тест, который S.F. выполнял снова и снова – 250 часов в течение двух лет, – известен как тест под названием «Повторение чисел». Это стандартная процедура для измерения объемов кратковременной памяти на числа. Большинство людей, проходящих это тестирование, вначале показывают такие же результаты, как показал S.F.: они способны запомнить семь плюс-минус два числа. В основном они запоминали эти семь плюс-минус два числа путем постоянного повторения их для себя в «фонологической петле», что всего лишь научное обозначение тоненького голоска, который мы слышим в своей голове, когда разговариваем сами с собой. Фонологическая петля действует как эхо, создавая буфер оперативной памяти, где звук, если мы его не повторяем, сохраняется на несколько секунд. Начав участвовать в эксперименте Чейза и Эрикссона, S.F. тоже использовал для сохранения информации свою фонологическую петлю. Поэтому очень долгое время его результаты не улучшались. Но затем что-то произошло. Спустя многие часы тестирования тестовые оценки S.F. стали подниматься. В один день он запомнил десять чисел. На следующий день их было уже 11. Количество чисел, которые он мог запомнить, продолжало медленно расти. S.F. произвел открытие: хотя его кратковременная память была ограниченной, он мог переправлять информацию непосредственно в долговременную память. Для этого применялась техника, называемая чанкингом[22], или фрагментацией.
Чанкинг – это способ, позволяющий уменьшить количество запоминаемых объектов, увеличив размеры каждого из них. Он причина того, что номера кредитных карт делят на четыре фрагмента, а телефонные номера – это несколько частей плюс код города. И конечно, чанкинг имеет самое непосредственное отношение к тому, почему у экспертов такая хорошая память.
Чтобы объяснить, как действует принцип разделения на фрагменты, традиционно обращаются к языковым реалиям. Допустим, вас попросили запомнить слово из 23 букв ГОЛОВАПЛЕЧИКОЛЕНИСТУПНИ. Если не обратите внимания на то, как оно пишется, запомнить вам будет непросто. Но разбейте эти двадцать три буквы на четыре куска – ГОЛОВА, ПЛЕЧИ, КОЛЕНИ и СТУПНИ[23] – и задача станет намного легче. А если вы знаете весь этот стишок, строчка «Голова, плечи, колени и ступни» может легко восприниматься как один фрагмент. То же и с цифрами. Строка из двенадцати цифр 120741091101 трудна для запоминания. Но разделите ее на четыре части – 120, 741, 091, 101 – и станет куда проще. Разбейте на два фрагмента части – 12/07/41 и 09/11/01 – и забыть ее станет практически невозможно. Вы можете даже слить их в один общий кусок информации, запомнив его как «два крупнейших неожиданных нападения на американскую территорию».
Обратите внимание, что в процессе чанкинга информация, кажущаяся бессмысленной, интерпретируется в свете того, что уже отложено в нашей долговременной памяти. Если вы не знаете дату нападения на Перл-Харбор или «11 сентября» вам ничего не говорит, вам никогда не удастся разделить эту цифровую последовательность на две части. Если вы говорите на суахили, а не на английском, считалочка останется для вас группой букв. Другими словами, когда речь заходит о фрагментации – и о нашей памяти, если взять шире, – то, что мы знаем, определяет то, что мы способны выучить.
S.F., которого никто никогда не учил технике фрагментации, додумался до нее сам. Заядлый бегун, он стал думать о последовательностях случайно выбранных цифр как о результатах забегов. К примеру, 3492 превращалось в «3 минуты 49,2 секунды, почти рекордное время для дистанции в милю». 4131 становилось «4 минуты 13,1 секунды, бег на милю». S.F. ничего не понимал в цифрах, которые его просили запомнить, но разбирался в беге. Он осознал, что может брать бессмысленную информацию, прогонять ее через фильтр, где у нее появится смысл, и делать таким образом более запоминающейся. Он использовал свой прошлый опыт для того, чтобы придать форму своему восприятию настоящего. S.F. применял ассоциации, уже хранящиеся в его долговременной памяти, чтобы видеть числа иначе.
Так, конечно, поступают все специалисты своего дела. Они используют память, чтобы смотреть на мир иными глазами. За долгие годы они создают хранилище собственного опыта, базу данных, которая накладывает отпечаток на то, как они воспринимают новую информацию. Опытный офицер спецназа видит не просто мужчину, направляющегося к школе: он видит нервное подергивание его рук, которое вызывает в памяти дюжины других таких же подергиваний, увиденных им за долгие годы службы. Он видит подозреваемого в контексте всех остальных случаев с подозрительными людьми, с которыми он когда-либо сталкивался. Он воспринимает происходящее в свете прошлых подобных ситуаций.
Когда выпускник школы «Дзен-Ниппон» смотрит цыпленку под хвост, тщательно отработанные навыки позволяют определителю пола быстро и автоматически собрать всю хранящуюся в памяти информацию о цыплячьей анатомии, и, прежде чем осознанная мысль успеет сформироваться в голове, определитель пола уже будет знать, девочка ли цыпленок или мальчик. Но в случае со старшим офицером спецназа этот кажущийся автоматизм вырабатывается с трудом. Говорят, что студенту школы определителей пола необходимо идентифицировать 250 000 цыплят, чтобы достичь определенного уровня. То, что специалист называет «интуицией», на деле – годы опыта. Не что иное, как огромное количество цыплячьих попок в базе данных памяти позволяет распознавать узоры в клоаке с первого взгляда. В большинстве случаев, навык срабатывает не в результате старательного обдумывания, а вследствие узнавания знакомых узоров. Все дело в памяти и восприятии, а не в рассуждениях.
Классическим примером того, как память влияет на профессиональное восприятие, является область, которая, казалось бы, меньше других зависит от интуиции, – шахматы.
Современные шахматы возникли в XV в., и с тех самых пор они считаются самым эффективным способом тестирования познавательных способностей. В 1920 г. группа российских ученых взялась выявить интеллектуальное превосходство восьми лучших шахматистов мира, предложив им выполнить набор основных тестов на способности к познанию и восприятию. К своему удивлению, исследователи обнаружили, что результаты гроссмейстеров не были значительно выше среднего. В интеллектуальном плане величайшие шахматисты мира, как оказалось, ни в чем особенно не превосходили обычных людей.
Но если гроссмейстеры в целом не умнее, чем менее знаменитые шахматисты, то в чем же их отличие? В 1940 г. голландский психолог и страстный любитель шахмат Адриан де Грот задался, казалось бы, простым вопросом: что отличает просто хорошего шахматиста от того, кто способен выйти на мировой уровень? Видят ли лучшие игроки больше ходов наперед? Больше ли возможных ходов просчитывают? Есть ли у них особые способности, позволяющие эффективнее анализировать эти ходы? Или просто у них лучше работает интуиция?
Одна из причин, по которой шахматы интересны и для игры, и для изучения, – в том, что на любой ход дилетанта мастер может ответить совершенно непредсказуемым ходом. Чаще всего лучшие ходы кажутся совершенно нелогичными. Осознав это, де Грот внимательно изучил матчи между гроссмейстерами и выбрал такие моменты в игре, когда определенно существовало одно правильное, но неочевидное решение. Затем он показал эти позиции группе международных гроссмейстеров и лучшим клубным игрокам. Он попросил их размышлять вслух, пока они ищут правильный ход.
То, что открылось де Гроту, было еще большей неожиданностью, чем открытие его русских предшественников. В основном гроссмейстеры просчитывали – по крайней мере сначала – отнюдь не больше ходов, чем их менее успешные коллеги. И количество предугаданных ими возможных ходов тоже не слишком отличалось от среднего показателя. Скорее, они удивительным образом действовали в том же ключе, что определители пола цыплят: практически сразу видели правильный ход.
Казалось, что гроссмейстеры не думают, а просто реагируют. Прослушав их устные отчеты, де Грот заметил, что эксперты описывали свои мысли не так, как другие игроки. Они изъяснялись иным языком, например, говорили о «структурах пешек» и сразу же распознавали угрожающие позиции – например, уязвимую ладью. Эксперты видели на доске не просто 32 фигуры. Они видели группы фигур и системы их взаимодействия.
Гроссмейстеры видят буквально иную доску. Изучая движение глаз шахматистов, ученые выяснили, что более успешные спортсмены смотрят на края доски гораздо чаще, чем неопытные игроки, что позволяло предположить, что первые одновременно получают информацию с многих участков доски. И те и другие переводили взгляд с одной фигуры на другую, но гроссмейстеры делали это чаще, и фигуры в их случаях находились на большем расстоянии друг от друга. Гроссмейстеры фокусировали внимание на немногих различных участках доски, которые чаще всего позволяли найти верный ход.
Но самым поразительным открытием этих ранних исследований было то, что гроссмейстеры обладали удивительной памятью. Они были способны запомнить положение фигур на всей доске, бросив на нее лишь беглый взгляд. И они могли воссоздать в памяти давнишние игры. В дальнейших исследованиях было доказано, что способность запоминать позиции на доске – главный показатель того, насколько сильным игроком может стать тот или иной шахматист. И эти позиции не просто запечатлеваются в кратковременной памяти. Гроссмейстеры помнили расположение фигур в матче спустя часы, недели и даже годы после его завершения. На некотором этапе тренировок запоминание позиций на доске становилось таким обыденным занятием для гроссмейстеров, что они могли держать в голове игры с несколькими соперниками разом{19}.
Но при поразительной профессиональной памяти гроссмейстеров их память на все остальное оказалась, мягко скажем, не впечатляющей. Когда им показывали фигуры, расположенные на доске случайно, так, как никогда не бывает в реальной игре, их память была лишь чуть лучше памяти новичков. Выдающиеся шахматисты редко запоминали расположение более чем семи фигур. Тех же самых фигур, на той же самой доске. Так почему же их память внезапно ограничивало магическое число семь?
Эксперимент с шахматами открыл правду о памяти и о профессиональном опыте в целом: мы не помним разрозненные факты, мы помним вещи в контексте. Доска со случайно расположенными на ней фигурами не имела никакого контекста – не было похожих досок, чтобы сравнить их, предыдущих игр, о которых она бы напоминала, никаких способов придать ей смысл. Даже для лучших шахматистов она была, по сути, пустым звуком.
Помните, как пару страниц назад мы использовали знание исторических дат для того, чтобы разделить на фрагменты и запомнить двенадцатизначное число? Точно так же гроссмейстеры делят на фрагменты доску, используя огромный резерв позиций, хранящихся у них в долговременной памяти. Источник особого мастерства гроссмейстера попросту в том, что у него в памяти имеется больше информации, способствующей распознаванию таких фрагментов. Вот почему настолько редки случаи, когда кто-то достиг мирового уровня в шахматах – или в любой другой области – без долгих лет практики. Даже Бобби Фишер, величайший шахматист всех времен, играл в течение девяти лет, прежде чем стал гроссмейстером в пятнадцатилетнем возрасте.
Вопреки традиционному мнению о том, что игра в шахматы – интеллектуальное занятие, основанное на анализе, множество важнейших решений принимается мастером после беглого взгляда на доску. Точно так же, как определитель пола цыпленка смотрит на птенца и видит, какого тот пола, и так же, как офицер спецназа моментально замечает бомбу, гроссмейстер смотрит на доску и попросту видит лучший ход. Весь процесс занимает около пяти секунд, и можно наблюдать, как он происходит в мозгу. С помощью магнитоэнцефалографии, применяемой для измерения слабых магнитных полей, создаваемых мозгом, исследователи обнаружили, что опытные шахматисты, когда смотрят на доску, чаще всего задействуют переднюю и теменную области мозга, что свидетельствует о том, что они извлекают информацию из долговременной памяти. Менее опытные игроки чаще задействовали срединные височные доли мозга, а значит, они кодировали новую информацию. Глядя на расположение фигур на доске, мастера вспоминают аналогичные позиции из прошлых игр, новички же видят что-то новое.
Хотя шахматы и кажутся банальным предметом исследования для психолога – в конце концов, это всего лишь игра, – де Грот верил, что исходя из результатов его экспериментов с гроссмейстерами можно сделать далекоидущие выводы. Он утверждал, что профессиональное мастерство «сапожника, художника, строителя [или] кондитера» есть результат того же накопления «эмпирических знаний». Согласно Эрикссону то, что мы называем мастерством, на деле всего лишь «большое количество знаний, всплывающих в памяти в аналогичных ситуациях, и механизмы планирования, сформировавшиеся за долгие годы работы в данной области». Другими словами, хорошая память – это не побочный продукт профессионализма. Это его суть.
Сознаем мы это или нет, но все мы, как гроссмейстеры и определители пола цыплят, воспринимаем настоящее в свете наших прошлых знаний и позволяем предыдущему опыту влиять не только на то, как мы видим мир, но и на то, как мы действуем внутри него.
Слишком часто мы говорим о нашей памяти как о банке, куда мы помещаем новую информацию, когда она к нам поступает, и откуда извлекаем старую информацию, когда она нам нужна. Но эта метафора не отражает того, как по-настоящему работает наша память. Наши воспоминания всегда с нами, меняя нас и меняясь благодаря информации, в бесконечном цикле поступающей к нашим органам чувств. Все, что мы видим, слышим и чувствуем, воспринимается нами в свете того, что мы видели, слышали и чувствовали в прошлом.
То, кем мы являемся и как поступаем, основывается на том, что мы помним, – и это происходит непостижимым, как определение пола цыпленка, и сложным, как установление диагноза, образом. Но если наше восприятие мира и поступки обусловлены актом вспоминания, что можно сказать об Эде и Лукасе и других интеллектуальных спортсменах, с которыми я познакомился? Как эта предположительно «легкая» техника под названием «дворец памяти» снабжает их профессиональной памятью, притом что они не являются профессионалами ни в какой области?
Даже если бы Эрикссон и его аспиранты не показали мне результаты тестов, на которые я убил три дня, я бы все равно имел представление о том, на каком уровне находятся мои базовые способности, поскольку я сделал достаточно много записей о ходе тестирования. Я смог запомнить девять чисел (выше среднего, но ничего необычного), едва был в состоянии запомнить стихотворение, и я понятия не имел, в какие годы жил Конфуций (хотя знал, зачем нужен карбюратор). Когда я вернулся из Таллахасси, во входящих меня ожидало письмо от Эда:
«Приветствую моего звездного ученика! Я знаю, что ты старался не налегать на тренировки, пока ребята из Флориды не проверят твои способности. Это здорово – для науки. Но чемпионат не за горами, так что тебе пора начинать готовиться. Вот напутствие от меня: пора уже настроиться на тяжелую работу – и научиться наслаждаться ею».
Глава 4 Самый забывчивый человек в мире
Повстречавшись с обладателями лучшей памяти в мире, я решил, что моим следующим шагом должна стать попытка найти обладателя худшей. Разве есть более подходящий способ начать понимать природу и значение человеческой памяти, чем исследовать ее отсутствие? Я снова загрузил Google и начал поиски рекордсмена забывчивости, антипода Бена Придмора. В Journal of Neuroscience я раскопал статью о восьмидесятичетырехлетнем лаборанте по имени E.P., чья память удерживала лишь его самые недавние мысли{20}. Это был один из наиболее тяжелых задокументированных случаев амнезии.
Пару недель спустя после возвращения из Таллахасси я позвонил Ларри Сквайру, неврологу и исследователю памяти, работавшему в университетах Калифорнии и Сан-Диего, а также в Медицинском центре ветеранов Сан-Диего.
Сквайр изучал E.P. более десяти лет. Он согласился, чтобы я сопровождал его во время очередного визита в одноэтажный дом в пригороде Сан-Диего, где E.P. проживал с женой. Мы отправились туда вместе с координатором исследований в лаборатории Сквайра Джен Франсино, которая часто навещала E.P., чтобы протестировать его восприятие. И хотя Франсино была у E.P. в гостях больше двух сотен раз, он всякий раз встречал ее как совершенную незнакомку.
В E.P. шесть футов[24] росту, его седые волосы разделены идеальным пробором, а уши необычно длинны. Он общителен, дружелюбен и обходителен. Много смеется. Поначалу он производит впечатление обычного доброго дедушки. Франсино, блондинка спортивного телосложения, сидит со мной и Сквайром напротив E.P. за обеденным столом и задает серию вопросов, которые призваны оценить общую эрудицию и интеллект E.P. Франсино спрашивает, на каком континенте находится Бразилия, сколько недель в году, температуру кипения воды. Она хочет продемонстрировать то, что уже показали множественные тесты: E.P. осознает, как устроен мир. Его коэффициент интеллекта 103, и кратковременная память не повреждена. Он терпеливо отвечает на вопросы – на все верно – с таким же выражением недоумения на лице, какое было бы и у меня, если бы какой-то незнакомец пришел ко мне домой и настоятельно выспрашивал, знаю ли я температуру кипения воды.
– Что стоит сделать, если вы находите на улице конверт, запечатанный, с надписанным адресом и наклеенной маркой? – спрашивает Франсино.
– Само собой, положить в почтовый ящик. Еще? – E.P. усмехается и бросает на меня косой взгляд, словно бы говоря: «Они что, идиотом меня считают?» Но, чувствуя, что в данной ситуации лучше быть вежливым, он вновь оборачивается к Франсино со словами: – Интересные у вас вопросы. Очень интересные, – и он понятия не имеет, что слышал их уже много раз.
– Зачем мы готовим еду?
– Потому что она сырая? – на слове «сырая» тон его голоса меняется, и удивление уступает место сомнению.
Я спрашиваю E.P., знает ли он имя нашего президента.
– Боюсь, оно выскочило из головы. Странно.
– А имя Билл Клинтон звучит знакомо?
– Конечно! Я знаю Клинтона. Он мой старый приятель, ученый, отличный парень. Я с ним работал одно время. – Он замечает, как расширяются мои глаза в недоверии, и осекается: «Разве что есть еще какой-то Клинтон, которого вы имеете в виду…»
– Ну, знаете, нашего предыдущего президента тоже звали Билл Клинтон.
– Он был президентом! Ух ты! – E.P. хлопает себя по коленке и смеется, но он ничуточки не обескуражен.
– Какого президента вы помните?
Какое-то время E.P. размышляет.
– Так-так. Был такой Франклин Рузвельт…
– А о Джоне Кеннеди вы слышали?
– Кеннеди? Нет, боюсь, с ним я незнаком.
Франсино вмешивается в наш разговор с очередным вопросом.
– Зачем мы учим историю?
– Само собой, чтобы знать, что происходило в прошлом.
– А зачем нам знать, что происходило в прошлом?
– Потому что это интересно.
В ноябре 1992 г. E.P. слег, казалось бы, с обычной простудой. Пять дней он провел в постели с температурой, безразличный ко всему миру и не представлявший, что что-то идет не так, а в это время в его голове коварный вирус, известный как простой герпес, прогрызал себе дорогу через мозг, как червяк сквозь яблоко. К тому времени, как вирус успокоился, два кусочка срединных височных долей мозга E.P. размером с грецкий орех пропали, забрав с собой большую часть памяти больного.
Вирус ударил по мозгу E.P. с пугающей точностью. Срединные височные доли – по одной слева и справа – вместе с гиппокампом и частью прилегающих к нему зон отвечают за магический процесс трансформации наших ощущений в долгосрочные воспоминания. Воспоминания на самом деле располагаются не в гиппокампе, а на морщинистом внешнем слое головного мозга, неокортексе – но область гиппокампа отвечает за их сохранение. Гиппокамп E.P. был разрушен, и без него мужчина стал как видеокамера без кассеты – видит, но не записывает.
У E.P. два вида амнезии: антероградная, что значит, что он не может формировать новые воспоминания, и ретроградная, которая не позволяет ему обращаться к старым воспоминаниям – по крайней мере к тому, что произошло после 1950-го. Но детство, служба в торговом флоте, Вторая мировая война – все это идеально четко в его памяти. Однако он думает, что бензин стоит четвертак за галлон, а нога человека никогда не ступала на поверхность Луны.
Хотя амнезия держится у E.P. уже 15 лет и его состояние не улучшается и не ухудшается, Сквайр и его команда надеются многое от него узнать. Случай, подобный этому, когда природа ставит жестокий, но идеальный эксперимент, – огромная удача для науки. Множество фундаментальных вопросов в этой области до сих пор не имеют ответов, и в распоряжении ученых неограниченное количество способов тестировать ум E.P. И правда, в мире совсем немного таких индивидуумов, у которых оба гиппокампа и ключевые прилегающие области были бы так аккуратно отключены, а остальные части мозга оставались не затронутыми болезнью. Другой тяжелый случай амнезии наблюдался у Клайва Уэринга, бывшего музыкального продюсера BBC, заболевшего герпетическим энцефалитом в 1985 г. Подобно мозгу E.P., его мозг стал похож на решето. Каждый раз, когда он приветствует свою жену, он делает это так, будто не видел ее 20 лет. Он оставляет ей отчаянные сообщения на автоответчике с просьбами забрать его из дома престарелых, где он живет. Еще он ведет подробный дневник, который дает представление об его ежедневных мучениях. Но даже дневнику он не верит, поскольку, как и все предметы в его жизни, дневник кажется ему совершенно незнакомым. Каждый раз, когда он его открывает, Клайв словно встречается с собственным прошлым. Большинство записей в дневнике выглядят так:
8:31. Сейчас я совершенно, полностью проснулся.
9:06. Сейчас я идеально, абсолютно проснулся.
9:34. Сейчас я в высшей степени, реально проснулся.
Эти вычеркнутые записи позволяют предположить, что он осознает свое положение. А вот E.P., к своему счастью, наверное, не понимает, что с ним происходит. Сидя за столом, Сквайр спрашивает E.P., как его память работает в эти дни.
– Работает… Трудно сказать, хорошо или плохо.
E.P. носит металлический медицинский браслет на левом запястье. Хотя его предназначение очевидно, я все равно спрашиваю у E.P., что это. Тот поворачивает руку и будничным тоном читает надпись.
– М-м. Тут написано «потеря памяти».
E.P. даже не помнит, что у него проблема с памятью. Каждый раз он обнаруживает это заново. И поскольку он забывает, что всегда что-то забывает, любая потерянная мысль кажется всего лишь случайностью – досадным недоразумением, как это было бы для меня или для вас.
– В его представлении, с ним все в порядке. Слава Богу, – чуть позже говорит мне его жена, Беверли, когда E.P., пересевший на диван, не может нас слышать. – Я думаю, он подозревает, что что-то не так, но эта тема никогда не всплывает в разговорах или в быту. Хотя глубоко внутри он должен знать. Просто должен.
Когда я слышу эти слова, меня вдруг обжигает понимание того, что потеряны были не только воспоминания. Теперь даже жена E.P. не может присутствовать в его мыслях и чувствах. Не то чтобы у него не было мыслей и чувств. Иногда они есть. Когда E.P. сообщали о рождении внуков, его глаза увлажнялись – а затем он быстро забывал об их существовании. Не имея возможности сравнивать сегодняшние эмоции со вчерашними, он не способен составить хоть сколь бы то ни было связного рассказа о себе и людях, его окружающих, и это приводит к тому, что он не способен оказать психологическую помощь своей семье и друзьям. Ведь E.P. остается заинтересованным в ком-то или в чем-то лишь до тех пор, пока он не отвлечется. Любая случайная мысль перенаправляет его внимание и перезагружает весь разговор. А любые серьезные отношения между людьми не могут существовать только в настоящем времени.
После болезни E.P. вселенная существует для него лишь там, где он может ее видеть. Весь его социум сводится к людям в комнате. Он живет в узком луче света, окруженный тьмой. Обычно утром E.P. встает, завтракает и возвращается в постель слушать радио. Но оказавшись в кровати, он задумывается: а позавтракал ли он или только что проснулся. Частенько E.P. завтракает снова, а затем возвращается послушать радио. Иногда он завтракает по три раза. Он смотрит телевизор, и время от времени ему очень интересно, но смотреть передачи с четким разделением на начало, середину и окончание ему сложно. E.P. предпочитает канал History или передачи о Второй мировой войне. Он гуляет по окрестностям, чаще всего по нескольку раз до обеда, иногда даже по 45 минут. Сидит в саду. Читает газету, что, должно быть, для него равнозначно путешествию в машине времени. Ирак? Интернет? К тому времени, как E.P. добирается до конца заголовка статьи, он уже забывает начало. Чаще всего, прочитав прогноз погоды на сегодня, E.P. просто рисует в газете, подрисовывая усы людям на фотографиях. Когда ему на глаза попадаются цены на дома в разделе недвижимости, он непременно выражает свое изумление.
Не имея памяти, E.P. совершенно выпал из общего течения времени. У него нет общего потока сознания, лишь случайные капли, которые быстро испаряются. Если вы снимете часы с его руки – или, что еще более жестоко, переставите время, – он совершенно потеряется. Запертый в бесконечном настоящем, между прошлым, которого он не может вспомнить, и будущим, о котором не способен подумать, E.P. живет вялотекущей жизнью, совершенно свободный от забот. «Он все время счастлив. Очень счастлив. Думаю, это потому, что у него не бывает стрессов в жизни», – говорит его дочь Кэрол, живущая по соседству. Со своей хронической забывчивостью E.P. достиг состояния патологической нирваны, извращенной версии буддистского идеала жизни лишь в настоящем.
– Сколько вам лет? – спрашивает его Сквайр.
– Давайте прикинем, 59 или 60… Да уж, вы меня подловили, – произносит E.P., задумчиво приподнимая брови, будто он подсчитывает, а не гадает. – Моя память не так уж совершенна. Она довольно хорошая, просто иногда люди задают вопросы, которые мне не понятны. Уверен, и у вас так бывает.
– Бывает, – мягко соглашается Сквайр, хотя E.P. пропустил уже почти четверть века.
Если бы не было времени, не существовало бы необходимости в памяти. Но не будь памяти, существовало ли бы такое понятие, как время? Я не имею в виду время как его понимают, скажем, физики: четвертое измерение, независимая переменная, величина, которая сжимается, когда вы достигаете скорости света. Я имею в виду психологическое время, ритм, в котором мы проходим наш жизненный путь. Время как часть внутреннего мира. Наблюдая за мучительными попытками E.P. вспомнить собственный возраст, я мысленно вернулся в день знакомства с Эдом Куком на чемпионате Соединенных Штатов по запоминанию, когда он рассказывал о своих исследованиях в Парижском университете.
– Я пытаюсь расширить рамки своего субъективного времени, поэтому кажется, что я живу дольше, – с сигаретой в зубах бормотал Эд, стоя на тротуаре у главного здания Con Edison. – Вся фишка в том, чтобы избавиться от ощущения, которое часто бывает в конце года: "Не может быть, чтобы 12 месяцев так быстро пролетели!"»
– И как этого добиться? – спросил я.
– Нужно просто больше запоминать. Наполнять жизнь хронологическими вехами. Яснее сознавать течение времени.
Я сказал, что этот план напомнил мне одного из героев книги Джозефа Хеллера «Поправка-22» – пилота Данбэра, утверждавшего, что, раз время пролетает незаметно тогда, когда весело его проводишь, самый верный путь продлить жизнь – сделать ее как можно скучнее.
Эд пожал плечами.
– На самом деле все как раз наоборот. Чем больше в нашей жизни воспоминаний, тем медленнее течет время.
Наше субъективное восприятие времени очень важно. Все мы знаем, что дни могут тянуться как недели, а месяцы как годы. Верно и обратное: месяц или год могут пролететь так, что вы этого даже не заметите.
Воспоминания структурируют нашу жизнь. Событие X произошло перед долгожданным отпуском в Париже. Я участвовал в Y в первое лето после того, как научился водить. Событие Z случилось на неделе, когда я устроился на свою первую работу. Мы запоминаем события, мысленно размещая их во времени относительно других событий. Точно так же, как мы аккумулируем воспоминания о фактах в единой сетевой структуре, мы накапливаем жизненные опыты, помещая их в хронологическую сеть вместе с другими воспоминаниями. Чем плотнее эта сеть, тем насыщеннее и наше жизненное время.
Эту точку зрения отлично проиллюстрировал французский хронобиолог (он изучал взаимосвязи между временем и живыми организмами) Мишель Сифр, поставивший самый необычный в истории науки эксперимент над самим собой. В 1962 г. Сифр прожил два месяца в подземной пещере в полной изоляции, без часов, календаря и солнца. Укладываясь спать и принимая пищу лишь тогда, когда его организм требовал этого, он рассчитывал понять, как существование «вне времени» повлияет на естественные биоритмы человека.
Память Сифра резко ухудшилась. В мрачной темноте его дни сливались один с другим, превращаясь во всеобъемлюший сплошной сгусток времени. Поскольку было не с кем поговорить и нечем заняться, никакой новой информации в память не поступало. Не было хронологических меток, которыми экспериментатор мог бы отмерять течение времени. На определенной стадии он стал неспособен вспомнить, что происходило вчера. Изоляция превратила его в подобие E.P. Когда время начало размываться, у Сифра развилась амнезия. Очень скоро режим сна разрушился. В некоторые дни ученый мог бодрствовать 36 часов кряду, в другие же только восемь – и не мог отличить одно от другого. Когда команда поддержки наконец связалась с ним 14 сентября, в день предполагаемого окончания эксперимента, в дневнике Сифра стояла дата 20 августа. Он полагал, что прошел только месяц. Его ощущение времени сжалось почти в два раза.
Монотонность убивает время, новизна же позволяет ему раскрыться. Вы можете ежедневно делать зарядку, питаться здоровой пищей и прожить долгую жизнь, но ощутить ее лишь как короткую. Если вы проводите жизнь, сидя в крошечной комнатке и раздавая бумажки, один день обязательно перетечет в другой – и в конечном итоге исчезнет. Вот почему так важно менять устоявшиеся привычки, ездить в отпуск в экзотические места и получать так много нового опыта, как это только возможно, чтобы все это служило якорями для наших воспоминаний. Создание нового воспоминания растягивает психологическое время и удлиняет нашу жизнь.
В 1890 г. Уильям Джеймс первым написал в Principles Of Psychology о любопытных деформациях и сокращении психологического времени.
«В юности мы можем получить совершенно новый опыт, объективный или субъективный, в каждый час каждого дня. Восприятие еще ярко, способность удерживать ощущения еще сильна, и наши воспоминания о юности подобны воспоминаниям о насыщенном и увлекательном путешествии: многогранные, разнообразные и длительные, – писал он. – Но каждый следующий год превращает некоторые из этих опытов в отработанную до автоматизма рутину, которую мы едва замечаем, дни и недели сливаются в нашей памяти в бессодержательное целое, и годы становятся пустыми и безрадостными». Жизнь ускоряется, когда мы стареем, потому что с годами перестает быть такой запоминающейся. «Если помнить значит быть человеком, то помнить больше значит быть большим человеком», – сказал Эд.
Возможно, в стремлении Эда сделать жизнь максимально запоминающейся есть что-то питерпэновское, но из всех вещей, коллекционированием которых увлекаются люди, воспоминания не самая бесполезная. Есть в этом даже что-то подозрительно рациональное. Существует старая философская загадка, которую часто обсуждают на вводных занятиях по философии. В XIX в. медики задались вопросом: действительно ли анестетик, который они применяют, усыпляет пациентов, а не просто замораживает мышцы и стирает все воспоминания об операции? А если это и так, можно ли сказать, что доктора совершали ошибку? Если какой-либо опыт не сохранился в памяти, можно ли о нем – так же, как о пресловутом падении дерева в безлюдном лесу[25], – сказать, что он действительно имел место? Сократ полагал, что неисследованная жизнь не стоит того, чтобы ее проживать. А стоит ли этого жизнь, которую не помнят?
Многое из того, что науке известно о памяти, было получено в результате исследований повреждения мозга, удивительным образом походившего на поражения мозга E.P. Принадлежал этот мозг страдавшему амнезией Генри Молейсону, который прожил большую часть жизни в доме престарелых в Коннектикуте и умер в 2008 г. В научной литературе Молейсон известен под инициалами H.M. (Имена пациентов в медицинских трудах всегда сокращаются до инициалов, чтобы обеспечить анонимность. Имя H.M. было раскрыто только после его смерти.) Ребенком H.M. страдал от эпилепсии, начавшейся после неудачного падения с велосипеда в 9 лет. К 27 годам его сознание отключалось по нескольку раз в неделю, и молодой человек был неспособен к какой-либо деятельности. Нейрохирург Уильям Сковил решил попробовать облегчить состояние H.M. при помощи экспериментальной операции, в ходе которой должна была быть удалена та часть мозга, которая предположительно вызывала проблемы.
В 1953 г., когда H.M. в сознании – применялась анестезия кожи головы – лежал на операционном столе, Сковил просверлил пару отверстий над глазами пациента. Маленькой металлической ложечкой хирург приподнял переднюю часть мозга H.M. и высосал металлической соломинкой большую часть гиппокампа наряду с большей частью срединной височной доли. Операция снизила частоту приступов H.M., но у нее был трагический побочный эффект: вскоре стало ясно, что H.M. также лишился памяти.
На протяжении следующих пяти десятилетий H.M. был объектом бесчисленных экспериментов и стал самым изучаемым пациентом в истории науки о мозге. Учитывая жуткий исход операции, проведенной Сковилом, все предполагали, что возможности изучать подобное нарушение больше не представится.
Но случай E.P. показал, что они ошибались. То, что Сковил сотворил с H.M. посредством металлической соломинки, природа проделала с E.P. при помощи простого герпеса. Положенные рядом, их черно-белые результаты магнитно-резонансной томографии мозга выглядели пугающе одинаково, хотя повреждения в мозгу E.P. были немного обширнее. Даже если вы не представляете, как должен выглядеть нормальный мозг, две зияющие симметричные дыры уставятся на вас как пара мрачных глаз.
H.M., как и E.P., был способен удерживать воспоминания в голове, только пока думал о них. Стоило его мозгу переключиться на что-то еще, воспоминания исчезали навсегда. В одном известном эксперименте, проведенном канадским неврологом Брендой Милнер, H.M. попросили запомнить число 584 на как можно более длительный период. Пока выполнял эту просьбу, он размышлял вслух:
«Все просто. Нужно только запомнить 8. Видите, 5 плюс 8 плюс 4 равно 17. Главное запомнить 8, вычесть его из 17 и получите 9. Разделите 9 пополам, получите 5 и 4. Вот они все: 584. Все просто».
Он концентрировался на этой сложной мантре в течение нескольких минут. Но как только его отвлекли, число исчезло из его памяти. H.M. даже не помнил, что его просили что-то запомнить. И хотя о наличии разницы между долговременной и кратковременной памятью ученые знали еще с конца XIX в., теперь у них было доказательство того, что запоминание происходит в разных частях мозга и что без большей части гиппокампа H.M. не мог перенести информацию из кратковременной памяти в долговременную.
От H.M. исследователи многое узнали об ином виде запоминания. Несмотря на то что он не мог сказать, что ел на завтрак или как зовут нашего президента, кое-что он мог вспомнить. Милнер обнаружила, что H.M. способен выучить сложные вещи, сам того не сознавая. В ключевом исследовании, проведенном в 1962 г., она доказала, что H.M. может научиться прочерчивать пальцем на листе бумаги контур пятиконечной звезды, глядя на ее отражение в зеркале. Всякий раз, когда Милнер давала H.M. это задание, тот утверждал, что никогда прежде такого не делал. И все же с каждым днем его мозг все лучше и лучше вел руку по контуру зеркально перевернутого изображения. Несмотря на амнезию, H.M. помнил.
Последующие исследования случаев заболевания амнезией, включая тестирование E.P., показали, что люди, лишившиеся воспоминаний, все еще способны к научению, не требующему запоминания. В ходе одного из экспериментов Сквайр предложил E.P. запомнить 24 слова, записанных на листе бумаги. Как и ожидалось, пару минут спустя E.P. не мог вспомнить ни одно из этих слов и даже не помнил, что ему было дано такое задание. Когда его спрашивали, видел ли он то или иное слово ранее, он отвечал верно лишь в половине случаев. Но затем Сквайр посадил E.P. перед монитором компьютера и дал ему другое задание. На этот раз 48 слов вспыхивали на экране на 25 миллисекунд каждое – время, достаточное лишь для того, чтобы глаз успел ухватить некоторые из слов, но не все (для сравнения: мы моргаем где-то один раз в 100–150 миллисекунд). Половина этих слов была взята из списка, который E.P. прочел и забыл, и половина была новой. Сквайр попросил E.P. зачитывать каждое из слов после того, как оно промелькнет на экране. На удивление, E.P. гораздо лучше читал недавно увиденные слова, нежели новые. Хоть сознательно он эти слова не помнил, где-то в его мозгу остался их отпечаток.
Этот феномен бессознательного запоминания, известный так же как прайминг[26], свидетельствует о неизведанном темном мире воспоминаний, притаившихся за гранью нашего сознания. Есть некоторые разногласия относительно того, сколько существует систем памяти, но ученые чаще всего разделяют ее на два вида: декларативная память и недекларативная (иногда их называют эксплицитной и имплицитной соответственно). Декларативные воспоминания – это то, про что вы можете сказать: «Я это помню». Это цвет вашей машины или то, что случилось вчера днем. E.P. и H.M. лишились способности создавать новые декларативные воспоминания. А недекларативные воспоминания – это то, что вы знаете подсознательно: как ездить на велосипеде или как, глядя на предмет в зеркало, начертить его контур (или что значит слово, быстро промелькнувшее на мониторе). Эти недекларативные воспоминания не проходят через тот же самый буфер кратковременной памяти, через который проходят декларативные, как не полагаются они и на гиппокамп, чтобы быть задержанными и отложенными в памяти. Для этого им требуются совершенно иные части мозга. Двигательные навыки сосредоточены в основном в мозжечке, перцептивное научение – в неокортексе, привычки – в подкорковых узлах. Как убедительно продемонстрировали E.P. и H.M., даже если вы повредите одну часть мозга, остальная его часть продолжит работать. Но, несомненно, большая часть того, кто мы есть и как мы мыслим, – сердцевина нашей личности – спрятана в имплицитных воспоминаниях, недоступных нашему сознанию.
Декларативную память психологи делят на семантическую (воспоминания о фактах и понятиях) и эпизодическую (воспоминания о том, что приключилось лично с нами). Воспоминание о том, что этим утром на завтрак я ел яйца, – эпизодическое. Знание того, что завтрак является первым приемом пищи за день, – семантическое воспоминание. Эпизодические воспоминания связаны со временем и пространством: к ним приложены «где» и «когда». Семантические же воспоминания расположены вне пространства и времени – просто свободно плавающие кусочки информации. Эти два разных типа запоминания, похоже, используют два различных типа нейронной связи и полагаются на различные зоны мозга, хотя оба критически зависят от гиппокампа и срединных отделов височных долей. E.P. в равной мере лишился обоих типов воспоминаний, но, что примечательно, его забывчивость распространилась лишь на последние 60 лет. Его воспоминания угасали по мере того, как он жил.
Одной из многочисленных загадок памяти является то, почему страдающий амнезией человек, как E.P., не забывает, когда атомная бомба была сброшена на Хиросиму, но не помнит ничего со времен падения Берлинской стены. По тем же неведомым причинам самые свежие воспоминания размываются в первую очередь, а отдаленные сохраняют четкость. Этот феномен, который называют законом Рибо в честь открывшего его французского психолога XIX в., распространяется также на пациентов с болезнью Альцгеймера, что позволяет сделать глубокий вывод о том, что наши воспоминания не статичны. Каким-то образом, когда наши воспоминания стареют, они меняются. Каждый раз, когда мы думаем о воспоминании, мы загоняем его все глубже в сеть других воспоминаний и таким образом делаем его более стабильным и менее подверженным вытеснению.
Но в ходе этого процесса мы также преобразуем воспоминание, меняем его форму – иногда до такой степени, что наши воспоминания о каком-то событии содержат лишь бледное подобие того, что произошло на самом деле. Неврологи лишь недавно начали наблюдать за этим процессом, происходящим внутри нашего мозга, но психологи уже давно осознали разницу между старыми и новыми воспоминаниями. Зигмунд Фрейд первым отметил любопытный факт: старые воспоминания чаще всего всплывают такими, будто какой-то сторонний наблюдатель записал их на камеру, тогда как свежие воспоминания чаще всего являются нам «рассказанными» от первого лица, увиденными нашими же глазами. Все происходит так, будто со временем произошедшее с нами становится просто произошедшим. Или будто мозг превращает события в факты.
Как этот процесс происходит на уровне нейронов, остается загадкой и по сей день. Одной из популярных гипотез является то, что наши воспоминания мигрируют. Гиппокамп отвечает за формирование воспоминаний, а содержание их хранится на складе долговременной памяти в неокортексе. Со временем, когда к ним возвращаются и усиливают их, воспоминания укрепляются так, чтобы их невозможно было стереть. Они укореняются в сети корковых связей, что позволяет им существовать независимо от гиппокампа. Таким образом, возникает интригующий вопрос: были ли воспоминания E.P. о событиях, произошедших после 1950 г., полностью стерты, когда вирус прогрыз себе путь через височные доли, или же эти воспоминания попросту стали недоступны? Сжег ли вирус половину дома – или просто выбросил ключ? Нам это неизвестно.
Есть теория о том, что сон играет критическую роль в укреплении наших воспоминаний и вытягивании из них смысла. Крысы, в течение часа бегавшие по лабиринту, бегали по той же дорожке и во сне и демонстрировали такое же возбуждение нейронов, как во время первого знакомства с лабиринтом. Как предполагают ученые, наши сны часто кажутся нам сюрреалистическими сочетаниями почерпнутых из реальной жизни элементов, поскольку образуются в процессе медленной трансформации нашего опыта в долговременные воспоминания.
Сидя рядом с E.P. на диване, я задаюсь вопросом, видит ли он еще сны. Конечно, рассказать он не может, но я все равно спрашиваю – просто чтобы узнать, как он ответит. «Иногда, – как ни в чем не бывало отвечает E.P., хотя его ответ, конечно, скорее всего фантазия. – Но сны трудно запоминать».
Все мы приходим в этот мир с амнезией, и некоторые из нас так и продолжают с ней существовать. Как-то раз я расспрашивал моего трехлетнего племянника о праздновании его второго дня рождения. Хоть это событие и случилось практически треть всей его жизни назад, воспоминания ребенка были удивительно точны. Он вспомнил имя молодого гитариста, который развлекал его и друзей, и даже повторил некоторые из песен, которые те тогда пели. Он вспомнил подаренный мною миниатюрный барабан. Вспомнил, как ел мороженое с тортом. И все же я почти уверен, что через десять лет он ничего из этого не вспомнит.
Вплоть до наших трех или четырех лет почти ничего из происходящего не оставляет в нас такого следа, чтобы мы потом могли сознательно вспомнить это уже взрослыми. Как показали опросы, средний возраст, с которым связаны самые ранние воспоминания, – три с половиной года, и то эти воспоминания чаще всего размыты, фрагментарны и неверны. Удивительно: в период жизни, когда человек учится быстрее, чем когда-либо еще, – учится ходить, говорить и понимать мир, – так мало из узнанного сознательно запоминается!
Фрейд полагал, что инфантильная амнезия связана с тем, что взрослые подавляют гиперсексуальные фантазии раннего детства, которые в дальнейшем становятся постыдными. Не уверен, что в мире найдется сейчас много психологов, продолжающих разделять данную точку зрения. Более вероятным объяснением этой странной забывчивости является то, что наш мозг развивается быстрее в первые несколько лет и неиспользуемые нейронные связи отсекаются, а новые непрерывно образуются. Неокортекс полностью формируется к третьему или четвертому году жизни, и где-то в это время у детей начинают появляться постоянные воспоминания. Но анатомия может рассказать лишь часть всей истории. В раннем детстве нам также не хватает умения объяснять окружающий мир и связывать настоящее с прошлым. Без опыта и – что, возможно, самое важное – не обладая навыками речи, малыши не могут внедрять свои воспоминания в сеть смыслов, которые сделают эти воспоминания доступными в дальнейшей жизни. Эти структуры сознания развиваются позже, по мере вхождения ребенка в окружающий мир. Важнейшие знания, которые мы приобретаем в первые годы жизни, полностью сохраняются в имплицитной, недекларативной памяти. Другими словами, все на земле побывали в состоянии E.P. И, как и E.P., мы забыли, как это бывает.
Мне интересно посмотреть, как работает бессознательная, недекларативная память E.P., поэтому я спрашиваю, не согласится ли он взять меня с собой на прогулку. «Что-то не хочется», – говорит E.P., и я выжидаю пару минут, прежде чем задать тот же вопрос снова. В этот раз он соглашается. Мы выходим за порог на яркое полуденное солнце и поворачиваем направо – по его решению, а не по моему. Я спрашиваю E.P., почему мы не пошли налево. «Мне больше нравится идти в эту сторону. Я так всегда хожу. Не знаю уж почему», – отвечает он.
Если бы я попросил его нарисовать обычный маршрут, по которому он прогуливается по меньшей мере трижды в день, он не сумел бы. E.P. не знает даже своего адреса или (что совершенно невероятно для кого-то из Сан-Диего) в какую сторону надо пойти, чтобы выйти к океану. Но за те долгие годы, пока он совершал одну и ту же прогулку, путь зафиксировался в его подсознании. Беверли, его жена, сейчас позволяет ему гулять одному, даже зная, что один неверный поворот – и муж заблудится. Иногда E.P. возвращается с прогулки с чем-то, что он подобрал по дороге: пригоршней круглых камешков, щенком, чьим-то бумажником. И он никогда не может объяснить, как эти вещи оказались у него.
«Наши соседи его любят, потому что он просто подходит к ним и начинает говорить», – рассказывает Беверли. Хоть E.P. и считает, что видит соседей впервые в жизни, он усвоил как привычку, что с этими людьми ему комфортно, и он интерпретирует это подсознательное ощущение комфорта как повод подойти и поздороваться.
То, что E.P. научился любить своих соседей, даже не сознавая, кто они такие, указывает на то, сколько наших привычных ежедневных действий управляется имплицитными ценностями и суждениями вне зависимости от декларативных воспоминаний. Мне интересно, что еще E.P. помнит благодаря привычкам. Какие еще недекларативные воспоминания продолжали менять его на протяжении 15 лет, прошедших с тех пор, как он лишился декларативной памяти? Само собой, у него должны остаться желания и страхи, эмоции и стремления – даже если его сознательное восприятие этих чувств настолько мимолетно, что он не может удержать их достаточно долго, чтобы облечь в слова.
Я подумал о самом себе 15 лет назад и о том, как изменился за прошедшие годы. Я, каким был тогда, и я сегодняшний, поставленные плечом к плечу, внешне похожи друг на друга. Но мы – это совершенно разные собрания молекул, у нас разные объемы талии и количество волос на голове. Иногда кажется, что у нас нет ничего общего, кроме имени. Что связывает этого меня с тем, вторым, и что позволяет мне поддерживать иллюзию непрерывности развития от мгновения к мгновению, из года в год – это некое стабильное, но непрерывно эволюционирующее нечто, лежащее в основе моего существа. Назовите это душой, или самостью, или же побочным продуктом деятельности сети нейронов, но, как ни назови, этот элемент непрерывности в любом случае находится во власти памяти.
Даже если все мы отданы на милость наших воспоминаний в вопросе становления нашей личности, нельзя сказать, что E.P. всего лишь бездушный голем. Несмотря на все его лишения, он все еще человек с уникальным видением мира, личность – и приятная, надо сказать. Да, вирус полностью стер все его воспоминания, но он не уничтожил начисто его индивидуальность. Осталось некое статическое «я», которое не способно развиваться и изменяться.
Мы пересекаем улицу и уходим от Беверли и Кэрол. Я впервые остаюсь наедине с E.P. Он не знает, кто я такой и зачем иду с ним рядом, но кажется, что он понимает, что у меня добрые намерения. E.P. смотрит на меня и сжимает губы, и я вижу, что он размышляет, что бы сказать. Я не пытаюсь нарушить молчание – напротив, позволяю ему затянуться, чтобы посмотреть, к чему приведет E.P. ощущение дискомфорта. Наверное, я надеюсь на мимолетное осознание того, как это странно выглядит – эта сценка без пролога. Но никакого осознания не происходит, или же E.P. не позволяет ему выплыть на поверхность. Я понимаю: он в ловушке экзистенциального кошмара, совершенно слепой в мире, который его окружает. Мне хочется помочь ему спастись, пусть даже на секунду. Хочется взять его за руку и встряхнуть. «У вас редкое расстройство памяти, – готов сказать я. – Последние 50 лет для вас потеряны. Меньше чем через минуту вы забудете, что мы с вами об этом говорили». Я представляю себе ужас, который нахлынет на него, – минутное прозрение, бесконечная пустота, которая разинет свою пасть перед ним и тут же закроет. А потом проезжающая машина или чирикнувшая птица затолкнет его обратно в раковину забвения. Но, конечно, я ничего этого не говорю.
«Мы уже далеко ушли», – произношу я и показываю, откуда мы пришли. Мы поворачиваемся и идем обратно по улице, название которой он не помнит, мимо приветствующих нас соседей, которых он не узнает, к дому, которого он не знает. У дома стоит машина с тонированными стеклами. Мы останавливаемся, чтобы взглянуть на наши отражения. Я спрашиваю E.P., что он видит. «Какого-то старика, – отвечает тот. – И все».
Глава 5 Дворец памяти
Мы с Эдом договорились о еще одной встрече перед его возвращением в Европу. Он хотел пересечься со мной в Центральном парке, где никогда прежде не бывал и куда считал необходимым наведаться во время путешествии по Америке. Рассмотрев голые ветви деревьев и спортсменов, совершавших дневную пробежку вдоль Резервуара, мы оказались в южной оконечности парка, через улицу от отеля Ritz-Carlton. Стоял мороз, дул пронизывающий ветер, и это совершенно не располагало к размышлениям и уж тем более к запоминанию.
Но, несмотря на это, Эд настоял, чтобы мы оставались на улице. Он вручил мне свою трость и играючи взобрался на один из больших камней на границе парка – очевидно, испытывая боль в своих пораженных хроническим артритом суставах. Окинув взглядом окрестности и отметив «идеальную величественность» этого места, Эд пригласил меня присоединиться к нему на вершине камня. Он пообещал за час обучить меня паре базовых техник запоминания. Трудно было представить, что мы смогли бы выдержать дольше на такой погоде.
«Должен тебя предупредить, – сказал Эд, осторожно усаживаясь и скрещивая ноги. – Ты быстро перейдешь от благоговейного уважения к людям с хорошей памятью к "а, это все дурацкие трюки", – он замолчал и склонил голову к плечу, словно бы выжидая, не будет ли у меня как раз такой реакции. – И ты будешь не прав. Это просто одна из фаз, через которую придется пройти».
Он начал свой урок с самого главного принципа мнемоники – «вдумчивого кодирования». Наша память была создана не для нашего современного мира, объяснил он. Наша память – как и наше зрение, наши способности к языкам и прямохождению и все остальные биологические способности – эволюционировала в процессе естественного отбора в условиях, совершенно отличных от тех, в которых мы живем сегодня.
Большая часть эволюционных процессов, превративших примитивный мозг наших предшественников в мозг, который служит (иногда плохо) нам сегодня и благодаря которому мы говорим, мыслим символами и страдаем неврозами, произошла в плейстоцене – в эпоху, начавшуюся 1,8 млн лет назад и окончившуюся всего 10 000 лет назад. В тот период – а в некоторых изолированных местах такое происходит и в наше время – люди жили как охотники и собиратели, и потребности, связанные с таким образом жизни, сформировали мозг, который мы используем сегодня.
Любовь к сладкому и жирному отлично служила человеку в мире, где питание было редким и скудным, но в мире вездесущего фастфуда она только мешает. Так же и наша память не совсем адаптировалась к нашей информационной эре. Задачи, подобные тем, что мы решаем при помощи памяти в наши дни, не могли возникнуть в условиях, в которых эволюционировал наш мозг. Нашим предкам не требовалось запоминать номера телефонов, слово в слово помнить инструкции боссов, курс американской истории или (возможно, потому что они жили сравнительно небольшими устойчивыми группами) имена дюжин незнакомцев на коктейльной вечеринке.
Наши предки – гоминиды и древнейшие люди – помнили другие вещи: где найти еду и припасы; какие растения съедобны, а какие ядовиты; как дойти домой. Именно на эти способности памяти они полагались ежедневно, и именно это является фактором (или по крайней мере одним из факторов) того, что наша память эволюционировала: нужно было удовлетворять все эти потребности.
Все техники запоминания основываются на том факте, что наш мозг не всю информацию запоминает одинаково хорошо. Притом что все мы хорошо запоминаем зрительные образы (вспомните тест на узнавание фотографий), мы плохо удерживаем в памяти иные сведения, такие как большие группы слов или чисел. Суть мнемонических техник – в действии, которое синестет Ш. совершал подсознательно: в преобразовании тех видов воспоминаний, который наш мозг сохраняет с трудом, в те, для которых он был предназначен.
«Общая идея большинства техник запоминания в том, чтобы превратить любую скучную вещь, которую нужно запомнить, в нечто настолько яркое, удивительное и непохожее на все виденное ранее, что ее просто невозможно будет забыть, – объяснил Эд, дыханием согревая пальцы. – Вот что значит вдумчивое кодирование. Сейчас мы проделаем это со списком слов в качестве общего упражнения, чтобы усвоить технику. Потом ты сможешь применять ее на числах, игральных картах и уже позже – на сложных структурах. Собственно, когда мы с тобой закончим, ты будешь способен запомнить все, что захочешь».
Эд поведал, как недавно в Вене они с Лукасом отрывались до утра накануне очень важного экзамена, предстоявшего Лукасу. Домой они ввалились только на рассвете. «Лукас проснулся в полдень, молниеносно выучил все, что требовалось для экзамена, и сдал его, – рассказывал Эд. – Когда ты настолько эффективно запоминаешь информацию, так и хочется не морочиться чувством вины из-за невыученного материала вплоть до самого последнего момента. Лукас понял, что напрягаться – это крайне вульгарно».
Эд заправил свои кудряшки за уши и спросил меня, что мне хочется запомнить для начала.
– Можем начать с запоминания чего-нибудь полезного, например, египетских фараонов или годов правления американских президентов, – предложил он. – Или, может, с поэмы времен романтизма? Если хочешь, можно взяться за геологические эпохи.
Я рассмеялся.
– Да уж, это все очень полезно.
– Можем быстро выучить имена всех победителей матчей по американскому футболу за последний век или среднее количество очков каждого из лучших баскетболистов. Как тебе?
– Шутишь? Ты правда знаешь всех победителей Суперкубка? – спросил я.
– Ну нет, не знаю. Я предпочитаю крикет, а не футбол. Но я с удовольствием научу тебя. Вот в чем фишка: мы можем быстро запомнить что угодно при помощи этих техник. Ну что, соблазнительно звучит?
– Соблазнительно.
– Значит так. Я считаю, что самую большую пользу из этой методики можно извлечь, применяя ее для запоминания списков дел. Ты записываешь дела, которые нужно сделать?
– Да, но дома. Что-то вроде того. Время от времени.
– Так-так. Ладно, у меня-то всегда есть список дел в голове. Используем мой.
Эд попросил листочек бумаги и нацарапал на нем несколько слов. Мне он вручил его с озорной улыбкой. Всего в списке было 15 пунктов.
– Это несколько вещей, которые мне нужно сделать в городе до того, как я отправлюсь на вечеринку к другу, – сказал он.
Я прочитал список вслух:
Маринованный чеснок
Зернистый творог
Лосось (копченый на торфе, если возм.)
Шесть бутылок белого вина
Носки (3 шт.)
Три хулахупа (про запас?)
Трубка аквалангиста
Устройство для изготовления сухого льда
Написать e-mail Софии
Обтягивающий комбинезон телесного цвета
Найти фильм с Полом Ньюманом «Кто-то там наверху любит меня»
Cосиски из лосятины??
Рупор и складное матерчатое кресло
Альпинистские ремни и веревки
Барометр
– И это список дел из твоей памяти? – недоверчиво переспросил я.
– Из памяти моей он взялся. В память твою он войдет, – ответил Эд.
– Ты это все серьезно?
– Ну, скажем, я не уверен, что мне удастся найти все. Скажи-ка, можно в Нью-Йорке купить зернистый творог?
– Я бы больше волновался насчет сосисок из лосятины и комбинезона телесного цвета, – сказал я. – Кроме того, разве ты не улетаешь завтра в Англию?
– Ладно, готов признать, что в большей части этих вещей нет абсолютной необходимости, – подмигнул он. – Но смысл этого упражнения тем не менее в том, чтобы ты запомнил весь этот список.
Эд сообщил, что, освоив метод, которому он собирается меня научить, я приобщусь к «высоким традициям мнемоников».
Высокие традиции берут начало, по крайней мере согласно легендам, в V в. до н. э., когда поэт Симонид Кеосский стоял в руинах пиршественного зала Фессалии. Когда поэт, закрыв глаза, воссоздал в воображении вид здания до катастрофы, он пришел к удивительному открытию: он помнил, где сидел каждый из участников того злополучного банкета. Хоть он и не пытался запоминать расположение гостей в зале, оно само надолго отпечаталось в его памяти. Исходя из этого простого наблюдения Симонид, как принято считать, изобрел технику, которая и легла в основу искусства запоминания.
Он осознал, что, если бы за пиршественным столом сидели не просто гости, а, скажем, известные греческие драматурги, рассевшиеся в порядке очередности их дней рождения, он бы скорее запомнил их. Или что если бы вместо гостей он видел, как вокруг стола разместились одно за другим слова из его стихотворения? Или все дела, которые ему требовалось выполнить за день? Все, что можно себе вообразить, полагал он, может быть запечатлено в памяти и сохранено в надлежащем порядке всего лишь благодаря вовлечению пространственной памяти в процесс запоминания. Чтобы воспользоваться методикой Симонида, нужно просто перевести что-то совершенно незапоминающееся – последовательность чисел, колоду карт, список покупок или «Потерянный рай» – в серию увлекательных визуальных образов и мысленно упорядочить их внутри воображаемого пространства, и тогда эти постоянно забывающиеся вещи вдруг станут незабываемыми.
Практически все известные нам нюансы тренировок памяти в античности – и, кстати говоря, практически все трюки из арсенала интеллектуального спортсмена – были описаны между 86 и 82 гг. до н. э. в коротеньком анонимном учебнике по риторике под названием «Риторика для Геренния»[27] (Rhetorica ad Herennium){21}. Это было единственное по-настоящему всестороннее исследование изобретенных Симонидом мнемонических техник, которое дошло до Средних веков. Хотя за последующие 2000 лет в искусстве запоминания произошли некоторые изменения, базовые техники остались практически такими же, какими они были представлены в «Риторике для Геренния». «Эта книга – наша библия»{22}, – сообщил мне Эд.
Эд читает на латыни и древнегреческом (а также бегло говорит на французском и немецком) и считает себя знатоком-любителем античной философии. «Риторика для Геренния» – первый из нескольких древних текстов, которыми он меня снабдил. Эд хотел, чтобы я изучил классику до того, как перейду к экспансивному творчеству Тони Бьюзена (написавшего единолично и в соавторстве более 120 книг) или посвященным самоусовершенствованию книгам ведущих интеллектуальных спортсменов. Вдобавок к «Риторике для Геренния» стоило взять переведенные отрывки из таких книг, как «Наставления оратору» Квинтилиана и «Об ораторе» Цицерона, а затем перейти к собранию средневековых трудов о памяти, написанных Фомой Аквинским, Альбертом Великим, Гуго Сен-Викторским[28] и Петром Равенским[29].
Техники, представленные в «Риторике для Геренния», широко применялись в античном мире. Даже Цицерон в собственном труде, посвященном искусству запоминания, сказал, что эти методы так хорошо известны, что он не видит смысла тратить чернила, описывая их во всех подробностях (отсюда и наше доверие к «Риторике для Геренния»). Некогда каждый образованный человек был сведущ в техниках, которым Эд собирался обучить меня. Тренировки памяти были самой важной частью античного образования в области языка и речи – наряду с грамматикой, логикой и риторикой. Студентов учили не только тому, что нужно было запомнить, но и тому, как это запоминать.
В мире, где существовало совсем немного книг, память была священна. Взгляните на «Естественную историю» Плиния Старшего. В этой энциклопедии, написанной в I в. н. э., рассказывалось о диковинных фактах и явлениях, таких, которые было полезно знать, чтобы побеждать в барных спорах того времени, – и в том числе о самых памятливых людях, известных античным историкам.
«Царь Кир знал имена всех солдат в своей армии, – сообщает Плиний. – Луций Корнелий Сципион знал имена всех жителей Рима. Поверенный царя Пирра Эпирского Кинеас знал имена всех римских воинов и сенаторов уже на следующий день после прибытия в Рим… Грек Хармад выдавал на память содержание любой указанной книги из библиотеки и делал это так легко, будто читал саму книгу».
Есть много причин, по которым не стоит принимать на веру все утверждения Плиния (он, например, утверждал, что существует раса собакоголовых людей в Индии), но тот факт, что в античные времена ходило много историй о людях с выдающейся памятью, говорит сам за себя. Сенека Старший мог повторить 2000 имен в том порядке, в каком их ему назвали. Святой Августин рассказывал о своем друге Симплиции, который мог декламировать наизусть Виргилия, начиная с конца произведения. (То, что он мог просто читать его наизусть, очевидно, никаких восторгов не вызывало.) Хорошая память считалась величайшим достоинством, потому что она позволяла вместить целую вселенную внешних знаний. «Античные и средневековые люди восхищались хорошей памятью. Своих гениев они описали бы как людей со сверхпамятью», – пишет Мери Каррузерс, автор двух книг об истории мнемонических техник. И правда, наиболее часто повторяющаяся тема в рассказах о святых – помимо их сверхъестественной добродетели – их выдающаяся память.
Раздел, посвященный памяти, в «Риторике для Геренния» – «этой сокровищнице изобретательности и покровителе всех областей риторики» – на самом деле довольно короток: всего десять страниц, включенных в более длинный трактат по риторике и ораторскому искусству. В начале раздела проводится черта между естественной и искусственной памятью: «Естественная память – это та память, которая вложена в наш разум и которая рождается одновременно с мыслью. Искусственная же – та, которую закалили тренировками и строгой дисциплиной». Другими словами, естественная память – это компьютерное «железо», с которым вы рождаетесь. А искусственная – программы, установленные на это «железо».
У искусственной памяти, продолжает анонимный автор, есть две базовые составляющие: образы и места. Образы представляют собой содержимое того, что человек хочет запомнить. Места – или loci[30], как они названы в латинском оригинале, – это то, где хранятся эти образы.
Идея заключается в том, чтобы сначала мысленно воссоздать пространство, которое вы хорошо знаете и можете легко себе представить, а затем заполнить это воображаемое место образами того, что вы хотите запомнить. У римлян этот метод назывался методом мест. В дальнейшем его стали называть дворцом памяти.
Дворцы памяти вовсе не обязаны быть дворцами – или даже зданиями. Они могут быть городскими улицами – как у Ш., – или станциями железной дороги, или знаками зодиака, или даже мистическими существами. Они могут быть большими и малыми, закрытыми помещениями или открытыми пространствами, настоящими или вымышленными – до тех пор, пока в них есть некая видимая последовательность, связывающая одно место с другим, и пока они вам хорошо знакомы. Четырехкратный чемпион Соединенных Штатов по запоминанию Скотт Хэгвуд использует для хранения воспоминаний дома класса люкс, представленные в Architectural Digest. Доктор Йип Суи Чуй, искрометный чемпион по запоминанию из Малайзии, использует в качестве мест собственные части тела. Это помогло ему запомнить все 56 000 слов 1774-страничного китайско-английского оксфордского словаря. У человека могут быть дюжины, сотни или даже тысячи дворцов памяти, каждый из которых сконструирован для различных воспоминаний.
Аборигены в Австралии и индейцы апачи на американском юго-западе независимо друг от друга изобрели некие подобия метода loci, с помощью которого создавали свои предания. Но при этом и те, и другие опирались не на строения, а на особенности местной топографии, и, когда они распевали свои истории, дворцом памяти им служил ландшафт. Каждый холм, камень и ручей содержал в себе части их повествований. «Мифы и карта стали одним целым», – говорил Джон Фоли, лингвист-антрополог из Университета Миссури, изучавший память и устные традиции. Одним из трагических последствий такого симбиоза нарратива и ландшафта стало то, что, когда правительство отобрало землю у американских индейцев, те лишились не только домов, но и своей мифологии.
«Вот, что тебе нужно уяснить, Джош: люди очень-очень хорошо запоминают пространства, – заметил Эд со своего насеста на камне. – К примеру, тебя оставили одного на пять минут в доме человека, где ты прежде никогда не был, и настроение у тебя бодрое и любопытное. Только представь, сколько разных деталей об этом доме отложится в твоей памяти за этот краткий период. Ты выяснишь не только то, сколько там комнат и как они связаны, но и их размеры, обстановку, меблировку и расположение окон. Сам того не осознавая, ты запомнишь расположение сотен объектов и незаметно для себя отметишь множество разных особенностей. Если сложить всю эту информацию вместе, выйдет коротенькая книжка. Но мы даже не замечаем, как наша память все это впитывает. Люди прямо-таки поглощают пространственную информацию».
Принцип дворца памяти, продолжал он, состоит в том, чтобы использовать нашу хорошую пространственную память в целях структурирования и хранения информации, которую сравнительно трудно запомнить, поскольку она должна удерживаться в памяти в определенной последовательности, сложной для запоминания. В нашем случае это список дел Эда.
– Ты скоро поймешь, что, как невозможно забыть порядок комнат в доме, так же невозможно запутаться в том, что, как только я отыщу три хулахупа, трубку аквалангиста и устройство для изготовления сухого льда, мне нужно будет написать e-mail моей подруге Софии.
Самым важным было выбрать дворец памяти, который был бы мне очень хорошо знаком.
– Для первого дворца памяти я предлагаю взять дом, где ты вырос, ибо его ты должен очень хорошо знать, – сказал Эд. – Мы расположим предметы из моего списка дел один за другим на пути, который будет виться по дому твоего детства. Когда придет время вспомнить предметы из списка, тебе нужно будет всего лишь мысленно повторить этот путь. Есть надежда, что все предметы, которые ты запоминал, снова всплывут в памяти. Теперь скажи, ты вырос в бунгало?
– Скорее в двухэтажном кирпичном доме, – ответил я.
– А был ли там симпатичный почтовый ящик в конце подъездной дорожки?
– Нет, а что?
– Жаль, жаль. Он мог бы быть отличным отправным местом, к которому можно было бы привязать первый предмет из нашего списка дел. Но ничего. Начнем в начале подъездной дорожки. Теперь я хочу, чтобы ты закрыл глаза и попытался как можно четче представить себе большую банку маринованного чеснока, стоящую там, где должна была бы парковаться машина.
Я не совсем понимал, что это за предмет, который мне нужно было себе представить.
– А что такое маринованный чеснок? Это вроде английского деликатеса? – спросил я.
«Гмм, нет, это вроде закуски, которую берут с собой на выходные в горы, – улыбнулся он, снова с задорной улыбкой. – Теперь очень важно попытаться запомнить этот образ так, чтобы он рождал ассоциации, связанные с как можно большим количеством ощущений самого разного характера». Чем больше ассоциаций возникает в связи с кусочком информации, тем надежнее он вплетается в сеть вещей, которые вы уже знаете, и тем вернее он сохранится в памяти. Ш. подсознательно и вопреки своей воле превращал каждый звук, когда-либо достигавший его ушей, в сочетание цветов и запахов – автор «Риторики для Геренния» советовал своим читателям поступать точно так же со всеми образами, которые те желали запомнить.
«Очень важно тщательно обработать этот образ так, чтобы ты уделил ему как можно больше внимания, – продолжал Эд. – Вещи, которые захватывают наше внимание, лучше запоминаются. Но внимание – это не то, чего можно получить по своему хотению. Его нужно привлечь деталями. Обдуманный, притягательный, яркий образ в твоей голове более-менее гарантирует, что о нем останется устойчивое и надежное воспоминание в твоем мозгу. Так что попытайся представить себе вкусный запах маринованного чеснока и придай ему больше насыщенности. Представь, как пробуешь его на вкус. Позволь вкусовым ощущениям прокатиться по твоему языку. И не забудь убедиться, что проделываешь это все в начале твоей подъездной дорожки». Я понятия не имел, что такое маринованный чеснок и уж тем более не знал, какой он на вкус. Но тем не менее я представил себе большую банку этой штуки, горделиво стоящую в начале подъездной дорожки к дому родителей.
(Советую читателям проделывать все одновременно со мной. Представьте банку маринованного чеснока в начале вашей подъездной дорожки. Если у вас нет подъездной дорожки, то представьте ее где-либо еще вне вашего дома. Попытайтесь как следует увидеть ее мысленным взором.)
– Теперь, когда ты нашел место для изображения маринованного чеснока и сопутствующих ощущений, мы пойдем к дому и возле входной двери визуализируем следующий предмет из нашего списка дел. Зернистый творог. Я хочу, чтобы ты закрыл глаза и представил огромную, размером с бассейн, коробку зернистого творога. Сделал?
– Вроде бы.
(А вы?)
– А теперь представь Клаудию Шиффер, плавающую в этой коробке зернистого творога. Я хочу, чтобы ты представил ее голой, с каплями молока на теле. Представляешь? Главное, не упускай ни одной детали.
«Риторика для Геренния» советует читателям создавать для дворца памяти образы смешные, непристойные и причудливые – чем более невероятные, тем лучше. «Когда в обыденной жизни мы сталкиваемся с вещами обычными и банальными, мы часто забываем их, потому что разум не увидел ничего нового или интересного. Но если мы увидим или услышим что-то выдающееся, постыдное, необычное, значительное, невероятное или смешное, это, скорее всего, мы запомним надолго».
Чем ярче образ, тем вернее он прилипнет к месту. Талантливый мнемоник, понял я, обладает способностью создавать такого рода образы на лету, рисовать в голове сцены настолько необычные и отличные от всего виденного прежде, что их просто невозможно забыть. И делать это очень быстро. Вот почему Тони Бьюзен твердит всем, кто соглашается его слушать, что чемпионат мира по запоминанию – это не столько тестирование памяти, сколько проверка воображения{23}.
В формировании образов очень помогает наше пошлое мышление. Эволюция так запрограммировала наш мозг, что его преимущественно увлекают две вещи: шутки и секс. Особенно шутки о сексе (помните, чем Риа Перлман и Мануте Бол занимались на первой странице этой книги?). Это подтверждают даже труды о памяти, написанные в относительно целомудренные времена. Петр из Равенны, автор самого известного в XV в. учебника по запоминанию, сначала просит прощения у всех благопристойных и религиозных людей, а затем раскрывает «секрет, о котором я (из скромности) долгое время умалчивал. Если вы желаете запоминать быстрее, разместите на местах во дворце памяти изображения прекрасных девственниц: память необычно возбуждается образами женщин»{24}.
Но, как я выяснил, лично меня совсем не вдохновила Клаудия Шиффер, плавающая в коробке зернистого творога. Нос и щеки жгло от ледяного ветра.
– Э-э, Эд… может, мы перенесем наш урок куда-нибудь в помещение? – спросил я. – Тут неподалеку есть Starbucks.
– Нет-нет. Холодный воздух полезен для мозга, – ответил он. – А теперь внимание! Мы только что вошли в твой дом. Я хочу, чтобы ты мысленно повернулся налево. В какую комнату мы теперь попадем? – спросил он.
– В гостиную. В ней стоит рояль.
– Отлично. Наш третий предмет – лосось, копченный на торфе. Давай представим где-нибудь под струнами рояля много дымящегося торфа. А на крышке инструмента – лосося, выловленного возле Гебридских островов. У-у-у! Чувствуешь запах? – он принюхался к холодному воздуху.
И снова я не знал, что такое лосось, копченный на торфе, но предполагал, что это некая разновидность копченой лососины, так что ее я и представил.
– Вкусно пахнет, – с закрытыми глазами произнес я.
(Если у вас дома нет рояля, просто положите копченного на торфе лосося куда-нибудь слева от входа.)
Следующим предметом в списке значились шесть бутылок белого вина, которые мы решили положить на запятнанный белый диван рядом с роялем.
«Теперь было бы хорошо очеловечить эти бутылки, – предложил Эд. – Живые объекты запоминаются лучше, чем неживые». Этот совет, как и многие другие, взялся из «Риторики для Геренния». Автор советует создавать образы «удивительной красоты или крайнего уродства», заставлять их двигаться и украшать их таким образом, чтобы сделать более неординарными. Можно «обезобразить их – запятнать кровью, запачкать грязью или заляпать красной краской» или же «прибавить что-нибудь смешное к нашим объектам».
– Можно представить, как марки вина обсуждают между собой, кто из них лучше, – предложил Эд.
– Типа мистер Мерло говорит…
– Мерло, Джош, это не белое вино, – с изумленным смешком прерывал меня Эд. – Давай лучше вообразим, как шардоне бубнит оскорбления в адрес почвы, на которой произрастает совиньон блан, а рядом гевюрцтраминер[31] хихикает над расходами на производство рислинга… типа такого.
Я подумал, что это достаточно веселая картина, чтобы задержаться в памяти. Но почему? Что делает шесть очеловеченных высокомерных бутылок более запоминающимися, чем слова «шесть бутылок вина»? Ну, во-первых, визуальное представление настолько абсурдной ситуации требует намного больше усилий, чем простое прочтение слов. Затратив столько умственных усилий, я сформировал между нейронами более стойкие связи, которые будут сохранять это воспоминание. Еще важнее то, что говорящие бутылки хорошо запоминаются благодаря своей необычности. Обычных бутылок белого вина я уже навидался достаточно, а вот говорящей не видел ни одной. Если бы я просто пытался запомнить слова «шесть бутылок вина», это воспоминание вскоре смешалось бы с воспоминаниями о других бутылках вина.
Взвесьте: сколько завтраков, съеденных на прошлой неделе, вы помните? Помните, что вы ели сегодня? Надеюсь, да. Вчера? Думаю, вам пришлось слегка напрячься. А позавчера? Неделю назад? И дело не в том, что воспоминание о завтраке, съеденном на прошлой неделе, испарилось. С правильными подсказками – вопросами о том, где вы ели или с кем, – вы, скорее всего, вспомните, что лежало на тарелке. То, чем вы однажды позавтракали на прошлой неделе, трудно вспомнить по другой причине: ваш мозг сложил тот завтрак со всеми остальными, которые вы съели как просто завтраки. Когда мы пытаемся вспомнить что-то из категории, включающей в себе множество таких «завтраков» или «вин», слишком многие воспоминания подворачиваются под руку. Воспоминание о блюдах, съеденных на завтрак в прошлую среду, необязательно пропало, просто вам не хватает нужного крючка, чтобы выудить его из моря воспоминаний о других приемах пищи. Но говорящее вино уникально. У этого воспоминания не будет конкурентов.
– Дальше у нас идут три пары носков, – продолжил Эд. – Может, где-нибудь поблизости есть лампа, где их можно развесить?
– Да, рядом с диваном есть лампа, – сказал я.
(Если вы все еще с нами, разместите шесть бутылок вина и три пары носков где-нибудь в первой комнате вашего дома.)
– Великолепно. Так, теперь у меня есть два способа, чтобы сделать носки привлекающими внимание. Первый – сделать их старыми и вонючими. Второй – сделать их хлопковыми носками такой невероятной расцветки, о которой ты всегда мечтал. Давай на последнем и остановимся. Итак, представь себе носки, болтающиеся на лампе. И, поскольку никогда не мешает добавить к происходящему немного мистики, вообрази внутри этих носков маленькое привиденьице, грациозно вытягивающее и растягивающее их. Правда, попробуй это нарисовать себе. Представь прохладное прикосновение мягких хлопковых носков к своему лбу.
Таким образом мы с Эдом мысленно прошлись по дому моего детства, разбрасывая по дороге образы. В столовой я представил себе трех женщин, крутящих хулахупы стоя на столе. На кухне – мужчину, ныряющего в раковину с трубкой аквалангиста, и машину для изготовления сухого льда, выплевывающую клубы дыма на столик. (Успеваете?) Из кухни я перешел в маленькую комнатку. Следующим в списке стояло «написать e-mail Софии».
Я открыл глаза, ожидая от Эда помощи, и увидел, как он слюнявит край бумаги, чтобы скрутить новую сигарету.
– Как должно выглядеть «написать e-mail Софии»? – спросил я.
– М-м-м, это сложно, – сказал он, откладывая сигарету. – Видишь ли, e-mail сам по себе не особенно запоминающаяся вещь. Чем абстрактнее слово, тем хуже оно запоминается. Нужно как-нибудь конкретизировать этот e-mail у нас действовал не e-mail, а she-mail[32]. Можешь себе такое представить? А теперь нужно связать she-mail с Софией. Что первое приходит в голову при слове «София»?
– Столица Болгарии, – ответил я.
– У тебя отличное образование, Джош. Браво! Но, увы, это плохо запоминается. Давай лучше возьмем Софи Лорен. И пусть she-mail держит ее у себя на коленях, пока печатает на компьютере. Представил? Заинтересовала тебя эта картинка? Великолепно.
Теперь скорость создания образов возросла. Я вышел из комнатки и представил хорошенькую женщину в обтягивающем комбинезоне телесного цвета, мурчащую в коридоре. Я поместил Пола Ньюмана в ближайшей нише и лося на верхней ступеньке лестницы, ведущей в подвал. Я спустился по ступенькам в гараж, где оставил образ Эда, сидевшего в матерчатом кресле кинорежиссера и выкрикивавшего указания в огромный рупор. Затем я представил, как нажимаю кнопку, открывающую дверь гаража, и выхожу на задний двор, где обмотанный ремнями верхолаз пытается с помощью веревок взобраться на огромный дуб. И последний образ, барометр, я поместил рядом с забором.
– Чтобы запомнить, что это БАР-ометр, вообрази столбик термометра в свиных шкварках и прочих барных закусках, – очень кстати предложил Эд.
Завершив обход дома, я открыл глаза. «Отлично! – сказал Эд, медленно и серьезно аплодируя. – А теперь, я уверен, ты обнаружишь, что процесс вспоминания этих вещей невероятно интуитивен. Видишь ли, чаще всего воспоминания откладываются в семантических сетях, то есть в паутине ассоциаций, случайным образом. Но ты сейчас уложил множество воспоминаний в контролируемой последовательности. Благодаря особенностям пространственной памяти тебе надо лишь снова пройти путь по дворцу памяти, и в каждом месте, где ты оставлял воспоминания, они будут возвращаться к тебе. А тебе нужно лишь перевести эти вещи обратно в то, чем они были изначально».
Я снова закрыл глаза и представил себя в начале подъездной дорожки, ведущей к дому родителей. Огромная банка маринованного чеснока была именно там, где я ее оставил. Я подошел к двери. Клаудия Шиффер, сидя в коробке зернистого творога, соблазнительно водила по телу губкой. Я открыл дверь и повернул налево. Вдохнул запах рыбы, все так же лежавшей на рояле над поднимающимся торфяным дымком. Я ощутил во рту ее вкус. Услышал тонкие голоски переговаривающихся бутылок вина на диване и ощутил мягкое прикосновение к моему лбу трех пар роскошных хлопковых носков, свисавших с лампы. Я поверить не мог, что все действительно работает! Я назвал первые пять предметов из списка дел Эда, чтобы убедиться.
– Маринованный чеснок! Зернистый творог! Лосось, копченный на торфе! Шесть бутылок вина! Три пары носков!
– Здорово! – прокричал Эд навстречу холодному ветру. – Здорово! Мы наблюдаем рождение будущего члена KL7!
Ну я-то, конечно, понимал, что это было вовсе не так здорово, особенно на фоне тех впечатляющих трюков, которые я видел за день до того. Но все же я был доволен достигнутым. Я продолжил свой путь по дому, подбирая хлебные крошки в виде экзотических образов, оставленных мной здесь прежде.
– Три хулахупа на обеденном столе! Трубка аквалангиста в раковине! Устройство для изготовления сухого льда на столике! – к моему удивлению и удовлетворению все 15 изображений нашлись именно там, где я их оставлял. Но сохранятся ли они надолго? Например, смогу ли я вспомнить весь список дел Эда через неделю?
– Если не увлекаться вечеринками и бутылками пива размером с собственную голову, ты скоро обнаружишь, что эти образы будут храниться в твоей памяти намного дольше, чем можно было бы предположить, – пообещал Эд. – А если ты вернешься в свой дворец памяти чуть позже сегодня вечером и снова завтра днем, а потом еще через неделю, этот список запомнится действительно надолго. И проделав такое с 15 словами, ты сможешь проделать то же самое с 1500, если найдешь для них достаточно вместительный дворец памяти. А разобравшись со случайными словами, мы сможем перейти к по-настоящему интересным вещам, например, игральным картам или «Бытию и времени» Хайдеггера.
Глава 6 Как выучить стихотворение
Мое первое задание – начать коллекционировать архитектуру. Ведь прежде чем приступить к серьезным тренировкам, нужно иметь в своем распоряжении множество дворцов памяти.
Я гулял по своему району, заходил в гости к друзьям, на детскую площадку, на стадион «Ориол Парк» в Кэмден-Ярдз в Балтиморе, в восточное крыло Национальной галереи искусства. Переместился назад во времени – в старшую и начальную школу, в дом на Рино-роуд, где мы с семьей жили, пока мне не исполнилось четыре. Я сосредотачивал внимание на обоях и расположении мебели. Пытался почувствовать пол под ногами. Вспоминал события, которые произошли в этих местах и вызвали тогда сильные эмоции. А потом разделял каждое из этих зданий на локи, которым предстояло стать хранилищем моих воспоминаний. Основной моей целью, как объяснил Эд, было изучить эти дома вдоль и поперек – иметь целую серию таких ярких и конкретных ассоциаций с каждым уголком каждой комнаты, чтобы, когда придет время запоминать новую информацию, я смог быстро пробежаться по моим дворцам, сея образы с такой же скоростью, с какой они будут рождаться в моем воображении. Чем лучше я буду знать здание и чем в большей степени чувствовать себя там как дома, тем глубже в нем укоренятся образы и тем легче они будут в последствии воссоздаваться. Эд решил, что для начала тренировок мне нужно около дюжины дворцов памяти. У него самого их было несколько сотен – целый мегаполис складов в уме.
Сейчас настало время выложить все карты на стол и рассказать об условиях, в которых я существовал в то время, когда началось мое увлечение – тогда несерьезное – тренировками памяти. Я недавно закончил колледж, пытался сделать карьеру журналиста и жил в родительском доме в Вашингтоне, где прошло мое детство. Спал я в своей детской комнате, где над окном висели два флажка с символикой Baltimore Orioles, а на полке стояла книга стихов Шела Силверстейна[33]. Работал я в подвале, в неком подобии кабинета, за столом, который я впихнул между папиным Nordic Track[34] и горой коробок, набитых старыми семейными фотографиями.
Стены моего кабинета были сплошь залеплены клейкими бумажками– «напоминалками» и длинными списками того, что требовало моего времени и усилий: имена людей, которым надо было перезвонить, идеи для статей, которые следовало обдумать, рутинные личные и профессиональные дела, ожидающие, когда я них возьмусь. Вдохновленный успехом в Центральном парке, я оторвал бумажки с записями наиболее срочных дел, перекодировал их в образы и разместил во дворце памяти, сконструированном на основе ранчо моей бабушки. «Отогнать машину на техосмотр» превратилось в образ инспектора Гаджета[35], ходившего кругами вокруг старого Buick на подъездной дорожке. «Найти книгу об африканских вождях» трансформировалось в зулуса Чаку[36], барабанящего копьем в бабушкину дверь. «Забронировать билет в Финикс» привело к тому, что бабушкина гостиная превратилась в пустыню и каньоны и на античном буфете феникс восставал из пепла.
Все это было, конечно, хорошо и даже забавно, но и ужасно утомительно. Усвоив таким образом всего около десяти «напоминалок», я обнаружил, что физически устал и мой мысленный взор будто бы налит кровью.
Все оказалось куда труднее, чем думалось поначалу. И не так эффективно. К тому же я даже не представлял, что делать с некоторыми вещами. Как превратить телефонные номера в образы? Что делать с письмами? Я рухнул в кресло. Вся моя ладонь была обклеена «напоминалками». Откинувшись на спинку кресла, я поднял взгляд на стену, где между оставшимися наклейками появилось несколько новых квадратиков грязно-белого цвета, и задумался, есть ли во всем этом смысл. По правде говоря, стикеры на стене отлично работали. Несомненно, искусству запоминания можно было найти более достойное применение.
Я встал и взял с книжной полки Нортоновскую антологию современной поэзии. Это был 1800-страничный кирпич, который я как-то купил в букинистическом магазине и с тех пор открывал всего пару раз. Я подумал: уж если древнее искусство запоминания и может для чего-либо пригодиться, то, конечно, для выучивания стихотворений. Ведь Симонид не стал героем античного мира потому, что изобрел хитроумный способ запоминать списки дел. Его открытие было призвано служить облагораживанию жизни. А что способно облагородить лучше, чем заучивание стихов?
Эд, как я уже выяснил, постоянно что-то запоминал. Он давным-давно выучил (со скоростью 2000 строк в час, поведал он мне) почти весь «Потерянный рай» и теперь потихоньку продирался через Шекспира. «Моя жизненная философия такова: герой должен быть способен выдержать десять лет в одиночной камере без того, чтобы это ему слишком уж опостылело, – говорил Эд. – Если за час можно выучить стихотворение, декламация которого занимает десять минут, и этот десятиминутный стих достаточно информативен, чтобы дать пищу для размышления на полный день, то получается, из часа запоминания можно выжать где-то по целому нескучному дню – если, конечно, когда-либо придется сидеть в одиночке».
Такое мировоззрение многим обязано античным и средневековым текстам о памяти, которые Эд так непреклонно пытался навязать мне. Авторы тех времен рассматривали хорошую память не как инструмент, позволяющий облегчить доступ к информации, а как средство укрепить мораль и стать более цельным человеком. Тренированная память была ключом к развитию «суждений, гражданственности и благочестия»{25}. То, что запоминал человек, помогало формировать его личность. Чтобы стать гроссмейстером в шахматах, нужно запомнить множество старых игр, а чтобы стать гроссмейстером в жизни, необходимо запомнить множество старых текстов. В трудных ситуациях где искать совета как не в глубинах собственной памяти? Простое чтение не является изучением – с этим фактом я сталкивался всякий раз, когда пытался вспомнить содержание книги, которую только что отложил. Чтобы по-настоящему изучить текст, нужно его запомнить. Как сказал Ян Лейкен, голландский поэт начала XVIII в.: «И кипа в сотню книг не будет столь ценна{26}, как та одна, что сердцем создана».
Античный и средневековый способы чтения разительно отличались от того, как мы читаем в наши дни. Человек не просто запоминал текст, он раздумывал над прочитанным – жевал и пережевывал его как жвачку – и в процессе становился так близко с ним знаком, что текст превращался в часть его самого. Как писал Петрарка в письме к другу: «Я съел утром то, что буду переваривать вечером. То, что я поглотил мальчиком, я переварю взрослым. Я тщательнейшим образом впитал эти письмена, вживив их не только в мою память, но и в сам костный мозг». Говорили, что Августин настолько пропитался псалмами, что они наряду с латынью оказали решающее влияние на его авторский стиль{27}.
Я представил, что будет, если я научусь запоминать, как Симонид. Заманчивая перспектива! Я смогу запоминать сонм стихотворений. Смогу проглотить самое лучшее стихотворение и по-настоящему впитать его в себя. Я представил, как стану одним из тех удивительных (и порой невыносимых) индивидов, всегда располагающих подходящей цитатой, которую можно ввернуть в разговор. Вообразил себя ходячим хранилищем стихов.
Я решил сделать запоминание частью своих ежедневных дел. Как чистку зубов зубной нитью. Только я действительно собирался это делать. Каждое утро, проснувшись и выпив кофе, но еще до того, как прочитать утреннюю газету, залезть в душ и переодеться, я садился за стол и проводил 10–15 минут, работая над стихотворением.
Основная проблема заключалась в том, что это дело было совершенно не для меня. Когда я садился и пытался разместить во дворце памяти стихотворение Льюиса Кэрролла «Бармаглот» – 28 строк совершенно бессмысленных слов, – я не мог додуматься, как превратить «варкалось» и «хливкие шорьки» в образы. В конечном итоге я просто механически заучил стихотворение, что я ни в коем случае не должен был делать. Затем я взялся за Т. С. Элиота и «Песнь любви Дж. Альфреда Пруфрока», стихотворение, которым я всегда восхищался и из которого уже знал некоторые отрывки. «Дамы входят в зал, а потом выходят, рассуждая о Микеланджело». Как я мог это забыть? Или, что вернее, как я мог это запомнить? Должен ли я был поместить образы женщин, которые то входят, то выходят и попутно болтают о Микеланджело, в ванную своего дядюшки? И как это должно было выглядеть? Или мне нужно было создать все по отдельности – образ женщин, образ входящего, образ выходящего и еще образ Микеланджело? Я совершенно запутался. И это отнимало целую уйму времени. Все эти техники, которые казались такими многообещающими поначалу, когда я с немеющими пальцами примостился рядом с Эдом на камне в Центральном парке, работали не так хорошо в подвале дома моих родителей. Дело обстояло так, словно я примерил в магазине новую пару кроссовок, а когда надел их дома, стер ноги до волдырей. Я явно что-то упустил.
Я обратился к недавно приобретенной «Риторике для Геренния» и открыл раздел, где речь шла о запоминании слов. Я надеялся найти там хоть какие-нибудь подсказки, понять, почему у меня ничего не получается, но единственное, что могла предложить мне двухтысячелетняя книга, – сочувствие. Запоминать произведения поэзии и прозы очень сложно, охотно признает автор. Но в этом и есть смысл. Он объясняет, что запоминание текстов полезно именно тем, что оно дается с трудом, а не играючи. «Я полагаю, что те, кто хочет совершать простые вещи без проблем и упорного труда, должны сначала поднатореть в вещах трудных», – пишет он.
В ходе первых бестолковых попыток освоить техники запоминания я еще не полностью осознавал масштаб предприятия, в которое ввязался. Я по-прежнему считал это безобидным экспериментом. Мне только хотелось проверить, действительно ли я в состоянии улучшить свою память, и если да, то насколько. Я, очевидно, не воспринял всерьез предложение Тони Бьюзена поучаствовать в чемпионате Соединенных Штатов по запоминанию. В конце концов, есть более трех дюжин интеллектуальных спортсменов, которые каждый год усердно готовятся к этим соревнованиям, проходящим в марте в Нью-Йорке. Разве можно было подумать, что журналист, периодически забывающий номер собственной страховки, может соперничать с умнейшими людьми Америки? Но, как я вскоре узнаю, американцы в кругу интеллектуальных спортсменов мира – как ямайцы в бобслее: самые последние. Может быть, самые расслабленные и самые стильные, но на международной арене мы все равно в самом хвосте по технике и подготовке.
Да, американские мнемоники способны запомнить за час сотни случайно взятых чисел, но рекорды Соединенных Штатов бледнеют перед европейскими достижениями. Никто в Северной Америке не принимает искусство запоминания настолько серьезно, чтобы перестать пить за три месяца до чемпионата мира, как это делал восьмикратный чемпион мира Доминик О'Брайен. Практически никто не придерживается строгого режима физических тренировок, который рекомендует Бьюзен. (Одним из первых советов, данных мне, было привести себя в форму.) Никто не поглощает стаканами рыбий жир и не принимает пищевую добавку «Омега-3». Единственным американцем, когда-либо принятым в общество KL7, был четырехкратный чемпион страны Скотт Хэгвуд. И хотя Америка проводит чемпионаты по запоминанию столь же давно, как и другие страны, победитель американского чемпионата лишь однажды вошел в пятерку лучших на чемпионате мира – в 1999 г.
То, что Америка не воспитала ни одного победителя мирового первенства мнемоников, возможно, связано с нашим менталитетом. Мы не так сильно зацикливаемся на деталях, как немцы, не так педантичны, как британцы, и не настолько же целеустремленны, как малайцы. Или же, как трезво предположил один европеец, у американцев такая слабая память потому, что мы заняты мыслями о будущем, тогда как людей по ту сторону Атлантики больше волнует прошлое. Но так или иначе, если я хотел узнать больше об искусстве запоминания – и если хотел учиться у лучших в мире, – мне нужно было отправиться в Европу.
Потратив несколько недель на мучительные попытки заполнить мои дворцы памяти поэзией, я решил, что пора уже обратиться за помощью, чтобы выйти на новый уровень. Прадед всех региональных чемпионатов, чемпионат мира по запоминанию, должен был состояться в английском Оксфорде в конце лета. Я решил, что просто обязан туда попасть, и уговорил журнал Discover отправить меня в Великобританию с заданием написать статью об этих соревнованиях. Я позвонил Эду и спросил, могу ли у него остановиться. Оксфорд был его территорией: здесь он вырос, учился в колледже, а теперь жил вместе с родителями в загородном доме – каменном строении XVII в., называемом Милл Фарм.
Я приехал в Милл Фарм (или Милф, как его периодически называл Эд) летним солнечным деньком за несколько суток до начала чемпионата мира по запоминанию. Эд встретил меня и помог отнести мои чемоданы к нему в спальню – ту самую, где он вырос. На полу в комнате была разбросана одежда, а на полках стояло собрание альманахов по крикету за 90 лет. Эд провел меня в самое старое крыло дома, перестроенный четырехсотлетний каменный амбар, присоединенный к кухне. В углу стояло пианино, а с потолка свисали разноцветные полоски ткани, так никогда и не убранные после вечеринки, которая состоялась годы назад. В конце помещения стоял длинный деревянный стол с разложенными на нем восемью колодами игральных карт.
«Тут я и практикуюсь, – сказал Эд и указал на выступ в верхней части стены амбара. – Образы двоичных чисел струятся с этих ступенек вниз, сюда, через всю комнату. Это именно то место, где должен тренироваться чемпион, правда?»
Незадолго до обеда зашел поздороваться друга детства Эда Тимми. Когда мы с Эдом спустились вниз, Тимми сидел за столом и беседовал с родителями Эда Тин и Родом, пока его младшая сестра Фиби нарезала на кухне выращенные в саду овощи. Тимми руководил компанией по разработке онлайн-приложений. Он приехал на BMW, был одет в свеженькую тенниску, а его кожу покрывал легкий загар.
Тин представила меня и с кривоватым смешком объяснила, что Эд – мой тренер по развитию памяти. Тимми, казалось, не мог поверить, что Эд до сих пор увлекается запоминанием. Ведь со времен его сумасшедшей поездки в Куала-Лумпур прошло уже порядочно времени.
– Эдвард, ты не боишься, что твой новый ученик тебя превзойдет? – поинтересовалась Тин больше для того, чтобы подколоть сына.
– Думаю, тут не о чем волноваться, – сказал я.
– Это был бы тяжелый удар для нашей системы образования, – с гордостью произнес Эд.
– Может, ты мог бы устроить Эда на приличную работу в офисе? – спросил Род у Тимми.
Эд рассмеялся.
– Да-да, я мог бы вести курсы по тренировке памяти для твоих сотрудников.
– Ты мог бы заняться программированием, – предложила Тин.
– Я не умею программировать.
– Отец бы тебя научил.
Род сколотил небольшое состояние в 1990-х гг., разрабатывая компьютерные программы, и, рано выйдя на пенсию, теперь наслаждается жизнью, полной праздности и эксцентричных увлечений. Он занимается садоводством, разводит пчел и хочет отрезать Милл Фарм от общей электросети, использовав свои права на протекающий рядом с домом ручей и установив там гидрогенератор. Тин – преподаватель в местной школе для детей с замедленным развитием, страстная поклонница чтения и теннисистка. Она спокойно относится к странностям Эда, но надеется, что сын однажды образумится и перенаправит свои таланты в более узконаправленное и, возможно, социально полезное русло.
– Что насчет юриспруденции, Эдвард? – спросила она.
– Я считаю юриспруденцию переливанием из пустого в порожнее – то есть совершенно бесполезной тратой жизни, – ответил Эд. – Быть хорошим адвокатом значит способствовать торжеству несправедливости, – Эд наклонился ко мне. – В 18 я был довольно-таки многообещающим молодым человеком.
Это высказывание побудило Фиби вступить в разговор:
– Скорее уж в 13.
Когда Эд отошел в ванную комнату, я поинтересовался у Рода, разочаровался ли бы он, стань его сын следующим Тони Бьюзеном – фантастически богатым авторитетом в вопросах самоусовершенствования. Род задумался на пару секунд и потер подбородок. «Думаю, я бы все же предпочел, чтобы он стал адвокатом».
На следующее утро в экзаменационном зале Оксфордского университета, где собрались лучшие мнемоники мира, Эд растянулся на кожаном диване в ярко-желтой кепке и футболке с жирной надписью «Эд надирает задницы – 220», красующейся поперек груди над термоаппликацией в виде фотографий его самого – эдакий грозный мультяшный персонаж, проводящий удар карате, – и женской попки в стрингах. (Отбиваясь от издевательских шуток, Эд объяснил, что эти три слова, «Эд надирает задницы», – не что иное, как мнемонические подсказки, которые помогает ему запомнить число 220.) Он курил (необходимость физических тренировок никогда не принималась им всерьез) и тепло приветствовал каждого прибывавшего конкурсанта. Эд сообщил, что со времени нашей последней встречи он прервал работу над своей диссертацией в Париже и взял бессрочный академический отпуск, чтобы заняться «другими проектами». Кроме того, реализацию их с Лукасом больших планов по созданию Оксфордской мыслительной академии придется отложить, потому что вскоре после чемпионата Соединенных Штатов Лукас сильно обжег легкие, когда трюк с глотанием огня пошел не так, как надо.
Чемпионаты по запоминанию проходят в обстановке патологически острой личной конкуренции, и Эд объяснил, что тщеславная надпись на футболке – часть «кампании по показному устрашению» с целью «улучшить качество того, как оппоненты, в особенности немцы, задирают друг друга». С той же целью он появился на чемпионате с одностраничным информационным листком, экземпляры которого раздавал представителям прессы и коллегам. В этом листке он рассказал (в третьем лице) о себе: «дерзкий и яркий, готовый ко всему (особенно вчера)», а также о режиме своих тренировок: «ранний подъем, йога, прыжки со скакалкой, суперпища (включая чернику и рыбий жир), четырехчасовые тренировки, два бокала вина каждый день (из винограда, выращенного на богатой калием почве Лангедок-Руссильона в Южной Франции), полчаса расслабления каждый вечер на закате и ведение онлайн-дневника». В примечаниях было указано, что его «уникальные способности» включают в себя осознанные сновидения и тантрический секс. Там же Эд упомянул Тони Бьюзена («чемпион по бальным танцам и мой наставник в период становления») и изложил свое видение будущего соревнований по запоминанию: он «надеется, что запоминание войдет в список олимпийских дисциплин до 2020 г.», когда он «планирует выйти на пенсию и прожить остатки жизни в синестезии и старческой немощи». Его планы после соревнования: «совершить революцию в западном образовании».
Рядом с Эдом на диване расположился легендарный чемпион мира по запоминанию Бен Придмор – человек, которого до того момента я знал только по рассказам и сведениям из Google. (Например, я слышал, что он может запоминать игральные карты с той скоростью, которая требуется для того, чтобы их переворачивать.) Бен был одет в старенькую, с растянутым воротом, футболку «от Доктора Сьюза», украшенную надписью «Одна рыбка, две рыбки, красная рыбка, синяя рыбка»[37]. В руках он теребил австралийскую шляпу Гробовщика[38] – черный широкополый головной убор из кожи буйвола, который носил, не снимая, последние шесть лет. «Это моя фишка, – мягко пояснил он. – Часть моей души».
Рядом стоял черно-розовый рюкзак со словами Pump It Up[39], выведенными на его тыльной части. Бен поведал, что в рюкзаке ожидают двадцать две колоды карт, которые на следующий день он собирается запомнить за один час.
С лысой головой, густой бородой, очками на пол-лица и большими глазами, Бен казался известным персонажем Роберта Крамба[40]. У него даже были такие же поднятые плечи и чудаковатая походка. Подошвы его поношенных кожаных ботинок шлепали по полу как резиновые шлепанцы. Он говорил с мягким йоркширским – немного в нос – акцентом, из-за которого «мой» звучало как «меня». «Я ненавижу звук собственного голоса», – сказал он, когда пытался объяснить, почему так и не перезвонил мне на прошлой неделе. Практически первым, что Придмор рассказал мне о себе, было то, что он, по его сведениям, самый юный недоучившийся студент в Англии. «Меня приняли в Кингстоунский университет в 17 лет, и я бросил его через шесть месяцев. Сейчас мне 28, и это ввергает меня в депрессию. Мне кажется, что я уже старик среди интеллектуальных спортсменов. А когда-то я был многообещающим новичком».
Неудачи следовали за Беном по пятам. Он не собирался на чемпионат мира по запоминанию. Последние шесть месяцев он посвятил запоминанию первых 50 000 знаков после запятой в числе π, которые он собирался зачитать на память на Олимпиаде интеллектуального спорта – семидневном фестивале настольных игр, который обычно устраивается через неделю после чемпионата мира по запоминанию. Это был бы новый рекорд. Но за месяц до этого загадочный японский мнемоник Акира Харагути появился из ниоткуда с выученной 83 431 цифрой. Чтобы произнести их все, потребовалось 16 часов и 28 минут.
Бен прочитал об этом достижении в Интернете и был вынужден пересмотреть свои планы. Вместо того чтобы доучивать оставшиеся 33 432 цифры, он сдался и посвятил свое время защите титула чемпиона мира по запоминанию. Последние шесть недель он провел, очищая дворцы памяти, прежде посвященные числу π, уничтожая тяжелый труд прошлых месяцев, чтобы он смог снова использовать дворцы на чемпионате мира.
Большинство интеллектуальных спортсменов пришли в этот вид спорта так же, как и я: увидели однажды человека, исполняющего невероятный трюк с памятью, решили, что это здорово, запомнили принцип и затем отправились домой, чтобы попробовать применять его самостоятельно. Бен же пропустил один важный шаг. Он увидел, как кто-то запоминает последовательность игральных карт, сказал себе, что это здорово, отправился домой и попробовал проделать это сам. Только вот никто и никогда не объяснял ему, как это надо делать. Не зная ни одной техники, Бен просто вглядывался в карты снова и снова, пока они не впечатывались в его память. Он продолжал проделывать это в свободное время в течение нескольких месяцев, предполагая, что однажды все начнет получаться само собой. Он добился того, что с помощью механического заучивания запоминал карты за 15 минут – результат во многом более впечатляющий, чем его мировой рекорд в 32 секунды, достигнутый благодаря мнемоническим приемам. О дворце памяти Бен узнал, только когда приехал на свой первый чемпионат мира по запоминанию в 2000 г. В конце первого дня соревнований (он завершил его практически на последнем месте) Бен отправился в книжный магазин и купил одну из книг Тони Бьюзена, решил, что запоминание – это то, к чему у него талант, и забросил все остальные увлечения, включая предыдущее дело жизни – посмотреть каждый из 1001 демонстрировавшегося в кинотеатрах мультфильма производства студии Warner Bros. 1930–1968-х гг.
Бен трудился над книгой «Как быть умным», которая учит, как определить день недели для любой исторической даты, как запомнить последовательность карт в колоде и как обмануть IQ-тест. «Эта книга о том, как убедить людей, что вы очень умны, при этом не повышая ваших умственных способностей, – рассказал он. – Но, увы, мне не удается много писать, потому что всегда находятся более важные вещи, например мультики. А если бы я собрался писать книгу о том, как улучшить жизнь, то вышла бы полная ерунда, потому что я понятия не имею, как улучшить собственную жизнь».
Главным фаворитом среди претендентов на чемпионский титул Бена Придмора был доктор Гюнтер Карстен, лысеющий сорокатрехлетний крестный отец немецкого интеллектуального спорта, который выигрывал все чемпионаты Германии по запоминанию с 1998-го. Гюнтер пришел в том, что, как я позже узнал, было его стандартной униформой: во внушительных черных противошумных наушниках и металлических солнечных очках, заклеенных изнутри почти полностью так, что остались только два крошечных отверстия. «Сторонние раздражители», как называл их Гюнтер, это bête noir[41] любого мнемоника. (Один вышедший на пенсию датский мнемоник приходил на соревнования с лошадиными шорами.) На ремне у Гюнтера была золотая пряжка с его инициалами, золотая цепочка поверх обтягивающей белой футболки и черные матросские штаны, расклешенные книзу. Гюнтер сообщил мне, что в колледже подрабатывал фотомоделью для рекламы машин Nissan, и в зависимости от того, с какой стороны на него посмотреть, он выглядел либо как злодей из фильма о Джеймсе Бонде, либо как стареющий фигурист. Он был в отличной физической форме и, как я вскоре узнал, жестким соперником. Хотя одна его нога немного короче другой (последствие перенесенного в детстве заболевания костей), Гюнтер регулярно принимает участие в забегах для мужчин среднего возраста – и побеждает. С собой он взял запертый чемоданчик из блестящего металла, заполненный 20–30 колодами карт, которые он планировал запомнить. Точное количество он мне не сказал, потому что боялся, что оно станет известно Бену Придмору.
Соревнование проходило в одном из знаменитых старых зданий Оксфорда, в большом помещении со стенами, обитыми дубовыми панелями, с высокими окнами в готическом стиле и огромными портретами третьего графа Литчфилда и 14-го графа Дерби. Зал был обставлен так же, как и во время учебного года, когда он используется для сдачи экзаменов студентами старших курсов. Стояли четыре дюжины парт, к каждой из которых был приделан цифровой секундомер высотой шесть дюймов. Секундомеры предназначались для последнего и наиболее захватывающего состязания – скоростного запоминания карт, когда спортсмены должны запомнить колоду так быстро, как только возможно.
Если чемпионат Соединенных Штатов включает в себя только пять отдельных соревнований, каждое из которых продолжается не более 15 минут, мировой чемпионат по запоминанию часто называют интеллектуальным десятиборьем. Десять различных состязаний, именуемых «дисциплинами», проходят в течение трех дней, и каждое из них проверяет память участника разным способом. Спортсмены должны запомнить прежде не опубликованное стихотворение, занимающее несколько страниц, списки случайно выбранных слов (рекорд 280 слов за 15 минут), списки двоичных цифр (рекорд 4140 за полчаса), последовательность игральных карт в перемешанных колодах, перечень исторических дат, а также «имена-и-лица». Состязания по некоторым дисциплинам, называемым «скоростными соревнованиями», показывали, как много конкурсанты могут запомнить за пять минут (рекорд 405 чисел). Были и две своего рода марафонские дистанции, призванные выявить, сколько случайно взятых цифр и перемешанных колод карт способен запомнить участник за час (рекорд 2080 цифр и 27 колод).
Первый чемпионат мира по запоминанию был проведен в роскошном клубе «Атенеум» в Лондоне в 1991 г. «Я думал, это безумие, – вспоминает Тони Бьюзен. – У нас были чемпионаты по решению кроссвордов. У нас были чемпионаты по игре в скрабл. Чемпионаты по шахматам, бриджу, покеру, канасте и го. Проводились чемпионаты по естественным наукам. А для самого основного, главнейшего из всех человеческих когнитивных процессов, запоминания, чемпионата нет». Еще он понимал, что сама идея «чемпиона мира по запоминанию» будет необычайно притягательна для средств массовой информации и поможет ему раскрутить свои книги по развитию памяти.
С помощью своего друга Реймонда Кина, английского гроссмейстера и автора ежедневной шахматной колонки в лондонской Times, Бьюзен разослал письма людям, которые, как он знал, занимались тренировками памяти, и поместил в Times объявление о соревновании. В состязаниях приняли участие семь человек. Среди них были медбрат из психиатрической клиники Крейтон Карвелло, запомнивший телефонные номера всех Смитов в телефонной книге Мидлсбро, и Брюс Балмер, который установил рекорд, запомнив 2000 иностранных слов за один день. Некоторые из участников пришли в смокингах.
Соревнующиеся больше не придерживаются строгого дресс-кода, но зато все остальное на чемпионате стало куда сложнее, чем было в 1991-м. То, что начиналось как однодневный конкурс, разрослось на целый уик-энд. Из всех дисциплин трехдневного интеллектуального десятиборья – самая первая в самый первый день, стихотворение, – оказалась и самой сложной. Именно за этими состязаниями я, памятуя о собственных провальных попытках учить стихи, хотел понаблюдать больше всего. Каждый год Гюнтер пытается лоббировать исключение этого вида соревнований из общего списка дисциплин или же изменить правила на более, как он утверждает, «объективные». Но ведь именно с поэзии началось искусство запоминания, и удаление ее из программы чемпионата только из-за того, что некоторые конкурсанты считают ее слишком сложной, пошло бы вразрез с базовыми принципами, утверждающими, что запоминание – это творческое и облагораживающее занятие. Так что каждый год для мирового чемпионата выбирается новое, прежде нигде не публиковавшееся стихотворение. В первые годы чемпионата, в начале 1990-х, стихотворения писались британским поэтом-лауреатом[42] Тедом Хьюзом, которого Тони Бьюзен называл «старым другом». После смерти Хьюза в 1998 г. стихотворения стал писать сам Бьюзен. В этом году это был 108-строчный белый стих «Помилуй!», взятый из сборника «Реквием по Теду». Оно начиналось так:
«Мне счастье дарит
все, что есть во Вселенной:
Сверхновые,
И Конской Головы туманность,
И Краб,
И в тысячи парсеков облака,
Что у истоков звезд стояли».
Далее следовал список всех тех вещей, которые доставляли Тони Бьюзену радость, включая «мерзнущие Божьи яйца». А в конце стояло:
«Но я несчастен:
Теда
Больше Нет».
Конкурсантам давалось 15 минут, чтобы запомнить как можно больше строк, а потом полчаса, чтобы написать их на чистом листе бумаги. Чтобы получить полный балл за строку, она должна быть воспроизведена в точности, вплоть до каждой заглавной буквы и знака пунктуации. Те, кто забывал подчеркнуть, насколько автор «несчастен», или полагал, что Теда нет с маленькой буквы, получали за строку лишь половину балла.
Вопрос, как лучше запоминать отрывок текста или речи, мучил мнемоников на протяжении тысячелетий. Ранние трактаты о памяти описывали два вида памяти: memoria rerum и memoria verborum – память на вещи и память на слова. Столкнувшись с текстом или речью, можно было начать запоминать смысл, а можно было запоминать слова. Римский преподаватель риторики Квинтилиан полагал, что в случае запоминания такого огромного количества образов memoria verborum была бы неэффективна, так как ей бы понадобился огромный дворец памяти, и, кроме того, нестабильна. Если, запоминая тексты, вы опираетесь на запоминание каждого слова, вы не только будете вынуждены больше запоминать, но и, в случае если вдруг забудется хотя бы одно слово, рискуете оказаться запертым во дворце памяти, растерянно глядя на голые стены и не зная, в каком направлении двигаться.
Цицерон соглашался, что лучшим способом запомнить письменный или устный текст будет запомнить его не от слова к слову, а от мысли к мысли, задействовав memoria rerum. В своей книге «Об ораторе» он советовал при подготовке речи мысленно заготовить образы, напоминающие о каждой важной теме, которую оратор планировал затронуть, и поместить эти образы в loci. Действительно, ведь слово topic[43] произошло от греческого topos, или «место». (Сама фраза «На первом месте», то есть «сначала», своими корнями уходит в искусство запоминания.)
Запоминание слов – это именно то, к чему наш мозг плохо приспособлен. Этот факт был проиллюстрирован слушаниями в конгрессе в связи с Уотергейтским делом в 1973 г. Давая показания расследовавшему это дело комитету, советник президента Никсона Джон Дин докладывал конгрессменам о содержании множества встреч, связанных с сокрытием факта взлома. К досаде президента и радости комитета, Дин был способен слово в слово воспроизвести многие беседы, проходившие в Овальном кабинете. Его воспоминания были такими подробными и точными, что репортеры назвали его «живым магнитофоном». В то время еще не было известно, что в Овальном кабинете был установлен и настоящий магнитофон, который записывал разговоры, пересказанные Дином по памяти.
Пока вся страна размышляла о политическом смысле этих магнитофонных записей, психолог Ульрих Найссер счел их настоящим кладом. Найссер сравнил записи с показаниями Дина и проанализировал то, что Дин запомнил правильно и в чем ошибся. Дин не только не сумел сохранить в памяти специфические фразы слово в слово – verborum, – он часто даже неправильно запомнил содержание разговора – rerum. Но, несмотря на то что память подводила Дина в отдельных эпизодах, Найссер отмечает, что «в общем смысле тот был прав». Основные тезисы, прозвучавшие в показаниях советника президента, соответствовали действительности: «Никсон хотел, чтобы заметание следов сработало; он был доволен, когда все прошло хорошо; президент заволновался, когда все стало раскрываться; он был готов прибегнуть к незаконным действиям, если бы это помогло ему сбить с толку противников». Джон Дин ничего не переврал, он просто ошибся в некоторых деталях, утверждал Найссер, а суть важных моментов передал верно. Мы все поступаем так же, когда речь заходит о воспроизведении разговоров, потому что без специальных тренировок наша память обычно концентрируется на главном.
В том, что наш мозг работает таким образом, есть смысл. Работа мозга сопряжена с большим количеством затрат. Мозг весит всего 2 % массы человеческого тела, но использует пятую часть всего вдыхаемого нами кислорода и потребляет четверть всей глюкозы. Это самый энергоемкий орган, и в ходе естественного отбора природа настроила мозг таким образом, чтобы он мог эффективно справляться с возложенными на него задачами. Можно сказать, что наша нервная система, от органов чувств, получающих информацию, до сети интерпретирующих эту информацию нейронов, существует, чтобы мы могли выработать понимание того, что проистекает в настоящем и что случится в будущем, – понимание, необходимое для наиболее адекватного ответа на происходящее. Избавленные от эмоций и философствования, неврозов и мечтаний, наши мозги, в самом базовом их предназначении, – это просто машины для предсказания и планирования. И чтобы эффективно работать, им нужно как-то упорядочивать хаос потенциальных воспоминаний. Из бесконечного потока информации, льющейся от всех органов чувств, наш мозг должен быстро вычленить информацию, которая может пригодиться в будущем, и уделить ей внимание, игнорируя остальной шум. Большая часть этого хаоса, которую наш мозг не пропускает, – это именно слова, потому что чаще всего словесная форма, в которую мы облекаем идею, – просто бутафория. Важно лишь res, значение этих слов. И именно его наш мозг настроен воспринимать. В реальной жизни редко когда требуется помнить сказанное дословно. Разве что в ходе расследований в конгрессе или при заучивании стихов на международных чемпионатах по запоминанию.
Пока история не распорядилась иначе, культурная трансмиссия осуществлялась в устной форме, и поэзия, передаваемая из уст в уши, являлась основным инструментом передачи информации сквозь пространство и от поколения к поколению. Устная поэзия была не просто средством, позволявшим поведать интересную или важную историю, и не пищей для воображения. Она представляла собой, как утверждает специалист по античности Эрик Хейвлок, «гигантское хранилище полезной информации, своего рода энциклопедию, содержавшую сведения по этике, политике, истории и технологиях, которые каждый гражданин должен был усвоить как основу своего образования»{28}. Величайшие образцы устной поэзии являлись носителями общего культурного наследия, и люди сообща хранили их не на книжных полках, а в головах.
Профессиональные мнемоники{29} существовали в устных культурах по всему миру, чтобы передавать культурное наследие через поколения. В Индии дословное запоминание Вед{30} было возложено на целую касту жрецов. В доисламском арабском мире люди, известные как рави, часто должны были сопровождать поэтов, чтобы запоминать их произведения{31}. Буддистские учения передавались по непрерывной цепочке устной традиции на протяжении четырех веков, пока не были наконец записаны на Шри-Ланке в I в. до н. э. Веками группа нанятых кладовщиков памяти – tannaim (дословно «декламаторы») – заучивала устные законы для всего еврейского сообщества{32}.
Самыми известными произведениями устной поэзии и первыми, ставшими предметом систематического изучения, были «Одиссея» и «Илиада» Гомера. Эти две поэмы – возможно, первые, которые были записаны греческим алфавитом, – долго считались прообразами всех литературных творений. Однако даже при том, что их считали идеалом, к которому должны были стремиться все другие сочинения, творения Гомера вызывали у ученых ощущение растерянности. Ранние критики чувствовали в них качественное отличие от того, что создавалось впоследствии, – даже некоторую странность. Например, в обеих поэмах присутствовали непонятно чем обусловленные повторы, особенно при описании персонажей. Одиссей всегда «мудрый Одиссей». У богини зари всегда «розовые пальцы». Зачем кто-то стал бы писать так? Иногда эпитеты казались совершенно неуместными. Зачем называть убийцу Агамемнона «безвинным Эгисфом»? Зачем называть Ахиллеса «быстроногим», даже когда тот сидит? Или Афродиту «смеющейся», когда та в слезах? Стиль и структура «Одиссея» и «Илиады» странным образом изобиловали шаблонами, вплоть до предсказуемости. Одни и те же куски повествования – собирание армий, героические спасения, поединки между врагами{33} – всплывали снова и снова, только с разными персонажами в разных обстоятельствах. В контексте хитросплетений тщательно обдуманного сюжета эти детали было трудно объяснить.
Изучение произведений Гомера ввергло исследователей в недоумение потому, что ученые оказались не в состоянии ответить на два основных вопроса. Во-первых, как греческая литература могла появиться ex nihilo[44], причем сразу разродиться двумя шедеврами? Наверняка должны были существовать другие, менее совершенные творения, созданные ранее, но тем не менее эти две поэмы – одни из первых известных нам литературных произведений. И, во-вторых, кто именно был их автором? Или авторами? Нет никаких письменных упоминаний о мужчине по имени Гомер, никакой достоверной биографии, кроме нескольких намеков на личность автора в самом тексте.
Жан-Жак Руссо был первым из критиков, кто предположил, что Гомер может и не быть автором в современном смысле, подразумевающем, что кто-то садится и пишет свою книгу, а затем публикует ее. В эссе «О происхождении языков» от 1781 г. философ выдвинул гипотезу: «Одиссея» и «Илиада» могли быть «написаны в человеческой памяти, и только потом они были тщательно собраны и запечатлены в письменной форме». Но это так и осталось гипотезой{34}. В том же XVII в. английский дипломат и археолог Роберт Вуд предположил, что Гомер был безграмотным и сочинял, полагаясь только на память. Теория была революционной, но Вуд не сумел поддержать ее догадками относительно того, как Гомер смог достичь таких высот в искусстве запоминания.
В 1795 г. немецкий филолог Фридрих Август Вульф впервые заявил, что произведения Гомера были не только не записаны Гомером, но и созданы не им. Они скорее являлись собранием слабо связанных друг с другом песен, которые передавались из поколения в поколение греческими бардами и позже были скомпонованы для того, чтобы их можно было облечь в письменную форму.
В 1920 г. восемнадцатилетний студент Милмен Пэрри поднял вопрос об авторстве Гомера на семинаре своего научного руководителя в Калифорнийском университете в Беркли. Он предположил, что эпические поэмы Гомера кажутся непохожими на иные произведения по той причине, что они не были похожи на иные произведения. Пэрри обнаружил то, что пропустили Вуд и Вульф: доказательства того, что поэмы передавались изустно, были скрыты в самом тексте. Все стилистические причуды, включая схожие или повторяющиеся элементы сюжета и беспричинно повторяющиеся эпитеты, такие как «мудрый Одиссей» и «зеленоглазая Афина», которые всегда озадачивали читателя, были как отпечатки рук, оставленные горшечником на его изделии, – материальным свидетельством о том, как «изготовлялись» поэмы. Все эти непонятные элементы – это мнемонические подсказки, которые помогали бардам выдерживать темп и соблюдать рифму, а также не забывать общее содержание. Величайший автор античности оказался, как утверждал Пэрри, всего лишь «одним из звеньев в длинной веренице устных поэтов, которые… сочиняли, не прибегая к письму»{35}.
Пэрри понял, что, если вы захотите создать по-настоящему запоминающиеся поэмы, вы создадите как раз «Одиссею» и «Илиаду». Считается, что использование штампов – страшный грех писателя, но для устного рассказчика штампы были жизненно важны. Клише легко проскальзывают в нашу речь и письмо, поскольку запоминаются без каких-либо усилий с нашей стороны, – и именно поэтому их роль в устном повествовании была так важна. «Одиссея» и «Илиада» – простите за банальность – кишмя кишат клише. В зависящей от памяти культуре для людей невероятно важно, как говорил Уолтер Онг[45], «думать запоминающимися мыслями». А мозг проще всего запоминает вещи, которые повторяются, ритмичны, рифмованы, структурированы и, главное, легко визуализируются. Принципы, открытые бардами, чьи истории становились все более выразительными от рассказа к рассказу, – это те же мнемонические принципы, заново открытые психологами, когда те стали проводить первые научные эксперименты с памятью в начале XX в. Рифмованные слова лучше запоминаются, чем нерифмованные, а конкретные существительные запоминать проще, чем абстрактные. Динамические изображения сохраняются в памяти лучше статичных, а аллитерация помогает запоминанию. Тигрица, которая злится, поскольку не спится, запоминается на более долгий срок, чем большое животное из семейства кошачьих, возбужденное тем, что не может выйти из состояния бодрствования.
Наиболее часто используемым мнемоническим приемом у бардов была песня. Любой, кто хоть раз обнаруживал себя напевающим By Mennen![46], подтвердит, что стоит только превратить слова в песенку, как их просто невозможно будет выкинуть из головы.
Выявление схем и структуры в полученной информации – это способ, которым наш мозг извлекает понятия и смыслы из мира, и, зарифмовав слова и добавив к ним музыку, мы тем самым придадим нашей речи еще большую структурированность. Вот почему барды времен Гомера пели свои эпические поэмы, почему в Торе встречаются музыкальные пометки[47] и почему, обучая детей алфавиту, мы учим их специальной песенке, а не каждой букве в отдельности. Песня – это универсальное средство структурирования речи.
Перебравшись в Гарвард и став помощником профессора, Милмен Пэрри неожиданно изменил направление своей деятельности. Вместо того чтобы корпеть над древнегреческими текстами, юный исследователь античности отправился в Югославию[48] в поисках последних бардов, продолжавших традиции устной поэзии в такой ее форме, которая напоминала поэмы Гомера. Пэрри вернулся в Кембридж с тысячами записей, и они стали основой для развития нового направления академических исследований в области устного творчества.
Работая в экспедиции, Пэрри обнаружил, что вместо того, чтобы передавать сам текст от барда к барду и от поколения к поколению, современные балканские сказители создавали (как и предположительно их предшественники из эпохи Гомера) набор шаблонных правил и схем, по которым бард – любой бард – мог воспроизвести поэму всякий раз, когда ее рассказывал. Каждый последующий рассказ был не совсем таким, как до этого, но сходство сохранялось.
Когда же славянских сказителей спросили, повторяют ли они свои песни точь-в-точь, они ответили: «Слово в слово, строчка в строчку»{36}. И все же, когда записи двух исполнений сравнили, они оказались разными. Менялись слова, перемещались строки, исчезали целые пассажи. Но славянские барды не были излишне самоуверенными, просто понятие «дословное запоминание» у них отсутствовало. И это неудивительно – без письменного текста трудно проверить, насколько точно кто-то что-то повторяет.
Такая вариативность, встроенная в традиционное устно-поэтическое творчество, позволяет барду адаптировать материал под аудиторию и создавать более запоминающиеся версии произведений. Фольклористы сравнивают устные поэтические сказания с галькой, обтачиваемой водой. В результате многочисленных пересказов они становятся все глаже по мере того, как трудно запоминающиеся куски откалываются или становятся более легкими для запоминания и повторения. Отступления, не имеющие отношения к сюжету, исчезают. Длинные и редкие слова по возможности выбрасываются. Выбор слов у барда обычно не так велик, поскольку слова должны отвечать требованиями выразительности и аллитерации и вписываться в ритм строки. Структура создает поэму. Именно поэтому предшественники Пэрри обнаружили, что практически каждое слово в «Одиссее» и «Илиаде» встраивается в своего рода схему, или модель, делая поэмы более запоминающимися.
Тот факт, что искусство запоминания было предположительно изобретено Симонидом в V в. до н. э., не случаен: в это время письменность занимала важное место в жизни древних греков. Память уже не считали чем-то само собой разумеющимся, как это было до появления письма. Старые техники бардов гомеровской эпохи, ритм и структура, уже не подходили для удержания в памяти новых и сложных мыслей, которыми начинали думать люди. «Устное творчество, в том числе поэтическое, было лишено своего изначального, функционального, значения и переведено во второстепенный разряд развлечений. Это была роль, которую устная поэзия играла всегда, но которая теперь стала ее единственной миссией», – пишет Хейвлок. Избавившись от груза требований, связанных с процессом передачи культурного наследия, поэзия трансформировалась в искусство.
К тому времени, как автор «Риторики для Геренния» приступил в I в. до н. э. к составлению пособия по ораторскому искусству, письменность существовала уже на протяжении столетий и имела такое же принципиальное значение для римской культуры, какое компьютеры имеют для нашей. Вергилий, Гораций и Овидий творили в ту же эпоху, и их поэмы жили на страницах. Каждое слово – плод умственной работы одного единственного творца, выражающего собственное видение, – было тщательнейшим образом подобрано. И однажды записанные, эти слова считались обязательными. Если вы собирались заучить такое стихотворение, вам пришлось бы прибегнуть к memoria verborum. Rerum здесь бы не помогла.
Анонимный автор «Риторики для Геренния» полагает, что лучший способ дословно запомнить стихотворение – это повторять одну строку два или три раза, прежде чем попытаться разбить ее на серию образов{37}. Похожим методом пользуется Гюнтер Карстен в поэтическом соревновании. Он привязывает каждое слово к точке на каком-либо маршруте. Но в этом методе есть одна проблема: многие слова просто невозможно визуализировать. Как должно, например, выглядеть «и»? Или «вопреки»? Две тысячи лет назад Метродор Скепсийский, греческий современник Цицерона, предложил решение, как увидеть невидимое{38}. Метродор разработал систему условных изображений, которые служили бы заменой предлогам, артиклям и прочим синтаксическим элементам. С их помощью он мог запомнить слово в слово все, что прочитал или услышал. Похоже, что библиотека символов Метродора широко использовалась в Древней Греции. В «Риторике для Геренния» упоминается, что «большинство греков, пишущих о памяти, предлагают набор изображений, которые соответствуют множеству слов, – с тем чтобы люди, которые запомнят эти изображения, всегда имели их под рукой без мучительных поисков». Гюнтер не пользуется символами Метродора, которые, увы, потеряны для истории, – он создал свой собственный словарь символов для двух сотен наиболее часто используемых слов, которые не так просто визуализировать. «И» – это круг (немецкое und рифмуется с rund, что значит «круглый»). Определенный артикль (die, аналог английского the, рифмуется с немецким knie, «колено») – это кто-то, преклонивший колена. Когда встречается точка, Гюнтер вбивает в это место на маршруте гвоздь.
Гюнтер одинаково легко может запомнить инструкцию по починке видеоплеера и сонет Шекспира. Хотя с инструкцией, скорее всего, у него было бы меньше проблем, поскольку в ней много конкретных, легко визуализируемых понятий – «кнопка», «телевизор», «шнур». Вся сложность заучивания поэтических произведений обусловлена их абстрактностью. Что делать со словами «эфемерный» или «сам», которые невозможно увидеть?
Метод Гюнтера по созданию изображения неизображаемого очень стар: нужно или стараться мысленно увидеть что-то сходно звучащее, или опираться на игру слов. Английский теолог и математик XIV в. Томас Брадвардин, который впоследствии стал архиепископом Кентерберийским, развил этот способ дословного запоминания до самой высокой и абсурдной степени. Он описал этот прием как memoria sillabarum, или «посимвольное запоминание», применявшееся для запоминания слов, которые трудно визуализировались. Система Брадвардина заключалась в том, чтобы разбить слово на слоги и затем создавать образ для каждого слога, опираясь на другое слово, начинающееся с того же слога. Например, чтобы запомнить слог «аб», достаточно было представить аббата. Для «ба» – баллисту (balistarius){39}. Сложенные вместе, эти символы становились своего рода пазлом. (Например, шведская поп-группа ABBA превратилась бы в аббата, расстреливаемого из баллисты{40}.) Этот процесс превращения слов в изображения предполагает запоминание путем забывания: чтобы запомнить слово по его звучанию, нужно было совершенно лишить его смысла. Брадвардин мог превратить даже самые благочестивые тексты в нелепые сценки. Чтобы запомнить вступление к одной из своих проповедей, начинавшееся с Benedictus Dominus qui per, он представлял себе «святого Бенедикта, который танцует под левую руку с белой коровой с ярко-красными сосками, держащей куропатку, а правой рукой то бьет, то ласкает Святого Доминика»{41}.
Искусство запоминания с самых его истоков было рискованным. Полное грубых и временами совершенно непристойных образов, оно было просто обречено столкнуться с жесткой критикой со стороны блюстителей нравов. Удивительно, что тот временный союз почтительного с непочтительным, который Брадвардин создавал в своем воображении, не оскорблял педантичное духовенство. Моралисты начали наступление на мнемонику в XVI в., атаку возглавил пуританский священник Уильям Перкинс из Кембриджа. Он осудил искусство запоминания как идолопоклонническое и «нечестивое, так как оно вызывает абсурдные мысли, дерзкие и чрезмерные, которые просто не могут не пробудить и усилить похотливые стремления»{42}. Да уж, дикость! Перкинса воспламенили слова Петра из Равенны, признавшегося, что он использует полные чувственности образы юных женщин, чтобы поддерживать свою память в форме.
Из всех десяти дисциплин чемпионата мира по запоминанию именно «стихотворение» собрало наибольшее количество стратегий. Но если коротко, интеллектуальные спортсмены разделились на две группы, причем размежевание произошло по гендерному признаку. Гюнтер и большинство мужчин стремились систематизировать и упорядочивать, тогда как женщины подошли к проблеме с более эмоциональной стороны. Пятнадцатилетняя Коринна Драшл, австрийка в красной футболке, красных носках и красной кепке, рассказала, что она не может запомнить текст, если не знает, о чем он. Более того, ей нужно чувствовать его. Она разбивает стихотворение на небольшие кусочки и привязывает к каждому из них серию эмоций. Вместо того чтобы ассоциировать слова с образами, Коринна ассоциирует их с эмоциями.
«Я ощущаю то же, что ощущал поэт. Что он хотел сказать. Я представляю, грустил он или радовался», – рассказала она мне в холле. Примерно так артистов учат запоминать сценарий. Многие актеры поведают вам, что они разбивают свои строки на такты, каждый из которых несет в себе определенное намерение персонажа, которое они пытаются прочувствовать.
Эта техника известна как система Станиславского и была изобретена в начале XX в. Константином Станиславским. Станиславский считал, что она нужна актерам не столько в силу своего мнемонического потенциала, сколько как средство, способствующее созданию более реалистичного образа персонажа. Тем не менее метод Станиславского позволяет создавать большое количество ассоциативных зацепок для той или иной реплики, выстраивая вокруг нее контекст, наполненный эмоциональными и физическими подсказками. С помощью техники Станиславского можно сделать слова запоминающимися. Действительно, исследования показали, что, если вы просите кого-нибудь запомнить фразу «возьми ручку», она вернее отложится в памяти, если, запоминая это предложение, тот человек сам возьмет в руки ручку.
В конечном итоге Гюнтер проиграл поэтический этап Коринне Драшл и проиграл сам чемпионат. Главный приз отошел одному из его протеже, тихому и сосредоточенному восемнадцатилетнему студенту юридического факультета из Баварии Клеменсу Майеру, который с трудом говорил по-английски и дал понять, что не хочет практиковать свои знания языка в беседах со мной. Проваливший соревнования с числами и «именами-и-лицами», Бен Придмор скатился на четвертое место и, опустив поля шляпы, вышел в одиночестве за дверь, пообещав, что уже назавтра начнет подготовку к следующему чемпионату, с тем чтобы вернуть себе титул через год.
Эд выступил и того хуже. Из трех десятков участников он оказался в числе тех одиннадцати, которые не смогли запомнить целую колоду карт в обоих испытаниях со «скоростными картами», а это как если бы футболист дважды кряду промазал по мячу. Он надеялся уложиться в минимальное время, чтобы занять более высокое место, но потерял самоконтроль и не справился с задачей. В итоге он был одиннадцатым. Потом он выскочил за дверь, весь в поту. Я бросился за ним вслед и схватил его за руку, спрашивая, в чем дело. «Амбиции, – вот и все, что он мне ответил, качая головой. – Дома увидимся».
Эд пересек мост Магдалины и отправился искать паб, где можно было бы посмотреть крикетный матч и пить «Гиннес» до тех пор, пока воспоминания о провале не выветрятся из головы.
Когда я стоял в экзаменационном зале оксфордского университета и наблюдал, как конкурсанты чешут затылки и грызут ручки в попытках вспомнить «Помилуй!», я вдруг остро ощутил, насколько странно то, к чему мы пришли: единственное место, где применяется (или хотя бы чествуется) древнее искусство запоминания, здесь – на этом изысканном соревновании среди представителей специфической субкультуры. Именно тут, в наиболее легендарном из учебных заведений всего мира, нашел последнее прибежище Золотой век памяти.
Трудно не почувствовать, какая пропасть пролегла между тем Золотым веком и нашим. Люди трудились, чтобы развить свой ум. Они вкладывали свой капитал в воспоминания, так же как мы тратим деньги на приобретение вещей. Но сегодня, за дубовыми дверьми университетской аудитории, большинство из нас не доверяет своей памяти. Мы находим причины не полагаться на нее. Мы постоянно жалуемся на память и даже в малейших сбоях видим доказательство того, что она нам полностью отказывает. Как же память, однажды столь важная часть нашей жизни, вдруг так обесценилась? Куда исчезли все техники? Как, интересно знать, наша культура дошла до того, чтобы забыть о том, как помнить?
Глава 7 Конец запоминанию
Когда-то давно единственное, что можно было делать с мыслями, – это запоминать их. Не существовало ни алфавита, чтобы преобразовать их в буквы, ни бумаги, чтобы записать. Все, что требовалось сохранить, хранилось в памяти. Всякая пересказанная история, каждая изложенная идея, любая переданная информация должна была быть сначала запомнена.
В наши дни часто кажется, что мы запоминаем очень мало. Когда я просыпаюсь, первым делом я проверяю свой ежедневник, который помнит мое расписание, освобождая меня от необходимости держать его в голове. Садясь в машину, я ввожу адрес конечного пункта в GPS-навигатор, чья пространственная память превосходит и заменяет мою собственную. На работе я проигрываю записи цифрового диктофона или включаю свой ноутбук, где хранятся мои интервью. У меня есть фотографии, сохраняющие изображения, которые я не хочу забывать, книги, сохраняющие знания, а теперь благодаря Google я освобожден от необходимости помнить больше, чем необходимый набор ключевых слов, чтобы получить доступ к коллективной памяти человечества.
В дни моей юности, когда для того, чтобы сделать телефонный звонок, еще надо было нажать семь кнопок или повернуть громоздкий диск, я мог назвать номера всех моих близких друзей и родственников. Сейчас я не уверен, знаю ли я на память больше четырех телефонных номеров. И так со всем. Согласно исследованию, проведенному в 2007 г. нейропсихологом в дублинском Тринити-колледж, каждый третий британец в возрасте до 30 лет не мог вспомнить даже свой собственный домашний номер без того, чтобы посмотреть его в мобильном телефоне. Тот же опрос выявил, что 30 % взрослых не могут вспомнить дни рождения более чем трех близких родственников. Гаджеты избавили нас от необходимости держать в памяти такие вещи.
Забытые телефонные номера и даты рождения – лишь незначительное свидетельство размывания нашей повседневной памяти, это лишь вершина айсберга. Налицо более масштабный процесс подмены нашей природной памяти огромной суперконструкцией из различных технологических подпорок – от алфавита до BlackBerry. Технологии, позволяющие хранить информацию вне нашего сознания, помогли сделать современный мир таким, какой он есть, но вместе с тем они поменяли то, как мы думаем и как используем свой мозг.
В «Федре» Платона Сократ описывает, как египетский бог Тот, изобретатель письменности, пришел к фараону Египта Тамусу и предложил даровать свое великолепное изобретение египетскому народу.
«Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и памятливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости», – сказал Тот египетскому владыке. Но Тахос не хотел принять дар. «В души научившихся им [письменам] они вселят забывчивость, – сказал он богу. – Будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых»[49].
Сократ обличает идею передачи собственных знаний через письмо, говоря, что было бы «особенно глупо верить в то, что записанные слова могут сделать нечто большее, нежели просто напомнить человеку то, что ему и так уже было известно». С точки зрения Сократа, письмо не может быть чем-то большим, чем подсказкой для памяти – средством извлечения хранящейся в голове информации. Сократ опасался, что письменность поведет культуру вниз по коварной тропе к интеллектуальному и моральному разложению, потому как, даже если количество доступных знаний увеличится, люди будут представлять собой пустые сосуды. Какая жестокая ирония: только благодаря тому, что ученики Сократа Платон и Ксенофонт передали его презрение к письменному слову письменными словами, мы узнали о его отношении к письму{43}. Интересно, оценил бы это Сократ?
Сократ жил в V в. до н. э. во времена расцвета письменности в Греции{44}, и его взгляды уже тогда считались устаревшими. Почему же идея коснуться, скажем, пером пергамента была для него столь отталкивающей? Фиксация воспоминаний на листе кажется куда более удачным способом сохранения знаний в сравнении с попытками удержать все их в голове. Мозг всегда способен допускать ошибки, забывать, путаться. Благодаря письму мы можем преодолеть эти естественные биологические ограничения – вытащить наши воспоминания из способного ошибаться мозга и закрепить их на более надежном носителе, где они могут оставаться постоянно и (как мы иногда надеемся) распространяться во времени и пространстве. Письменность позволяет передавать идеи через поколения и при этом не бояться естественных мутаций, которые являются непременной частью устных традиций.
Для того чтобы понять, почему памяти придавалось такое большое значение в мире Сократа, нам следует разобраться в эволюции письма и в том, как отличались ранние книги по форме и функциям. Мы должны вернуться в эпоху, когда еще не было книгопечатания, алфавитных указателей, содержания, разделения на страницы, полей, знаков пунктуации, строчных букв и даже пробелов между словами.
Сегодня мы тщательно записываем всю информацию, чтобы не хранить ее в нашей памяти. Но до конца как минимум позднего средневековья книги служили не заменой памяти, а скорее ее помощниками. Как говорил Фома Аквинский: «То, что записано в книгах, предназначено в помощь памяти»{45}. Люди читали книги для того, чтобы запомнить; книги были наиболее эффективным из имеющихся инструментов запечатления информации в памяти. Рукописи часто копировались только ради того, чтобы переписчик мог их запомнить.
Во времена Сократа тексты писались на длинных – некоторые растягивались до шестидесяти футов{46} – свитках, составленных из склеенных вместе листов спрессованного папируса, ввозимого с дельты Нила{47}. Такие громоздкие тексты было тяжело читать и еще тяжелее писать. Сложно представить себе менее удобный доступ к информации. Фактически только в 200 г. до н. э. Аристофан Византийский, начальник Александрийской библиотеки, изобрел базовые знаки пунктуации – ничего, кроме точки, которая могла ставиться внизу, посередине или вверху строки и сообщала читателю длину паузы между предложениями{48}. До этого тексты представляли собой бесконечный поток заглавных букв, известный как scriptio continua[50], не разбитый ни пробелами, ни знаками препинания. Слово, начинающееся на одной строке, могло закончиться на другой без указания на перенос.
КАКВЫВИДИТЕНЕТАКТОПРОСТОЧИТАТЬТЕКСТНАПИСАННЫЙБЕЗ ПРОБЕЛОВИЛИПУНКТУАЦИИИЛИХОТЯБЫРАСПОЛОЖЕННЫХВНУЖ НЫХМЕСТАХЗНАКОВПЕРЕНОСАОДНАКОИМЕННОТАКВЫГЛЯДЕЛИП ИСЬМЕНААНТИЧНОЙГРЕЦИИ{49}
В отличие от букв в данной книге, составляющих слова, которые несут смысл, буквы, написанные с помощью scriptio continua, по своей функции скорее напоминали ноты. Они обозначали звуки, которые должны были исходить изо рта говорящего. Чтобы преобразовать этот поток звуков в отдельные понятные группы слов, требовалось сначала услышать его. Так же как музыкантам (за исключением наиболее талантливых) тяжело читать ноты, не пропевая мелодию, было сложно читать написанные с помощью scriptio continua тексты, не проговаривая их вслух. И правда, нам известно, что в раннем средневековье читали практически всегда вслух, так что чтение было некоего рода выступлением, обыкновенно публичным. «Вслушаться» – слово, часто повторяющееся в средневековых текстах{50}. Когда Святой Августин в IV веке н. э. наблюдал за своим учителем Святым Амброзием, читающим про себя, не шевеля губами и не бормоча, он посчитал необычное поведение учителя столь примечательным, что даже описал это в своей «Исповеди». Только около IX в., в то время, когда пробелы уже использовались повсеместно, а количество знаков пунктуации увеличилось, страница стала вмещать в себя достаточно информации для того, чтобы безмолвное чтение превратилось в обычную практику.
Трудности, связанные с чтением таких текстов, означают, что отношения между чтением и памятью были в то время иные, нежели сейчас. Поскольку читать про себя текст, написанный непрерывным письмом, было довольно сложно, достаточно беглая декламация этого текста требовала от читателя предварительного знакомства с ним. Читатель – как правило, это был читатель, а не читательница – должен был приготовиться к декламации, расставив для себя в голове знаки препинания и запомнив текст – частично, если не целиком, – поскольку невозможно с легкостью на ходу облекать цепочку звуков смыслом. Текст должен был быть выучен перед тем, как он будет озвучен. Вдобавок то, как тот или иной читатель разбивал текст, написанный в виде scriptio continua, могло полностью изменить его смысл. Как отмечала историк Джослин Пенни Смолл, фраза GODISNOWHERE может иметь совершенно разные значения, будучи представлена как GOD IS NOW HERE или как GOD IS NOWHERE[51].
Более того, если требовалось вычленить из текста определенную информацию, то надо было читать весь написанный непрерывным письмом свиток – сверху донизу. Свитки имеют единственную точку отсчета – первое слово. Поскольку приходится разматывать его при чтении, а в тексте нет ни знаков препинания, ни разбивки на параграфы – не говоря уже о нумерации страниц, содержании, глав и алфавитного указателя, – практически невозможно найти нужный кусок, не проглядывая при этом все целиком, с головы до пят. С таким текстом практически невозможно работать – до тех пор, пока он не выучен наизусть. В этом-то все и дело. Античные тексты не были предназначены для беглого прочтения. Нельзя достать свиток с полки и быстро отыскать в нем нужный отрывок, если до этого ты хотя бы в общих чертах не ознакомился с полным текстом. Свитки существовали не для хранения информации вне памяти, а как помощники в поисках информации внутри памяти.
Один из немногих сохранившихся обычаев публичной декламации – чтение Торы, древнего рукописного свитка, на изготовление которого уходит более года. Тору записывают без гласных и пунктуации (хотя используя пробелы, нововведение, пришедшее к евреям от греков), что делает ее чрезвычайно сложной для чтения про себя{51}. Хотя евреи особо запрещают пересказывать Тору по памяти, невозможно прочесть раздел Торы, не потратив предварительно время на ознакомление с ним, как может подтвердить любой прошедший бар-мицву мальчик. Я могу лично за это поручиться. В день, когда я стал мужчиной, я был чем-то сродни попугаю в ермолке.
Долгие годы использования языка приучили нас не замечать, что непрерывное письмо гораздо ближе к тому, как мы говорим, нежели искусственное разделение слов на странице. В устной речи предложения сливаются и плавно струятся как один длинный, размытый, долгий звук. Мы не говорим с «пробелами». Конец одного слова и начало другого устанавливаются в результате достаточно спорного лингвистического соглашения. Результаты сонографического исследования, отображающие звуковые волны, которые исходят от разговаривающего по-английски человека, показали: практически невозможно определить, где находится разрыв между словами. Вот почему так трудно научить компьютер распознавать человеческую речь. Без изощренного искусственного интеллекта, способного анализировать контекст, компьютер не в состоянии определить разницу между «Несу разные вещи» и «Несуразные вещи»{52}.
В течение некоторого периода времени латинские переписчики действительно пытались разделять слова точками, однако во II веке н. э. они вернулись в прошлое – сделали, как может показаться, огромный и очень любопытный шаг назад{53} к старому непрерывному письму, используемому греками. Пробелы не появлялись в западном письме следующие девять столетий. С нашей современной, продвинутой, точки зрения, разделение слов кажется вещью совершенно очевидной. Но факт того, что данный метод был опробован и отвергнут, многое говорит о том, как люди привыкли читать. Об этом же свидетельствует и тот факт, что для выражения понятия «читать» древние греки наиболее часто использовали слово ánagignósko{54}, что означает «узнавать заново» или «вспоминать». Чтение как акт напоминания: с точки зрения современного человека, могут ли существовать более странные взаимоотношения между читателем и книгой?
Сегодня, когда мы живем среди потоков печатных слов – верите ли вы, что за прошлый год было напечатано 10 млрд томов?{55} – сложно представить себе, на что было похоже чтение в эпоху до Гутенберга, когда книга представляла собой редкую и дорогостоящую рукопись, на создание которой ушли многие месяцы. Даже в XV в. имелось лишь не более нескольких десятков экземпляров каждой из существовавших тогда книг, и все они были чаще всего прикованы цепью к столам или кафедрам в некоторых университетских библиотеках, которые считались особенно хорошо укомплектованными{56}, если их фонд насчитывал сотню книг. Будь вы средневековым школяром, читающим книгу, вы бы знали, что увидеть дважды в жизни один и тот же текст практически невозможно, поэтому большая роль отводилась запоминанию прочитанного. Вы не могли бы просто взять книгу с полки, чтобы найти в ней определенную цитату или мысль. Во-первых, потому что современные книжные полки с рядами смотрящих наружу корешков еще не были изобретены{57}. Это случится где-то в XVI в. Во-вторых, книги все еще были тяжелыми и их трудно было переносить с места на место. Только к XIII в. технология изготовления книг продвинулись настолько, чтобы стало возможным уместить всю Библию не в собрании отдельных книг, а в одном томе, который тем не менее весил более десяти фунтов{58}.
И даже если вам удавалось взять в руки нужный вам текст, шансы найти необходимое, не читая все от начала до конца, были незначительны. Алфавитные указатели еще не стали обычным явлением, равно как и нумерация страниц или содержание.
Но все эти несовершенства постепенно устранялись. По мере того как эволюционировала сама книга, менялась и роль запоминания в чтении. К 400 г. пергаментные книги с листами, переплетенными в корешок, словно в современную твердую обложку, практически полностью заменили свитки, как более удобные для чтения. Теперь читателю не было необходимости раскручивать длинный документ, чтобы найти отрывок. Достаточно было открыть нужную страницу.
Первый конкорданс[52] Библии, огромный алфавитный указатель, вобравший в себя труды 500 парижских монахов, был составлен в XIII в., примерно в то же время, когда было введено деление на главы{59}. Впервые в истории читатель мог обращаться к Библии, не запоминая ее перед этим. Он мог найти отрывок, не зная его наизусть и не читая весь предшествующий текст{60}. Вскоре после конкорданса начали появляться другие книги с индексами, номерами страниц и содержанием, что опять же помогло изменить смысл понятия «книга».
Проблема книг до появления в них указателей и содержания заключалась в том, что в тексте, написанном в свитке или напечатанном на страницах внутри переплета, было сложно ориентироваться. Мозг же, напротив, является бесподобным инструментом не только благодаря объему имеющейся в нем информации, но и в силу легкости и эффективности, с которой он осуществляет поиск этой информации. Он использует самую эффективную систему указателей для случайного доступа – программисты пока не изобрели ничего лучшего, чем эта система, и даже еще не приблизились к ее воспроизведению. В то время как алфавитный указатель в конце книги дает для каждого объекта – важного элемента текста – единственный адрес, номер страницы, любой объект имеет в мозгу сотни, а то и тысячи адресов. Наша внутренняя память ассоциативна, нелинейна. Нам не требуется знать, где хранится то или иное воспоминание, для того, чтобы найти его. Оно просто всплывает – или нет, когда оно необходимо. В силу плотности сети, соединяющей наши воспоминания, мы можем очень быстро перескакивать от одного воспоминания к другому, равно как с одной идеи на другую. Чтобы от Белоснежки перейти к белому цвету, затем к молоку, а от молока к Млечному Пути, надо проделать долгий логический путь и лишь одну коротенькую неврологическую прогулку.
Указатели стали важным усовершенствованием, поскольку открыли книгам доступ к нелинейности, используемой нашей памятью. Они помогли превратить книгу в подобие современных CD, где можно сразу перескочить на нужный трек; тогда как неиндексированные книги, подобно кассетным пленкам, заставляли читателя с трудом прорываться сквозь пласты информации в поисках маленького необходимого куска.
Индексы вкупе с нумерацией страниц и содержанием изменили сами книги и то, что те могли дать учащимся. Историк Иван Иллич утверждает, что это являлось изобретением такой важности, «что правомерно говорить о пре– и постиндексном средневековье»{61}. С тех пор как обращаться к книгам для получения нужной информации становилось все проще, необходимость держать их содержание в памяти становилось все менее существенной. Представление о том, что значит быть эрудированным, начало меняться: на место человека, хранящего чрезвычайно большое количество информацию внутри своей головы, пришел тот, кто хорошо знает, где эту информацию найти в лабиринте внешней памяти{62}.
Наши предки, зависящие от возможностей своей памяти, тренировали память, чтобы стать не «живой книгой», а скорее «живым конкордансом»{63}, ходячим алфавитным указателем по отношению ко всему, что они когда-либо прочитали и узнали. То есть хотелось не просто иметь в голове архив фактов, цитат и идей, а, скорее, выстроить организационную схему для доступа к ним. Обратимся, например, к Петру Равенскому, ведущему итальянскому правоведу XV в. (и, судя по всему, одному из лучших в XV столетии специалистов по саморекламе), чья книга по тренировке памяти вошла в число наиболее успешных в ту эпоху книг, посвященных памяти. Озаглавленная «Феникс», эта книга была переведена на несколько языков и перепечатывалась по всей Европе. Это самый известный труд о памяти из созданных в период с XIII в. по наши дни. Благодаря ему техники запоминания, долгое время применяемые только учеными и монахами, стали доступны широкой аудитории – от докторов, адвокатов и торговцев до простых людей, желающих улучшить свою память. Разделы книги касались всего многообразия ситуаций, подходящих для применения мнемоники. Рассказывалось, как использовать искусство запоминания, чтобы выигрывать в азартных играх и помнить сумму долгов, содержание корабельных грузов, имена знакомых и последовательность игральных карт{64}. Сам Петр хвастался тем, что помнил 20 000 положений из юридических документов, 1000 текстов Овидия, 200 речей и высказываний Цицерона, 300 изречений философов, 7000 текстов из Писания, помимо массы других классических работ.
В свободное время он перечитывал книги, хранившиеся в его многочисленных дворцах памяти. «Когда я покинул свою родину, чтобы совершить странствие по городам Италии, я мог с уверенностью сказать, что нес все, что имею, с собой», – писал он. Для хранения этих образов Петр сначала имел сотни тысяч loci, но он создавал все новые дворцы памяти в своих путешествиях по Европе. В его голове образовалось хранилище источников и цитат по всем важным темам, упорядоченным по алфавиту. Он хвастался, например, что в его мозгу под буквой А находятся знания о «de alimentis, de alienatione, de absentia, de arbitris, de appel-lationibus, et de similibus quae jure nostro habentur incipientibus in dicta littera A» – «о снабжении, об иностранной собственности, об отсутствии, о судьях, об апелляциях, а также о других юридических вопросах, начинающихся на букву "А"»{65}. Каждому сообщению присваивался специфический адрес. Когда он хотел порассуждать на предложенную ему тему, он просто обращался к нужной комнате в нужном дворце памяти и доставал оттуда нужную информацию.
Когда смысл чтения – в запоминании (как это было в случае Петра из Равенны), формируется совершенно иной подход к тексту, нежели тот, которого придерживается большинство из нас сегодня. Сегодня мы ставим во главу угла умение читать быстро и много, что делает поверхностным и наше чтение, и то, что мы пытаемся получить от книг. Невозможно читать по странице в минуту – скорость, с которой вы, скорее всего, читаете эту книгу, – и ожидать, что вы будете помнить прочитанное в течение значительного времени. Если что-то должно быть запомнено, на нем надо останавливаться, повторять.
В своем эссе «Введение в историю чтения» Роберт Дарнтон говорит, что с началом распространения книг чтение изменило свой характер, из «интенсивного» превратившись в «экстенсивное»{66}. До недавнего времени люди читали «интенсивно», считает Дарнтон. «У них было не так много книг – Библия, календарь с предсказаниями, одна-две религиозные книги, – и они перечитывали их раз за разом, часто вслух и в компаниях. Таким образом, однообразное содержание немногих традиционных книг глубоко впечатывалось в их сознание».
Но после появления в 1440 г. печатного станка, изобретенного Гутенбергом, все постепенно начинает меняться. За последующие сто лет количество существующих книг увеличилось в 14 раз. Впервые люди без значительных доходов получили возможность обращаться к легкодоступной внешней памяти.
Сегодня мы читаем книги «экстенсивно», не стараясь слишком уж концентрироваться на тексте и (за редким исключением) не перечитывая ничего дважды. Мы ценим количество прочитанного выше качества. У нас нет выбора, если мы хотим успевать за мировой культурой. Это касается даже наиболее узкоспециализированных областей знаний: попытки удержаться на вершине постоянно растущий горы слов, которые ежедневно наводняют мир, могут стать сизифовым трудом.
Мало кто из нас прилагает серьезные усилия для запоминания всего, что читает. Когда я читаю книгу, что, по моим представлениям, останется в памяти через год? Если это произведение нехудожественной литературы – я запомню основную идею, если, конечно, она была в книге. Несколько необычных деталей, возможно. Если речь идет о художественной литературе – основные сюжетные линии, что-нибудь о главных героях (хотя бы имя) и общее впечатление от книги. Хотя и это, скорее всего, поблекнет. Мои полки, книги, на которые я когда-то потратил столько бессонных часов, – всегда очень угнетающее зрелище. «Сто лет одиночества»: я помню мистический реализм и то, что книга мне понравилась. И все. Я даже не могу сказать, когда прочел ее. Насчет «Грозового перевала» я помню всего две вещи: что я читал это на уроках английского в старшей школе и что там был герой по имени Хитклиф. Я даже не могу сказать, понравилась она мне или нет.
Я не думаю, что я такой уж плохой читатель. Я подозреваю, что множество людей, может быть, даже большинство, в этом похожи на меня. Мы читаем, читаем, читаем и забываем, забываем, забываем. Так чего же тогда волноваться? Мишель де Монтень описал дилемму экстенсивного чтения еще в XVI столетии. «Я просматриваю книги, а не изучаю их, – написал он. – То, что я беру из них, я более не признаю ни за кем другим. Это только те сведения, которые полезны для моих суждений, вдохновляющие меня мысли и идеи; имя же автора, место действия, слова и прочие обстоятельства я моментально забываю». «Чтобы немного восполнить потери, связанные с коварством и слабостью памяти», объясняет философ, он приобрел привычку делать на задней стороне обложки каждой книги короткие записи, чтобы иметь хотя бы общие представление, о чем данный том и какие мысли он вызвал.
Вы можете решить, что наступление эры книгопечатания и появление возможности с легкостью перенести воспоминания из головы на бумагу сразу же сделает старые техники запоминания неуместными. Но этого не случилось, а если и случилось, то по крайней мере не сразу. Наоборот, парадоксально, но в тот момент, когда исходя из традиционной трактовки исторического процесса можно было бы предположить, что искусство запоминания находится на грани исчезновения, оно пережило свой величайший расцвет.
Начиная со времен Симонида, искусство запоминания представляло собой создание архитектурных пространств в воображении. Но в XVI в. итальянский философ и алхимик по имени Джулио Камилло – известный как Святой Джулио среди своих почитателей и как Шарлатан среди своих клеветников – выдвинул мудрую идею, делавшую реальным то, что на протяжении предыдущих двух тысячелетий считалось эфемерным. Он решил, что система будет работать намного лучше, если кто-то преобразует метафору о дворце памяти в настоящее деревянное строение. Он задумался о создании Театра памяти, который будет служить универсальной библиотекой, хранящей в себе все знания человечества. Звучит как вступление к рассказу Борхеса, но это был реальный проект со вполне реальными покровителями, и он сделал Камилло одним из известнейших людей в Европе{67}. Король Франции Франциск I обещал алхимику, что секреты его театра никогда не будут открыты никому, кроме него, и вложил в строительство 500 дукатов.
Деревянный дворец памяти Камилло был задуман как римский амфитеатр, но амфитеатр, где не было зрителей, сидящих на местах и смотрящих вниз на сцену. Он, Камилло, сам стоял в центре и смотрел вверх на круглое семиярусное сооружение{68}. Вдоль всех стен театра висели картины с изображениями каббалистических и мифологически фигур, и тут же находились бесконечные ряды ящиков и коробок, заполненных карточками, на которых было напечатано все известное человеку и – как было заявлено – все познаваемое, включая высказывания всех прославленных авторов, сгруппированные по теме высказывания. Единственное, что от вас требовалось, это погрузиться в раздумья о символическом образе, и все знания, хранившиеся в данной части театра, сразу же должны появиться у вас в голове, позволяя «рассуждать о любом вопросе не менее складно, чем это делал Цицерон». Камилло обещал, что «с помощью теории мест и образов мы сможем держать в памяти и усваивать все человеческие идеи и любые вещи в целом мире»{69}.
Это было громкое заявление, и в ретроспективе это звучит как некий фокус-покус. Но Камилло был убежден, что существует ряд магических символов, которые могут органично представлять все мироздание. Он верил, что существуют образы, способные вместить в себя огромные и мощные идеи о вселенной (подобно тому, как she-mail представлял концепцию e-mail в первом моем дворце памяти, построенном для списка дел Эда), и просто запомнив эти образы, человек сможет понимать скрытые связи между всеми явлениями.
Уменьшенная модель театра Камилло выставлялась в Венеции и Париже, и сотни – может быть, тысячи – карточек было сделано{70}, чтобы заполнить коробки и ящики театра. Для создания символических образов наняли художников Тициана и Сальвиати. Однако дальше дело не пошло. Театр никогда не был построен, и все, что осталось от великого проекта, – это опубликованный посмертно короткий манифест «Идея Театра», продиктованный на смертном одре за неделю{71}. Написанная в будущем времени, без единого изображения или плана, эта книга, скажем мягко, может привести в замешательство любого.
Хоть история и забыла человека, обещавшего подарить миру совершенную технологию для запоминания, – «святой» проиграл «шарлатану» практически по всем позициям – репутация Камилло была восстановлена в XX столетии стараниями историка Фрэнсис Йейтс, воссоздавшей чертежи театра в своей книге «Искусство памяти», и итальянского профессора литературы Лины Больцони, которая помогла своим современникам понять, почему театр Камилло был не просто чудачеством безумца, но апофеозом представлений о памяти целой эпохи{72}.
Возрождение с его переводами древнегреческих текстов вызвало новый виток увлечения старой платоновской идеей об идеальной трансцендентной реальности, чьей бледной тенью является наш мир. Во вселенной, которую Камилло видел через призму неоплатонизма, образы в памяти были способом получить доступ к идеальным сферам, а искусство запоминания – секретным ключом, открывающим двери в область сверхъестественного во Вселенной. Воспоминания трансформировались из орудия риторики, каковым они являлись в глазах античных философов, или инструмента религиозной медитации, чем их считали средневековые философы-схоласты, в чисто мистическое искусство.
Но самым великим практиком этого темного и мистического вида мнемоники был монах-доминиканец Джордано Бруно. В своей книге «В тени идей», изданной в 1582 г., Бруно пообещал, что его искусство «поможет не только памяти, но также и душевным силам». Тренировка памяти для Бруно была ключом к духовному просвещению.
Бруно в прямом смысле создал предпосылки для нового поворота в старом искусстве запоминания. Вдохновившись трудами Рамона Луллия – каталонского философа и мистика, жившего в XIII в., – Бруно изобрел устройство, позволявшее ему преобразовывать любое слово в уникальный образ. Бруно представил серию концентрических кругов, каждый из которых имел по периметру 150 пар букв. Эти буквосочетания представляли собой все комбинации, которые можно составить из 30 букв алфавита (23 буквы классической латыни плюс семь греческих и еврейских букв, не имеющих аналогов в латинском алфавите) и пяти гласных: AA, AE, AI, AO, AU, BA, BE, BO и т. д. На самом глубинном уровне 150 двухбуквенным комбинациям соответствовали различные мифологические и оккультные фигуры. По периметру второго круга располагались 150 действий и ситуаций («плывущий», «на ковре», «сломанный»), соотносящихся со вторым набором буквенных пар. Третье колесо содержало 150 прилагательных, четвертое – 150 объектов, пятое – 150 «обстоятельств» типа «одетый в жемчуга» или «верхом на морском монстре»{73}. При правильном вращении колес можно было узнать уникальный яркий образ любого слова длиной до пяти слогов. Например, слово crocitus, от латинского «карканье ворона», становится образом римского божества «Пилумн, быстро атакующий на спине у осла с повязкой на руке и попугаем на голове»{74}. Бруно был убежден, что его таинственное, потрясающе хитроумное изобретение было большим шагом вперед в искусстве запоминания, аналогичное по уровню, он заявлял, технологическому скачку от вырезания букв на дереве к печатному станку.
Схема Бруно, окрашенная магией и оккультизмом, сильно обеспокоила церковь. Его неортодоксальные идеи, включающие в себя такие ереси, как приверженность гелиоцентризму Коперника и отрицание девственности Марии, в конце концов привели его в суровые руки инквизиции. В 1600 г. он был сожжен у столба на Кампо-деи-Фиори в Риме, и его пепел развеяли над Тибром. Сегодня памятник Джордано Бруно стоит на площади, где тот нашел свою смерть, как маяк для свободомыслящих людей и интеллектуальных спортсменов всего мира.
Когда Просвещение покончило с возрожденческой одержимостью оккультными театрами памяти и луллианскими колесами, искусство запоминания перешло в новую, но не менее безрассудную эру – не прошедшую и по сей день эпоху идей о том, как «быстро стать умным». В XIX в. более сотни трудов по мнемонике были опубликованы под заголовками типа «Американские мнемотехники» или «Как запоминать». Эти сочинения заметно похожи на книги по улучшению памяти, которые можно найти в современных книжных магазинах на полках с надписью «Помоги себе сам». Наиболее популярное в XIX в. руководство по мнемонике было написано профессором Альфонсом Луазеттом, американским «доктором памяти», который, несмотря на свою вместительную память, «странным образом забыл, что его настоящее имя – Маркус Дуайт Лэрроу и что у него нет ученой степени», как было сказано в одной статье. Тот факт, что мне удалось найти 136 использованных экземпляров книги Луазетта «Физиологическая память: Мгновенное искусство никогда не забывать» 1886 г. издания, продающихся по цене всего $1,25 через Интернет, – еще одно свидетельство ее большой популярности.
Книга Луазетта – это, по существу, собрание мнемонических систем, предназначенных для запоминания таких мелочей, как список американских президентов в хронологическом порядке, графства Ирландии, азбука Морзе, британское административно-территориальное деление и названия и назначение девяти пар черепных нервов{75}. Луазетт позиционировал свою систему как не имеющую ничего общего с классической мнемоникой (которую откровенно презирал) и считал, что он открыл, совершенно самостоятельно, «законы естественной памяти».
Луазетт взимал $25 (более $500 в пересчете на современный курс) за то, чтобы передать свои знания на семинарах, которые проводил по всей стране. Кроме того, он вел курсы практически в каждом престижном университете на западном побережье. Допущенные к «системе Луазетта» должны были подписать контракт, который обязывал их хранить методики в секрете, а в противном случае заплатить штраф в размере $500 (более $10 000 в пересчете на современный курс). Должно быть, он заработал неплохие деньги, продавая доверчивой американской аудитории секреты улучшения памяти. По его собственным оценкам, только за 14 недель зимой 1887 г. он заработал сумму, почти эквивалентную нынешним $500 000{76}.
В 1887 г. Сэмюэл Клеменс, более известный как Марк Твен, впервые пересекся с Луазеттом и записался на курс продолжительностью несколько недель{77}. Твен говорил, что его «память не заряжалась ничем, кроме холостых патронов», и долгое время питал интерес к техникам улучшения памяти. Он закончил курс ярым последователем системы Луазетта. Фактически Твен был так очарован доктором, что по собственной инициативе опубликовал объявление, утверждавшее, что и $10 000 в час будут приемлемой ценой за бесценные умения, которыми делится Луазетт. Впоследствии он пожалеет о своих рекомендациях, но не раньше чем познакомится со всеми опубликованными книгами Луазетта.
В 1888 г. Д. С. Феллоуз из «глубокого чувства справедливости и врожденной любви к свободе, характеризующей каждого настоящего американца», опубликовал книгу под названием «"Луазетт" разоблачен», призванную сообщить миру, что «профессор» «Луазетт» – да, оба имени следует заключить в пугающие кавычки! – «обманщик и мошенник». 224-страничная книга доказывала, что либо все идеи Луазетта были взяты из более ранних источников и переформулированы, либо же он просто набивал цену своим методам. Конечно, странно, что столь сведущий в жизни человек, как Марк Твен, не заметил обмана и мошенничества Луазетта, но Твен был известен как безрассудный охотник за причудами и всегда интересовался новыми великими прожектами (он инвестировал $300 000 – современные $7 млн – в наборную машину Пейджа, ранний конкурент линотипа, и этот проект оказался одним из наиболее провальных начинаний, в которые он вложил деньги).
Сам Твен постоянно экспериментировал с техниками запоминания, чтобы облегчить себе лекционную деятельность. В начале карьеры он писал на каждом из десяти ногтей первую букву темы, которую планировал осветить во время предстоящего выступления, но это никогда особенно не работало, поскольку аудитория начинала подозревать его в нездоровом интересе к его рукам. Летом 1883 г., пока он писал «Гекльберри Финна», Твен растягивал паузы между работой, придумывая, как помочь детям усвоить хронологию правления английских монархов. Изобретенная им игра строилась на том, что он отмечал длительность периода правления колышками, вбивавшимися вдоль дороги около дома. Твен, по существу, превратил свой задний двор во дворец памяти. В 1885-м им был запатентован «Конструктор памяти Марка Твена. Игра для узнавания и запоминания различных фактов и дат». Этой игре, связанной с пространственной памятью, были посвящены многие записи в дневниках Твена.
Твен верил, что будут созданы национальные клубы любителей его мнемонической игры, выходить регулярные газетные колонки, устраиваться международные соревнования с призами. Он был убежден, что с помощью его оригинального изобретения можно изучить весь массив исторических и научных фактов, которые должен знать американский студент. «Поэты, политики, артисты, герои, битвы, эпидемии чумы, катаклизмы, революции… изобретение логарифма, микроскопа, парового двигателя, телеграфа – все, что есть на свете, – мы переложили на английские колышки», – написал он в 1899 г. в своем эссе «Как заставить исторические даты сохраняться в памяти». К сожалению, как и наборная машина Пейджа, игра оказалась финансовой неудачей, и Твен был вынужден в конце концов оставить эту затею. Он написал своему другу, писателю-романисту Уильяму Дину Хоуэлсу: «Если ты никогда не пытался изобрести историческую игру, в которую можно было бы играть дома, не начинай».
Как и многие до него, Твен был без оглядки увлечен перспективой преодолеть забывчивость. Он испил того же странного эликсира, что отравил и Камилло, и Бруно, и Петра Равенского, и его история, возможно, должна быть рассказана как предостережение для всех вступающих на путь строительства дворца памяти. Казалось бы, сходство между доктором Луазеттом и сегодняшними гуру запоминания должно было бы заставить меня бежать как можно дальше от моих новых знакомых. Однако я никуда не убежал.
Твен жил во времена, когда технологии, предназначенные для внешнего хранения и восстановления воспоминаний – бумаги, книги, недавно изобретенные фотографии и фонографы, – были все еще примитивны по сравнению с теми, что мы имеем сегодня. Он не мог предвидеть, как в начале XXI в. технологии распространения цифровой информации увеличат скорость перехода нашей культуры на внешние хранители памяти. С нашими блогами, твиттами, цифровыми камерами, бездонными архивами электронных сообщений функционирование в онлайновой среде подразумевает создание растущей с годами череды внешних незабываемых воспоминаний, которые никогда никуда не деваются и которые всегда можно найти. В то время как значительная часть нашей жизни все больше перемещается в онлайн-пространство, все больше становится того, что запечатлевается и сохраняется, разительно изменяя соотношение между внутренней и внешней памятью. Мы движемся к будущему, в котором, как мне кажется, будем иметь всеобъемлющую внешнюю память, сохраняющую огромный объем информации о нашей ежедневной деятельности.
В этом меня убедил Гордон Белл, семидесятитрехлетний программист из Microsoft. Белл видит себя в авангарде движения за то, чтобы довести процесс вывода памяти наружу до логического предела: до полного отхода от биологического запоминания.
«Каждый минувший день я все больше забываю и меньше запоминаю, – пишет Белл в своей книге "Вспомнить все: Как революция в электронной памяти изменит мир". – Что если будет возможно избежать такой участи? Что если вам никогда не придется ничего забывать и вы получите контроль и над тем, что вы помните, и над тем, когда вы вспоминаете?»
Последнее десятилетие Белл носит с собой «суррогатную память», заменяющую ему его собственную. Она гарантирует, что будет записано абсолютно все, что может быть забыто. Миниатюрная электронная камера, называющаяся SenseCam, болтается у Гордона на шее и запечатлевает все без исключения, что ему случается увидеть. Электронный диктофон фиксирует все звуки, которые он слышит. Каждый разговор по стационарному телефону записывается, и каждый клочок бумаги, прочитанный Беллом, немедленно сканируется и отправляется в память компьютера. Белл, совершенно лысый, часто улыбающийся человек с квадратными очками и в черной водолазке, называет процесс постоянного фиксирования своих действий «лайфлогинг[53]».
Все это непрерывное записывание может показаться странным, но падение цен на цифровые запоминающие устройства, распространение цифровых сенсоров и усовершенствование искусственного интеллекта, способного сортировать весь массив постоянно получаемой нами информации, привели к тому, что становится все легче улавливать из окружающего мира и запоминать даже еще больше информации. Мы можем никогда не ходить с камерой на шее, но то, как Белл видит будущее – компьютеры запоминают все, что происходит с нами, – выглядит вовсе не таким уж абсурдным, как кажется на первый взгляд.
Белл сделал себе имя и состояние, став одним из первых сотрудников в Digital Equipment Corporation в 1960-х и 1970-х (его называют «Фрэнк Ллойд Райт[54] компьютеров»). Он инженер по натуре, что означает, что он умеет видеть проблемы и искать их решение. С помощью SenseCam он пытается решить фундаментальную проблему человека: мы забываем наши жизни почти так же быстро, как проживаем их. Почему наши воспоминания должны угасать, если есть техническая возможность это предотвратить?
В 1998 г. с помощью ассистентки Викки Розицки Белл приступил к заполнению своего «бортового журнала», лайфлога. Он начал с систематического сканирования всех документов, хранящихся в дюжинах банковских коробок, скопленных им с 1950-х. Все его старые фото, записи технического характера, документы были оцифрованы. Даже рисунки на его футболках не избежали сканера. Белл, который всегда был педантичным накопителем, вычислил, что он отсканировал и выбросил приблизительно три четверти всех вещей, когда-либо принадлежавших ему. Сегодняшний архив Белла занимает 170 Гбайт, и он разрастается со скоростью приблизительно 1 Гбайт в месяц. В нем более 100 000 электронных писем, 65 000 фотографий, 100 000 документов и 2000 записей телефонных звонков. Все это спокойно умещается на стодолларовом жестком диске.
Белл может вытаскивать совершенно удивительные штуки из своей «суррогатной памяти». С помощью специализированной системы поиска он может в момент понять, где и с кем он был в определенный момент времени и (теоретически) потом узнать, что тот или иной человек говорил. И поскольку у него есть фотографическая запись всех мест, где он когда-либо был, и всего, что он когда-либо видел, у него нет ни малейшего шанса что-нибудь потерять. Его электронная память никогда не забывает.
Фотографии, видео и цифровые записи, равно как и книги, – это своеобразные протезы нашей памяти, этапы длинного путешествия, начавшегося тогда, когда египетский бог Тот пришел к царю Тамусу и предложил ему в дар письменность как «средство для памяти и мудрости». Лайфлогинг – еще один логический шаг в этом направлении. Возможно, даже финальный шаг, нечто сродни reductio ad absurdum[55] культурной трансформации, занявшей долгие тысячу лет.
Я хотел встретиться с Беллом и увидеть его внешнюю память в действии. Его проект, казалось, представлял собой идеальный контрдовод против всех моих усилий по тренировке внутренней памяти. Если мы собираемся обзавестись компьютерами, которые никогда не забывают, зачем нам нужны мозги, которые все помнят?
Когда я посетил его безукоризненное, с видом на залив Сан-Франциско Управление научными исследованиями Microsoft, Белл решил показать мне, как он использует свою внешнюю память, чтобы найти то, что затерялось в памяти внутренней. Поскольку память ассоциативна, поиск неудачно положенного факта есть акт триангуляции[56]. «На днях я пытался отыскать дом, который видел в Интернете, – сказал мне Белл, откидываясь на стуле. – Все, что я мог вспомнить, это то, что тогда я разговаривал по телефону с риелтором». Он просмотрел на компьютере хронологическую линию своей жизни, нашел нужный телефонный разговор и затем немедленно перешел на сайты, которые изучал во время той беседы по телефону. «Я называю их информационными удочками, – говорит Белл, – Все, что вам требуется, это вспомнить, где крючок». Чем больше удочек хранится в электронной памяти, тем проще найти то, что вы ищете.
В распоряжении Белла – все богатства внешней памяти. Сейчас он больше всего озабочен тем, как избежать судьбы Фунеса и Ш. и не погрязнуть в море бесполезных мелочей. Обычно мы запоминаем только то, на что обращаем внимание, при записи же фиксируется очень много воспоминаний. Но «бортовой журнал» Белла дорожит всем. «Никогда не фильтруйте и ничего не выбрасывайте» – вот девиз Гордона.
«Вы никогда не чувствовали себя отягощенным одним лишь объемом воспоминаний, которые вы храните?» – спросил я. Он усмехнулся такой идее: «Ни в коем случае. Я чувствую, что это дает невероятную свободу».
SenseCam не самое симпатичное устройство. Это черная коробка размером с пачку сигарет, которая болтается на шее Белла. Нельзя назвать ее незаметной. Впрочем, первые компьютеры занимали целые комнаты, а ранние сотовые телефоны были размером со шлакобетонный блок. Не требуется обладать богатым воображением, чтобы представить, что будущие версии SenseCam могут быть встроены в очки, или незаметно пришиты к одежде, или даже как-то внедрены под кожу или вставлены в сетчатку.
Пока что внешняя и внутренняя память Белла не всегда надежно стыкуются. Для того чтобы получить доступ к одному из своих внешних воспоминаний, он все равно должен найти его на компьютере и «вновь вести» в мозг через глаза и уши. Его лайфлог является его продолжением, но не его частью. Но неужели же нет оснований верить в то, что на каком-то этапе в недалеком будущем пропасть между тем, что известно компьютеру Белла, и тем, что знает он сам, исчезнет окончательно? В конце концов, наш мозг может быть напрямую и надежно подключен к нашему лайфлогу, дабы наша внешняя память функционировала и чувствовала так, как будто она целиком и полностью внутренняя. И, конечно, она должна быть подключена к самому большому из возможных хранилищ внешних воспоминаний – Интернету. Суррогатная память, способная воспроизвести что угодно, память, доступ к которой будет таким же естественным, как доступ к воспоминаниям, хранящимся в нейронной сети, – вот что станет решающим оружием в борьбе с забыванием.
Это может звучать как научная фантастика, но уже сейчас кохлеарные импланты могут переводить звуковые волны непосредственно в электрические импульсы и передавать их в ствол головного мозга, позволяя глухому ранее человеку слышать. Такие приборы уже вживлены более чем 20 000 людям. И импланты, которые восстанавливают простейшие когнитивные функции, обеспечивая прямое соединение мозга с компьютером, уже позволили паралитикам и пациентам с боковым амиотофическим склерозом с помощью одной только силы мысли управлять курсором на экране компьютера, протезом конечности и даже цифровым голосом. Эти нейропротезы, на данный момент экспериментальные образцы, установленные лишь горстке пациентов, перехватывают сигналы мозга и создают возможность общения человека и машины. Следующим этапом станет такое соединение мозга с компьютером, которое позволит мозгу осуществлять обмен данными непосредственно с цифровой базой данных – проект, над которым несколько передовых ученых уже ведут работу и который может стать основным полем для исследований в грядущих десятилетиях.
Не нужно быть реакционером, фундаменталистом или противником любых механических и прочих устройств, чтобы сомневаться, является ли подключение мозга к компьютеру и плотное слияние внешней и внутренней памяти такой уж отличной идеей. Генная инженерия и нейротропные «когнитивные стероиды» – сегодня щекотливые темы, над которыми до седьмого пота работают специалисты по биоэтике, но изменения, которые они могут привнести, покажутся пустяком, результатом легкого поворота ручки настройки в сравнении с тем, что произойдет при полном объединении внешней и внутренней памяти. Более разумный, высокий, сильный, устойчивый к болезням человек, живущий 150 лет, все же остается человеком. Но если дать кому-то идеальную память и сознание, способное вместить коллективные знания всего человечества… ну, тогда нам придется задуматься о том, чтобы расширить словарный запас.
Но возможно, вместо того чтобы рассматривать эту память как внешнюю или выведенную наружу – то есть как совершенно отличную от памяти, находящейся в мозгу, – нам следует воспринимать ее как продолжение нашей внутренней памяти. В конце концов, даже внутренние воспоминания становятся доступны нам лишь постепенно.
Существуют события и факты, которые, уверен, я помню, – но я понятия не имею, как их найти. Даже если я не могу сразу же вспомнить, где отмечал свой седьмой день рождения или имя жены моего второго двоюродного брата, эти факты все равно находятся где-то в моем мозгу, ожидающие правильного сигнала, чтобы всплыть в сознании, так же как все факты в «Википедии» дремлют в ожидании клика мышкой.
Мы, западные люди, привыкли думать о своей «самости», иллюзорной сущности, определяющей наше сознание, как если бы мы состояли из нескольких частей. Даже при том, что современная когнитивная неврология отвергает старую декартовскую идею о душе, живущей в крошечной шишковидной железе и контролирующей человеческое тело, большинство из нас верят, что другой «я» где-то там сейчас ведет автобус. Собственно, то, что мы понимаем под «я», есть нечто более рассеянное и туманное, чем принято полагать. В конце концов, большинство людей предполагают, что их сущность не может существовать за пределами их эпидермиса, в книгах, компьютерах, лайфлогах. Но разве в этом дело? Наши воспоминания, квинтэссенция нашей самости, представляют собой куда большее, чем переплетение нейронных связей в нашем мозгу. Даже в те давние времена, когда Сократ обличал письменность, наша память всегда простиралась за границы нашего мозга в иные хранилища информации. Лайфлогинг Белла просто открыл нам глаза на правду.
Глава 8 «Точка окей»
Если бы вы заглянули ко мне в офис осенью 2005 г., вы увидели бы стикер-«напоминалку» – мою внешнюю память, – приклеенную к стене над монитором компьютера. Всякий раз, когда мои глаза отрывались от экрана, я видел слова «Не забывай помнить» – напоминание о том, что за следующие несколько месяцев до чемпионата Соединенных Штатов по запоминанию мне нужно заменить мою манеру откладывать дела на завтра более плодотворной привычкой к выполнению мнемонических упражнений. Так что, когда я решал отвлечься от работы, то вместо того, чтобы сидеть в Интернете или прогуляться, брал в руки лист со случайно выбранными словами и пытался их запомнить. Листок со случайными цифрами сопровождал меня в метро вместо журнала или книги. Понимал ли я в то время, в какого странного человека превращаюсь?
Я стал пытаться пользоваться памятью в обычной жизни, даже когда не упражнялся в дисциплинах, которые войдут в программу чемпионата. Прогулки по окрестностям служили хорошим поводом, чтобы потренироваться в запоминании номеров машин. Я начал уделять слишком много внимания беджикам с именами. Запоминал списки покупок. Вел календарь на бумаге и в голове. Стоило кому-то дать мне свой телефонный номер, как я тут же вставлял его в специальный дворец памяти.
В запоминании цифр – одном из тех видов запоминания, в котором дворцы памяти можно использовать в реальной жизни, – я практиковался почти каждый день. Я использовал технику, известную как «Главная система», изобретенную в 1648 г. Иоганном Винкельманом{78}. Она представляет собой простой код для трансформирования цифр в фонетические звуки. Эти звуки в свою очередь можно превратить в слова, из которых можно получить образы для дворца памяти. Код выглядит так:
Число 32, например, превратится в МН, 33 – в ММ, а 24 – в МР. Чтобы эти сочетания букв наполнились смыслом, вам надо дополнить их другими буквами по своему выбору. Так, 32 может превратиться в образ МужчиНы, 33 – в «МаМу», а 34 – в российскую орбитальную станцию «МиР». Аналогично число 86 станет «ФиШкой», 40 – «РоСой», а 92 – «ПесНей». 3219 можно представить как МужчиНу (32), играющего на ТуБе (19), или же в человека из МаНиТоБы (3219). Таким же образом, 7879 превратится в КФКП, что в свою очередь может стать образом книги КаФКи или же двумя изображениями – «КоФе» и «КаПли». Преимущество Главной системы в том, что она проста и вы можете начать ею пользоваться практически сразу. (Как только я освоил ее, я тут же запомнил номер своей кредитки и банковского счета.) Но на международных соревнованиях по запоминанию при помощи одной только Главной системы никто не побеждает.
Когда речь заходит о запоминании длинной последовательности чисел, как, например, сотня тысяч знаков числа π или показатели достижений каждого принятого в Зал славы бейсболиста из команды «Нью-Йорк Янкиз», большинство интеллектуальных спортсменов обращаются к более сложной технике, известной завсегдатаям Мирового интеллектуального клуба[57] (интернет-форума для поклонников запоминания, кубика Рубика и прочих интеллектуальных развлечений) под условным названием «человек-действие-предмет», или сокращенно ЧДП. Эта техника уходит корнями в эпоху комбинаторной мнемоники Джордано Бруно и Рамона Льюля.
По системе ЧДП каждое двузначное число от 00 до 99 представляется одним образом человека, совершающего действие с каким-либо предметом. Число 34 – это Фрэнк Синатра (человек), вполголоса напевающий (действие) в микрофон (предмет). Таким же образом, 13 станет Дэвидом Бекхэмом, ударяющим по мячу. 79 – Супермен, летящий в плаще. Любое шестизначное число, например 34–13–79, может быть трансформировано в единственный образ путем совмещения человека из первого числа с действием из второго числа и объектом из третьего. В нашем случае получается Фрэнк Синатра, ударяющий по плащу. А если бы число было 79–34–13, интеллектуальному спортсмену пришлось бы воображать не менее безумную сцену: Супермен вполголоса напевает футбольному мячу. При этом в числе 34 нет ничего от Фрэнка Синатры, а в 13 – от Дэвида Бекхэма. В отличие от того, что предусмотрено Главной системой, эти ассоциации совершенно произвольны и требуют предварительного заучивания. То есть, чтобы уметь запоминать, придется предварительно многое запомнить. Да, участие в чемпионате по запоминанию требует много времени и сил. Но эта система очень эффективна, поскольку позволяет создать уникальные образы для любого числа в диапазоне от 0 до 999999. И поскольку этот алгоритм непременно порождает странные ситуации, образы, созданные по методу ЧДП, очень хорошо запоминаются благодаря своей природе.
Спортивное запоминание похоже на гонку вооружений. Каждый год кто-то – чаще всего тот из участников соревнования, кто временно сидит без работы или является студентом без планов на летние каникулы, – изобретает все более и более изощренную технику для быстрого запоминания, вынуждая остальных участников играть в догонялки.
Эд потратил предыдущие шесть месяцев на разработку того, что он описал как «самый навороченный мнемонический монстр, которого когда-либо пускали в ход на чемпионатах по запоминанию». Его новая система, которую он называл «Миллениум-ЧДП», представляла собой усовершенствованную систему ЧДП, предполагавшую опору не на двузначные числа, применяемые большинством европейских участников, а на трехзначные, что позволяло создавать тысячи образов людей-действий-предметов. Таким образом, он мог перекодировать любое число от 0 до 999999999 в уникальный образ, которое, как можно надеяться, невозможно перепутать с любым другим. «Раньше у меня была маленькая двузначная лазерная лодка, которая стрелой мчалась сквозь числа, как рыба-тунец на амфетаминах, а теперь же у меня трехзначный Man of War[58] с 64 пушками на борту, – хвастался Эд. – Он куда мощнее, но и труднее в использовании». Если эта система сработает, полагал Эд, она продвинет интеллектуальный спорт на качественно новый уровень{79}.
Интеллектуальные спортсмены запоминают последовательность карт в колоде во многом с помощью той же самой схемы. Они используют такую систему ЧДП, в которой каждая из 52 карт получает свой собственный образ человека-действия-предмета. Это позволяет любой тройке карт преобразовываться в один образ, и для запоминания полной колоды понадобится только 18 уникальных образов (52 деленное на три равно 17 и одна карта в остатке).
С помощью Эда я старательно составил собственную систему ЧДП, для которой пришлось выдумать 52 различных образа человека-действия-предмета. Дабы хорошо запоминать создаваемые образы, спортсмен должен постараться, чтобы по цвету и содержанию они соответствовали его вкусам. Из чего следует, что набор ЧДП-образов интеллектуального спортсмена наглядно демонстрирует всех тараканов в его подсознании. В моем случае это были телевизионные знаменитости 1980-х – начала 1990-х гг., у Бена Придмора – персонажи мультфильмов, у Эда – модели, демонстрирующие нижнее белье, и английские игроки в крикет периода Великой депрессии. Моим королем червей был Майкл Джексон со своей лунной походкой и белой перчаткой. Королем треф был Джон Гудмен[59], поглощающий гамбургер, королем бубен – Билл Клинтон, курящий сигару. Если мне требовалось запомнить короля червей, короля треф и короля бубен именно в такой последовательности, я создавал образ Майкла Джексона, поедающего сигару. Но до того, как я смог бы запоминать колоды карт, мне предстояло запомнить эти 52 образа. Не слабо.
Моя система ЧДП бледнеет в сравнении с системой, которую применяет Бен Придмор для запоминания карт. Осенью 2002-го он уволился с мясоперерабатывающего завода в Линкольншире, где проработал шесть с половиной лет помощником бухгалтера, и провел неделю в Вегасе, пересчитывая карты. Потом он вернулся в Англию и в течение шести месяцев просматривал мультфильмы, готовясь получить квалификацию, которая дала бы ему возможность преподавать английский как иностранный. Одновременно он разрабатывал новую мнемоническую ядерную бомбу. Вместо того чтобы создавать один ЧДП-образ для каждой карты в колоде, Бен провел множество часов, выдумывая образы для каждой комбинации из двух карт. Когда он видит королеву червей, за которой следует туз бубен, для него это один уникальный образ. Если за тузом бубен следует королева червей – это уже другой образ. Это 52 × 52, то есть 2704 возможных комбинаций из двух карт, образы которых Бен создал и запомнил. И, как Эд, он помещал три изображения в одно место. Таким образом, он может уложить целую колоду игральных карт в девять мест (52 деленное на 6), а 27 колод карт – его личный рекорд в запоминании за час – всего в 234 loci.
Трудно сказать, что приводит меня в большее восхищение: интеллектуальные достижения Бена или его ловкость рук. Он выработал способность захватывать по две карты с верхушки колоды, раздвигая их настолько, чтобы можно было увидеть масть и достоинство в углу каждой из них. Когда он работает на максимальной скорости, ему достаточно менее секунды на каждую пару карт.
Бен разработал похожую замысловатую систему запоминания двоичных чисел, которая позволяет ему переводить в один образ последовательность из десяти единиц и нулей. Для этого потребовалось около 1024 образов. Когда Бен видит последовательность 1101001001, он тут же воспринимает ее как единое целое, как образ карточной игры. Когда он видит 0111011010 – в его воображении возникает образ кинотеатра. На международных соревнованиях интеллектуальные спортсмены получают листы с 1200 двоичными числами – по 30 знаков в ряд, по 40 рядов на страницу. Бен превращает каждую строку из 30 знаков в один образ. Число 110110100000111011010001011010, например, это громила, опускающий рыбку в консервную банку. В свое время Бену принадлежал рекорд в этой дисциплине: за полчаса он запомнил последовательность 3705 случайных нулей и единиц.
У каждого интеллектуального спортсмена есть своя ахиллесова пята. У Бена это «имена-и-лица». Его результаты в этом виде соревнований всегда одни из самых низких. «Я не привык смотреть на лица людей, когда разговариваю с ними, – рассказал он. – На самом деле я понятия не имею, как выглядит большинство из моих знакомых». Чтобы избавиться от этого недостатка, он разрабатывает новую мнемоническую систему с числовыми кодами для цвета глаз, кожи и волос, равно как для длины волос, формы носа и рта. Бен уверен, что лицо человека можно запомнить только тогда, когда преобразуешь его в последовательность чисел.
Когда я только решил тренировать память, перспектива освоения всех этих изощренных приемов меня пугала. Но мы с Андерсом Эрикссоном заключили договор. Я предоставлю Эрикссону подробные описания всех моих тренировок, и он сможет использовать их для своих исследований. Взамен его аспиранты Трес и Кэти проанализируют эти записи, чтобы определить, каким образом мне стоит улучшать свои результаты. После чемпионата по запоминанию я пообещал вернуться в Таллахасси на пару дней для финального тестирования, и тогда они смогли бы написать обо всем этом статью.
Процесс приобретения навыков в самых разных областях Эрикссон изучил с множества разнообразных точек зрения, и если еще и оставались какие-нибудь секреты в том, как стать экспертом, раскрыть их мог бы не кто иной, как он. Я уже знал из частых разговоров с ним и из его книг и статей – а я прочитал практически все его работы, – что он обнаружил, что существует общий для всех сфер деятельности набор методов, которые искусные профессионалы обычно применяют, стремясь стать мастерами своего дела. Это общие принципы обретения навыков и опыта. И эти принципы могли бы стать моим секретным оружием.
На протяжении тех месяцев, что я провел в родительском подвале, корпя над ЧДП, Эрикссон следил за моими достижениями. Я держал его в курсе малейших изменений в моем восприятии предстоящего чемпионата, к которому, как я заметил, я относился уже не с невинным любопытством, а с ревностным азартом. Когда я топтался на месте, я звонил Эрикссону за советом, и он непременно высылал мне какую-нибудь статью, которая, он обещал, должна была помочь мне найти причину моих неудач. Спустя пару месяцев после начала тренировок моя память перестала улучшаться. Сколько бы я ни практиковался, я не мог увеличить скорость запоминания колоды карт. Я застрял и не мог понять почему.
– В том, что касается карт, я не могу сдвинуться с мертвой точки, – пожаловался я.
– Я бы посоветовал обратиться к литературе по быстрому набору текста, – ответил Эрикссон.
Когда люди только начинают пользоваться клавиатурой, они очень быстро переходят от неуклюжего тыканья одним пальцем к осторожному печатанию двумя руками, пока наконец пальцы не начинают так легко летать с одной клавиши на другую, что этот процесс становится совершенно подсознательным и пальцы начинают как бы думать сами за себя. Именно в этой точке навыки печатания перестают развиваться. Они достигают стадии, где видимого прогресса не происходит. Если задуматься, это очень странный феномен. Ведь нам всегда говорили, что, упражняясь, мы можем отработать свои умения до совершенства, и многие люди проводят по нескольку часов в день за клавиатурой, развивая свое умение быстро печатать. Так почему же они не печатают все лучше и лучше?
В 1960-х года психологи Пол Фитс и Майкл Поснер попытались ответить на этот вопрос путем подробного описания всех трех стадий, которые проходит каждый, кто приобретает новый навык. На первой, «когнитивной стадии» мы осмысливаем задание и пытаемся выработать новые стратегии, чтобы эффективнее его выполнить. На второй стадии, «ассоциативной», мы меньше концентрируемся на своих действиях, совершаем уже меньше серьезных ошибок и в общем повышаем собственную эффективность. Наконец мы достигаем того, что Фитс зовет «автоматической стадией», когда мы полагаем, что уже набили руку, и действуем практически машинально. На автоматической стадии мы теряем способность сознательно контролировать то, что делаем. И чаще всего это хорошо: одной заботой для мозга меньше. На самом деле автоматическая стадия, похоже, стоит в ряду с теми полезными способностями, которые изобрела для нас эволюция. Чем меньше мы сосредотачиваемся на своих ежедневных, рутинных действиях, тем больше мы можем сконцентрироваться на вещах, которые по-настоящему важны, и на вещах, с которыми мы еще не сталкивались. Так, как только мы овладели навыками быстрого печатания, мы убираем их подальше в картотечный шкафчик нашего мозга и больше не обращаем на них внимания.
Функциональная магнитно-резонансная томография дает возможность проследить за изменениями в мозгу людей, осваивающих новые навыки. По мере того как эти навыки доводятся до автоматизма, части мозга, отвечающие за сознательную деятельность, отключаются, а другие части, наоборот, становятся более активными. Можно назвать это «точкой окей» – той самой точкой, в которой мы решаем, что, дескать, все окей, мы это можем, – а потом включаем автопилот и перестаем развиваться.
Что бы мы ни делали, мы в большинстве случаев достигаем «точки окей». Мы учимся управлять машиной в подростковом возрасте, а когда понимаем, что водим уже настолько хорошо, что нам не угрожают ни аварии, ни штрафы, уровень водительского мастерства возрастает у нас лишь незначительно. Мой отец играл в гольф на протяжении 40 лет, и он до сих пор – знаю, ему будет неприятно это читать – никудышный игрок. За 40 лет он не продвинулся ни на йоту. Как же так? Он достиг «точки окей».
Психологи полагали, что «точка окей» отмечает верхнюю границу наших природных способностей. Фрэнсис Гальтон в книге «Наследственность таланта. Законы и последствия», написанной им в 1869 г., утверждал, что человек может улучшать свои физические и интеллектуальные способности до определенного предела, стены, которую он «не сможет преодолеть даже с помощью дальнейшего образования и совершенствования». Согласно этому взгляду, лучшее, что мы можем, – это лучшее, на что мы способны.
Но Эрикссон и его товарищи все чаще убеждались, что, если приложить достаточно усилий, развитие, скорее всего, будет идти иначе. Они были уверены, что непреодолимая «стена» Гальтона – это не верхняя точка наших природных способностей, а просто то, что мы находим приемлемым уровнем исполнения.
Выдающиеся профессионалы отличаются от всех остальных тем, что в работе им, как правило, свойственна целеустремленность и высокая степень сосредоточенности. Эрикссон определил это как «осмысленная практика». Изучив лучших из лучших во многих сферах деятельности, он открыл, что наиболее успешные специалисты следовали одним и тем же путем развития. Они вырабатывали стратегию, которая позволяла им сознательно избегать автоматической стадии, и совершенствовались, следуя трем принципам: концентрация на технике, ориентация на цель и получение стабильной и немедленной реакции на свои действия. Другими словами, они заставляли себя оставаться в «когнитивной фазе».
Например, в то время как музыканты-любители в основном упражняются, просто играя разные пьесы, профессионалы чаще всего выполняют специальные упражнения или же сосредотачиваются на специфических трудных местах произведений. Лучшие фигуристы оттачивают прыжки, которые даются им хуже других, тогда как начинающие налегают на прыжки, которые они выполняют как нельзя лучше{80}. «Осмысленная практика» – это трудно.
Если вы хотите достичь в чем-то совершенства, важно не то, сколько времени вы уделяете тренировкам, а как вы его проводите. Срок работы в большинстве изученных областей деятельности – от шахмат до игры на скрипке и баскетбола – лишь слабо связан с уровнем профессионализма. Мой отец, может, и полагает, что загонять мяч в металлические лунки в подвале – это хорошая практика, но пока он не начнет сознательно ставить перед собой труднодостижимые цели и следить за своими показателями – изучать, анализировать, продумывать, – он никогда значительно не улучшит своих результатов. Обычной тренировки попросту недостаточно. Чтобы повысить свой уровень, нам нужно совершать ошибки и учиться на них.
Как выяснил Эрикссон, лучший способ избежать автоматической стадии и «точки окей», это сфокусироваться на неудачах. Один из способов сделать это – попытаться заглянуть в голову к человеку, намного более сведущему в том виде деятельности, который вы пытаетесь освоить, и попытаться понять, как бы этот человек решил такие же проблемы. Бенджамин Франклин одним из первых начал применять эту тактику. В своей автобиографии он описал, как читал труды великих мыслителей и пытался повторить приведенные автором аргументы, но только опираясь на свою логику. Затем он возвращался к прочитанному и сравнивал свою версию с оригинальной, чтобы оценить, насколько его собственный ход мысли соответствовал мышлению автора произведения.
Шахматисты действуют похожим образом. Они частенько проводят по несколько часов в день, воспроизводя игры гроссмейстеров ход за ходом, с тем чтобы постичь экспертное мышление на каждом шаге{81}. Действительно, успех шахматиста зависит не от того, сколько раз он сыграл с соперниками, а от того, сколько времени он сыграл сам с собой, анализируя чужие старые игры{82}.
Ключ к обретению мастерства в том, чтобы сознательно контролировать процесс развития своих навыков в ходе тренировок – в том, чтобы принудить себя отказаться от автопилота. В случае с быстрым набором текста избежать остановки на «точке окей» довольно-таки просто. Психологи обнаружили, что лучшее средство для этого – заставить себя печатать с большей скоростью, чем та, что представляется подходящей, и разрешить себе делать ошибки. В одном из экспериментов наборщики видели слова, мелькающие на экране со скоростью, на 10–15 % превышающую скорость, с которой они могли напечатать это слово{83}. Поначалу они не успевали, но через пару дней поняли причину своих неудач, преодолели это препятствие и продолжили печатать уже быстрее. Не позволив своим навыкам печатания оставаться в автоматической стадии и вернув их под свой сознательный контроль, они перешагнули через «точку окей».
Эрикссон предложил мне проделать то же самое с картами. Он посоветовал найти метроном и попробовать запоминать карты всякий раз, как тот щелкал. Как только я осознаю пределы своих возможностей, учил Эрикссон, надо установить метроном так, чтобы он застучал на 10–20 % быстрее, и попытаться запоминать карты в более быстром темпе до тех пор, пока я не перестану ошибаться. Всякий раз, когда я сталкивался с особенно трудной для запоминания картой, мне нужно было сделать соответствующую пометку и попытаться выяснить причину проблемы. Все сработало, и уже через пару дней я перешел через «точку окей», и время, затрачиваемое мной на запоминание карт, снова стало стабильно понижаться.
Если не практиковаться осознанно, даже у экспертов может наблюдаться падение профессионализма. Эрикссон поделился со мной удивительным примером: хотя мы склонны больше доверять седовласому доктору, чем выпускнику медицинской школы, было доказано, что в некоторых областях медицины мастерство врача не повышается с годами медицинской практики. Например, маммологи со временем ставят все менее точные диагнозы{84}. Как же так?
Для большинства маммологов, считает Эрикссон, медицинская практика не является осмысленной. Их деятельность можно сравнить скорее с отработкой приемов гольфа в подвале, нежели с полноценными занятиями с тренером. Все потому, что маммологи узнают – если узнают вообще, – насколько правильно они поставили диагноз, только недели, а то и месяцы спустя, а к этому времени они уже забывают детали того случая и не могут учиться на своих ошибках и успехах.
Однако в хирургии все наоборот. Хирурги, в отличие от маммологов, со временем улучшают свои навыки. Хирурги отличаются от маммологов тем, что исход большинства операций ясен почти сразу – пациент либо поправляется, либо нет, – что значит, что хирурги получают ответную реакцию на свои действия практически незамедлительно. Они постоянно узнают, что работает хорошо, а что плохо, и постоянно повышают свое мастерство. Из этого можно сделать практический вывод: маммологам, предложил Эрикссон, необходимо регулярно анализировать старые случаи, диагноз по которым уже известен. Таким образом они могли бы иметь быструю обратную связь – информацию о своем профессиональном уровне.
Такая быстрая обратная связь дает возможность выдающимся специалистам находить новые способы, которые позволят им еще лучше выполнять свои профессиональные функции и еще выше поднять нашу коллективную «точку окей». Люди умеют плавать еще с тех пор, как научились заходить по шею в воду. Казалось бы, человечество как вид должно было бы уже давно исчерпать свои возможности в повышении скорости плавания. И все же новые рекорды по плаванию устанавливаются каждый год. Люди продолжают набирать темп. «Олимпийские чемпионы по плаванию начала века сейчас бы даже не прошли отбор в школьную команду», – заметил Эрикссон. Точно так же результат победителя в марафоне на первых Олимпийских играх регулярно достигается бегунами-любителями, участвующими в Бостонском марафоне без всякой надежды на призовые места.
И такое происходит не только в спорте, но практически во всех сферах деятельности. Философ XIII в. Фрэнсис Бэкон утверждал, что «никто не может достичь совершенства в области математики, если он не посвятит этому 30 или 40 лет». Сейчас же весь тот известный Бэкону объем знаний школьники усваивают в младших классах старшей школы{85}.
Нет оснований считать, что самые одаренные спортсмены современности более талантливы от природы, чем наиболее одаренные атлеты прошлого. И нет причин полагать, что весь этот удивительный прогресс обусловлен усовершенствованием обуви для бега или купальных костюмов – хотя, конечно, новые технологии имеют значение. Изменились лишь объемы и качество тренировок, необходимых атлету для того, чтобы стать мастером спорта мирового класса. То же верно не только для бега и плавания, но и для метания копья, фигурного катания и всех остальных спортивных дисциплин. Нет такого вида спорта, где рекорды не менялись бы из года в год. Даже если там и есть точки застывания, мы их еще не достигли.
Как же получается, что мы продолжаем превосходить самих себя? Эрикссон полагает, что барьеры, которые мы сообща себе устанавливаем, в одинаковой мере связаны с нашей психикой и нашими врожденными физиологическими особенностями. Как только рубеж начинает казаться преодолимым, кто-то его обязательно преодолевает. Долгое время люди верили, что никто не может пробежать милю быстрее чем за четыре минуты. Считалось, что это так же невозможно, как достигнуть скорости света. Когда же Роджер Баннистер, двадцатилетний студент-медик из Британии, наконец пробежал милю менее чем за четыре минуты в 1954 г., об этом написали во всех газетах по всему миру, а его достижение называли величайшим спортивным событием всех времен и народов. Но этот барьер оказался скорее воротами шлюза. Всего через шесть недель австралиец Джон Лэнди пробежал милю на полторы секунды быстрее, чем Баннистер, а через несколько лет результат в четыре минуты стал среднестатистическим.
Сегодня от любого профессионального бегуна на средние дистанции ожидают, что он в состоянии пробежать милю за четыре минуты, а мировой рекорд улучшился до 3 минут и 43,13 секунды. А на чемпионате мира по запоминанию как минимум половина существующих мировых рекордов обновляется каждый год.
Эрикссон посоветовал мне относиться к развитию памяти не как к увеличению роста, улучшению зрения или исправлению какой-нибудь другой базовой особенности моего организма, а как к усовершенствованию любого навыка – например, навыка игры на музыкальном инструменте.
Мы привыкли думать о памяти так, будто это нечто целостное, монолитное. Но она не такая. Память скорее похожа на комбинацию независимых конструкций и систем, каждая из которых полагается на собственную сеть нейронов. У некоторых людей хорошая память на числа, но они постоянно забывают слова; другие отлично помнят имена, но не списки дел. S.F., студент, которого изучал Эрикссон, улучшил свою память на числа в десять раз, но не увеличил ее возможности в целом. Он просто стал специалистом по запоминанию последовательности цифр. Когда он пытался запомнить списки случайно выбранных букв, обозначавших согласные звуки, то запоминал только семь из них.
Вот что более всего отличает лучших мнемоников от спортсменов из второго эшелона: они подходят к запоминанию как к науке. Они пытаются догадаться, где их пределы, проводят эксперименты и анализируют данные. «Это то же самое, что разрабатывать новую технологию или новую научную теорию, – как-то сказал мне двукратный чемпион мира Энди Белл. – Приходится анализировать то, что ты делаешь».
Чтобы попасть на вершину к лучшим мнемоникам, мне нужно было тренироваться осмысленно и сосредоточенно. Это значило, что мне нужно было собирать информацию и анализировать ее, чтобы иметь представление о своих успехах и неудачах. А это означало, что операция «Память» становилась более масштабной.
Я создал электронную таблицу в своем ноутбуке, чтобы знать, как долго я уже тренируюсь, и отслеживать все свои проблемы, с которыми сталкивался за это время. Я строил графики и записывал все результаты в своем журнале:
«19 августа: запомнил 28 карт за 2:57.
20 августа: запомнил 28 карт за 2:39. Хорошее время.
24 августа: запомнил 38 карт за 4:40. Плохо.
8 сентября: сидел, расслаблялся в Starbucks вместо того, чтобы работать над срочной статьей. Запомнил 46 цифр за пять минут. Ужасно. Потом запомнил 48 карт за 3:32. Решил изменить образы для всех четверок. Прощайте, актрисы, здравствуйте, интеллектуальные спортсмены. Трефы = Эд Кук, бубны = Гюнтер Карстен, червы = Бен Придмор, пики = я.
2 октября: запомнил 70 случайных слов за 15 минут. Отвратительно! Потерял баллы на том, что перепутал «рост» и «расти», «велосипед» и «велотренажер». Отныне, когда буду сталкиваться с такими похожими словами, буду оставлять во дворце памяти воображаемую пометку «быть осторожнее!».
16 октября: запомнил 87 случайных слов. Глазел по сторонам и слишком часто смотрел на часы вместо того, чтобы запоминать. Теряю на этом много времени. Сконцентрируйся, приятель, сконцентрируйся!»
Внимание, конечно, необходимое условие успешного запоминания. Если мы забываем имя нового знакомого, то это потому, что мы не были достаточно внимательны, сконцентрировавшись на обдумывании того, что хотим сказать. Отчасти именно поэтому техники вроде создания визуальных образов и дворца памяти так хорошо работают: они вынуждают нас быть такими внимательными и вовлеченными в происходящее, какими мы обычно не бываем. Вы не можете создать образ слова, числа или имени, не подумав над ним. И невозможно обдумывать что-то без того, чтобы сделать это «что-то» более запоминающимся. Проблема, с которой я столкнулся во время тренировок, заключалась в том, что мне быстро становилось скучно и я позволял себе отвлечься. И пускай дворец памяти заполнен яркими, четкими интересными образами – ты будешь всматриваться в ряды случайно выбранных цифр только до тех пор, пока тебе не захочется узнать, нет ли чего более интересного в соседней комнате. Например, что это за звук?
Эд, взявший привычку называть меня «сын», «молодой человек» и «герр Фоер», настаивал на том, что я перестану отвлекаться тогда, когда усовершенствую свою экипировку. Все серьезные мнемоники носят наушники. Некоторые, особенно серьезные, носят наглазники, чтобы сузить поле зрения и избавиться от внешних раздражителей. «Лично я считаю, что это смешно, но в твоем случае это может оказаться полезным вложением средств, – сказал Эд во время очередного телефонного разговора (мы перезванивались дважды в неделю).
В тот же день я отправился в хозяйственный магазин и приобрел пару промышленных наушников и лабораторные защитные очки. Я закрасил очки черным и просверлил маленькие дырочки в каждой из пластиковых линз. С этого момента я всегда надевал их, когда упражнялся.
Мне нелегко объяснить людям, что я живу с родителями, дабы сэкономить пару баксов, пока я точу зубы, намереваясь стать настоящей акулой пера. Но вот говорить о том, что я делал в их подвале, где стены сплошь обклеены страницами, исписанными случайными числами, а на полу разбросаны старые альбомы с фотографиями выпускников разных школ (купленные на блошином рынке), я не то чтобы стыдился, а просто не очень хотел.
Когда отец заходил в подвал навестить меня и спросить, не сыграю ли я с ним в гольф, я поспешно прятал листы с числами, которые я запоминал, и притворялся, будто занят чем-то другим – например, статьей, опубликовав которую смог бы получить чек на небольшую сумму, достаточную для того, чтобы оплатить аренду. Но иногда я снимал наушники и защитные очки, оборачивался и обнаруживал, что отец стоит в дверном проеме, молча наблюдая за мной.
Если Эрикссон был моим наставником, Эд принял на себя роль моего тренера и руководителя. На следующие четыре месяца он установил мне ориентиры и контрольные показатели, а также составил режим моих тренировок – полчаса практики утром плюс два пятиминутных занятия днем. Компьютерная программа проверяла меня и хранила детальные записи обо всех моих ошибках, так что мы могли проанализировать их позже. Один раз в пару дней я отправлял Эду электронные сообщения о своей скорости запоминания, а в ответ он предлагал способы улучшения этих показателей.
Вскоре я решил, что мне нужно вернуться в Милл Фарм, чтобы провести еще немного времени с моим тренером. Я запланировал свой визит в Англию таким образом, чтобы попасть на празднование двадцатипятилетия Эда, эпическое действо, о котором он говорил еще тогда, когда я впервые прилетел в Англию на чемпионат мира по запоминанию.
Вечеринка состоялась в старом амбаре Милфа, который Эд целую неделю превращал в экспериментальный плацдарм для реализации своего философского видения подобных мероприятий. «Я пытаюсь создать такую конструкцию, которая управляла бы разговором, пространством, движением, настроением и ожиданием, так чтобы я мог видеть, каким образом это все между собой взаимодействует, – сказал он. – Чтобы иметь возможность следить за всем этим, я рассматриваю людей не как волеизъявляющих существ, а как роботов – даже как крупинки, – которые будут сталкиваться по ходу вечеринки. И, как хозяин, я серьезно отношусь к своей обязанности помогать им сталкиваться наилучшим образом».
Мерцающие занавеси свисали с потолка до пола, разделяя амбар на маленькие комнатки. Войти или выйти можно было только преодолев цепочку тоннелей, перемещаться в которых приходилось не иначе как ползком. Место под роялем превратилось в укрепленный пункт, а камин окружили обветшалые диваны, поставленные на столы.
«Те, кто проберется через сеть тоннелей, пройдут через приключение. Да, они немного помучаются, но, дойдя до конца, они ощутят облегчение, благодарность и удовлетворение собой, а потом для них, ставших как никогда энергичными и способными к воображению, начнется процесс получения положительного опыта. Я думаю, что это очень похоже на твои тренировки памяти. Хоть и глупо говорить "если долго мучиться, что-нибудь получится", но это правда. Каждый должен пройти через боль, стресс, сомнения и неопределенность. А потом этот поток вынесет тебя к настоящему кладу».
Я прополз вслед за ним по черному тоннелю десяти футов длиной и оказался в комнате, сплошь заполненной шариками. Каждая комната, сказал Эд, призвана функционировать как помещение во дворце памяти. Его вечеринка была спланирована так, чтобы стать максимально запоминающейся.
«Часто получается, что у тебя остаются лишь размытые воспоминания о вечеринке, потому что она проходила в одном, ничем не разделенном пространстве, – сказал он. – Одно из достоинств моего подхода в том, что опыт, который можно получить в каждой из комнат, не связан с остальными. Каждый уйдет отсюда полный впечатлений о разных событиях, к которым будет обращаться до самой старости».
Эд хотел облегчить общение и поэтому настоял на том, чтобы участники вечеринки не могли узнать друг друга. Бен Придмор, приехавший на четырехчасовом поезде из Дерби, надел черный плащ и пугающую маску людоеда с ирокезом, которого он назвал Гринч. Лукас Амзюсс (восстановившийся после неудачного пожирания огня) прилетел из Вены специально ради вечеринки и появился в австрийской военной форме XIX в. с орденами и медалями. Один из приятелей Эда по Оксфорду носил костюм тигра. Другой изображал негра с дредами. Эд надел кудрявый парик, платье, колготки и щедро наполненный ватой лифчик. Поскольку я был единственным янки на вечеринке, я раскрасил лицо под Капитана Америку.
Главным событием вечера стали карты. Вскоре после полуночи Эд собрал 50 гостей в подвале под амбаром и объявил, что в честь его четвертьвекового существования на Земле двое величайших запоминателей карт всех времен и народов сойдутся между собой в поединке. Бен, все еще в черном плаще, но уже без маски Гринча, уселся на мешок с фасолью в одном конце длинного стола, заваленного пустыми пластиковыми стаканчиками для сангрии и остатками ягненка, которого зажарили на костре на заднем дворе. Лукас в своей армейской униформе сел на другом конце стола.
«Для начала я хочу напомнить о способностях этих двух человек к запоминанию карт, – объявил Эд. – Лукас был первым в мире, кто побил сорокасекундный рекорд запоминания колоды. Долгое время в мнемоническом сообществе, состоящем из 11 человек, этот рекорд был аналогичен четырехминутному пределу в беге на милю. Лукас переступил этот барьер и переступил еще раз, и когда-то он был чемпионом по скоростному запоминанию карт. Он также один из основателей тайного общества мнемоников, известного как KL7. И конечно, его потрясающая память могла бы удивлять нас еще больше, не будь он вечно пьян, – сказал Эд, преувеличивая. Лукас поднял пластиковый стаканчик и кивнул в сторону Эда. – Знаете, Лукас познакомил меня с очень интересной и полезной машиной, которую он соорудил вместе со своими друзьями-инженерами в Вене. Она позволяет выпивать четыре бокала пива менее чем за три секунды. Там есть вакуумный механизм, который им пришлось покупать у аэрокосмической компании. К сожалению, Лукас в последнее время ей слишком увлекся. Он не запоминал колоду карт уже целый год. Однако в последний раз, когда он это делал, его время составило 35,1 секунды».
Эд повернулся к Бену. «Придмору сейчас принадлежит рекорд по картам, 31,03 секунды. И он британец – это заявление вызвало громкое улюлюканье гостей. – Бен также выучил 27 колод карт за час – что, кстати говоря, совершенно бесполезно».
Бен расплел пальцы рук и заговорил.
– Мы с Лукасом побеседовали и подумали, что раз уж Эд у нас 17-й в мире…
– Вы издеваетесь! – возразил Эд. Он еще не знал, что несколько молодых немцев обошли его в последнем международном рейтинге.
– Мы решили, что не будем соревноваться, если он не назовет имена всех людей, присутствующих в этой комнате.
Последовал очередной взрыв одобрения, который Эд попытался унять. Он назвал практически четверть всех присутствовавших в комнате, пока не наткнулся на одного из гостей. Этого человека привел сюда один из приятелей Эда, и Эд утверждал, что никогда не встречал его ранее.
Именинник попросил тишины, предложил двум гостя перемешать колоды карт и вручил их Лукасу и Бену. Включили секундомер. У каждого из оппонентов было по минуте.
Не успели перевернуть и полдюжины карт, как стало ясно, что Лукас, с трудом державший голову прямо, совершенно не в состоянии что-либо запоминать. Он уронил голову на стол и негромко провозгласил:
– По крайней мере я по-прежнему впереди Эда в международном рейтинге.
Эд спихнул Лукаса с сиденья и занял его место.
– По случаю моего двадцатипятилетия позвольте сообщить, что один из соперников был слишком пьян, чтобы завершить соревнование, и я занимаю его место! – Колоды вновь перемешали и время выставили заново. – Так, Придмор, успокойся, а?
Минуту спустя Бен и Эд по очереди называли по памяти карты, а самопровозглашенный судья проверял, нет ли ошибки.
Эд: «Валет треф». Аплодисменты.
Бен: «Двойка бубен». Свист.
Эд: «Девятка треф». Аплодисменты.
Бен: «Четверка пик». Свист.
Эд: «Пятерка пик». Аплодисменты.
Бен: «Туз пик». Свист.
Где-то после сороковой карты Бен покачал головой и уронил руки на стол.
– Все, с меня хватит.
Эд взвился с места так резко, что накладная грудь хлестнула его по подбородку.
– Я знал, что Бен Придмор будет слишком торопиться! Я знал! Он спешит – и выдыхается, вот оно как!
– А сколько раз ты выигрывал чемпионат мира? – ответил Бен с такой язвительностью в голосе, которой я у него никогда не замечал.
– Не проверить ли нам этот результат один на один, а, Бен?
– А ты не догадываешься, что я проиграл, чтобы сделать тебе подарок?
Пока Эд радостно кружил по комнате, обмениваясь рукопожатием с мужчинами и обнимая женщин, Бен рухнул обратно на мешок с фасолью и разгладил плащ.
Один из подвыпивших приятелей Эда по Оксфорду, впечатленный выступлением Бена, несмотря на его проигрыш, подошел к Придмору и вручил ему стопку кредитных карт. Он сказал Бену, что тот может воспользоваться ими, если сможет запомнить их номера.
После карт вечеринка переместилась наружу, к костру на поляне, где пьяные пляски продолжались до утра. Когда я отправился спать на рассвете, Эд и Бен все еще сидели за кухонным столом, обмениваясь наиболее странными комбинациями двоичных цифр, которые только приходили им в головы.
Проспавшись и избавившись от похмелья, мы с Эдом провели послеобеденное время в тренировках за кухонным столом. Я приехал к нему с тремя конкретными проблемами, в которых мне нужно было разобраться. Основной из них было то, что я постоянно путал образы, которые придумал. Когда вы запоминаете колоду карт, вам не хватает времени, чтобы создавать такие детальные и красочные образы, какие рекомендует «Риторика для Геренния». Вы двигаетесь настолько быстро, что чаще всего вам удается урвать момент лишь для быстрого взгляда на карту. На самом деле искусство запоминания больше, чем что-либо еще, помогает осознать, какую малую часть изображения вам нужно увидеть, чтобы оно запомнилось.
Только проанализировав данные, которые собирал, я понял, почему я путал семерку бубен (Лэнс Армстронг едет на велосипеде) с семеркой пик (жокей, едет на лошади). Дважды повторяющийся глагол «ехать» в данных очень разных контекстах сбивал меня с толку.
Я спросил Эда, что мне с этим делать.
«Не пытайся увидеть весь образ, – ответил он. – Тебе этого не нужно. Просто сконцентрируйся на одном особо ярком элементе того, что ты пытаешься представить. Если это твоя девушка, убедись, что прежде всего ты видишь ее улыбку. Потренируйся, чтобы представлять белизну ее зубов, изгиб ее губ. Остальные детали сделают ее более запоминающейся, но улыбка все равно останется ключевой. Иногда голубой цвет с запахом устриц может быть единственным воспоминанием в связи с каким-нибудь образом, но, если ты хорошо знаешь свою систему, этого будет достаточно для расшифровки. Иногда, если этого добиваться, быстро промелькнувшие перед глазами карты могут породить в тебе лишь ряд эмоций – вообще без визуального контекста. Ну, или ты можешь изменить образы, чтобы они не были такими похожими – не такими прозаичными».
Я закрыл глаза и представил Лэнса Армстронга, крутящего педали и поднимающегося вверх по крутому холму. Я специально сфокусировался на том, как солнечный свет отражается голубым и зеленым в его солнечных очках. Потом я подумал о жокее и решил, что его образ будет более отчетливым, если посадить всадника на пони и надеть на него сомбреро. Это маленькое усовершенствование, вероятно, сэкономило две секунды моего времени.
«Карты тебе хорошо даются, – сказал Эд, когда я показал ему мои последние результаты. – Теперь нужны пять-шесть часов тренировки, чтобы довести действия с образами до автоматизма. Уверен, ты играючи побьешь американский рекорд по быстрому запоминанию карт. Уже рыдаю от восторга!»
Конечно, хотя именно многократный анализ и оттачивание приемов делают осмысленную тренировку осмысленной, Эд предупредил, что всегда можно слишком перемудрить, поскольку ни один образ, подвергнувшийся изменению, не исчезает бесследно в мнемонической системе и может вернуться на чемпионате. А ситуация, при которой одна карта или одна цифра ассоциируются во время соревнований с множеством образов, – это как раз то, чего интеллектуальные спортсмены хотят избежать в первую очередь.
Другой проблемой, с которой я столкнулся во время тренировок, было то, что мои образы для карт плохо держались в памяти. К тому времени, как я добирался до конца колоды или последовательности цифр, образы, возникшие в начале, превращались в бледные тени. Я рассказал об этом Эду. «Тебе нужно ближе узнать свои образы, – был его ответ. – Начиная с сегодняшнего дня найди время и помедитируй немного над своими персонажами. Спроси себя, как они выглядят, звучат и пахнут, каковы на ощупь и вкус, как ходят. Рассмотри покрой их одежды, узнай сексуальные предпочтения, выясни, есть ли у них склонность к насилию. И прочувствовав их на таком уровне, попробуй сделать так, чтобы все происходило одновременно – почувствуй всю силу их физического и социального «я» разом, а потом представь, что они живут в твоем доме, занимаясь обыденными делами, – так, чтобы ты привык к ним, таким ярким и многозначительным, в любых ситуациях. В результате, когда эти образы возникнут в колоде карт, они будут всегда иметь такие заметные черты, которые накрепко привяжут их к окружению.
Мне требовалась помощь Эда в связи с еще одной проблемой. Следуя рекомендациям Петра из Равенны и «Риторики для Геренния», я включил в свою коллекцию ЧДП-образов несколько непристойностей, которые до сих пор под запретом в южных штатах. И поскольку запоминание колоды карт по методу ЧДП требует перекомпоновки предварительно запомненных образов для создания новых, иногда приходится представлять членов своей семьи в сценах настолько сексуальных, что я боялся, как бы усовершенствование моей памяти не обернулось мучением для подсознания. Те непотребные действия, которые пришлось совершить моей бабушке, чтобы помочь мне запомнить восьмерку червей, невозможно описать словами (и даже то, что их можно вообразить, явилось для меня неожиданностью).
Я описал свои трудности Эду. Это было ему знакомо. «Мне пришлось исключить маму из моей колоды, – сказал он. – Что и тебе советую».
Эд был строгим тренером, ругающим меня за «вялость». Если проходило несколько дней, а я не присылал ему своих новых данных или признавался, что я не тренировался положенные полчаса в день, я получал от него по электронной почте едкий выговор.
«Ты должен поднапрячься и больше тренироваться, потому что на соревнованиях твои показатели неизбежно снизятся, – предупреждал он. – Ты мог бы стать отличным интеллектуальным спортсменом и хорошо выступить, но тебе нужно привыкнуть к мысли, что на чемпионате твои результаты окажутся хуже, чем на тренировке».
В свою защиту скажу, что «вялость» – не то слово, которое следовало бы употребить в моем случае. Теперь, когда «точка окей» осталась позади, мои результаты улучшались с каждым днем. Листы со случайными числами, которые я запомнил, стопочкой лежали в ящике моего стола. Загнутые уголки страниц, отмечавшие выученные стихи, множились в моем томе «Сборника современной поэзии» под редакцией Нортона. Я начал даже подозревать, что если темпы моего прогресса сохранятся, то у меня есть шанс хорошо выступить на чемпионате.
Эд прислал мне высказывание знаменитого мастера восточных единоборств Брюса Ли, которое, по его мнению, должно было меня вдохновить: «В мире нет границ. Есть мертвые точки, но вам нельзя там оставаться, вам нужно идти дальше. Если вы умрете, вы просто умрете». Я скопировал ее на «напоминалку» и прилепил на стену. Потом отклеил и запомнил.
Глава 9 Талантливая десятка
В скорости после возвращения из Англии я обнаружил себя сидящим на складном стуле на пороге родительского дома в 6:45 утра в одних трусах, наушниках и защитных очках для запоминания и с распечатками восьми сотен случайно выбранных знаков в руке, воображающим одетого в кружевное белье садового гнома (52632), подвешенного над кухонным столом моей бабушки. Я неожиданно осмотрелся, спросив самого себя – впервые, как ни удивительно: что же, в конце концов, я с собой делаю?
Я осознал, что слишком зациклился на других участниках соревнования. С помощью специального сервера, хранившего подробную статистическую информацию об интеллектуальных спортсменах, я ознакомился со всеми их сильными и слабыми сторонами и с маниакальной регулярностью сравнивал наши шансы. Соперником, которого я опасался более всего, был не действующий чемпион Рэм Колли, двадцатипятилетний бизнес-консультант из Ричмонда, Вирджиния, скорее, Морис Столл, тридцатилетний импортер косметической продукции и восходящая звезда скоростного запоминания чисел из Форт-Уэрта, Техас, выросший в Германии. Я встречал его на соревновании в прошлом году. У него была бритая голова и козлиная бородка, говорил он с пугающим немецким акцентом (все немецкое на интеллектуальных соревнованиях пугающе) и являлся одним из немногих американцев, когда-либо пересекших Атлантику для участия в европейских соревнованиях по запоминанию (он занял 15-е место на чемпионате мира по запоминанию 2004 г. и 7-е на прошлогоднем кубке мира). Он является чемпионом Соединенных Штатов по скоростным числам (144 цифры за пять минут) и скоростным картам (одна колода за одну минуту 56 секунд). Единственными его слабыми местами были поэзия (по которой он занимает 99-ю строку в мировом рейтинге) и бессонница. Все соглашались с тем, что он должен был выиграть предыдущее соревнование, но тогда он застрял и закончил четвертым исключительно потому, что перед последним днем соревнований спал всего три часа. В этом году я считал его главным кандидатом на победу в случае, если он вовремя ляжет спать накануне. И я тратил по полчаса в день, чтобы лишить его победы.
Все больше погружаясь в подготовку к чемпионату, я начал задумываться, не является ли способ запоминания, практикуемый интеллектуальными спортсменами, чем-то вроде павлиньего хвоста: впечатляющим не благодаря своей практической значимости, а в силу ее абсолютного отсутствия. Стоит ли считать древние техники всего лишь, как выразился однажды историк Пауло Росси, «интеллектуальными ископаемыми», которые восхищают нас как свидетельство интеллектуальных достижений ушедших эпох, но которые в современном мире не более уместны, чем гусиные перья и свитки папируса?
У мнемоники всегда находились противники. Их доводы звучали впечатляюще, но ни на что не влияли. Философ XVII в. Френсис Бэкон заявлял: «Я испытываю не больше почтения к повторению большого количества цифр или слов после единственного прослушивания… чем к трюкам акробатов, эквилибристов и клоунов: одни тренируют разум, другие тело, различие лишь в степени бесполезной эксцентричности». Он считал искусство запоминания совершенно «бесплодным».
Когда миссионер-иезуит Маттео Риччи в XVI в. попытался познакомить с техниками запоминания китайских мандаринов, готовящихся к экзамену для поступления на государственную службу, он встретил неожиданное сопротивление. Риччи намеревался зацепить их сначала европейскими приемами обучения, а после и европейским богом. Китайцы возразили, что метод loci требует гораздо больше дополнительной работы, нежели механическое зазубривание, и заявили, что их метод запоминания и проще и быстрее. Я могу понять, из чего они исходили.
В социальном и возрастном плане участники обычного чемпионата по запоминанию практически не отличаются от публики на концерте «Странного Эла» Янковича[60] (пятерка пик). Подавляющее большинство интеллектуальных спортсменов – молодые белые парни, любители пофокусничать. Потому-то и невозможно не заметить около дюжины студентов, появляющихся на чемпионате Соединенных Штатов каждый год едва ли не в церковном облачении. Они учатся в профессиональном училище имени Сэмюэля Гомперса в Южном Бронксе, и их учитель американской истории Реймон Мэттьюс является ярым последователем Тони Бьюзена.
Если я считал, что искусство запоминания являет собой просто вид умственного позерства, Мэттьюс стремился доказать обратное. Он назвал группу студентов, которых он готовит к чемпионату Соединенных Штатов по запоминанию, Талантливой десяткой – по аналогии с идеей У. Э. Б. Дюбуа[61] об элите афроамериканцев, выводящей свою расу из бедности. Когда я впервые столкнулся с Мэттьюсом на чемпионате Соединенных Штатов по запоминанию в 2005 г., он нетерпеливо вышагивал из угла в угол, ожидая результатов выступления своих студентов в соревновании по случайным словам. Некоторые из его учеников боролись за места в первой десятке рейтинга, но реальная проверка памяти, насколько ему было известно, ожидала их через два месяца на регентском экзамене[62]. Он надеялся, что к концу года его ученики запомнят из книг по истории США все важные события, даты и мысли, используя те же техники, которые они применяют на чемпионате США по запоминанию. Он пригласил меня к себе в класс, чтобы я смог понаблюдать за использованием техник запоминания, так сказать, «вживую».
Чтобы посетить его занятие, мне пришлось пройти через металлоискатель и предоставить свою сумку для обыска офицеру полиции, прежде чем оказаться в здании школы Гомперса. Мэттьюс верит, что искусство запоминания может стать для его студентов билетом на выход из привычного окружения, в котором девять из десяти учащихся имеют по математике и чтению оценки ниже среднего уровня, четверо из пяти живут в нищете и примерно половина не заканчивает средней школы. «Запоминание цитат позволяет человеку казаться более солидным, – говорил он ученикам, пока я сидел за последним столом в его аудитории. – Кто произведет на вас более сильное впечатление: человек, на все имеющий свое необоснованное мнение, или же историк, который может ссылаться на великих мыслителей прошлого?»
Я слушал, как его ученик дословно пересказал целый параграф из «Сердца тьмы»[63], чтобы ответить на вопрос о международной торговле в XIX в. «Когда дело доходит до теста, он обязательно выдаст подобную цитату», – говорил Мэттьюс, опрятно одетый, коротко стриженый мужчина с бородкой клинышком и заметным бронкским акцентом. Каждое классное сочинение должно содержать не менее двух запомненных цитат – это одно из многих маленьких упражнений для памяти, которые он требует от них. После занятий студенты остаются на дополнительные уроки по техникам запоминания.
«Есть разница между тем, чтобы обучить ребенка умножению, и тем, чтобы дать ему калькулятор, – говорит Мэттьюс по поводу навыков запоминания, которым он обучает. Неудивительно, что все члены Талантливой десятки успешно сдавали регентские экзамены все последние четыре года и 85 % из них набрали 90 или больше баллов. Мэттьюс получил две городских награды «Учитель года».
Студенты из Талантливой десятки должны носить рубашки и галстуки и по случаю, на общих собраниях училища, белые перчатки. Их аудитория завешана постерами с изображениями Маркуса Гарвея[64] и Малкольма Икса[65]. При выпуске они получают кусок ткани, украшенный национальным узором народов Ганы и Кот-д'Ивуара и надписью «Талантливая десятка», вышитой золотыми буквами. В начале каждого урока Талантливая десятка встает рядом со своими столами, расставленными в два ряда напротив друг друга, и в унисон провозглашает по памяти трехминутный манифест, начинающийся со слов: «Мы лучшее, что может предложить наше сообщество. Мы никогда не получим менее 95 % на любом экзамене по истории. Мы авангард нашего народа. Либо идите с нами к вершинам славы, либо останьтесь в стороне. Потому как, достигнув вершины, мы наклонимся и поднимем вас к себе».
Все 43 подростка в классе Мэттьюса – почетные студенты[66], которым пришлось покорить высокую планку только для того, чтобы стать кандидатом в Талантливую десятку. Мэттьюс очень требовательный учитель. «У нас совершенно нет выходных», – пожаловался мне один из студентов, в то время как Мэттьюс стоял достаточно близко, чтобы услышать. «Работай сейчас, чтобы потом отдыхать, – осадил он ученика. – Неси свои книги сам, чтобы потом кто-нибудь другой понес их за тебя».
Успех студентов Мэттьюса поднимает множество вопросов о целях обучения, которые стары, как и само образование, и никогда не теряют актуальности. Что означает быть умным и чему в действительности должны учить в школах? Поскольку роль памяти в традиционном смысле неуклонно уменьшается, какое место ей следует занимать в современной методике обучения? Зачем забивать головы детей фактами, если следует готовить их к миру внешней информации?
Из всего, чему меня учили в начальной и средней школе, как в частной, так и в муниципальной, я помню наизусть лишь три текста, которые нас заставляли выучить слово в слово: Геттисбергское послание[67] в третьем классе, речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» в четвертом классе и монолог Макбета «Завтра, завтра, завтра» в десятом. Вот и все. Единственное, что еще более, чем запоминание, несовместимо с современным образованием, это телесные наказания.
Процесс постепенного исчезновения запоминания в классе уходит своими философскими корнями в работу Жан-Жака Руссо «Эмиль, или О воспитании», в которой швейцарский философ изображал выдуманного ребенка, получившего «естественное воспитание», то есть обучавшегося только на собственном опыте. Руссо не выносил запоминания, равно как и все иные суровые требования организованного обучения. «Чтение – великая чума детства», – писал он. Традиционная учебная программа – это немногим больше чем бессмысленные «геральдика, география, хронология и языки», говорил он.
Идеология обучения, против которой восставал Руссо, действительно способствовала отупению учеников и нуждалась в пересмотре. Более чем через 100 лет после публикации «Эмиля» известный обличитель социальных язв доктор Джозеф Мейер Райс[68] проехал по муниципальным школам в 36 городах и пришел в ужас от того, что обнаружил. Говоря о нью-йоркских школах, он отметил, что это «самый бесчеловечный институт из всех, что мне только доводилось видеть, где с детьми обращаются как с существами, у которых есть память и способность говорить, но нет индивидуальности, нет чувств, нет души»{86}. В конце XX в. механическое запоминание все еще было наиболее предпочтительным способом усвоения детьми информации, особенно по истории и географии. Ученики должны были запоминать стихи, великие речи, исторические даты, расписания, латинский словарь, столицы штатов, последовательность американских президентов и многое другое.
В зубрежке видели не только средство передачи информации от учителя к ученику – считалось, что она помогает формировать детский мозг и позитивно скажется на дальнейшей жизни ученика. То, что запоминается, также имело значение, но важен был и сам факт тренировки памяти. Точно таким же было отношение к латыни, которую до конца XX в. изучала почти половина американских старшеклассников. Педагоги были убеждены, что изучение мертвого языка с его бесчисленными грамматическими тонкостями и сложными спряжениями полезно для тренировки логического мышления и способствует «дисциплине ума»{87}. Скука считалась достоинством. Учителя нашли поддержку в популярной научной теории, известной как «психология способностей». Согласно этой теории мышление состоит из нескольких специфических ментальных способностей, которые могут быть натренированы, как мускулы, с помощью интенсивных упражнений.
К концу XIX в. группа ведущих психологов начала ставить под сомнение эмпирическую основу «психологии способностей». В 1890 г. в своей книге «Принципы психологии» Уильям Джеймс решил выяснить, правда ли, что «некоторое количество ежедневных тренировок, направленных на заучивание стихов наизусть, позволит уменьшить время, необходимое для запоминания любого другого поэтического произведения». Восемь дней подряд он уделял более двух часов в сутки запоминанию первых 158 строк поэмы «Сатир» Виктора Гюго, тратя в среднем 50 секунд на строку. Приняв этот результат за отправную точку, Джеймс нацелился на запоминание всей первой книги «Потерянного рая». Потом он вновь обратился к Гюго и обнаружил, что теперь ему требуется 57 секунд на строку. Тренировки памяти снизили, а не повысили его возможности. Конечно, это был всего лишь единственный эксперимент, но впоследствии психологи Эдуард Торндайк и его коллега Роберт Вудвортс также задались вопросом, действительно ли тренировки влияют на «общую способность к запоминанию». Их исследования выявили лишь незначительный прогресс. Ученые пришли к выводу, что дополнительная польза от «дисциплины ума» – скорее «миф», а использовать общие навыки, такие как навык запоминания, в самых различных ситуациях не так уж и возможно. «Педагоги быстро поняли, что эксперименты Торндайка подрывают основы традиционной учебной программы», – пишет историк образования Дайэн Равич.
В этот образовавшийся вакуум устремилась группа прогрессивных педагогов под предводительством американского философа Джона Дьюи, который начал подготавливать почву для нового вида образования, способного покончить с ограничениями учебной программы и методиками прошлого. Эти люди, чьи взгляды оказались созвучны романтическим идеям Руссо о детстве, считали, что в центре системы образования должен находиться сам ребенок. Они отказались от механического запоминания и заменили его новым типом «экспериментального обучения». Студенты должны изучать биологию, не зазубривая законы растительного мира по учебнику, а сажая семена и разбивая сады. Они учили арифметику не по таблицам, а по кулинарным рецептам. Дьюи заявлял: «Я хочу, чтобы ребенок говорил не "Я знаю", а "Я испытал"».
Последнее столетие было особенно плачевным для памяти. Сотни лет проведения прогрессивной реформы образования дискредитировали запоминание как подавляющий и отупляющий метод – трату времени не только пустую, но даже и опасную для развивающегося мозга. Школа перестала ставить во главу угла знания как таковые (большая часть из них все равно забывается) и вместо этого сделала упор на воспитание креативности и умение рассуждать и независимо мыслить.
Но может быть, мы сделали большую ошибку? Влиятельный литературный критик Э. Д. Хирш-младший пожаловался в 1987 г.: «Мы не можем быть уверены в том, что сегодняшние молодые люди знают те вещи, которые в прошлом были известны фактически каждому грамотному и образованному человеку». Хирш утверждал, что современные студенты выходят в этот мир, не достигнув базового уровня культурной грамотности, необходимого для того, чтобы стать хорошим гражданином (что можно сказать, если две трети семнадцатилетних американцев, называя даты начала и конца Гражданской войны, ошибаются более чем на 50 лет?), и что пришло время для контрреформы образования, способной вернуть значимость знанию голых фактов.
Противники Хирша говорили, что защищаемая тем учебная программа – азбука, созданная «мертвыми белыми мужчинами». Но если кто и в состоянии возразить им, то это Мэттьюс, который уверен: несмотря не весь евроцентризм учебной программы, факты все еще играют немаловажную роль. Если одна из целей образования – воспитание пытливых, умных людей, следует указать студентам основные вехи, которые поведут их по миру знаний. И если «вся польза обучения состоит лишь в памяти о нем» (так сказал в XII в. Гуго[69] из сен-викторской школы), следует также снабжать учащихся самыми эффективными инструментами, позволяющими хранить полученные знания в памяти.
«Я не использую слово "память" на моих занятиях, поскольку это неудачное слово, когда речь идет об обучении, – говорит Мэттьюс. – Мартышек можно заставить запомнить, тогда как обучаться значит обрести способность воспроизводить информацию по собственному желанию и анализировать ее. Однако без воспроизведения информации – и соответственно без ее анализа – вы не получите высококлассного образования». А воспроизводить информацию, опять же, невозможно, если сперва не сохранить ее. Противопоставление «обучения» и «запоминания» безосновательно, утверждает Мэттьюс. Невозможно учиться, не запоминая, и при правильном подходе невозможно запоминать, не учась.
«Запоминание надо преподавать как навык – аналогично тому, как учат гибкости, силе и выносливости, с тем чтобы обеспечить физическое здоровье и процветание человека, – убежден Бьюзен, который зачастую выступает в защиту старой психологии способностей. – Студентам надо знать, как учиться. Сначала вы учите их учиться, а затем учите их тому, что именно следует учить.
«Официальная система образования вышла из военной среды и из тех времен, когда люди, наименее образованные и лишенные возможности получить образование, шли в армию, – говорит он. – Чтобы не размышлять о том, чего вы от них хотите, они должны были уметь подчиняться приказам. Военная муштра жестко регламентирована и линейна. Вы загружаете информацию им в мозг и заставляете отвечать не раздумывая, как собачка Павлова. Это работало? Да. Но нравилось ли им это? Нет. С приходом индустриальной революции такие же солдаты понадобились у станков, и военный подход к образованию переместился в школы. Это сработало. Но это не может работать в долгосрочной перспективе».
Как и в большинстве утверждений Бьюзена, в этом разглагольствовании есть доля правды, скрытая под грудой пропагандистских клише. Механическое обучение – метод «зубрить и добить», с которым сторонники реформы образования боролись все прошлое столетие, – стар, как само обучение, но Бьюзен прав в том, что искусство запоминания, некогда важнейший элемент классического образования, практически полностью исчезло к XIX в.
Высказанная Бьюзеном мысль о том, что к развитию памяти в школе подходят неверно, ставит под сомнение справедливость господствующих в образовании идей и часто звучит как призыв к революции. Но на самом деле идеи Бьюзена, хотя сам он считает иначе, не столько революционны, сколько глубоко консервативны. Его цель – повернуть время вспять к тем годам, когда хорошая память еще чего-то да стоила.
Уговорить Тони Бьюзена дать интервью непросто. Чаще всего он находится в пути, в бешеном темпе давая лекции по девять месяцев в году, и хвастается, что с его частотой полетов он налетал уже достаточное количество миль, чтобы восемь раз покрыть расстояние от Земли до Луны и обратно. Более того, складывается впечатление, что он создает вокруг себя образ отчужденности и недоступности, отличающий любого уважающего себя гуру. Когда я наконец-то прижал его к столу на мировом чемпионате по запоминанию, дабы обсудить возможность длительной встречи, он открыл огромный блокнот на трех кольцах и развернул яркий график длиной, наверное, три фута. Это был его календарь с предыдущего года, иллюстрирующий обширную географию и продолжительность его путешествий – Испания, Китай, Мексика три раза, Австралия, Америка. В один из периодов он не ступал на землю Соединенного Королевства в течение трех месяцев подряд. Он сказал, что у него совершенно нет времени говорить со мной в ближайшие три-четыре недели (по истечении которых я уже вернусь домой в США), но он предложил мне посетить его поместье на Темзе на полпути к Оксфорду и сделать несколько фотографий в его отсутствие.
Я сказал, что не понимаю, какую информацию может предоставить пустующий дом. «О, может, и довольно много», – ответил он.
В конце концов через ассистента я добился часового свидания с Бьюзеном. Встреча должна была состояться в его лимузине в то время, пока он будет ехать домой из лондонской студии BBC после того, как закончит давать телеинтервью. Я должен был прийти на угол к Уайт-холлу и ждать. «Машину мистера Бьюзена вы не пропустите».
Так, по сути, и вышло. Машина, показавшаяся полчаса спустя, оказалась серебристым кэбом 1930-х. Именно так должен выглядеть автомобиль, только что выехавший со съемочной площадки BBC. Дверь открылась.
«Заходи, – сказал Бьюзен, поманив меня рукой. – Добро пожаловать в мою маленькую уютную передвижную гостиную».
Первой темой нашего разговора был – поскольку я не мог не спросить об этом – его уникальный гардероб.
«Я сам придумал его», – ответил Бьюзен. На нем был тот же необычный темно-синий костюм с большими золотыми пуговицами, в котором я видел его на чемпионате Соединенных Штатов несколько месяцев назад. «Раньше я читал лекции в традиционном, купленном в магазине костюме, но он стеснял мои широкие жесты. Поэтому я изучил, как одевались фехтовальщики в XV, XVI, XVII, XVIII и XIX вв. и как они могли двигать руками, не испытывая ни малейших неудобств от одежды. Тогдашние оборки и широкие рукава существовали не только для красоты, они позволяли легко атаковать и обороняться. Я смоделировал свои рубашки сходным образом и тоже свободен в своих движениях».
Все в Бьюзене создает впечатление человека, стремящегося произвести впечатление. Он никогда не проглатывает гласные и не сутулится. Его ногти в отличном состоянии, равно как и кожа его итальянских ботинок. Из нагрудного кармана всегда аккуратно выглядывает платок. Он подписывает свои письма фразой Floreant Dendritae! – «Да расцветут клетки вашего мозга!» – и заканчивает телефонные сообщения словами «Тони Бьюзен, конец связи».
Когда я спросил Бьюзена об источнике его невероятной уверенности в себе, он сказал, что постоянно занимается восточными единоборствами. У него есть черный пояс по айкидо, и осталось пройти лишь четверть пути до получения черного пояса по карате. Сидя на заднем сиденье своего лимузина, он продемонстрировал несколько резких движений, технику преодоления сопротивления и невидимый удар. «Лучший способ использования этих приемов для меня – не пользоваться ими вообще, – пояснил он. – Какой смысл в драке, если знаешь, что можешь убить противника, то есть человека, или выколоть ему глаз или вырвать язык?»
Бьюзен – он не упускал случая мне об этом напомнить – современный человек Возрождения: занимается в школе танцев (бальных, современных, джаза), композитор (влияние: Филипа Гласса, Бетховена, Элгара), автор небольших историй про животных (под псевдонимом Маугли в честь главного героя «Книги Джунглей»), поэт (его последний сборник «Конкордия» состоит целиком из стихов, написанных на тему и во время его 38 трансатлантических перелетов в сверхзвуковом самолете «Конкорд») и дизайнер (не только всего своего гардероба, но также дома и всей мебели в нем).
Спустя 45 минут после того, как мы выехали из Лондона, наша колесница цвета слоновой кости въехала в поместье Бьюзена на реке Темзе. Он попросил не упоминать название этого места в прессе. «Просто назови это территорией "Ветра в ивах"».
Войдя в дом, называющийся Врата Рассвета, мы сняли свою обувь и на цыпочках прошли мимо рисунков, разложенных прямо на полу: это было частью иллюстрированной детской книги «о маленьком мальчике, не отличавшемся хорошими оценками в школе, но отличавшемся богатым воображением», над которой Бьюзен работал. Также там был большой телевизор, не менее сотни кассет, раскиданных вокруг него, и книжный шкаф в фойе, в котором стояли полная коллекция Великих книг западного мира, изданная Encyclopaedia Britannica, насколько экземпляров научно-фантастического триллера «Дюна», три экземпляра Корана, большое количество книг за авторством самого Бьюзена и ничего более.
– Это ваша библиотека? – поинтересовался я.
– Я здесь не более трех месяцев в году. У меня есть библиотеки и в других уголках света, – ответил он.
Бьюзен наслаждается путешествиями и возможностью быть человеком мира. Однажды, когда я спросил, где он может сосредоточиться, чтобы написать две-три книги в год, он сказал мне, что спокойный уголок для работы можно найти буквально на любом континенте. «В Австралии на Большом Барьерном рифе я пишу. В Европе везде, где есть океан, я пишу. Пишу в Мексике. Пишу на Великом Западном озере в Китае».
Бьюзен путешествует с детства. Он родился в Лондоне в 1942 г., но переехал вместе с братом и родителями – его мать была судебной стенографисткой, а отец инженером-электриком – в Ванкувер в возрасте 11 лет. Он был, по собственному выражению, «в общем-то нормальным ребенком с нормальными проблемами в обычных школах».
«Моим лучшим другом детства был парень по имени Бэрри, – вспоминает Бьюзен, сидя на внутреннем дворике в расстегнутой розовой рубахе и в солнечных стариковских очках с облегающей оправой и большими стеклами, защищающими глаза. – Он всегда учился в классе 1Д, тогда как я ходил в 1А. 1А был для одаренных детей, 1Д – для отстающих. Но вдали от школы, на природе, Барри мог распознавать летящих на горизонте птиц и насекомых по их полету. Исключительно по манере полета он мог отличить бабочку-адмирала от черного дрозда или какого-нибудь другого дрозда, между которыми я не видел никакой разницы. Поэтому я знал, что он гений. Я получил высший балл на экзамене по естествознанию, отличную оценку, отвечая на вопросы типа "назовите двух рыб, обитающих в английском водоемах". На самом деле их сто три. Но когда я получил свою отличную оценку, я внезапно понял, что мальчик, сидевший сейчас в классе для отстающих, знал больше, чем я, – куда больше, чем я, – в той области, в которой я считался лучшим. И с тех пор он был номером один, а не я.
И внезапно я понял, что система, к которой я принадлежал, ничего не знает о том, что значит быть умным, равно как не может отличить сообразительных от несообразительных. Они звали меня лучшим, но я-то знал, что я им не был, и они считали его худшим, хотя на деле лучшим был он. Я имею в виду, большего несоответствия нельзя себе представить. Поэтому я начал задумываться, а что же такое умный человек? Кто это решает? Кто решает, что ты сообразительный? Что они под этим подразумевают?» Эти вопросы, по крайней мере согласно выверенному повествованию Бьюзена, занимали его вплоть до поступления в колледж.
Первым знакомством с искусством запоминания, моментом, направившим всю его жизнь в нынешнее русло, Бьюзен обязан первым минутам его первого занятия первого дня первого года в Университете Британской Колумбии. Его преподаватель английского языка, суровый мужчина, «сложенный как низкорослый боец, с пучками рыжих волос на почти облысевшей голове», вошел в аудиторию и начал, заведя руки за спину, произносить четко поставленным голосом имена студентов. «Если кто-то отсутствовал, он называл его имя, отчество, имя матери, дату рождения, телефон и адрес, – вспоминает Бьюзен. – И как только он закончил с этим, он посмотрел на нас с усмешкой на лице. Так начался мой роман с памятью».
После занятий Бьюзен остановил профессора в холле. «Я спросил: "Профессор, как вы это сделали?" Он повернулся ко мне и сказал: "Сынок, я гений". Тогда я ответил: "Сэр, это же очевидно. Но мне все равно хочется знать, как вы добились таких результатов?" Он просто ответил "Нет". С тех пор на протяжении трех месяцев на каждом занятии по английскому языку я проверял его. Я чувствовал, что он владеет священным Граалем и отказывается делиться им. Он презирал своих студентов. Считал их обучение напрасной тратой времени. И вот однажды он сказал: "В начале этих жалких взаимоотношений между мной и вами я продемонстрировал вам совершенную силу человеческой памяти, а никто из вас даже не заметил, поэтому сейчас я изображу на доске код, благодаря которому я сумел совершить столь выдающийся подвиг, и я более чем уверен, что никто из вас даже не поймет, какое сокровище я положу перед вами – этот бисер перед свиньями". Он подмигнул мне и записал код. Это была Главная система. Внезапно я осознал, что могу запомнить все, что угодно».
Бьюзен покинул аудиторию словно в трансе. Ему впервые пришло в голову, что он не имеет ни малейшего, даже самого общего представления о том, как работает сложный механизм его мышления. Все это казалось странным. Если простейший трюк с памятью мог многократно увеличить количество информации, которую человек способен запомнить, и никто не озаботился показать ему этот фокус до 20 лет, чему же еще его не научили?
«Я пошел в библиотеку и сказал: "Я хочу книгу о том, как использовать свой мозг". Библиотекарь послала меня в медицинскую секцию, но я вернулся, возразив: "Я не хочу книгу о том, как мой мозг управляет мной, я ищу книгу о том, как управлять им. Это немного разные вещи". Она ответила: "О, таких книг у нас нет". Я подумал, у нас есть руководства по эксплуатации машин, радио, телевизоров, но ничего подобного для мозга не существует».
В поисках информации, способной пролить свет на удивительные способности его преподавателя, Бьюзен забрел в библиотеке в секцию античной истории, где, по словам профессора, можно было найти много основополагающих идей по улучшению памяти. Он начал читать греческих и римских мнемоников и тренироваться по их методике в свободное время. Вскоре он начал следовать советам из «Риторики для Геренния» – использовать локи и образы в подготовке к экзаменам и даже для запоминания всех конспектов по целому курсу.
Окончив колледж, Бьюзен начал свой трудовой путь как обычный канадский разнорабочий. Сначала он трудился на ферме («Я решил устроиться на эту работу исключительно ради строчки "разгребал навоз" в своем резюме»), а затем на стройке. В 1966 г., тогда же, когда Фрэнсис Йейтс опубликовала «Искусство памяти», первый серьезный академический труд, посвященный богатой истории мнемоники, Бьюзен вернулся в Лондон, чтобы стать редактором в международном журнале Intelligence, выпускаемым Менсой[70], высокоинтеллектуальным сообществом, к которому он присоединился еще в колледже. Примерно в то же время ему предложили работать внештатным преподавателем в проблемных школах бедных районов восточного Лондона.
«Я был особым "ум-есть-ищу-работу" учителем, – говорит он. – Если кому-то из коллег намяли бока, я был первым кандидатом на замену».
В большинстве случаев Бьюзен проводил с каждым классом, куда его направляли, совсем немного времени, буквально пару дней, чего даже самому благонамеренному учителю недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию. Желая как-нибудь помочь своим трудным ученикам и, возможно, излить на них немного от своей огромной уверенности в себе, Бьюзен обратился к старым техникам запоминания, выученным еще в колледже. «Я заходил в класс и спрашивал студентов, глупые ли они или нет, ведь все считали их глупыми, и, к сожалению, большинство из них сами в это верили, – говорит Бьюзен. – Им внушили идею об их несостоятельности. Я говорил "Окей, давайте проверим" и давал им тест на запоминание, который они не могли выполнить. Я вздыхал: "Кажется, вы были правы". А после учил их техникам запоминания и снова тестировал, и они набирали 20 из 20. Тогда я обычно удивлялся: "Вы сказали мне, что вы глупые, вы доказали мне это, и вот теперь показываете отличный результат". И я задавал им вопрос: "Так что же происходит?" Для некоторых студентов, никогда не получавших хороших оценок, это было как откровение».
Получив возможность не только практиковать искусство запоминания, но и преподавать его, Бьюзен начал совершенствовать свои старые навыки в новом направлении, особенно в ведении записей.
В течение нескольких лет он разработал то, что, по его мнению, было новаторской системой ведения записей и превосходило античную мудрость «Риторики для Геренния».
«Я старался добраться до сути того, что представляет собой ведение записей, – говорит он. – Это привело меня к кодам и символам, образам и стрелкам, подчеркиваниям и цветам».
Бьюзен назвал свою новую систему «интеллект-карта», термин, который он позже запатентовал. Человек создает мысленную карту, рисуя линии от главных идей к второстепенным, далее разветвляясь к третьестепенным и т. д. Идеи формулируются несколькими словами и по возможности иллюстрируются образами. Получается нечто похожее на радиальную схему, выполненную в нескольких цветах, на паутину ассоциаций, напоминающую усеянный колючками куст или разветвленные отростки нейронов. И поскольку эта схема наполнена цветными образами, расположенными по порядку на одной странице, она функционирует как дворец памяти, перенесенный на бумагу.
«Наши представления о работе памяти – примитивны и ошибочны: мы думаем, что ее движущая сила – в первую очередь механическое запоминание. Другими словами, вы утрамбовываете память до тех пор, пока не набьете голову фактами. Чего обычно недопонимают, так это того, что память – прежде всего процесс воображения. Фактически обучение, память и творчество – схожие фундаментальные процессы, отличающиеся только различной направленностью, – говорит Бьюзен. – Искусство и наука памяти – это развитие способности быстро создавать образы, позволяющие связывать разрозненные идеи. Творчество – способность связывать разрозненные идеи, создавать нечто новое и запускать в будущее, чтобы в итоге получилось стихотворение, здание, танец или роман. Творчество в некотором роде – это будущая память». Если суть творчества в связывании разрозненных идей и фактов, то чем больше у вас есть средств для выстраивания ассоциаций и чем большим количеством фактов и идей вы располагаете, тем проще вам будет создавать новые идеи. Как любил указывать Бьюзен, Мнемозина, богиня памяти, была матерью Муз.
Мысль о том, что память и творчество есть две стороны одной медали, кажется парадоксальной. Запоминание и креативность видятся противоположными, но не дополняющими друг друга процессами. Но идея о том, что в действительности они одно целое, на самом деле достаточно стара, и было время, когда она не вызвала сомнений.
Латинский корень inventio послужил основой для двух слов в современном английском языке: инвентарь (inventory) и изобретение (invention){88}. В плане искусства запоминания два этих понятия тесно связаны. Изобретение было продуктом инвентаризации. Откуда еще взяться новым идеям, как не из алхимической смеси старых? Для любого изобретения сначала нужен соответствующий инвентарь, запас идей, на которые можно опереться. И не просто инвентарь, а снабженный указателями, ведь важно иметь возможность найти необходимую информацию в необходимый момент.
Это и есть то, для чего искусство запоминания было нужнее всего. Оно служило не просто средством для фиксации фактов, но и инструментом для занятий изобретательской деятельностью и созидания. «Осознание того, что способность к творчеству зависит от хорошо подготовленной памяти и легко доступных воспоминаний, формировало базу риторического обучения в античности», – пишет Мери Каррузерс. Мозги были организованы как современные картотечные шкафы с важными фактами, цитатами и идеями, разложенными по чистым и уютным мнемоническим полочкам, где они никогда не потеряются и всегда могут быть в мгновение ока перегруппированы и объединены. Цель тренировки памяти заключалась в развитии способности перескакивать от темы к теме и формировать новые связи между старыми идеями. «Как особое умение, запоминание наиболее тесно ассоциировалось в эпоху Средневековья с творчеством, а не просто с сохранением, – утверждает Каррузерс. – Те, кто брал на вооружение приемы запоминания, использовал их – так же, как используют любые другие приемы, – для создания новых вещей: молитв, медитаций, проповедей, картин, гимнов, историй и стихотворений».
В 1973 г. BBC прослышала об интеллект-картах и мнемонических достижениях Бьюзена и пригласила его на встречу с руководителем отдела, занимающегося освещением проблем образования. Результатом этой встречи стала десятисерийная программа BBC и соответствующая книга, обе озаглавленные «Как использовать свою голову». Они превратили Бьюзена в британскую знаменитость среднего масштаба и помогли ему осознать огромный коммерческий потенциал техник запоминания, которые он продвигал. Он начал брать свои идеи, многие из которых были напрямую заимствованы из античных и средневековых трактатов о памяти, и перекладывать их в ровный поток книг по самоусовершенствованию. К настоящему времени он опубликовал около 120 своих работ, включая «Используй свою совершенную память», «Максимально используйте свой разум», «Научите себя думать!», «Суперпамять», «Усовершенствуйте свою память». (В какой-то момент я оставался наедине с шофером Бьюзена достаточно долго, чтобы поинтересоваться его мнением по поводу книг босса. «То же мясо, но под разным соусом» – такова была его оценка трудов Бьюзена.)
К его чести сказать, Бьюзен без сомнения гений маркетинга. Он предоставил франшизы лицензированным инструкторам по всему миру, обученным преподавать его методики улучшения памяти, быстрого чтения и использования интеллект-карт. На сегодняшний день количество существующих лицензированных Бьюзеном инструкторов превышает три сотни в более чем 60 странах. А тысячи учителей по всему миру официально учат одобренным Бьюзеном системам запоминания. Он рассчитал, что за всю его карьеру объем продаж всей продукции от Тони Бьюзена, включая книги, записи, телевизионные программы, курсы, развивающие игры и лекции, превышает $300 млн.
Соперничающее интеллектуальное сообщество четко делится на два лагеря: те, кто видит в Бьюзене мессию, и те, кто утверждает, что он разбогател, торгуя чрезмерно разрекламированными, иногда ненаучными идеями о мозге. Они указывают, вполне справедливо, что, пока Бьюзен проповедует идею «глобальной революции в обучении», он достиг гораздо больших успехов в создании глобальной коммерческой империи, нежели во внедрении своих методов в учебные аудитории.
Что особенно раздражает людей типа Эда – тех, кто относится к мнемонике серьезно и поддерживает распространяемую Бьюзеном идею о том, что искусству запоминания все еще есть место в современных школах, – так это то, что сам проповедник этой идеи может часто вызывать у них чувство некоторого стыда.
Бьюзен имеет неприятную привычку опускаться до псевдонаучных высказываний и преувеличений, вещая о том, какой изумительный революционный эффект может дать тренировка памяти, или о том, как он сам «изменил жизни миллионов». Он известен нелепыми утверждениями вроде «маленькие дети используют 98 % инструментов мышления. К 12 годам этот показатель снижается до 75 %. Тинейджеры используют не более 50 %, студенты – менее 25 %, и к моменту выхода на работу остается уже менее 15 %».
Тот факт, что Бьюзен может ездить по миру и выступать со скандальными заявлениями о мозге и при этом пользоваться доверием и почетом, свидетельствует о том, насколько неразведанной областью остается пока мировая наука о мозге и как сильно люди жаждут поверить в то, что их память можно улучшить. Правда в том, что руководство по эксплуатации мозга, которое Бьюзен тщетно искал еще в университетские годы, все еще не написано.
Но, несмотря на преувеличения и псевдонаучные заявления, к которым Бьюзен прибегает, продвигая свои интеллект-карты, в действительности существует и научное подтверждение того, что система работает. Исследователи из Лондонского Университета недавно попросили группу студентов прочитать текст из шести сотен слов и предварительно обучили половину из них делать заметки с помощью интеллект-карт. Другая половина должна была вести обычные записи. После проверки через неделю выяснилось, что студенты, пользовавшиеся при работе над этим текстом интеллект-картами, удержали в памяти на 10 % больше фактических знаний, чем их товарищи, использовавшие традиционные техники составления заметок. Возможно, это незначительный разрыв, но и он имеет значение.
После того как я попытался законспектировать с помощью изобретения Бьюзена несколько частей этой книги, я пришел к выводу, что интеллект-карты полезны в наибольшей степени потому, что они требуют осознанного подхода. В отличие от стандартных техник интеллект-карта не может быть создана на автопилоте. Я вижу это как достаточно действенное средство для анализа и организации информации, но вряд ли как «инструмент использования всех возможностей мозга» или «революционную систему», какой ее представляет Бьюзен.
Реймон Мэттьюс не сомневается в эффективности интеллект-карт для тренировки памяти. В конце года каждый из его учеников должен создать сложную детализированную интеллект-карту по всему учебнику истории США. Большинство созданных студентами карт представляют собой целый тройной стенд со стрелками к каждому слову и образу, от Плимутского камня в одном углу до Моники Левински в другом. «Когда им придется отвечать на вопрос о причинах Первой мировой войны на экзамене по программе подготовки к поступлению в колледж[71], они могут просто восстановить в памяти часть этой карты, и вся необходимая информация сразу же всплывет в голове, – говорит Мэттьюс. На этом участке карты должны быть изображены черная рука, символизирующая Сербскую националистическую организацию, к которой принадлежал убийца эрцгерцога Франца Фердинанда; далее – обутый в кроссовки пулемет как воплощение гонки вооружений, захлестнувшей Европу в начале XX в.; и следом пара треугольников для обозначения Антанты и Тройственного союза.
Мэттьюс использует любую возможность превратить факты в образы. «Моим студентам было трудно постичь различие между экономическими системами Ленина и Сталина, – рассказал он мне. – Я ответил им: "Представьте, Ленин сидит в туалете и мучается запором из-за своего нэпа. Сталин заходит туда и спрашивает: "Что ты здесь делаешь?" А Ленин отвечает: "Землю, мир и хлеб". Они никогда не забудут этот образ».
Критики такого рода мнемоники обоснованно указывают на то, что она формирует знания, не привязанные к определенному контексту. Это поверхностные знания, ярчайший пример заучивания без понимания. Это обучение с помощью программ PowerPoint или, хуже того, кратких изложений. Действительно, что образы Ленина и Сталина в туалете могут сказать о коммунистической экономике? Но Мэттьюс считает, что надо с чего-то начинать – и почему бы не начать с закладывания в сознание студентов образов, которые вряд ли забудутся?
Если информация «в одно ухо входит и из другого выходит», это чаще всего знак того, что ей не за что зацепиться. С этой проблемой я лично столкнулся не так давно в Шанхае, где я провел три дня, работая над репортажем. Я столько лет учился, но каким-то невероятным образом умудрился не узнать даже самых базовых фактов из китайской истории. Я никогда не видел разницы между Мин и Цин и не знал, что Кубла Хан был реальной личностью. Я провел все свое время в Шанхае, слоняясь по городу как любой добросовестный турист, посещая музеи, стараясь сформировать хотя бы поверхностное впечатление о китайской культуре и истории. Но из увиденного я практически ничего не смог вынести. Было так много всего, что я не мог воспринять, не мог оценить, – а все потому, что я не знал основных фактов, к которым можно было бы привязать новые. Это было не простое незнание, но невозможность учиться.
Этот парадокс – чтобы получить знания, требуется знание, – был отмечен в исследовании, в ходе которого ученые попросили группу бейсбольных фанатов{89} (экспертов в терминологии Эрикссона) и группу менее активных поклонников этой игры прочитать детальное описание половины иннинга[72] бейсбольного матча. После этого психологи протестировали, насколько хорошо каждая из групп помнит это описание. Фанаты выстраивали свои воспоминания вокруг элементов, связанных с игрой, как то игрок нападения и пробежки. Они смогли в деталях восстановить прочитанный рассказ. Можно было даже предположить, что они читают протокол игры. Менее ярые поклонники запомнили меньше важных деталей, касающихся игры, и больше поверхностной информации вроде погоды. Поскольку в их памяти отсутствовало представление об игре, они не смогли обработать информацию, которая в них поступала. Они не чувствовали, что важно, а что можно опустить. Не могли вспомнить самое значимое. Без концептуального каркаса, в который можно было бы поместить то, что они узнали, они оказались почти беспамятны.
Нужно ли теперь говорить о двух третях американских подростках, не имеющих понятия, когда была Гражданская война? Или о 20 % тех, кто не знает, против кого воевали Соединенные Штаты во Второй мировой войне? Или о 40 %, считающих, что в центре сюжета «Алой буквы» – либо процесс над ведьмами, либо чья-то переписка{90}. Прогрессивная образовательная реформа достигла многого. Она сделала школу более привлекательной и куда более интересной. Но мы расплатились за это тем, что многое потеряли как личности и граждане. Память – это то, как мы передаем достижения и ценности и пользуемся общей культурой.
Конечно же, цель образования – не просто впихнуть в головы школьников массу фактов, а привести учащихся к их пониманию. Реймон Мэттьюс согласен с этим, как никто другой. «Я воспитываю мыслителей, а не просто людей, способных повторить то, что я им говорю, – утверждает он. Но даже если факты не будут сами собой приводить к пониманию, понимание без знания фактов в любом случае невозможно. И, что существенно, чем больше ты знаешь, тем легче узнавать новое. Память – как паутина, захватывающая новую информацию. Чем больше она захватывает, тем больше растет. А чем больше она становится, тем больше всего сможет захватить.
У людей, интеллектуальными способностями которых я восхищаюсь, всегда во время разговора найдется какая-нибудь уместная история или факт. Они могут заглянуть в глубины своей памяти и вытащить нужное. Очевидно, что интеллект – нечто намного, намного большее, чем просто память (есть саванты, помнящие куда больше, чем понимающие, – равно как и профессора, которые помнят немного, но понимают все). Память и ум идут рука об руку, как мускулы и спортивные способности.
Существует петля обратной связи между понятиями «память» и «ум». Чем глубже новая информация может вплестись в информационную паутину того, что мы уже знаем, тем более вероятно, что мы ее запомним. Люди, имеющие больше ассоциаций, на которые можно нацепить воспоминания, будут с большей вероятностью запоминать новое, что, в свою очередь, означает, что они будут больше знать и смогут большему научиться. Чем больше мы запоминаем, тем эффективнее познаем мир. А чем больше мы знаем о мире, тем больше информации о нем можем хранить в своей памяти.
Глава 10 Человек дождя есть в каждом из нас
К февралю, за месяц до чемпионата Соединенных Штатов по запоминанию, мое подозрение, что у меня действительно есть шанс удачно выступить на соревнованиях, начало подкрепляться результатами, которые я демонстрировал во время тренировок. По всем дисциплинам, кроме стихотворений и скоростных чисел, мои лучшие показатели приближались к показателям предыдущих чемпионов Соединенных Штатов. Эд порекомендовал не слишком полагаться на этот факт. «Под софитами всегда выступаешь как минимум на 20 % хуже, – сказал он, повторяя совет, которые давал мне много раз и раньше. Тем не менее я был ошеломлен своим прогрессом. На самом деле я умудрялся запомнить колоду карт за 1 минуту 55 секунд, что на секунду меньше рекорда Соединенных Штатов. Именно в тот день в моем журнале тренировок появилась следующая запись: «Может, я действительно смогу выиграть?!» (и еще одна необъяснимая надпись: «Обрати внимание на оставшиеся волосы ДеВито!»)
То, что стартовало как упражнение в «журналистике участия», стало одержимостью. Я начал с простого желания выяснить, каков странный мир интеллектуальных спортсменов и правда ли, что можно значительно улучшить память. Моя победа на чемпионате Соединенных Штатов представлялась такой же фантастикой, как Джордж Плимптон, вышедший на ринг против Арчи Мура и нокаутировавший его[73].
Все, что мне говорили мои новые знакомые – Эд, Тони Бьюзен, Андерс Эрикссон, – предполагало, что цикл утомительных тренировок являлся единственным способом достижения более совершенной памяти. Никто не приходит в мир со способностью запоминать после единственного прочтения множество случайно выбранных цифр либо стихотворение или удерживать в голове образы.
И все-таки, продираясь сквозь литературу, можно натолкнуться на упоминания о нескольких не вписывающихся в это правило редких (возможно, их было менее сотни на протяжении прошлого столетия) явлениях: о савантах с удивительной памятью. Самое поразительное в этих случаях, что выдающаяся память савантов – ее называют «памятью без вычисления» – практически всегда сопряжена с глубокими нарушениями умственной деятельности. Некоторые из савантов одарены необыкновенным музыкальным талантом: например, Лесли Лемке, который страдает слепотой и повреждением мозга и не мог ходить до 15 лет, несмотря на это, способен исполнить на фортепиано сложные музыкальные произведения, услышав их лишь однажды. Некоторые имеют художественные способности: например, Алонсо Клемонс, имеющий IQ равный 40, но умеющий по памяти лепить фигуры животных, лишь мельком взглянув на них. Некоторые обладают причудливыми конструкторскими способностями, как Джеймс Генри Паллен, известный в XIX в. как «гений Эрлсвудской лечебницы»: он был глух и практически нем, но мог спроектировать невероятно замысловатые модели кораблей.
Однажды, запомнив за одну из тренировок 138 цифр, я сидел перед телевизором, шелестя колодой карт, как я обычно делал, чтобы убить время. Я смотрел на королеву треф, думая о Роузэнн Барр, и уже практически сформировал в голове отвратительное воспоминание, как вдруг я увидел рекламный ролик нового документального фильма под названием «Человек-мозг» (Brainman) про одного из таких редких дарований. Фильм, который шел на канале Science, рассказывал о двадцатишестилетнем британском саванте Дэниеле Таммете, чей мозг был поражен в результате эпилептического припадка, пережитого в раннем детстве. Дэниел мог, не напрягаясь, осуществлять сложные операции умножения и деления в уме. Он мог сказать, является ли простым любое число до 10 000. У большинства савантов есть всего одна область, в которой они считаются выдающимися, одинокий «остров гения», но Дэниел имел внушительных размеров архипелаг. Он не только умел молниеносно вычислять, но был еще и гиперполиглотом – термин, применяющийся к небольшой группе людей, говорящих более чем на шести языках. Дэниел утверждал, что знает десять, и добавил также, что выучил испанский за один уик-энд. Он даже изобрел свой собственный язык под названием «мэнти». Чтобы протестировать лингвистические способности молодого человека, создатели фильма «Человек-мозг» привезли Дэниела в Исландию и дали ему одну неделю на то, чтобы заговорить на исландском, одном из самых сложных языков в мире. В конце недели на ток-шоу, которое транслировалось по национальному исландскому телевидению, ведущий протестировал Таммета и выразил свое «восхищение». Наставник Дэниела, проведший с ним эти семь дней, назвал его «гением» и «нечеловеком».
Авторы «Человека-мозга» также пригласили двух ведущих специалистов по мозгу – В. С. Рамачандрана из Университета Калифорнии, Сан-Диего, и Саймона Барон-Коэна из Кембриджа для того, чтобы каждый провел с Дэниелом один день. Оба ученых заключили, что тот является своего рода феноменом. В отличие от всех остальных савантов, когда-либо изучавшихся наукой, Таммет единственный мог четко объяснить, что происходит у него в голове, – причем нередко в ярких деталях. Шай Азулай, аспирант из лаборатории Рамачандрана, заявил, что Дэниел «может стать стержнем, вокруг которого будет рождаться новая область исследований». Доктор Дарольд Трефферт, эксперт в синдроме савантизма, назвал Таммета одним из 50 людей в мире, которых можно расценить как «экстраординарных савантов».
Несмотря на то что савантизм описывается как синдром, он не является признанным заболеванием; стандартные критерии диагностики савантизма отсутствуют. Сам Трефферт, однако, подразделяет савантов на три неформальные категории. Есть саванты – «мастера в мелочах»: они могут запоминать вещь по какой-либо мелочи, как, например, пациент Трефферта мог определить марку и год выпуска пылесоса только по одному его шуму. Другая группа, которую он называет «талантливыми савантами», обладает способностями более общего характера, например, художественными или музыкальными, но эти способности поражают лишь на фоне умственной слабости савантов. Третья группа, «экстраординарные саванты», талантливы по любым стандартам и были бы расценены как очень одаренные, даже не будь у них никаких ментальных нарушений. Это очень важная, хотя и зависящая от субъективного мнения, шкала, считает Трефферт, поскольку экстраординарные саванты относятся к редчайшему классу человеческих существ на планете. Когда становится известно о новом экстраординарном саванте вроде Дэниела, это всегда имеет огромное значение для науки.
Средства массовой информации жадно проглотили историю Дэниела. Газеты Англии и Америки пестрели яркими очерками о прославленном «парне с удивительным мозгом». Он появился в «Вечернем шоу с Дэвидом Леттерманом» и вычислил день недели, в который родился Дэвид (суббота), а также в ток-шоу «Ричард и Джуди», самом близком британском аналоге программы Опры. Его мемуары «Рожденный в синий день» (Born on a Blue Day) стали, по мнению New York Times, американским бестселлером и моментально заняли первое место по количеству проданных экземпляров на британском Amazon. Дэниел стал, наверное, самым знаменитым савантом в мире.
Что вызывает в Дэниеле наибольший интерес, так это его невероятная память. В 2003 г. он установил новый рекорд Европы, перечислив по памяти 22 514 цифр после запятой в числе π. Это заняло у него пять часов девять минут, которые он провел в подвале Музея наук Оксфордского университета. При этом он не использовал никаких мнемонических техник, которые могли бы помочь его мозгу. Таким образом, он делал то, что делали интеллектуальные спортсмены, но вообще не прикладывая усилий. В это почти невозможно поверить. Я провожу мучительные часы в мысленных странствиях по каждому дому, где я когда-либо побывал, каждой школе, в которую ходил, и каждой библиотеке, где хоть однажды работал, чтобы превратить их во дворцы памяти. Мне интересно, почему люди вроде Дэниела никогда не участвуют в интеллектуальных соревнованиях. Он бы ноги вытер обо всех натренированных мнемоников, я думаю.
Чем больше я исследовал историю Дэниела, тем больше меня поражали различия между ним и интеллектуальными спортсменами, которых я узнал, – и интеллектуальные спортсмены, которым быстро становился. Теперь я знал их секрет: они улучшают свою память, интенсивно тренируясь и используя античные техники. Я и сам все это пробовал. Но я не мог понять, откуда такая память у Таммета. Похоже, Дэниел, как и журналист Ш. до него, наделен способностью запоминать от природы. Чем же его мозг отличается от моего? И есть ли у него какие-нибудь тузы в рукаве, которые могли бы дать мне преимущество на чемпионате?
Я решил, что мне надо попытаться встретиться с Тамметом{91}. Он пригласил меня к себе, в дом, который расположен в глухой части одного из живописных приморских городков Кента, Англия, и который Дэниел делил со своим партнером Нилом. Мы провели два вечера вместе в его гостиной, беседуя за чаем и рыбой с картофелем. Дэниел худощав, в очках, с короткими светлыми волосами и птичьим лицом. Он тихий, любезный, очаровательный и отлично формулирует свои мысли: с одинаковой легкостью объяснил мне, что из себя представляет его память и почему «Западное крыло» – самый умный сериал на американском телевидении. Я ожидал увидеть своеобразного чудака, и поэтому был захвачен врасплох тем, насколько обыкновенным кажется Дэниел – куда более обыкновенным, чем некоторые интеллектуальные спортсмены, которых я знаю. Собственно, если бы он сам не сказал мне, я бы никогда не догадался, что в нем есть что-то странное. Дэниел уверил меня, что, кроме внешности, в нем нет ничего нормального. «Видел бы ты меня 15 лет назад. Ты бы точно сказал: „О, да это парень – аутист!“»
Дэниел – старший из девяти детей в семье. Он вырос в муниципальном жилье в восточном Лондоне, и у него было, что называется, «очень тяжелое» детство, «словно что-то из Диккенса». В книге «Рожденный в синий день» он описывает тяжелый эпилептический припадок, пережитый им возрасте четырех лет: это был «ни на что не похожий опыт, как будто комната выдернулась из-под меня со всех сторон, и свет изнутри просачивался во внешний мир, и даже течение времени свертывалось и растягивалось в одно томительное мгновенье». Если бы отец не отвез Дэниела на такси в пункт неотложной медицинской помощи, припадок, скорее всего, убил бы мальчика. Но этого не произошло, и парень верит, что с этого момента он и стал савантом.
Согласно Барон-Коэну, два редчайших условия сошлись для того, чтобы породить в Дэниеле возможности саванта. Первое – синестезия, то же нарушение восприятия, которое приводит к переплетению различных ощущений и которым страдал журналист Ш. По одним оценкам, существует более сотни разновидностей этого расстройства. У Ш., например, звуки вызывали в воображении образы. В случае с Дэниелом числа принимают различимую форму, цвет, текстуру и эмоциональный «тон». Число 9, например, высокое, темно-синее и устрашающее, тогда как 37 – «комковатое, как овсянка», а 89 напоминает падающий снег. Дэниел говорит, что каждое число до 10 000 вызывает у него уникальную синестетическую реакцию, и именно такое восприятие чисел позволяет ему производить быстрые мысленные вычисления без помощи карандаша или бумаги. Чтобы перемножить два числа, он видит образ каждого числа парящим перед его мысленным взором. Интуитивно и без всяких усилий, говорит он, третий образ, результат умножения, формируется в пространстве между ними. «Это как кристаллизация. Как проявка фотографии, – рассказывает мне Дэниел. – Деление есть действие обратное умножению. Я вижу число и разделяю его в голове. Это как листья, падающие с дерева». Дэниел верит, что его синестетические образы как-то неявно содержат важную информацию о свойствах числа. Простые числа, например, имеют «качество гальки». Они гладкие и круглые, без тех острых краев, что свойственны числам, которые можно разложить на множители.
Второе редкое заболевание Дэниела – синдром Аспергера, форма высокофункционального аутизма. Синдром аутизма впервые был описан в 1943 г. детским психиатром Лео Каннером. Медик назвал болезнь формой нарушения социального взаимодействия, расстройством, при котором, как говорил Каннер, пациенты «воспринимают людей как вещи». Помимо неспособности к эмпатии аутисты имеют множество других проблем – недостаточное развитие языковых навыков, чрезвычайно узкий круг интересов и «маниакальное желание сохранять все в неизменном состоянии». Через год после того, как Каммер впервые написал об аутизме, австрийский педиатр по имени Ганс Аспергер заметил еще один вид расстройства, почти с аналогичными симптомами – за исключением того, что пациенты Аспергера отличались хорошими речевыми навыками и меньшей степенью слабоумия. Он называл своих не по годам развитых пациентов с их бездонными колодцами знаний в узких областях «маленькими профессорами». Однако до 1981 г. синдром Аспергера не считался отдельным заболеванием{92}.
То, что Дэниел страдает синдромом Аспергера, обнаружил Барон-Коэн, глава кембриджского Центра исследования аутизма и один из наиболее авторитетных в мире специалистов по синестезии. «Если вы увидите его сегодня, вы вряд ли решите, что у парня развита одна из форм аутизма, – сказал мне Барон-Коэн, когда мы однажды завтракали в его офисе в Тринити-колледж. – Я сказал ему: "Это можно понять только, зная историю твоего развития. Ты развивался так, что в молодости у тебя наблюдался синдром Аспергера, но, посмотреть на тебя сейчас, ты прекрасно адаптировался и отлично взаимодействуешь с миром, так что диагноз тебе не нужен. Только от тебя зависит, примешь ты его или нет"». Он ответил: "Я предпочту, чтобы он у меня был". Диагноз позволил ему посмотреть на самого себя под другим углом зрения. Это отлично. Очень соответствует его характеру».
В своих мемуарах Дэниел много пишет о сложностях взросления с недиагностированным синдромом Аспергера. «Что другие дети должны были думать обо мне? Я не знаю, поскольку совсем их не помню. Для меня они были фоном для моих визуальных и тактильных опытов». В детстве Дэниел отличался страстью к отдельным мелочам и малозначительным фактам. Он коллекционировал рекламные проспекты и все подсчитывал, а также маниакально собирал всю возможную информацию о популярном в те годы софт-рок-дуэте The Carpenters. Он часто попадал в неприятности, поскольку воспринимал вещи слишком буквально. После того как он показал однокласснику средний палец, он был удивлен прозвучавшим в ответ выговором. «Как палец может быть оскорбителен?» – удивился он. Социализация давалась ему нелегко. «Я не понимал, как надо маскироваться, – говорит он. – Я много работал, чтобы достичь того состояния, при котором я мог бы казаться нормальным, беседовать с людьми и понимать, когда пора начинать и заканчивать разговор, не забывать смотреть в глаза».
К настоящему времени Дэниел в основном преодолел свою мучительную неспособность к общению, но вместе с тем он, по его признанию, все еще не может бриться сам или водить машину. Звук того, как зубная щетка царапает зубы, сводит его с ума. Он старается избегать мест скопления людей, придирчив к мелочам. На завтрак он отмеряет ровно 45 грамм каши на электронных весах.
Я сказал о «Человеке-мозге» Бену Придмору. Мне было интересно, видел ли он фильм и не опасается ли, что Дэниел с его природным талантом, сравнимым с наработанными способностями самого Бена (если не превосходящим их), может стать одним из участников соревнований по запоминанию.
«Я уверен, что он уже принимал участие в чемпионатах несколько лет назад, – ответил Бен сухо. – Но тогда его, кажется, звали по-другому. Он представился Дэниелом Корни. Неплохо выступил, насколько я помню».
Я спросил нескольких других интеллектуальных спортсменов о том, что они думают о Дэниеле. Практически все видели фильм «Человек-мозг», и каждый имел на этот счет собственный взгляд. Некоторые не очень верили, что Таммет – савант, и полагали, что тот использовал базовые мнемонические техники для запоминания информации. «Кто угодно из нас смог бы проделать то же, что и он, – сказал мне восьмикратный чемпион мира Доминик О'Брайен. – Если тебе интересно мое мнение, он просто понял, что ему никогда не стать первым среди нас». О'Брайен сказал то же самое на камеру, когда его снимали для «Человека-мозга», но авторы не включили это интервью в окончательную редакцию фильма.
Понятно, что интеллектуальные спортсмены имеют множество причин завидовать Дэниелу. Способности его памяти почти сопоставимы с их собственными, но тем не менее мнемоники и Таммет занимают совершенно разные места на культурном небосводе. Тогда как большая часть натренировавших свою память мнемоников имеет репутацию чудаков и пребывает в безвестности, Дэниел, чей случай рассматривают как медицинскую проблему, вызывает огромный интерес.
Как только я оказался у компьютера, я изучил хранящуюся на специальном сервере статистическую информацию о чемпионатах по запоминанию. Конечно же, я нашел Дэниела Корни, дважды участвовавшего в мировом чемпионате по запоминанию. И лучшим его результатом стало четвертое место на чемпионате в 2000 г. Это был тот же Дэниел, только с другой фамилией. Он официально сменил ее в 2001 г.{93} Казалось странным, что в записках о своей впечатляющей памяти Дэниел не упоминает четвертое место в мировом чемпионате по запоминанию.
Я поискал имя Дэниела и в Мировом интеллектуальном клубе, онлайн-форуме, где собираются интеллектуальные спортсмены. Дэниел не просто участвовал в мировом чемпионате по запоминанию, но также открыто критиковал его, предложив даже программу из восьми пунктов, которая, по его мнению, могла сделать соревнования более честными, популярными и привлекательными для СМИ. Я был особенно удивлен одним из его постов. Это было рекламное объявление от 2001 г., где он предлагал раскрыть «секреты "формулы силы ума"» в уникальном «онлайновом курсе "Сила ума и развитие навыков запоминания"». Что это были за секреты? Удивительно. И почему он не поделился ими со мной, когда мы встречались?
Что восхищает и удивляет нас в савантах – и объясняет, почему Дэниел получает столько внимания от ученых и общественности, – это их инаковость и способность с относительной легкостью делать то, что кажется невозможным. Они в некотором роде инопланетяне среди нас, белые вороны в естественном порядке вещей во Вселенной. Хотя то, что делают интеллектуальные спортсмены, может потрясти нас до глубины души, мы знаем, что это просто фокусы. А дальше – как с любым трюком: стоит только узнать, каким образом достигается это «чудо» – и научиться совершать его самому, – оно теряет большую часть своей притягательности. Но саванты – это то, что надо. Их память не фокус, а талант.
Я начинал задумываться, что, возможно, пропасть между мной и Дэниелом – между любым из нас и Дэниелом – на самом деле не такая уж и большая. Что если Доминик О'Брайан прав и самый известный савант в мире вовсе не редчайший индивид с почти мистическими природными способностями, а просто трюкач, «освоивший савантизм» путем методичных тренировок? В чем в таком случае разница между ним и мной?
Когда дело доходит до памяти савантов, есть, возможно, только один человек того же уровня, что и человек-мозг: Ким Пик, или Человек дождя, – одаренный савант и прототип героя Дастина Хоффмана в голливудском фильме. Родившийся в 1951 г., Ким, бесспорно, обладает лучшей памятью в мире. Теперь, после того как я провел время с Дэниелом, я решил навестить Кима в его родном городе в Юте, чтобы сравнить двух этих прославленных гениев и выяснить, что объединяет их и что они могут сказать мне о природе савантизма.
Я встретил Кима в промежутке между его поездками, которые слились в бесконечное лекционное турне. (Пик никогда не просит денег за свои выступления, и его всегда сопровождает отец и опекун Фрэн.) Ким проводил встречу в родном Солт-Лейк-Сити, в гостиной дома престарелых. Трем дюжинам пожилых женщин предлагалось попробовать поставить его в тупик, спросив что-нибудь (что угодно, помимо «логических задачек и вопросов, требующих рассуждения», предупредил Фрэн). Женщина в кислородной маске попросила Кима назвать высочайшую вершину Южной Америки. Тот ответил верно: гора Аконкагуа – факт, довольно тривиальный для любого компетентного знатока, – и назвал ее высоту: 22 320 футов (ошибившись, как я потом узнал, на 500 футов). Женщина в инвалидной коляске поинтересовалась, сколько раз за 1930-е гг. Пасха выпадала на март. Он ответил моментально: «27 марта 1932 г. и 28 марта 1937 г.».
К концу фразы он всегда оживлялся, и казалось, что он вот-вот зайдется хриплым смехом. Директор дома престарелых спросил его, какие книги входили в 1964 г. в четвертый том серии «Книги в сокращенном виде» издательства Reader's Digest. Он назвал все пять. Имя дочери Гарри Трумэна? Маргарет. Сколько раз «Стилерс» выигрывала Суперкубок? Четыре. Последняя строка «Кориолана»? «Хоть слезы их доныне не обсохли,/но славной памятью почтить должны/мы славного вождя. Берите тело!»[74]
Как рассказал мне Фрэн, Ким «никогда ничего не забывает», включая, видимо, каждый факт из более чем 9000 книг, прочитанных со скоростью одна страница за десять секунд{94} (каждый глаз просматривает свою страницу независимо). Он запомнил полное собрание сочинений Шекспира и партитуры всех главных классических произведений. В недавней постановке «Двенадцатой ночи» актер поменял местами две строки, вызвав у Кима припадок такой силы, что пришлось включить весь свет в зале и приостановить пьесу. С тех пор его не водят на живые спектакли.
Достаточно одного взгляда, чтобы почувствовать, что Ким уникален, и в этом он отличается от Дэниела. У Пика седые волосы и густая борода, косые глаза скрыты за очками в толстой коричневой пластиковой оправе. Его голова практически всегда наклонена на сорок пять градусов в сторону. Он прячет одну руку в другой и потирает их, когда взволнован. Возможно, он самый интересный и разносторонний собеседник на свете: его голова переполнена фактами и данными, которые выливаются из него, казалось бы, бессвязным потоком. Когда аргентинка из дома престарелых сказала Киму, что родилась в Кордове, Ким тут же назвал главные дороги, проходящие через ее город, а потом во все горло пропел припев из «Не плачь по мне, Аргентина», вызвав во мне чувство легкого дискомфорта. Неожиданно он выкрикнул: «Ты уволен!» Фрэн пояснил, какая между всем этим связь. Звезда баскетбола Деннис Родман, который встречался с Мадонной, игравшей роль первой леди Аргентины в кинематографической версии мюзикла «Эвита», был уволен из «Лос-Анджелес Лейкерс» в 1999 г.
Похоже, Ким обнаружил, будто его невероятный буквализм вызывает рефлекторный смех аудитории – как в павловской схеме. В недавнем интервью он так ответил на вопрос о Геттисбергском послании Линкольна: «Норт-Уэст-Франт-стрит, 227. Но Линкольн провел там всего одну ночь. Наутро он должен был произнести свою речь»[75]. Теперь он часто повторяет эту шутку.
Ким любит, когда его называют «Кимпьютером», но его полное имя – Лоуренс Ким Пик. «Мы назвали его в честь Лоуренса Оливье и киплинговского Кима», – рассказывал Фрэн. Когда Ким родился после тяжело проходившей беременности, было сразу же понятно, что что-то совершенно не так. Его голова была в три раза больше нормальной младенческой головки, а на затылке была шишка величиной с кулак, которую врачи боялись удалять. Первые три года своей жизни Ким волочил голову по земле, будучи не в силах поднять ее. Ходить он начал только в четыре. Его родителей уговаривали провести лоботомию. Вместо этого Ким был посажен на сильнодействующие седативные препараты вплоть до четырнадцати лет. Фрэн вспоминает, что только тогда, когда Ким прекратил прием лекарств, он впервые проявил интерес к книгам. Начиная с этого момента он и запоминает их.
Но, несмотря на то что никто другой на планете, возможно, не имеет доступа к столь обширному хранилищу информации, Ким не знает, как всем этим пользоваться. Его IQ всего 87. И не важно, сколько книг по этикету он прочитает и запомнит, все равно в том, что касается норм социального поведения, он остается, коротко говоря, человеком не от мира сего. Стоя в толпе людей в холле публичной библиотеки Солт-Лейк-Сити, Ким обхватил меня руками за плечи, прижал к животу и закружился вместе со мной. «Джошуа Фоер, ты великий, великий человек, – сказал он достаточно громко, чтобы напугать случайных прохожих. – Ты красивый человек. Ты человек своего поколения». И издал могучий рык.
Как Ким может делать то, что он делает, остается для науки загадкой. В отличие от персонажа Дастина Хоффмана, Ким по сути не аутист. Он чересчур коммуникабельный для такого диагноза. У него что-то совершенно иное. В январе 1989 г., в ту же неделю, когда вышел «Человек дождя», компьютерное сканирование мозга Кима выявило, что его мозжечок, орган, отвечающий за чувственное восприятие и моторику, сильно раздут. Более ранние исследования обнаружили также отсутствие мозолистого тела, толстого узла нейронов, которые связывают правое и левое полушария мозга и позволяют им взаимодействовать. Это удивительно редкий случай, но до конца непонятно, как все это может быть связано с савантизмом.
Ким и я провели часть вечера вместе, сидя за столом в дальнем углу на четвертом этаже публичной библиотеки Солт-Лейк-Сити, где он проводит практически каждый будний день в последние десять лет, читая и запоминая телефонные книги. Он снял очки и положил их на стол. «Я собираюсь только проглядеть это», – объявил он. Я смотрел ему через плечо, пока он пробегал глазами по страницам телефонной книги Беллингхэма, штат Вашингтон. Я пытался поспеть за его памятью. Я делал то, что посоветовал бы мне Эд, будь он здесь: создал дворец памяти и переводил каждый телефонный номер в образ, затем делал то же самое с именем и фамилией и связывал эти образы воедино так, чтобы они запомнились. Это была трудная работа, и когда я попытался объяснить ее Киму, он, кажется, не понял, о чем я вообще говорю. Каждый раз, когда я доходил до четвертого или пятого имени в первой колонке, Ким переворачивал страницу. Я спросил его, как ему удается запоминать все это так быстро. Он оторвался от книги и начал изучать свои очки, взволнованный тем, что его прервали. «Я просто запоминаю!» – закричал он. И снова погрузился в колонки телефонных номеров, игнорируя меня в течение следующего получаса.
Одна из причин, объясняющих, почему синдрому савантизма так трудно найти научное объяснение, – в том, что он проявляется по-разному у разных людей. Тем не менее существует одна нейроанатомическая аномалия, которая раз за разом фиксируется у всех савантов, включая Кима: повреждения в левом полушарии мозга. Примечательно, что невероятные способности савантов почти всегда проявляются в деятельности, соотносящейся с правым полушарием (например, связанной с визуальным и пространственным восприятием), и саванты чаще всего испытывают трудности с теми действиями, за которые отвечает левое полушарие мозга, как, например, говорение. Дефекты речи широко распространены среди савантов, в силу чего словоохотливый, правильно говорящий Дэниел кажется таким необычным.
Некоторые исследователи выдвигают теории, согласно которым отключение некоторых функций левого полушария каким-то образом стимулирует скрытые возможности правого. Действительно, известны случаи, когда в результате травмы левого полушария мозга люди в середине жизни неожиданно обретали способности, свойственные савантам. В 1979 г. десятилетний Орландо Серрелл получил травму черепа от удара бейсбольным мячом и тем самым заработал выдающиеся способности к календарным расчетам и запоминанию погоды в каждый день своей жизни.
Брюс Миллер, невролог из Университета Калифорнии, Сан-Франциско, изучает пожилых пациентов с относительно распространенной формой заболевания мозга – лобно-височной деменцией, или ЛВД. Он выяснил, что в тех случаях, когда ЛВД обусловлена поражениями в левой части мозга, люди, никогда не бравшие в руки кисти или музыкального инструмента, под конец жизни неожиданно обнаруживают в себе выдающиеся художественные или музыкальные способности. При этом их когнитивные навыки снижаются, больные становятся своеобразными савантами.
Тот факт, что люди могут стать савантами так внезапно, дает возможность предположить, что исключительные способности могут в той или иной мере спать в каждом из нас. Не исключено, что внутри каждого мозга, как любит говорить Трефферт, прячется «маленький Человек дождя». Он просто находится под замком, а сторожит его сковывающая «тирания доминирующего левого полушария».
Трефферт далее говорит о том, что саванты с исключительной памятью могут каким-то образом передавать обязанности по поддержанию декларативной памяти, ответственной за запоминание фактов и данных, более примитивным недекларативным системам, помогающим нам без каких-либо сознательных усилий вспомнить, как ездить на велосипеде или поймать летящий мяч (те же системы позволяют H.M. с амнезией нарисовать предмет, глядя на его отражение в зеркале, а E.P., не помнящему свой адрес, прогуливаться по окрестностям). Подумайте, как много умственных процессов требуется, чтобы правильно поставить руку для ловли мяча – мгновенное вычисление расстояния, траектории и скорости – или чтобы осознавать разницу между собакой и кошкой. Наш мозг способен к удивительно быстрым и сложным расчетам, производимым бессознательно. Мы не можем объяснить эти процессы, поскольку большую часть времени даже не предполагаем, что они происходят.
Но при достаточных усилиях эти более низкие уровни сознания могут иногда быть доступны. Например, первые два задания, которые получают обучающиеся рисованию студенты, – заполнить пространство вокруг изображаемых предметов и обрисовать их контуры. Цель этих упражнений в том, чтобы отключить процессы на высшем уровне сознания (в силу таких процессов мы не видим стул иначе как стул) и привести в действие латентные, проходящие на более низком уровне процессы восприятия, позволяющие видеть объект как набор абстрактных форм и линий. Художнику требуется много времени, чтобы научиться останавливать процессы высшего уровня; саванты же, как считает Трефферт, делают это естественным образом.
Если каждый из нас научится отключать процессы на верхнем уровне сознания, не станем ли мы все савантами? Существует технология, способная избирательно и временно блокировать части мозга. Она называется «транскраниальная магнитная стимуляция», или ТМС, и основана на том, что использует сфокусированное магнитное поле для подавления электрической активности определенных нейронов. Отключенная часть мозга теряет работоспособность на период до одного часа. Хотя ТМС – вещь относительно новая, она успешно используется как неинвазивный метод лечения таких несхожих заболеваний, как депрессия, посттравматический стресс и мигрень.
Однако экспериментальные возможности ТМС даже еще более впечатляющи, чем ее терапевтический потенциал. Обычно эксперименты над человеческим мозгом наталкиваются на ряд трудно преодолимых препятствий этического характера. Нельзя просто так взять и совершить манипуляции с человеческим мозгом (H.M. научил нас этому), поэтому все, что неврологам удается узнавать о мозге, есть результат нескольких «естественных экспериментов», связанных с нетипичными формами его повреждений (как в случае E.P.). Поскольку транскраниальная магнитная стимуляция позволяет неврологам включать и выключать разные участки мозга по собственному желанию, они могут использовать ее для проведения повторяемых экспериментов, и при этом им не придется ждать, чтобы к ним в кабинет зашел кто-нибудь с редким повреждением в той самой части мозга, которую они как раз исследуют. Аллан Снайдер, австралийский невролог, выступающий за более широкое использование ТМС в экспериментальных целях, применяет эту процедуру для временной активизации художественных способностей, подобных тем, какими обладают саванты, у здоровых людей. Для этого Снайдер поражал у испытуемых левые лобную и височную доли (тот же участок, что часто бывает поврежден у савантов). Участники эксперимента с пораженной левой височной долей могли более точно рисовать по памяти и быстрее определяли количество высвечивающихся на экране точек. Снайдер назвал свое устройство «машиной, усиливающей креативность». Он мог с таким же успехом назвать ее и шапкой саванта.
В документальном фильме «Человек-мозг» показывалось, как Дэниел разделил 13 на 97. В выданном им результате знаков после запятой было больше, чем показал научный калькулятор. Для проверки потребовался компьютер. За пару секунд Дэниел перемножил в голове трехзначные числа, а потом быстро вычислил, что 37 в четвертой степени равно 1 874 161. То, как Дэниел производит математические вычисления в уме, впечатлило меня больше, чем его память.
Когда я начал интересоваться таким сложным предметом, как вычисление в уме, я узнал, что, как и для мнемоников, для людей, занимающихся устным счетом, есть соответствующая литература и даже мировой чемпионат. Действительно, стоит немного погуглить и как следует потренироваться – и любой сможет научиться умножать в уме трехзначные числа. Это вовсе не просто – поверьте мне, я пробовал, – но это навык, который вполне можно освоить{95}.
Хотя я при каждом удобном случае просил Дэниела продемонстрировать мне свои способности в устном счете, он отказывался. «Мои родители очень боялись, как бы я не стал уродцем напоказ, – ответил он, когда я в очередной раз надавил на него. – Я был вынужден пообещать, что не буду вычислять для людей, которыми движет простое любопытство. Я делаю это только для ученых».
Но в фильме «Человек-мозг» он все же показал, на что способен. Я обратил внимание на непонятные движения его пальцев, в то время как он считал. Пока Дэниел, как следует предположить, высматривал ответ, кристаллизующийся перед его мысленным взором, камера ухватила движение его указательного пальца, скользящего по поверхности стола перед ним. Я не забыл, как он рассказывал о формах, тающих и сливающихся в его мозгу, и такая работа пальца показалось мне чрезвычайно странной.
Поговорив с несколькими экспертами, я узнал, что эти скользящие пальцы могли вызвать подозрение у любого, кто умеет умножать в уме. Одна из наиболее распространенных техник, позволяющих определить результат умножения двух больших чисел, известна как перекрестное умножение. Она предполагает последовательное умножение однозначных чисел и последующее сложение результатов. Думаю, это-то и делал Дэниел на столе. Сам он, конечно же, все отрицает. Он сказал, что это просто фишка, которая помогает ему сконцентрироваться.
«Такие вещи может проделывать множество людей в мире, но они все равно впечатляющи», – сказал мне Бен Придмор. Он принимает участие не только в чемпионате по запоминанию, но и в Мировом кубке по вычислению в уме. Эти соревнования проводятся раз в два года, и их участники должны производить в уме разные математические операции, включая перемножение восьмизначных чисел без карандаша и бумаги. Все это куда как сложнее, чем то, что продемонстрировал Дэниел.
Никто из ведущих специалистов по устному счету не говорит, что видит, как образы чисел сливаются и разделяются перед их мысленным взором. Все они с готовностью признают, что используют техники, детально описанные на веб-сайтах и в многочисленных книгах. Одну из них, «Точный расчет. Вычисления без инструментов», написал Рональд Дорфлер, которого я попросил посмотреть фильм «Человек-мозг» и высказать свое мнение. «Я не очень впечатлен, – сказал он о математических способностях Дэниела и добавил: – Вокруг искусства устного счета очень уж много того, что уводит от сути».
А что насчет того факта, что Дэниел может назвать все простые числа в промежутке от нуля до 10 000? Придмора это не удивляет. «Обычное запоминание», – говорит он. Между нулем и 10 000 всего 1 229 простых чисел. Это довольно много для удержания в памяти, но совершенно несравнимо с 22 000 знаков после запятой в числе пи.
Календарные расчеты – единственное из необыкновенных умений савантов, которое Дэниел хотел мне продемонстрировать, – оказались настолько простым делом, что никого собственно не могли впечатлить. Такие саванты, как Ким, способные назвать даты каждой Пасхи за последнюю тысячу лет, кажется, впитывают в себя цикличность и принципы действия календаря, не понимая его. Но запомнить это может кто угодно. Есть несколько простейших формул календарных расчетов, и все их можно без труда найти в Интернете. Чтобы научиться легко ориентироваться в календарных расчетах, достаточно попрактиковаться около часа.
Чем больше мы с Дэниелом общались, тем сильнее я под влиянием его же собственных слов начинал сомневаться в правдивости его истории. Когда я попросил описать, на что похоже число 9412, он ответил совсем не так, как отвечал две недели назад в совершенно других условиях. В первый раз он сказал: «В нем есть синий, потому что оно начинается с девятки, и легкое движение, и что-то вроде покатости тоже». Две недели спустя он ответил после долгой паузы: «Это пятнистое число. Везде пятна и дуги. Это очень сложное число». Потом он добавил: «Чем больше число, тем сложнее описать его словами. Поэтому, когда я даю интервью, я чаще концентрируюсь на небольших числах». Вообще-то синестеты редко бывают последовательны, и Дэниел, надо отдать ему должное, описывал несколько небольших чисел одинаково каждый раз во время наших встреч.
Но что насчет курсов «Сила ума и развитие навыков запоминания», которые Дэниел когда-то рекламировал в Мировом интеллектуальном клубе? Вернувшись в его дом в Кенте, я показал ему распечатку его объявления от 2001 г. и спросил, что мне об этом думать. Если его необыкновенная память пришла к нему без всяких усилий с его стороны и ему нет необходимости использовать мнемонические техники, зачем тогда он рекламирует курсы именно по запоминанию?
Он опустил ноги на пол.
– Слушай, мне было всего 22, – сказал он. – У меня не было денег. Единственное, что я видел в жизни, это Мировой чемпионат по запоминанию. Поэтому я написал курс по улучшению памяти. Когда я участвовал в чемпионате, я узнал, что все эти люди сами себя учат запоминать. Мол, ни у кого из них не было хорошей памяти. Я подумал тогда, что они врут, но у меня сложилось впечатление, что это то, чему можно учить. Мне же надо было как-то продать себя! Я думал, что единственное, что я могу продать, это мой мозг. Поэтому я использовал метод Тони Бьюзена. Я говорил "Расширьте возможности своего мозга" и все в этом духе, но я никогда не хотел делать этого».
– То есть ты не используешь техники запоминания? – спросил я.
– Нет, – заверил он меня.
Если бы вся история о Дэниеле-саванте была бы им просто состряпана, это требовало бы от него такого умения лгать, которого, я верю, у него на самом деле не было. Если же он был просто натренированным мнемоником, скрывающимся под маской саванта, почему он так охотно позволяет ученым тестировать себя?
Как вообще можно понять, является ли Дэниел тем, кем он утверждает? Долгое время ученые скептически относились даже к самому существованию синестезии. Они отрицали этот феномен, полагая, что имеют дело с обманом или просто со стойкими ассоциациями между числами и цветами, сформированными в детстве. Несмотря на все случаи, описанные в литературе, не было никакого способа доказать, что что-то, кажущееся столь надуманным, действительно происходит в мозгу человека. В 1987 г. Барон-Коэн разработал тест на синестезию, первый научный инструмент для подтверждения данного диагноза. В ходе тестирований, которые потенциальный синестет должен был проходить через определенные промежутки времени, проверяли постоянство его ассоциаций между цветом и словом. Когда Барон-Коэн протестировал Дэниела, тот прошел проверку с легкостью. Но меня не отпускает вопрос: а не мог бы любой натренированный мнемоник сделать то же самое?{96} Результаты других научных тестирований Дэниела удивили меня. Когда Барон-Коэн проверял память Дэниела на лица, тот отвратительно справился с заданиями, что привело Барон-Коэна к выводу, что «его память на лица неполноценна». Это похоже на то, что и должно быть у савантов. Однако, когда Дэниел Корни выступал на мировом чемпионате по запоминанию, он получил золотую медаль в дисциплине «имена-и-лица». Все это не имело ни малейшего смысла.
Единственное исследование, которое может предоставить более веские доказательства наличия у Дэниела синестезии, это функциональная магнитно-резонансная томография. При ФМРТ-сканировании мозга синестетов, связывающих числа с цветом, часто можно увидеть, что, когда те выполняют просьбу зачитать число, высвечиваются именно участки мозга, которые отвечают за обработку цветовой информации. Когда Барон-Коэн объединился с экспертами по функциональной магнитно-резонансной томографии, чтобы понаблюдать за мозгом Дэниела, они не выявили у него ничего подобного{97}. У тестируемого субъекта «не активизируются экстрастриарные участки, обычно ассоциируемые с синестезией, что свидетельствует о необычной и более абстрактной… форме синестезии», – заключили эксперты. Если бы не тот факт, что Дэниел прошел тест на синестезию, в заключении было бы обоснованно сказано, что у Таммета вообще нет синестезии.
«Иногда люди спрашивают, нравится ли мне быть подопытным кроликом для ученых. У меня нет с этим проблем, поскольку я знаю, что помогаю им лучше понимать человеческий мозг, что в конце концов идет на пользу всем, – пишет Дэниел в своих мемуарах. – Это не менее отрадно и для меня, поскольку я узнаю о себе и о том, как работает мой ум». Когда Андерс Эрикссон захотел протестировать Дэниела по своим собственным критериям и пригласил его в Университет Флориды, тот ответил, что слишком занят.
Проблема в том, что в основе всех тестирований, которые проходит Дэниел, лежит нулевая гипотеза – рабочее предположение, которое будет считаться истинным, если альтернативное допущение окажется ложным: то есть, если Дэниел не является савантом, он должен быть обыкновенным человеком. Но что действительно следует проверить, особенно в свете его необычной истории, так это альтернативную возможность того, что знаменитый на весь мир савант в действительности является просто натренированным мнемоником.
Примерно через год после моей первой встречи с Тамметом его агент прислал мне e-mail с предложением еще раз встретиться с Дэниелом, теперь за завтраком в стильном центральном отеле, где тот останавливался во время визитов в Нью-Йорк. Дэниел прилетел, чтобы выступить на передаче «Доброе утро, Америка» и рекламировать свою книгу «Рожденный в синий день», которая, будучи впервые издана в США, заняла третье место в составленном New York Times списке научно-популярных бестселлеров.
После чашечки кофе и приятной беседы о его жизни в центре всеобщего внимания я спросил его опять – в третий раз, – как для него выглядит число 9412. В его глазах промелькнуло понимание, прежде чем он закрыл их. Он знал, что я взял это число не из воздуха. Он заткнул пальцами уши и просидел так в молчании в течение двух тягостных минут.
– Я вижу это в голове, но не могу описать, – сказал он наконец.
– В прошлый раз ты ответил мне практически сразу.
Он подумал чуть дольше.
– Оно темно-синее, острое и сияющее, с легким движением. Или можно представить его как 94 и 12, в таком случае оно будет выглядеть как треугольник или что-то вот такой формы, – он показал руками нечто четырехстороннее. Его лицо сильно покраснело. – Это зависит от многих вещей, например, хорошо ли я расслышал число и как я его разбиваю. Это зависит от того, устал ли я. Иногда я ошибаюсь. Я вижу не то число. Я принимаю его за другое, похожее. Вот поэтому я предпочитаю тестирование у настоящих ученых. Так меньше стресса.
Я напомнил ему, как он описывал число 9412 в последние два раза, когда я его видел. Все описания не имели ничего общего между собой. Потом я изложил ему свою теорию, которую, как я понимал, будет очень сложно доказать: что он использует те же самые стандартные техники, к которым обращаются другие интеллектуальные спортсмены, и что он изобрел эти необычные синестетические описания чисел, дабы замаскировать тот факт, что он всего-навсего запомнил простые образы, ассоциирующиеся с каждой двузначной комбинацией в ряду 00–99, тем самым применив один из основных методов в инструментарии мнемоника. Почти никогда еще я не чувствовал себя более неловко, чем тогда, когда произносил эту фразу.
Некоторое время я терзался сомнениями, включать ли Дэниела в эту книгу. Но однажды поздно вечером, незадолго до того, как я должен был сдавать предварительный вариант этой главы, я решил в последний раз поискать в Интернете его имя – просто чтобы понять, не упустил ли я чего-нибудь, или хотя бы освежить в памяти его досье, более года пролежавшее в папке в моем шкафу для хранения документов. Неожиданно – я даже сам не понял, как пропустил это, – мне на глаза попалась кэш-версия сайта danieltammet.com, созданного в 2000 г. и удаленного три или четыре года назад. Рассказывающая о Дэниеле страница «Обо мне» семилетней давности включала удивительно откровенный автобиографический пассаж, не вошедшей в книгу «Рожденный в синий день»:
«Мой интерес к памяти и соответственно к спортивным соревнованиям по запоминанию зародился, когда я, пятнадцатилетний подросток, натолкнулся на детскую книгу, рассказывающую о том, как надо развивать память, чтобы хорошо сдавать экзамены. В следующем году я получил Общее свидетельство о среднем образовании, показав один из лучших в году результатов, и впоследствии успешно сдал экзамены продвинутого уровня[76], совершенствуя свой французский и немецкий с помощью этих опробованных техник… Мое увлечение спортом росло, и после нескольких месяцев усердных тренировок и упорной работы я попал в пятерку лучших интеллектуальных спортсменов в мире».
Ранее я нашел кое-что еще – серию сообщений, отправленных несколько лет назад с того же электронного адреса, каким пользовался Дэниел Корни, но подписанных Дэниелом Андерссоном. Последний называл себя «уважаемым экстрасенсом, который вот уже 20 лет оказывает людям поддержку и помощь». Из сообщений следовало, что Дэниел Андерссон получил свои паранормальные способности в результате серии припадков в детстве. Там же была ссылка на сайт, где можно было договориться о телефонном разговоре с Дэниелом, дабы «получить совет по любому вопросу, включая сложности во взаимоотношениях, проблемы со здоровьем и финансами, возвращение утраченной любви и контакты с ушедшими в мир иной».
Я спросил Дэниела, что означают эти письма. Шесть лет назад он утверждал, что его эпилептические припадки дали ему силы экстрасенса. Сейчас он говорит, что они сделали его савантом. «Теперь ты понимаешь, почему все это вызывает подозрения?» – поинтересовался я.
Он помолчал, собираясь с мыслями. «Боже, как это все нелепо, – сказал он наконец. – После того как провалилась моя затея с курсами, я прочитал объявление от кого-то, кто предлагал услуги экстрасенса. Можно работать не выходя из дома, по телефону, – идеальный вариант для меня. Я не был экстрасенсом. Я занимался этим около года, поскольку не имел никакого другого источника дохода. Меня часто упрекали в том, что я не даю советов. В основном я слушал. Я относился ко всему этому, от начала и до конца, как к возможности выслушать людей. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, я жалею, что занимался этим. Но я был в отчаянии. Слушай, жизнь – штука сложная. Я никогда и не думал, что окажусь в центре внимания. Уверяю тебя: я прошел тестирование на постоянство – а ведь его проводили ученые, имевшие все возможности выяснить, что я притворяюсь; и они пришли к выводу – важно, что это не было выводом одного-единственного ученого, – что я настоящий».
Ближе к концу нашей беседы я перечислил Дэниелу все причины, по которым я не мог заставить себя поверить, что самый известный в мире савант – и правда савант.
– Я хотел бы верить, – признался я ему, – но не верю.
– Если бы я хотел обмануть, пустить пыль в глаза, я должен был бы постоянно прилагать к этому усилия, – честно признался он. – Всегда быть готовым к бою. Подстраиваться под чужое мнение. Но мне совершенно все равно, что вы обо мне думаете. Я не имею в виду лично тебя. Я имею в виду, что, кто бы что обо мне ни подумал, мне все равно. Я знаю себя. Я знаю, что происходит в моей голове, когда я закрываю глаза. Я знаю, что для меня означают числа. Эти вещи сложно объяснить и сложно облечь в слова для того, чтобы потом вы могли легко проанализировать их. Если бы мне надо было защищаться, я бы все очень тщательно обдумывал и производил бы лучшее впечатление на тебя и всех остальных.
– Ты уже произвел большое впечатление на всех остальных.
– Люди доверяют ученым; а ученые изучали меня – и я доверяю ученым. Ученые непредвзяты. Они не журналисты. Они не заинтересованы в освещении какой-то одной стороны. Им интересна сама правда. С журналистами я таков, каков есть. Иногда я легко иду на контакт, в другое время я нервничаю и не могу произвести хорошего впечатления. Я человек. Я непостоянен, потому что я человек. Из всех людей, кто брал у меня интервью, ты единственный воспринимаешь меня как нормального. Ты не делаешь из меня идола. Ты ставишь меня на одну доску с собой. Я это очень ценю. Быть человеком приятнее, чем быть ангелом.
– Возможно, это потому, что ты и есть нормальный человек, – сказал я.
Стоило мне произнести эту фразу, как я понял, что на самом деле я так не думал. Что раздражало меня в ситуации с Дэниелом, так это понимание того, что он ненормальный. На самом деле единственное, что я знаю о нем точно, – это, что он очень незаурядная личность. Я знаю, каких трудов стоит натренировать память. Каждый может сделать это, но не каждый способен добиться таких же результатов, каких, по моим догадкам, добился Дэниел. Я верил в то, что Дэниел особенный. Я просто не был уверен, что он особенный в том смысле, в каком он утверждает.
Я спросил Дэниела, может ли он посмотреть на себя в зеркало и, не кривя душой, сказать, что он савант.
«Савант ли я? – он отставил чашку с кофе и наклонился ближе ко мне. – Все ведь зависит от того, как ты определяешь это слово. Ты можешь дать такое определение савантизма, что я не буду под него подпадать. Ты можешь определить его так, что оно никак не будет относиться к Киму Пику. А можешь дать такое определение, что в мире вообще не останется савантов».
Все сводится к определениям. В своей книге «Необычные люди» Трефферт определяет синдром савантизма как «исключительно редкое состояние, когда люди с серьезными умственными дефектами… имеют удивительные островки способностей или талантов, которые составляют резкий и странный контраст с дефектом». По этому определению вопрос, использует ли Дэниел техники запоминания, не связан с вопросом о том, является ли он савантом. Важно только, что он страдал нарушением ментального развития и демонстрирует феноменальные умственные способности. По определению Трефферта Дэниела действительно можно считать экстраординарным савантом, хотя и таким, чей дефект не так уж и очевиден.
Однако определение Трефферта не отражает заметного различия между теми людьми с невероятными способностями, которые, подобно Киму Пику, действуют, несомненно, бессознательно и, возможно, даже автоматически, и теми, кто достиг тех же результатов путем утомительных методичных тренировок.
Еще в XIX в. термин «савант» имел совершенно другой смысл, нежели мы вкладываем в него сейчас. В те времена это было самым почетным эпитетом, который можно было употребить по отношению к человеку науки. Савант, считалось тогда, это тот, кто овладел множеством знаний, способен оперировать абстрактными идеями, «посвящает свою энергию поискам истины», как говорил Шарль Рише, автор вышедшей в 1927 г. книги «Естественная история савантов». Термин не имел ничего общего с выдающимися способностями или изумительной памятью.
И вот за последний век значение слова изменилось. В 1887 г. Джон Лэнгдон Даун, который более всего известен благодаря хромосомному нарушению, носящему его имя[77], впервые ввел термин idiot savant, «слабоумный человек с незаурядными способностями. От слова idiot, «слабоумный», впоследствии отказались как от политически некорректного. В мире, в котором повседневная память постепенно атрофируется и люди все дальше уходят от идеи тренировки памяти, термин «савант» перестал относиться к гуманитарным наукам и олицетворять интеллектуальные достижения и начал обозначать пугающее состояние, синдром. Вы никогда не услышите, как кто-то говорит «савант» в адрес эрудита Оливера Сакса, хотя он более чем кто-либо другой соответствует словарному определению этого термина[78]. Сегодня это слово оставлено для таких людей, как описанные Саксом близнецы-аутисты, которые предположительно смогли сосчитать 111 спичек за мгновение, пока те сыпались из коробка на пол.
Так что же насчет таких, как Дэниел? Согласно одному из наиболее распространенных мифов о савантах, судьба предназначила им родиться гениями, но по какой-то роковой причине они были лишены всех способностей, кроме одной. Я задумался о Дэниеле. Задумался о том, что мы можем сказать о парне, добившемся такого мастерства, которое позволило ему запомнить 22 000 знаков после запятой в числе π и умножать трехзначные числа в уме. Что мы можем сказать, если всего этого он достиг только благодаря своей жесткой самодисциплине и колоссальным усилиям? Сделает ли это его более невероятным, чем Ким Пик, или менее? Мы хотим верить, что среди нас живут дэниелы тамметы, люди, пришедшие в этот мир с невероятными талантами, чтобы противостоять невероятным трудностям. Эта идея вдохновляет нас. Но, возможно, Дэниел воплощает еще более воодушевляющую идею: у каждого из нас есть необыкновенный талант, дремлющий где-то внутри. Главное – попытаться разбудить его.
Глава 11 Чемпионат Соединенных Штатов по запоминанию
На чемпионате Соединенных Штатов 2006 г. участникам предстояло помериться силами в новой дисциплине, введенной впервые за всю историю интеллектуальных состязаний. Получившая громоздкое название «Три промаха – выйди прочь с чайной церемонии», она была выдумана специально для того, чтобы порадовать продюсеров HDNet, кабельного канала, собиравшегося вести первую трансляцию соревнований по национальному телевидению. Пять незнакомцев, игравших роль гостей на чайной церемонии, должны были выйти на сцену и рассказать конкурсантам десять фактов из личной жизни – адрес, телефон, хобби, день рождения, любимые блюда, имена домашних животных, модель и год выпуска машины и прочее. То, что требовалось от спортсменов в данном случае, в наибольшей степени приближалось к тому, чего мы ждем от нашей памяти в реальной жизни. Я понятия не имел, как готовиться к этому виду соревнований, и, если честно, задумался о нем только тогда, когда до чемпионата оставалось полтора месяца. В течение нескольких вечеров мы с Эдом переговаривались через океан по телефону, изобретая систему, которая помогла бы мне быстро и без затруднений поместить всю личную информацию каждого незнакомца в специально сконструированные дворцы памяти.
Я соорудил пять воображаемых зданий, по одному для каждого гостя «чайной церемонии». Они были построены в разном стиле, но имели похожую планировку: центральный атриум и прилегающие к нему комнаты. Первый дворец был модернистским стеклянным кубом, похожим на Стеклянный дом Филиппа Джонсона; второй – особнячок с башенками в стиле королевы Анны, каких много в Сан-Франциско, весь в завитках и других вычурных украшениях; третий – в духе Фрэнка Гери: с волнистыми титановыми стенами и искривленными окнами. Создавая четвертый, я взял за образец «Монтичелло», усадьбу из красного кирпича, принадлежавшую Томасу Джефферсону, а пятый ничем особенным не отличался, кроме как стенами, выкрашенными в ярко-голубой цвет. Кухня в каждом доме должна была служить местом для хранения адреса, кладовка – номера телефона; спальня предназначалась для хобби, ванная – для дней рождения и т. д.
За три недели до конкурса позвонил Эд. Он изучил результаты, которые я ему отослал, и считает, что мне следует прекращать тренировки по всем дисциплинам, кроме «чайной церемонии». Я собрал друзей и членов семьи и попросил их выдумать биографии, которые я мог бы попытаться разместить в своих новеньких, тщательно обустроенных дворцах. Мы с моей девушкой провели несколько совершенно неромантических ужинов: она рассказывала о своей жизни фермерши в Небраске или представлялась домохозяйкой из пригорода либо парижской швеей, а я вспоминал все эти истории за десертом.
Потом, за неделю до конкурса, как раз тогда, когда я собирался тренироваться усиленнее всего, Эд велел мне остановиться. Интеллектуальные спортсмены прекращают тренировки за неделю до соревнований, чтобы провести весеннюю уборку своих дворцов памяти. Они осматривают их, мысленно очищают от всех блуждающих там образов, потому что последнее, что вам нужно в разгаре соревнования, – это неожиданно вспомнить то, что сохранилось в памяти с предыдущей недели. «Некоторые, дойдя до очень высокого уровня, три дня перед чемпионатом ни с кем не разговаривают, – поведал мне Тони Бьюзен. – Они опасаются, что любая ассоциация, возникшая в их голове, может помешать ассоциациям, которые они будут создавать на соревнованиях».
Мы планировали, что во время чемпионата Соединенных Штатов Эд будет сидеть как можно ближе к «рингу». Но незадолго до состязаний он улетел в Австралию, где в Университете Сиднея ему предложили уникальную возможность заняться философией феноменологических аспектов в крикете. (Эд верит, что по сравнению с определителями пола цыплят или шахматными гроссмейстерами крикет лучше иллюстрирует его идею о том, что память влияет на наше непосредственное восприятие мира.) Сможет ли он позволить себе поездку на другой край земли, теперь уже более дорогую и более продолжительную, было не ясно.
«Есть ли у меня шанс как-нибудь сгладить твое возмущение моим возможным непоявлением?» – спросил он в письме за пару дней до чемпионата. Но я не столько возмущался, сколько паниковал. Хоть и твердил всем, что мое участие в соревновании не более чем блажь – «желание необычно провести утро в выходные», как я сказал одному приятелю, – большая часть шуточек относительно этого «чокнутого соревнования» была призвана скрыть мое твердое намерение победить.
Принятое Эдом в последний момент решение остаться в Австралии значило то, что отныне я сам по себе. Мне самому нужно волноваться из-за конкурентов, пытаться понять, насколько интенсивно они тренировались в прошлом году, и гадать, не готовится ли кто из них поразить нас новой техникой, способной поднять интеллектуальный спорт на недоступный для меня уровень. Например, Рэм Колли, защищавший титул чемпиона, веселый, беззаботный и, как я знал, самый талантливый из всех: если бы он решил тренироваться так же усердно, как европейцы, нам просто не осталось бы шанса. Но почему-то я сомневался, что он на такое способен. В основном я переживал из-за Мориса Столла. Если среди нас и был человек, захотевший посвятить свое время чему-то такому, как разработка системы «Миллениум-ЧДП» (изобретение Эда) или создание образов 2704 карт (достижение Бена), то им мог стать только Морис.
Вечером накануне соревнования Эд прислал мне по электронной почте последнее напутствие: «Все, что тебе нужно сделать, это сохранять образы в голове и получать от этого удовольствие. Удивляй себя их живостью, и все пойдет как по маслу. Будь спокоен на всех этапах. Расслабься, не обращай внимания на конкурентов и наслаждайся. Я уже горжусь тобой. И помни: девушки любят мужчин со шрамами, а слава остается с тобой навсегда».
В ту ночь я лежал в постели, расхаживая взад и вперед по своим дворцам как одержимый, и думал о Морисе. Я не мог уснуть, что, как отметил сам Морис на соревновании предыдущего года, для интеллектуального спортсмена равнозначно «перелому ноги перед футбольным матчем».
Когда я наконец уснул около трех утра при помощи таблетки тайленола, мне приснился кошмар, в котором Дэнни ДеВито и Риа Перлман, мои король и королева пик, часами скакали по гаражу на пони, семерке пик, тщетно пытаясь найти, где они припарковали свой Lamborghini Countach, валет червей. В конце концов их лошадь расплавилась на асфальте под зловещим взглядом Мориса Столла, смеющегося прямо как доктор Менгеле[79]. Я вскочил через четыре часа, усталый и разбитый, и по ошибке дважды намылил голову шампунем – жуткая примета, если, конечно, приметы существуют.
Первым, кого я встретил, выйдя из лифта, на 19-м этаже главного здания Con Edison, был Бен Придмор. Он прилетел из Англии на уик-энд только для того, чтобы оценить уровень подготовки американцев. В последнюю минуту в аэропорте Манчестера Бен раскошелился и поменял свой билет на место в первом классе.
«А на что мне еще деньги тратить?» – спросил он меня. Я покосился на его просящие каши кожаные ботинки: их подошвы теперь уже практически полностью оторвались. «Действительно», – сказал я.
«Первое соревнование даже не началось, а я уже проиграл», – сообщил я Бену. И рассказал о бессоннице и лишнем мытье головы. Бен, казалось, полагал, что зря я выпил снотворное, потому что остатки лекарственных веществ, сказал он, наверняка до сих пор плавают в моей крови.
Я опустошил две чашки кофе и, по правде говоря, мучался не от усталости, а от нервной тряски. Я просто чувствовал себя идиотом, который катастрофически провалил важнейший этап подготовки к соревнованию и теперь не в состоянии выступить в полную силу. В это время вошел Морис, одетый в бейсбольную кепку Техасского механико-сельскохозяйственного университета и рубашку в огурцах, куда более самоуверенный, чем в прошлом году. И пугающе сосредоточенный. Он сразу же заметил меня, узнал и подошел поздороваться, а заодно и представиться легендарному Бену Придмору. «Ты вернулся», – сказал мне Морис. Констатация факта, не вопрос.
Если считать, что у меня была определенная стратегия, я планировал застать Мориса врасплох, так чтобы мое появление на чемпионате стало для него сюрпризом. Но он, очевидно, уже знал о моем участии. Кто-то, должно быть, сообщил ему, что я тренируюсь с Эдом Куком. «Да, я решил поучаствовать в этом году, – небрежно сообщил я, указывая на мой беджик с надписью "Джошуа Фоер, интеллектуальный спортсмен". – В качестве журналистского эксперимента».
Я спросил Мориса: «Как поживают цифры?» Я пытался понять, не обновил ли он свою систему запоминания.
– Отлично. А твои?
– Тоже. Как карты?
– Неплохо. Твои?
– Проблем быть не должно, – сказал я. – Все еще используешь ту же систему, что и в прошлом году?
Он пожал плечами, избегая ответа, и спросил меня:
– Как спалось?
– Что?
– Спалось как?
Зачем он это спрашивал? Откуда он узнал о том, что я всю ночь мучился бессонницей? В какие такие игры разума играл Морис?
– Помнишь, я в прошлом году плохо спал накануне соревнования, – продолжил он.
– Да, помню. А как в этом году?
– В этом году я отлично выспался.
– Джошу понадобилось снотворное, – очень кстати заметил Бен.
– Да это практически плацебо!
– Я как-то пытался принимать снотворное во время тренировок и заснул на следующее утро, пока пытался запомнить числа, – сказал Морис. – Знаешь ли, нехватка сна – враг памяти.
– Ах так!
– Ну, в общем, удачи тебе сегодня.
– И тебе тоже.
Новым в этом году было жужжание камер и подробный репортаж с места событий, который вели заслуженный бокс-комментатор Кенни Райс и четырехкратный чемпион Соединенных Штатов Скотт Хэгвуд, примостившиеся перед сценой в складных креслах. Их присутствие придавало происходящему сюрреалистичный оттенок мокьюментари[80]. Правильно ли я расслышал, как Райс только что назвал конкурсантов «теми, кто вывел интеллектуальную доблесть на новый уровень»?
На всех других международных соревнованиях по запоминанию, на которых я присутствовал, участники проводили последние минуты пред состязаниями, отгородившись от мира наушниками или разминаясь, чтобы разогреть мозг. Американские же интеллектуальные спортсмены толпились в холле, переговариваясь так, будто им предстояло что-то не более серьезное, чем проверка зрения у окулиста. Я уединился в уголке, надел наушники и попытался очистить мозг, как любой порядочный европейский мнемоник.
Тони Доттино, худой, седоволосый и усатый мужчина 58 лет от роду, консультант по корпоративному управлению, стоял перед зрителями и представлял участников соревнований. Доттино основал чемпионат Соединенных Штатов по запоминанию в 1997 г. и с тех пор провел уже 13 из них. Он один из американских последователей Тони Бьюзена. Доттино зарабатывает на жизнь, консультируя компании вроде IBM, British Airways и Con Edison (отсюда и такое необычное место проведения чемпионата) по поводу того, как можно повысить производительность сотрудников с помощью мнемонических техник.
«Вы – те самые, кто сообщает нашей стране, что память не только для умников и чудаков, – провозгласил он. – Вы станете образцом, на который будут равняться люди. Пока пишется история этих событий, мы здесь как дети малые. Вы, – он направил на нас оба указательных пальца, – пишете историю».
Я пропустил дальнейшую речь, вставив в уши затычки, и прошелся в последний раз по каждому из своих дворцов. Я проверял – этому однажды научил меня Эд, – открыты ли все окна и льется ли в них яркий солнечный свет, освещая мои образы так, чтобы они оставались красочными и четкими.
Среди тех из нас, кто вносил свой вклад в «написание истории», было три дюжины интеллектуальных спортсменов из десяти штатов, в том числе лютеранский священник из Висконсина по имени Т. Майкл Харти, пять-шесть подростков из Талантливой десятки Реймона Мэттьюса и сорокасемилетний профессиональный тренер по развитию памяти из Ричмонда Пол Меллор, который успел пробежать марафон в каждом из 50 штатов и прошлую неделю провел в Нью-Джерси, обучая офицеров полиции быстро запоминать автомобильные номера.
Тяжелая артиллерия укрепилась на задних рядах. Это были спортсмены, которых Доттино посчитал наиболее вероятными претендентами на победу. Мне польстило то, что я вошел в их число, хотя мне и досталось последнее место в заднем ряду. (Мы с Доттино за прошлый год пару раз поговорили, и я сообщил ему результаты своих тренировок, так что он знал, что у меня есть шанс.) Был здесь и Честер Сантос, коренастый тридцатилетний программист из Сан-Франциско, выступавший под псевдонимом Ледяной человек, что совсем не вязалось с тем, как он время от времени чертыхался. В прошлом году он занял третье место. У меня было стойкое ощущение, что я не нравлюсь Честеру. После того как я написал свою первую статью для журнала Slate в прошлом году, мне перенаправили его письмо, адресованное Тони Доттино. В нем Честер утверждал, что моя статья была «УЖАСНОЙ», потому что Лукаса и Эда я «сделал потрясающими», а американских конкурсантов – «полнейшими профанами и лоботрясами». То, что сейчас я иду с ним нос к носу после всего одного года тренировок, наверняка казалось ему ужасно оскорбительным.
Краем уха я услышал, как Кенни Райс произнес: «Наверное, страшно чувствовать себя новичком, которому предстоит сойтись один на один с Джеймсом ЛеБроном». Я подумал, что это он, должно быть, обо мне.
Несмотря на то что программы почти всех национальных чемпионатов по запоминанию включают, в общем и целом, один и тот же набор дисциплин, установленный Международным советом интеллектуального спорта, в США все происходит немного иначе. В международных состязаниях очки каждого участника подсчитываются в самом конце, с тем чтобы определить победителя, но в Штатах все немного запутаннее. Утром у нас проводится предварительный раунд, соревнования по четырем классическим дисциплинам: «имена-и-лица», скоростное запоминание цифр, скоростное запоминание карт и стихотворение – и отбираются шесть финалистов. Эти шестеро затем соревнуются днем в трех уникальных соревнованиях «на вылет», так любимых телевизионщиками, – «Запомни слово», «Три промаха – выйди прочь с чайной церемонии» и «Сорви двойной банк или проваливай»[81]. Во время этого этапа соревнований количество участников сокращалось таким образом, что тот, кто в конце концов оставался, и оказывался чемпионом.
Первой дисциплиной утренних часов стали «имена-и-лица», которые мне всегда неплохо давались на тренировках. Надо было запомнить 99 лиц и соотносящиеся с ними имена и фамилии. Это делается при помощи создания незабываемого образа, связывающего имя с лицом. Возьмем для примера Эдварда Бедфорда, одного из 99 человек, которого требовалось запомнить. Он оказался черным, с козлиной бородкой, залысинами, затемненными солнечными очками и сережкой в левом ухе. Чтобы связать имя с лицом, я попытался представить Эдварда Бедфорда[82], лежащего в кузове грузовика Ford, но потом решил заменить картинку на то, как он переплывает реку на надувной кровати. А чтобы запомнить, что его зовут Эдвард, я добавил к нему в кровать Эдварда Руки-Ножницы, который в клочья резал плывущий по реке матрас.
Иным приемом я воспользовался, чтобы запомнить Шона Кирка, белого мужчину, с длинными волосами на затылке, баками и кривой улыбкой человека, перенесшего инсульт. Я совместил его с ведущим Fox News Шоном Хэннити и капитаном Кирком с космического корабля «Энтерпрайз» и представил, как все трое составили акробатическую пирамиду.
Через 15 минут, в течение которых мы сидели уставившись на все эти имена и лица, судья забрал у нас изображения и вручил новые порции скрепленных степлером листов с теми же самым портретами, но теперь уже в другом порядке и без имен. У нас было 15 минут на то, чтобы вспомнить как можно больше имен.
Когда я отложил в сторону ручку и вручил судье мои ответы, я предполагал, что результаты будут средними. Имена Шона Кирка и Эдварда Бедфорда вспомнились сразу, но я забыл имя хорошенькой блондинки, ребенка, чье имя звучало как-то по-французски, и еще нескольких человек, так что я не мог представить, что покажу достойный результат. К моему удивлению, из 107 имен и фамилий я умудрился вспомнить достаточно, чтобы оказаться на третьем месте, позади Рэма Колли, который запомнил 115, но перед Морисом Столлом, который запомнил 104. Победа же досталась семнадцатилетней пловчихе из города Меканиксбург в штате Пенсильвания, Эрин Хоуп Льюли, запомнившей 124 имени и установившей тем самым новый рекорд Соединенных Штатов. Даже лучшие европейские мнемоники могли бы удостоить такой результат одобрительным кивком. Когда огласили ее очки, Эрин встала и застенчиво помахала рукой. Я повернулся, чтобы взглянуть на Рэма, и увидел, что и он смотрит на меня. Колли приподнял брови, словно бы спрашивая: «И откуда она только взялась?»
Следующий вид программы – скоростное запоминание чисел, то, в чем я всегда показывал худшие результаты. Это была именно та дисциплина, где наставления Эда мне не помогали – в основном потому, что я их игнорировал. Он пинал меня на протяжении месяцев, убеждая применить более совершенную систему для запоминания – пусть и не его «64-пушечную» «Миллениум-ЧДП», над которой он работал месяцы, но хотя бы что-то более сложное, чем простенькая Главная система, которой пользуется большинство американских мнемоников. Я его послушался и создал систему ЧДП для 52 карт, но до комбинаций двузначных чисел от 00 до 99 я так и не добрался.
Пользуясь все той же Главной системой, что и остальные интеллектуальные спортсмены, я употребил предоставленные пять минут на запоминание 94 чисел – средненькое количество даже по американским стандартам. И я еще умудрился оплошать с числом 88! (Вместо Билла Косби мне следовало вообразить семью, играющую в настольную игру «Жизнь» Милтона Брэдли.) В таком провале я винил Мориса, которого слышал даже через наушники. Тот кричал «Хватит меня снимать!» фотокорреспонденту, который кружил по комнате. Тем не менее мои 87 верных цифр принесли мне пятое место. Морис запомнил 148, новый американский рекорд, а Рэм финишировал вторым с 124. Эрин оказалась аж на 11-м месте, запомнив всего 52 цифры. Я встал, потянулся и выпил третью чашку кофе.
«Их называют ИС, интеллектуальные спортсмены, – услышал я голос Кенни Райса, вещавшего на камеру. – Но на данном этапе ИС можно расшифровать как "истерзанные страданием"».
С числами я разбирался при помощи примитивной мнемонической техники, но, когда дело дошло до скоростного запоминания карт, нашего следующего испытания, я был единственным из конкурсантов, кто вооружился тем, что Эд называл «последней моделью европейского оружия». Большинство американцев по-прежнему помещали одно изображение в одно место, и даже те, кто участвовал в чемпионатах уже не первый год, – Рэм Колли и «Ледяной человек» Честер – могли в лучшем случае превратить лишь две карты в один единственный образ. На самом деле пару лет назад никто даже представить не мог, что на чемпионате США кому-то удастся запомнить весь набор карт. Но благодаря Эду система ЧДП, которую я использовал, могла упаковать три карты в один образ, что значило, что она была по крайней мере на 50 % эффективнее других. Это было огромное преимущество. Даже если Морис, Честер и Рэм размажут меня по стенке в других дисциплинах, я мог, мне верилось, увеличить количество своих баллов за счет скоростных карт.
Каждому участнику выделили личного судью, который сел напротив с секундомером. Мне досталась женщина среднего возраста, она улыбнулась мне и что-то сказала, но я не расслышал ее через беруши и наушники. Я взял с собой свои выкрашенные в черный цвет очки для запоминания карт, но даже и тогда, когда перетасованная колода карт уже легла на стол передо мной, я все еще сомневался, стоит ли их надевать. Без очков я не практиковался уже много недель, а зал в здании Con Edison, где проходили соревнования, был полон отвлекающих моментов. Но здесь были еще и телекамеры. Когда какая-нибудь из них нацеливалась на меня, я представлял себе тех, кто смотрит сейчас эту трансляцию: одноклассников, с которыми я не виделся годами, друзей, которые понятия не имели о моей одержимости запоминанием, родителей моей девушки. Что они подумают, когда увидят меня на экране телевизора в больших черных защитных очках и наушниках, перелистывающим колоду карт? В конце концов мой страх пред публичным унижением перевесил мой азарт спортсмена, и я оставил очки лежать на полу у ног.
Главный арбитр – бывший сержант морской пехоты, инструктор по строевой подготовке – крикнул: «Начали!», и моя судья включила секундомер, а я принялся проглядывать колоду так быстро, как только мог, переворачивая по три карты за раз и перекладывая их с верхушки колоды в правую руку. Для размещения образов я выбрал дворец памяти, который знал лучше других, – вашингтонский дом, где я жил с четырех лет, тот же самый, что помог мне запомнить список дел Эда в Центральном парке.
У входной двери я увидел мою подругу Лиз, подвергающую вивисекции свинью (двойка червей, двойка бубен, тройка червей). Сразу за порогом Невероятный Халк наяривал на велотренажере в огромных серьгах, свисающих с ушей (тройка крестей, семерка бубен и валет пик). Перед зеркалом под лестницей Терри Брэдшоу балансировал в инвалидном кресле (семерка червей, девятка бубен, восьмерка червей), а за его спиной крошка жокей в сомбреро прыгал с парашютом с самолета, зажав под мышкой зонтик (семерка пик, восьмерка бубен, четверка треф). Где-то на середине колоды до меня вновь донесся стон Мориса «Не ходите тут!», обращенный, видимо, к очередному фотокорреспонденту. Но теперь это не отвлекло меня. В спальне брата я увидел моего друга Бена, писающего на шапочку Папы Бенедикта XVI (десятка бубен, двойка крестей, шестерка бубен), Джерри Сайнфелд распростерся, истекая кровью, на капоте Lamborghini в проходе (пятерка червей, туз бубен, валет червей), а у двери родительской спальни сам я оттачивал лунную походку на пару с Эйнштейном (четверка пик, король червей, тройка бубен).
Искусство скоростного запоминания карт заключается в том, чтобы найти идеальный баланс между необходимостью быстро продвигаться вперед и потребностью в создании детальных образов. Важно успеть охватить взглядом столько деталей образа, сколько надо для его восстановления в будущем, и не тратить драгоценное время на ненужные нюансы. Когда я опустил ладони на стол, чтобы остановить часы, я знал, что нашел ту самую золотую середину. Но я и не представлял, насколько золотой она окажется.
Судья, сидевшая передо мной, показала мне время – 1 минута и 40 секунд. Этот результат был не только моим личным рекордом, но и, как я сразу понял, побивал предыдущий рекорд Америки – одну минуту и 55 секунд. Я закрыл глаза, уронил голову на стол, прошептал крепкое словечко в свой адрес и на мгновение задумался о том, что я только что совершил нечто – пусть странное, пусть незначительное, – что лучше меня не мог сделать никто во всей Америке.
Я поднял голову и бросил быстрый взгляд на Мориса Столла, подергивающего свою козлиную бородку и заметно взволнованного, и ощутил нехорошее удовлетворение при виде его мучений. Затем я покосился на Честера и занервничал. Он ухмылялся. С какой такой стати? Ведь он завершил этот этап на позорных 2 минутах и 15 секундах.
На мировом чемпионате по запоминанию, где рекордное время составляет 30 секунд, мои 1 минута и 40 секунд считались бы посредственным результатом – эквивалентом 5 минут, потраченных на дистанцию в одну милю, – для любого серьезного мнемоника-европейца. Но мы-то были не в Европе.
Как только в зале стало известно о моем результате, журналисты с камерами и наблюдатели стали стекаться к моему столу. Судья достала новую, неперемешанную колоду карт и положила ее передо мной. Моей задачей было теперь разложить карты в том порядке, в каком я их запомнил.
Я разложил колоду веером на столе, глубоко вдохнул и снова вошел во дворец памяти. Я видел все образы именно там, где их оставил, кроме двух. Они должны были быть в ду´ше, мокрые, но я видел там лишь бежевый кафель.
«Не вижу», – отчаянно прошептал я. Не вижу! Я просмотрел все остальные образы так быстро, как только было возможно. Может, я забыл два огромных пальца ноги? Щеголя в аскотском галстуке? Грудь Памелы Андерсон? Лепрекона Лаки Чармза? Армию сикхов в тюрбанах? Нет, нет, нет.
Я начал сдвигать карты, которые помнил, указательным пальцем. На левую верхнюю часть стола я переместил подругу Лиз и мертвую свинью. Там же оказались Халк на велотренажере и Терри Брэдшоу в инвалидном кресле. Когда время вышло, у меня остались три карты, те самые, что пропали из душа: король бубен, четверка червей и семерка треф. Билл Клинтон, совокупляющийся с баскетбольным мячом. Как я мог такое забыть?!
Я быстро выровнял карты в аккуратную стопку, передал их через стол судье, снял наушники и вытащил беруши. Я это сделал! Я ни капельки не сомневался.
Подождав минутку, чтобы телеоператоры смогли найти наиболее подходящий ракурс для съемки, судья начала переворачивать карты одну за другой, а я, нагнетая напряжение, делал то же самое с колодой, которую запомнил.
Двойка червей.
Двойка червей.
Двойка бубен.
Двойка бубен.
Тройка червей.
Тройка червей…
Карта за картой, все совпадало. Когда мы добрались до конца колоды, я бросил последнюю карту на стол и огляделся с широкой, глупой ухмылкой, которую пытался, но не смог сдержать. Я был новым рекордсменом США в скоростном запоминании карт. Толпа, собравшаяся вокруг меня, громко зааплодировала. Кто-то ухнул. Бен Придмор сжал кулаки. Двенадцатилетний парнишка подошел ко мне с ручкой и попросил автограф.
По так и не озвученным причинам было решено, что тройка победителей в первых трех утренних соревнованиях может не участвовать в последнем предварительном состязании – запоминании стихотворений. Несмотря на низкий балл в запоминании чисел, мой рекорд в скоростном запоминании карт позволил мне занять второе место, после Мориса и перед «Ледяным человеком» Честером. Мы выходили сразу в четвертьфинал. Мы трое вместе с Беном Придмором покинули зал соревнований и отправились в кафетерий Con Edison, сели за один стол и в молчании пообедали. Когда мы вернулись, на сцене к нам присоединились Рэм Колли, сорокасемилетний марафонец Пол Меллор и семнадцатилетняя Эрин Льюли, которая, пока нас не было, установила новый рекорд США – ее второй за этот день – в поэтическом соревновании.
Теперь, когда нас осталось только шестеро, соревнования перешли во вторую стадию, специально придуманную так, чтобы на радость телевизионщикам внести в происходившее элемент драматизма. На экране перед нами появились 3D-изображения, а театральный свет залил сцену, где стояли шесть высоких складных кресел для каждого из нас с миниатюрными нагрудными микрофонами, дожидающимися на сиденьях.
Первой дневной дисциплиной были случайные слова. В этом виде программы на обычном национальном чемпионате у участников было бы по 15 минут на запоминание как можно большего количества слов из списка в четыре сотни, а потом, после короткого перерыва, – еще 30 минут, чтобы записать по порядку как можно больше из того, что удалось отложить в памяти. Не такое уж и захватывающее зрелище. Поэтому устроители американского чемпионата решили, что участники заключительных этапов будут бороться за победу на сцене, в надежде, что это прибавит зрелищу нервных подергиваний рук, мучительных стонов и прочих изъявлений эмоций в духе театра кабуки, превращающих турниры по правописанию в увлекательные спектакли. Мы шестеро должны были по цепочке называть слова из запомненного нами списка. Первые двое, кто ошибется, выбудут из числа соревнующихся.
Сам список состоял из конкретных существительных и глаголов типа «рептилии» и «тонуть», очень простых для визуализации, вперемешку с абстрактными словами, такими как «жалость» или «грация», к которым было трудно подобрать образ. Участники обычных соревнований, как правило, стремятся запомнить как можно больше случайно выбранных слов и иногда действуют немного неосмотрительно, стараясь наполнить свои дворцы памяти по самую крышу. Поэтому мы с Эдом, изучив правила чемпионата США, решили, что нужно поступить умнее: заучить меньше слов – я запомнил только 120, – но убедиться в том, что они крепко-накрепко засели в голове. Мы посчитали, что мои соперники в основном в силах запомнить больше слов, чем я, но на сцене кто-нибудь может разволноваться и попытаться запомнить больше возможного. Я не собирался совершать эту ошибку.
Пятнадцать минут спустя мы начали друг за другом называть слова из списка: «сарказм»… «икона»… «навес»… «лассо»… «мучение»… Когда мы добрались до 27-го слова, Эрин, которая за утро запомнила больше стихов, чем любой интеллектуальный спортсмен Америки до этого, оступилась. Слово было «оцепенение» – мы-то это знали, – но по какой-то причине она не могла его вспомнить. Девять слов спустя Пол Меллор перепутал «операцию» и «оперировать» – типичная ошибка новичка. Большинство из нас – а в особенности продюсер HDNet, канала, на котором транслировались увлекательные репортажи из зала суда, – настроились на упорную борьбу вплоть до сотого слова. Никто и подумать не мог, что все кончится так быстро. Даже те, кто только-только постиг искусство использования дворцов памяти, запоминают как минимум 30–40 слов с первой попытки. Я подозревал, что и Эрин, и Пол переоценили соперников и сами перенапряглись. Это означало, что Рэм, Честер, Морис и я проскочили в последний тур благодаря чужим промахам. А это значило, что от финала меня отделяла одна лишь «чайная церемония».
Высокая брюнетка в летнем платье поднялась на сцену и представилась. «Привет, я Диана Мари Андерсон. Я родилась 22 декабря 1967 года в городе Итака штата Нью-Йорк. Индекс: 14850. Мой рабочий номер, но, пожалуйста, не звоните мне туда, 929–244–6735, добавочный 14. У меня есть собака, золотистый лабрадор по имени Карма. Мои хобби – кино, езда на велосипеде, вязание. Из машин мне нравится Ford Model T 1927 года выпуска. Из еды я люблю пиццу, жевательные конфетки и мятное эскимо на палочке».
Пока она рассказывала, мы с Рэмом, Честером и Морисом сидели с закрытыми глазами, с бешеной скоростью рисуя образы для наших дворцов памяти. День рождения Дианы 12/22/67 превратилось в однотонную гирю (12), падающую на монахиню (22), пока та пила фруктовый коктейль (67), сидя в отдельно стоящей на клешневидных ножках ванной, которую я поставил в туалетную комнату моего викторианского дворца. В бельевом шкафу я поместил место рождения и индекс в виде огромной покрышки для грузовика (14), скатывающейся в одно из знаменитых ущелий Итаки и приземляющейся на головы паре парней (850). Потом еще четверо гостей вышли на сцену и рассказали свои, не менее подробные, биографии.
Этот вид программы назывался «Три промаха – выйди прочь», что значило, что те двое, кто первыми забудет три детали о госте, останутся за бортом. Дав нам пару минут на то, чтобы кривая забывчивости продемонстрировала свою магическую силу, пятеро гостей вернулись на сцену и начали расспрашивать нас о себе. Сначала они спросили имя четвертой гостьи, молодой блондинки в бейсбольной кепке. Честер, сидевший с краю, знал ответ: «Сьюзен Лана Джонс». Мориса спросили ее дату рождения, которую он не знал, и я подумал, не блефовал ли он, когда утверждал, что отлично выспался. Один промах у Мориса. К счастью, я помнил ее день рождения. Я вытащил его из скромной мраморной раковины в моем модернистском дворце. 10 декабря 1975 года. Рэм знал ее адрес: Норт-Майами-Бич, штат Флорида, 33180, но Честер не вспомнил номер телефона. Один промах у Честера. И Морис тоже не помнил ее номер. Второй промах у Мориса. Камера остановилась на мне, ожидая, что я назову все десять цифр плюс добавочный.
«Я даже не пытался запоминать ее номер телефона», – сказал я, глядя прямо в камеру. Моей стратегией было сосредоточиться на других вещах и надеяться, что длинные номера достанутся не мне. Один промах у Джоша.
Игра продолжилась в том же духе, но потом снова пришла очередь Мориса, и он не сумел вспомнить хотя бы одно из трех увлечений девушки. С тем же успехом он мог бы подремать, пока гости рассказывали о себе. У него было три промаха. Он выбывал.
Оставшись втроем на сцене, мы парировали еще несколько биографических вопросов, пока Честеру не пришлось называть рабочий номер телефона одного из гостей, включая код города и добавочный из трех цифр. Честер поморщился и опустил взгляд.
– Ну почему мне всегда достаются телефонные номера? Вы издеваетесь?
– Таковы правила, – сказал Тони Доттино, стоявший, как хозяин чемпионата, за трибуной в левой части сцены.
– Да ладно, никто не знает этих номеров!
– Вы же мастер в числах, Честер.
Если бы на месте Честера сидел я, то тоже ничего не сказал бы. Мне просто повезло, что я не оказался на месте Честера, повезло, что он заработал третий промах прежде меня, и повезло, что я мог продолжить соревнования и участвовать в финале чемпионата США по запоминанию.
Перед финальным видом программы «Сорви двойной банк или проваливай» объявили десятиминутный перерыв. В последнем состязании мы с Рэмом должны были за пять минут запомнить две одинаковые колоды карт. Когда я спускался со сцены, меня перехватил Морис. «Ты победишь, – глотая буквы, сказал он. – Рэм не запомнит две колоды. Это как пить дать».
Я коротко его поблагодарил и попытался пробиться сквозь толпу, чтобы выйти из комнаты. Стоявший внизу возле лестницы Бен поздравил меня, вытянув раскрытую ладонь для хлопка.
– Карты даются Рэму хуже всего, – возбужденно произнес он. – Победа у тебя в кармане!
– Эй, не спугни удачу!
– Тебе всего-то нужно сделать половину того, что ты уже сделал утром.
– Не говори так! Еще сглазишь!
Он извинился и отправился искать Рэма, чтобы пожелать ему удачи.
Кенни Райс продолжал репортаж с места событий. «Мы приближаемся к решающему моменту чемпионата Соединенных Штатов по запоминанию. Рэм Колли победил тут в прошлом году. Может ли двадцатипятилетний юноша из Вирджинии победить снова или же им станет новичок Джошуа Фоер, интернет-журналист, освещавший прошлогодний чемпионат? Вот он тут, борется до последнего. Наша последняя дисциплина "Сорви двойной банк или проваливай" – это битва мыслителей».
Я знал, что, несмотря на все плохие предзнаменования, Бен и Морис правы. За пять минут Рэм с трудом запоминал одну колоду, куда уж тут две. Я знал: единственное, что от меня требуется, – не переволноваться в жарком свете софитов и под прицелом телекамер, и серебряная рука с золотыми ногтями будет моей.
Сев за стол и заткнув уши, я сразу же отложил вторую колоду в сторону. Поскольку мне нужно было запомнить лишь на одну карту больше, чем Рэму, я решил запомнить последовательность карт в одной колоде так хорошо, как только возможно. Я провел пять минут, рассматривая каждую из этих 52 карт снова и снова, и лишь однажды взглянул на Рэма, сидящего за столом рядом со мной. Он держал в руках одну-единственную карту, изучая ее как какое-то диковинное насекомое. «Боже, у него просто нет шансов», – подумал я.
Пять минут спустя подбросили монетку, чтобы определить, кто начнет. Рэм выбрал решку. Выпал орел.
Мне предстояло выбрать, кто начнет – я или Рэм. «Это очень важно», – шепнул я достаточно громко, чтобы эти слова уловил мой нагрудный микрофон. Я закрыл глаза и прошелся по колоде, проверяя, нет ли, как случилось ранее этим утром, пустот во дворце памяти, мест, где по каким-то причинам не сразу прижились мои образы. Если такие места есть, я бы хотел, чтобы соответствующие карты достались Рэму, а не мне. Наконец после долгой паузы я снова открыл глаза. «Я начну».
Я подумал еще немного. «Нет, нет, нет. Подождите. Пусть Рэм начинает». Это могло выглядеть как не вполне благовидный психологический прием, но на самом деле я просто сообразил, что не помню 43-ю карту в колоде. Нужно было убедиться, что она попадет к Рэму.
Доттино: «Отлично. Рэм, первая карта твоя».
В течение секунды Рэм бессмысленно шевелил пальцами. «Двойка бубен».
Потом я: «Королева червей».
– Девятка треф.
– Король червей.
Рэм поднял взгляд к потолку и откинулся на спинку кресла.
Я видел, как он качает головой. «Быть этого не может!» – подумал я. Он снова опустил взгляд.
– Король бубен?
Теперь уже я качал головой. Я знал, что он вылетает. На пятой карте!
В шоке я смотрел на Рэма. Он продул. Перенервничал. Морис, сидевший в первом ряду, хлопнул себя по лбу.
– У нас есть новый чемпион Соединенных Штатов!
Я не стал вставать. Я не уверен, что хотя бы улыбнулся. Минутой ранее мне очень хотелось победить. Но выиграв, я ощутил не радость, не облегчение и не гордость. К своему удивлению, я испытывал крайнюю усталость. Я почувствовал, что начинает сказываться недосыпание, и на секунду обхватил голову руками. Люди, наблюдающие за мной по телевизору, наверняка подумали, что меня переполняли эмоции. Но на самом деле я застрял в своем дворце памяти, блуждая в мире невероятных образов, которые в течение короткого мгновения казались мне куда реальнее сцены, на которой я сидел. Я поднял взгляд и увидел аляповатый двухэтажный приз, сверкающий на краю сцены. Рэм повернулся ко мне, чтобы пожать руку, и шепнул:
– Пятая карта. Какая?
Я опустил руки, обернулся к нему и прошептал в ответ:
– Пятерка треф.
Дом Делуиз. C хулахупом. Само собой.
Эпилог
– Поздравляем Джошуа Фоера! У него будет отличная история для статьи, – провозгласил комментатор Кенни Райс. – Он ведь пришел сюда просто узнать, каково это, а уезжает чемпионом.
– Неплохо для новичка, Джош, – сказал Рон Крак, репортер HDNet, поднявшийся на сцену с микрофоном в руке, чтобы взять у меня интервью. – Вы посетили не одно такое мероприятие как журналист. Насколько этот опыт способствовал сегодняшнему успеху и победе в чемпионате США по запоминанию?
– Думаю, это помогло. Однако усиленные тренировки помогли еще больше, – сказал я.
– Да, затраты явно окупились. Теперь вы на пути к чемпионату мира.
Как ни странно, эта абсурдная мысль даже не приходила мне в голову.
– Как журналист, вы ведь бывали и на мировом чемпионате. Это облегчит выступление там?
Я рассмеялся.
– Честно сказать, на чемпионате мира у меня нет ни малейшего шанса. Те люди могут запомнить колоду карт за 30 секунд. Они как инопланетяне…
– Я уверен, что вы не посрамите Соединенные Штаты. Мы на вас рассчитываем. Знаете, когда выигрывают Суперкубок, говорят: «Я поеду в Диснейленд». Вы выиграли чемпионат мира, и вы говорите…
Он сунул микрофон мне под нос. Я должен был сказать, что собираюсь в Куала-Лумпур. Или в Диснейленд. Я смешался. И очень, очень устал. И камеры работали.
– Э-э… не знаю, – сказал я. Я растерялся. – Думаю, что поеду домой.
Сойдя со сцены, я позвонил Эду с ближайшего телефонного автомата. В Австралии было утро. Эд пребывал в удаленной от ворот части крикетного поля, занимаясь, как он сказал, «экспериментальной философией».
– Эд, это Джош…
– Выиграл? – эти слова сорвались с его языка так быстро, словно бы он все утро только и ждал моего звонка.
– Выиграл.
Он испустил вопль.
– Отличный удар! Великолепно, просто великолепно! Ты знаешь, кто ты теперь? Ты, бесспорно, и есть мозг Америки!
Следующим утром я из любопытства зашел на сайт, чтобы посмотреть, вывешены ли там общие результаты чемпионата, и узнать, что европейцы говорят – если, конечно, они вообще что-либо говорили по этому поводу – о новичке, ставшем американским чемпионом. Бен уже написал четырнадцатистраничный отчет о соревнованиях. В конце была пара слов о победителе: «Меня поразило его выступление, особенно учитывая, как мало он тренировался. Я считаю, что он именно тот человек, который может вывести американские чемпионаты по запоминанию на новый уровень». Бен писал: «Технике он учился у европейцев, наблюдал за нашими соревнованиями, и, в отличие от остальных интеллектуальных спортсменов США, он не подвержен сдерживающему воздействию низких американских стандартов, позволяющих считать посредственный результат большим достижением. Фоер относится к этому спорту с искренней страстью, и я полагаю, что он может стать не просто магистром памяти, но и, возможно, первым американцем, вошедшим в высший эшелон мнемоников. И когда он этого достигнет, его соотечественники-спортсмены потянутся за ним. Нужен всего один человек, чтобы вдохновить других. Поэтому я уверен, что у интеллектуального спорта в Америке яркое будущее!»
Титул чемпиона Соединенных Штатов по запоминанию сделал меня мелкой (ну да, очень мелкой) звездой. Неожиданно со мной захотела пообщаться Эллен ДеДжинерис, а программы «Доброе утро, Америка» и «Сегодня» звонили спросить, не соглашусь ли я запомнить колоду карт в прямом эфире. ESPN[83] интересовалось, не захочу ли я выучить турнирную таблицу NCAA[84] для одного из их утренних выпусков. Все хотели посмотреть, как обезьянка исполняет трюки.
Самым неожиданным и шокирующим результатом моей только что обретенной славы (или моего поражения, в зависимости от вашего угла зрения) было то, что я теперь официально представлял все 300 млн граждан Соединенных Штатов Америки на чемпионате мира по запоминанию. Я никогда не рассчитывал оказаться там в этой роли. В процессе тренировок мне ни разу не приходило в голову, что я могу оказаться на одном уровне с Эдом Куком, Беном Придмором и Гюнтером Карстеном – суперзвездами, о которых я рассказывал читателям. За все время подготовки к чемпионату США я ни разу не пытался сравнить свои результаты с их достижениями. Я был в низшей лиге футболистов, они же играли за New York Yankees.
Когда я прилетел в Лондон в конце августа (в последнюю минуту чемпионат был перенесен туда из Малайзии), я взял с собой наушники, раскрашенные звездами и полосками Капитана Америки; 14 колод карт, которые я собирался запомнить на продолжающихся один час соревнованиях по запоминаю карт; а также футболку с надписью «Команда США». В первую очередь я стремился просто не опозорить самого себя и свою страну. Я поставил перед собой еще две менее важные цели: оказаться в первой десятке из 37 конкурсантов и заслужить титул магистра памяти.
Обе эти цели оказались недостижимы. Будучи официальным представителем величайшей супердержавы в мире, я оставил, боюсь сказать, довольно посредственное впечатление о коллективной памяти Америки. В «картах за час» я показал приличный результат, девять с половиной колод карт (на полколоды меньше магистерской нормы), но осрамился в «числах за час», вспомнив всего 380 цифр (до нормы магистра не хватило 620). Я оказался на третьем месте в «именах-и-лицах» – достижение, которое я связываю с тем, что имена, которые нам дали для запоминания, отражали практически полный состав Организации Объединенных Наций. Я знал их почти все, поскольку прибыл из самой мультикультурной страны в мире. В конечном итоге я закончил на 13-м месте из 37 – после всех немцев, австрийцев и британцев, но, отмечу с удовольствием, перед французом и целой китайской командой.
В последний день чемпионата Эд отвел меня в сторонку и сообщил, что в связи с моей «хорошей памятью и выдающимся характером» мне будет предложено этой ночью стать членом KL7, если, конечно, я пройду священный обряд инициации в тайное общество.
Членство в KL7 свидетельствовало о мастерстве интеллектуального спортсмена даже в большей степени, чем трофей американского чемпионата. Я знал, что трехкратному чемпиону миру Энди Беллу ни разу не предлагали войти в KL7, как и не предлагали большинству их трех десятков магистров памяти. Единственным, кроме меня, кандидатом в тот год был Йоахим Талер, приветливый семнадцатилетний австриец, да и он был приглашен только после того, как два раза подряд занимал третье место на чемпионатах мира. Благодаря членству в KL7 круг замкнулся: я оказался там, откуда начиналось мое путешествие, но уже в таких обстоятельствах, о которых я даже не мечтал, когда пришел туда как сторонний наблюдатель, намеревавшийся описать причудливый мир мнемоников. Теперь же я по-настоящему, официально становился одним из них.
Тем же вечером, после того как юный немец, будущий юрист Клеменс Майер был провозглашен мировым чемпионом, и после церемонии награждения, на которой мне на шею повесили бронзовую медаль за третье место в дисциплине «имена-и-лица», все участники чемпионата собрались в банкетном зале Simpson's-in-the-Strand. В XIX столетии в этом ресторане любили собираться величайшие шахматисты Лондона, а в 1851-м Адольф Андерсен и Лионель Кизерицкий провели здесь один из самых легендарных шахматных матчей всех времен – «Бессмертную игру». Члены KL7 ушли, не дождавшись десерта, и собрались в вестибюле расположенного на той же улице отеля, где остановился отец-основатель клуба Гюнтер Карстен.
Эд, который расхаживал по городу с двумя серебряными медалями на шее (за 16 колод в «картах за час» и 133 цифры подряд в «числах на слух»), сел рядом со мной в кожаное кресло возле большого камина, облицованного камнем.
– Разреши, я изложу тебе условия, – сказал он. – Чтобы влиться в наши ряды, тебе нужно выполнить три следующих задания за пять минут. Выпить два пива, запомнить 49 цифр и поцеловать трех женщин. Понимаешь?
– Понимаю.
Гюнтер расхаживал передо мною взад-вперед в обтягивающей майке.
– Это совершенно реально, Джош, – сказал Эд, снимая с запястья часы. – Мы дадим тебе минуту, чтобы подготовиться и решить, когда ты предпочитаешь пить пиво: до или во время процесса запоминания. Но в качестве предупреждения позволь сообщить тебе следующее: кое-кто однажды попытался сначала запомнить 49 цифр, а потом, прямо перед тем, как называть их, выпить пиво. Этот человек до сих пор не состоит в KL7, – он посмотрел на часы. – В любом случае время пойдет, когда я дам команду.
Один из интеллектуальных спортсменов, который не входил в KL7, но все равно пришел на церемонию посвящения, нацарапал 49 цифр на обратной стороне визитки. Эд крикнул «Давай!», и я зажал уши руками, как наушниками и начал запоминать: 7… 9… 3… 2… 6… Я делал глоток пива после каждой шестой цифры. Как только я закончил запоминать последние две цифры, Эд выкрикнул «Время!» – и отобрал у меня лист.
Я подпер голову руками и начал перечислять цифры. Но добравшись до последнего места в моем дворце памяти, я обнаружил, что образы двух последних цифр исчезли. Я пробежался по всем возможным комбинациям от 00 до 99, но ни одна из них не подходила. Я открыл глаза и попросил подсказку. Все молчали.
– Я не прошел, да?
– Нет. К сожалению, 47 цифр нас не устраивают, – торжественно объявил Эд собравшимся членам клуба. Он обернулся ко мне. – Очень жаль.
– Не переживай, я тоже в первый раз провалился, – сказал Гюнтер, похлопав меня по плечу.
– Получается, я не принят в KL7?
Эд стиснул зубы и покачал головой. Его ответ прозвучал на удивление сурово.
– Нет, Джош, не принят.
– Но Эд, пожалуйста! Ты же можешь что-нибудь устроить? – взмолился я.
– Боюсь, что дружба не поможет, если дело касается клуба. Если хочешь войти в KL7, придется начать сначала.
Он подозвал официантку.
– Поверь мне, чем дальше, тем более эффектно можно войти в KL7.
Мне написали новые 49 цифр и налили две пинты пива. Теперь, как по волшебству, образы в моей голове были такими же четкими, как те, что я создавал утром на чемпионате, – и в два раза непристойнее. Вторая попытка была явно удачнее: мне хватило времени, чтобы еще раз обойти дворец. Когда Эд сообщил, что время вышло, я закрыл глаза и зачитал все 49 цифр так уверенно, как будто работал над ними весь день.
Эд встал, хлопнул меня по ладоням и обнял. Но Гюнтер, который, как и я, уже слегка опьянел, был неудовлетворен. Он настаивал, что я должен выдержать еще одно испытание, прежде чем стать членом KL7.
– Ты должен трижды поцеловать колено незнакомой женщины, – сказал он.
– Одно колено? Три раза? Да ты уже просто выдумываешь правила на ходу! – запротестовал я.
– Теперь надо так!
Он взял меня за руку и потащил в соседний зал, где попытался объяснить ситуацию двум ирландкам среднего возраста, спокойно попивавшим вино. Я помню, что просил их не беспокоиться, что ничего страшного не происходит: мы чемпионы по запоминанию, и для ее колена это будет большая честь. Еще я вроде бы помню, что такого рода логика не сработала, но Гюнтер потом сказал что-то даже более убедительное. Все закончилось тем, что я стоял коленях, целуя обнаженную коленную чашечку несчастной ирландки. Потом Гюнтер поднял мою руку в воздух и объявил, что я прошел все испытания, выполнил все задания и заслуживаю быть принятым в самую уважаемую организацию интеллектуальных спортсменов.
– Добро пожаловать в KL7! – закричал он.
О том, что происходило впоследствии, у меня сохранились лишь обрывки воспоминаний. Помню, как, сидя на диванчике вместе с Тони Бьюзеном, твердил ему, что он здесь «главный», и при этом открыто подмигивал через его плечо Эду. Помню, как Бен сказал, что официантки наверняка видят в нас сборище полных придурков. Помню, как Эд говорил о нашей «эпической дружбе».
Когда я проглядываю в своем журналистском блокноте записи, которые вел в тот вечер, я вижу, как постепенно слабел мой разум. Чем дальше, тем больше буквы начинают плясать по странице. Почти ничего не разобрать, кроме одной страницы: «Офигеть! Я в KL7! И, кажется, я в женском туалете!»
На следующей странице почерк вдруг опять становится разборчивым, а повествование идет уже от третьего лица. Я слишком напился, чтобы писать, и в любом случае слишком бурно веселился. Я обратился к ближайшему трезвому человеку, которого только удалось найти; этой девушке я и передал свой блокнот. Я попросил ее постараться быть объективной. Было бессмысленно притворяться, что я все еще журналист.
Потратив лучшую часть года на попытки улучшить память, я вернулся в Университет Флориды, чтобы потратить еще полтора дня на тестирование у Андерса Эрикссона и его аспирантов Треса и Кейти в том же самом офисе, где почти год назад я проходил полную проверку памяти. Трес снова заглядывал мне через плечо, на мне были те же наушники с микрофоном, покачивавшимся перед моим ртом, и я снова выполнил те же тесты плюс несколько новых.
Так улучшилась ли моя память? Да, по всем объективным меркам, что-то улучшилось. Количество запоминаемых мною цифр, золотой стандарт измерения рабочей памяти, удвоилось с 9 до 18. Я был в состоянии запомнить больше поэтических строк, больше имен, больше случайной информации, чем мог запомнить почти год назад. И все же через пару дней после чемпионата я отправился поужинать с друзьями, а потом вернулся домой на метро и только у самой двери вспомнил, что приехал на встречу на своей машине. Я не просто забыл, где ее припарковал. Я забыл даже, что она у меня была.
Вот он парадокс: несмотря на все освоенные мной мнемонические приемы, я все еще не отделался о прежней, примитивной, памяти, не способной удержать в себе знания о ключах от машины и самих машинах. Даже если я значительно расширил свои способности запоминать такую структурированную информацию, которую можно затолкать во дворец памяти, я хотел вовсе не этого. В обычной жизни мне не требуется запоминать факты, людей, поэмы, игральные карты или двоичные цифры. Да, я научился запоминать имена множества гостей на вечеринке, и это могло пригодиться. Если бы мне дали родословные английских монархов, или список американских министров внутренних дел с годами их пребывания на этом посту, или перечень главных событий Второй мировой войны с датами, я бы мог довольно быстро запомнить все это и даже некоторое время хранить в памяти. Это умение стало бы для меня божьей благодатью, учись я в старшей школе. Но жизнь, к счастью или нет, только временами напоминает старшую школу.
Если удвоилось количество цифр, которые я в силах запомнить, то можно ли сказать, что моя рабочая память стала в два раза лучше, чем была до тренировок? Хотелось бы. Но правда в том, что этого не произошло. Если бы меня попросили запомнить и последовательно описать, скажем, ряд чернильных пятен или серию образцов цветных тканей либо если мне надо было бы вспомнить размеры дверного проема, ведущего в подвал моих родителей, я бы показал средние результаты. Возможности моей рабочей памяти так же ограничены магическим числом семь, как и возможности памяти любого другого человека. Любая информация, которая не могла быть трансформирована в образы и отправлена во дворец памяти, вспоминалась мной так же тяжело, как и раньше. Я обновил программное обеспечение моей памяти, но «железо» – то осталось тем же.
И все же я очевидным образом изменился. Или по крайней мере изменилось то, что я о себе думал. Самое важное, что мне дал год подготовки к чемпионату по запоминанию, – это не ключ к запоминанию стихов, а нечто куда более масштабное и в какой-то мере более пригодное в обычной жизни. Мой опыт подтвердил мудрость древнего изречения: совершенство достигается практикой. Но практикой особенной – предполагающей сосредоточенность, целеустремленность, осмысленность. Я из первых рук узнал, что, имея цель, мотивацию и прежде всего время, мы можем сотворить чудо со своим мозгом. Это открытие окрыляло. Оно заставило меня спросить самого себя: чего еще я могу добиться, если буду действовать правильно?
Когда тестирование закончилось, я спросил у Эрикссона: мог бы, по его мнению, кто-нибудь еще улучшить свою память так же, как это сделал я, то есть за такой же срок и до такого же уровня?
«Я думаю, это трудно сказать определенно, исходя из результатов лишь одного наблюдения, – ответил он. – Но редко бывает, чтобы кто-то подходил к чему-то с такой целеустремленностью. Я думаю, что именно ваше желание справиться со сложнейшей задачей отличает вас от других. Вы, конечно, не просто случайно выбранный испытуемый, но, с другой стороны, я не уверен, что то, что вы сделали, – за пределами возможного. При должной мотивации студент колледжа может достичь того же».
Когда больше года назад я только начинал свое путешествие, стоя с блокнотом в дальней части зала в здании Con Edison, я еще не подозревал, куда оно меня заведет, как сильно повлияет на мою жизнь и как изменит меня самого. Но теперь, когда я научился запоминать стихотворения и числа, карты и биографии, я убежден, что это умение – мое самое незначительное приобретение в результате многомесячных тренировок памяти. Я научил свой мозг не только запоминать, но и быть более отзывчивым и более внимательным к миру вокруг меня. Вспомнить можно только то, что замечаешь.
Синестет Ш. и вымышленный Фунес не могли отделить то, что стоило помнить, от того, что вообще не заслуживало запечатления в памяти. Их непреодолимая склонность к запоминанию была патологической, но я не могу не предположить, что в то же время их видение мира было намного богаче нашего. Никто не захочет, чтобы его внимание отзывалось на каждую мелочь, но есть что-то ценное в том, чтобы не просто идти по миру, но и запоминать его, – если только благодаря стремлению все запоминать вырабатывается привычка все замечать и учитывать.
Каюсь, я так и не стал таким мастером по части заполнения дворцов памяти, чтобы со спокойной душой отказаться от блокнота и диктофона. А поскольку моя работа требует знать всего понемножку, мне приходится много читать и только время от времени удается заниматься интенсивным чтением и запоминанием так, как учил Эд. Да, я запомнил пару стихотворений при помощи мнемонических техник, но все еще не подступился к произведениям длиннее «Песни любви Дж. Альфреда Пруфрока». И хоть однажды я достиг той точки, когда я мог разместить во дворце памяти больше 30 чисел за минуту, я крайне редко пользуюсь этим способом, чтобы запоминать телефонные номера людей, которым я действительно хочу звонить. Мне проще записать их в память мобильного телефона. Иногда я запоминаю списки покупок, адреса или списки дел, но только в тех редких случаях, когда под рукой нет ручки, чтобы их записать. Не то чтобы техники не работали. Я – ходячее доказательство того, что они действуют. Просто трудно найти повод, чтобы воспользоваться ими в реальном мире, где бумага, компьютеры, сотовые телефоны и стикеры-«напоминалки» могут запомнить то, что мне надо, за меня.
Так зачем же развивать человеческую память в эру внешних носителей воспоминаний? Лучший ответ, который могу дать, я случайно получил от E.P., который растерял все свои воспоминания и поэтому никогда не знал, где, когда и с кем рядом он находится. Вот что я понял: то, как мы воспринимаем мир и как ведем себя в нем, зависит от того, как и что мы помним. Мы все – просто набор привычек, которым придает форму наша память. Мы контролируем свою жизнь, постепенно меняя эти привычки, то есть меняем структуру нашей памяти. Шутки, изобретения, догадки, произведения искусства рождаются отнюдь не в результате работы внешней памяти. По крайней мере так было до сих пор. Мы можем находить смешное в мире, связывать прежде не связанные понятия, генерировать новые идеи и создавать культуры – и все эти способности, человеческие по своей сути, связаны с памятью. Никогда еще роль памяти в культуре не ослабевала столь стремительно, как сегодня, и никогда прежде у нас не было такой насущной необходимости в совершенствовании своих способностей помнить. Наши воспоминания делают нас теми, кто мы есть. Они хранят наши ценности и глубинные черты нашего характера. Соревноваться, чтобы выяснить, кто лучше запоминает стихи, может показаться бессмысленным занятием, но суть этих состязаний на самом деле в том, чтобы противостоять забывчивости, раскрыть извечные способности, утраченные многими из нас. Вот чему Эд пытался научить меня с самого начала: совершенствовать память не значит тренироваться ради выполнения эффектных трюков на вечеринках; это значит взрастить в себе то, что должно быть присуще каждому человеку.
Перед тем как веселье на встрече KL7 сменилось хаотичной игрой в шахматы с завязанными глазами и неуверенным декларированием стихотворения, заученного накануне, Гюнтер затащил меня на диван и спросил, хотел ли бы я и дальше выступать на соревнованиях по запоминанию. Я ответил, что немалая часть меня хотела бы. Участие в интеллектуальных состязаниях оказалось удивительным, захватывающим сверх всяких ожиданий опытом; оно затягивало. В тот вечер я задумался о том, о чем никогда не размышлял прежде: о возможности погрузиться в это дело еще глубже. В конце концов, у меня было что защищать – титул чемпиона Америки и рекорд в скоростном запоминании карт, – и я верил, что смогу преодолеть минутный барьер в картах, если подольше потренируюсь. И это не считая исторических дат: я в состоянии гораздо лучше запоминать даты! И еще есть магистерские нормы, которые я пока не выполнил…
«Надпись "Магистр памяти" здорово смотрится на визитке», – сказал я Гюнтеру, поддразнивая его (на его визитках и правда есть такая надпись).
Того, что я вообразил, хватило бы на целый дворец памяти: я представил новую систему «миллениум», которую разработаю; шоры, которые куплю; тренировки, на которые потрачу долгие часы; впечатления, которые получу, посещая национальные чемпионаты по всему миру. Но даже тогда, в тот момент, когда мне предлагали войти в святая святых мира мнемоников, я достаточно трезво сознавал, что пришло время закругляться. Эксперимент завершился. Результаты налицо. Я сказал Гюнтеру, что буду скучать, но едва ли вернусь на следующий год.
«Жалко, – сказал он. – Но я тебя понимаю. Пришлось бы слишком много тренироваться, а это требует времени, которое пригодится тебе для других вещей». Он прав, подумал я. Интересно только, почему он не пришел к тому же выводу относительно себя самого.
Эд встал с дивана и поднял тост за меня, его звездного ученика.
– Пойдем купим пирожки! – позвал он, и мы вместе вышли за дверь.
Я не помню, что происходило потом той ночью. Я проснулся на следующий день с большим красным пятном на щеке – отпечатком моей бронзовой медали за «имена-и-лица». Я забыл ее снять.
Благодарности
На работу над этой книгой ушло много времени. Я признателен всем, кто поддерживал меня в этот период – читателям черновиков, экспертам, корректорам и друзьям. Людей, помогавших мне, больше, чем я могу назвать. Я особенно благодарен всем интеллектуальным спортсменам, которые потратили на меня так много времени, великодушно поделившись со мной своим опытом и впустив меня в свою жизнь.
Этой книге очень помогли два редактора. Ванесса Мобли направляла работу на ранних стадиях. Эймен Долан мастерски прошелся по окончательному варианту. Я признателен Энн Годофф за ее веру в меня и всем сотрудникам Penguin Press, которые работали над этой книгой. Мой литературный агент Элис Чини, – лучший партнер, о котором только можно мечтать. Линдси Круз великолепно выверяет все факты. Брендан Вон помог мне существенно улучшить стиль письма.
Чтобы избежать излишних разъяснений, я нарушил действительную хронологию событий, когда описывал некоторые разговоры, детали и сцены, но это не затронуло общей достоверности изложенного. Еще должен заметить, что не все приведенные в книге рекорды и факты соответствуют нынешним, потому что я пытался рассказать эту историю так, как прочувствовал ее именно в то время. За те три года, пока я писал эту книгу, многое изменилось. Моя девушка вышла за меня замуж. Тридцатисекундный рекорд в скоростном запоминании карт был побит, а потом побит снова. Дисциплина «стихотворение» наконец перестала входить в программу международных соревнований. И, к несчастью, E.P. и Ким Пик умерли. Я счастлив, что мне довелось с ними познакомиться.
Библиография
Бьюзен Б., Бьюзен Т. Интеллект-карты: Практическое руководство. – Мн.: Попурри, 2010.
Бьюзен Т. Научите себя думать! – Мн.: Попурри, 2008..
Гальтон. Ф. Наследственность таланта. Законы и последствия. – М.: Мысль, 1996.
Дойдж Н. Пластичность мозга: Потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга. – М.: Эксмо, 2010.
Курланд М., Пупоф Р. Как улучшить память. – М.: АСТ, Астрель, 2005.
Лурия А. Маленькая книжка о большой памяти. Ум мнемониста. – М.: Издательство МГУ, 1968.
Маркус Г. Несовершенный человек: Случайность эволюции мозга и ее последствия. – М.: Альпина нон-фикшн, 2011.
Найссер У., Хаймен А. Когнитивная психология памяти. – М.: Прайм-Еврознак, 2005.
Пинкер С. Язык как инстинкт. – М.: Либроком, 2009.
Роуз С. Устройство памяти: От молекул к сознанию. – М.: Мир, 1995.
Сакс О. Антрополог на Марсе. – М.: АСТ, Астрель, 2011..
Смолл Г. Библия памяти. – М: АСТ, Астрель, 2007.
Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. – М.: Александрия, 2009.
Baddeley, A. D. (2006). Essentials of human memory. Hove, East Sussex, UK: Psychology Press.
Barlow, F. (1952). Mental prodigies: an enquiry into the faculties of arithmetical, chess and musical prodigies, famous memorizers, precocious children and the like, with numerous examples of «lightning» calculations and mental magic. New York: Philosophical Library.
Baron-Cohen, S., Bor, D., Wheelwright, S., & Ashwin, C. (2007). Savant Memory in a Man with Colour Form-Number Synaesthesia and Asperger Syndrome. Journal of Consciousness Studies, 14 (9-10), 237–251.
Batchen, G. (2004). Forget me not: photography & remembrance. New York: Princeton Architectural Press.
Battles, M. (2003). Library: an unquiet history. New York: W. W. Norton.
Beam, C. A., Conant, E. F., & Sickles, E. A. (2003). Association of Volume and Volume-Independent Factors with Accuracy in Screening Mammogram Interpretation. Journal of the National Cancer Institute, 95, 282–290.
Bell, C. G., & Gemmell, J. (2009). Total recall: how the E-memory revolution will change everything. New York: Dutton.
Bell, G., & Gemmell, J. (2007, March). A Digital Life. Scientific American, 58–65.
Biederman, I., & Shiffrar, M. M. (1987). Sexing Day-Old Chicks: A Case Study and Expert Systems Analysis of a Difficult Perceptual-Learning Task. Journal of Experimental Psychology, 13 (4), 640–645.
Birkerts, S. (1994). The Gutenberg elegies: the fate of reading in an electronic age. Boston: Faber and Faber.
Bolzoni, L. (2001). The gallery of memory: literary and iconographic models in the age of the printing press. Toronto: University of Toronto Press.
Bolzoni, L. (2004). The web of images: vernacular preaching from its origins to Saint
Bernardino of Siena. Aldershot, Hants, England: Ashgate.
Bor, D., Billington, J., & Baron-Cohen, S. (2007). Savant memory for digits in a case of synaesthesia and Asperger syndrome is related to hyperactivity in the lateral prefrontal cortex. Neurocase, 13 (5-6), 311–319.
Bourtchouladze, R. (2002). Memories are made of this: how memory works in humans and animals. New York: Columbia University Press.
Brady, T. F., Konkle, T., Alvarez, G. A., & Oliva, A. (2008). Visual Long-Term Memory Has a Massive Storage Capacity for Oject Details. PNAS, 105 (38), 14 325–14 329.
Brown, A. S. (2004). The déjà vu experience. New York: Psychology Press. Bush, V. (1945, July). As We May Think. The Atlantic.
Buzan, T. (1991). Use your perfect memory: dramatic new techniques for improving your memory, based on the latest discoveries about the human brain. New York: Penguin.
Caplan, H. (1954). Ad C. Herennium: de ratione dicendi (Rhetorica ad Herennium). Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Carruthers, M. (1998). The craft of thought: meditation, rhetoric, and the making of images, 400–1200. New York: Cambridge University Press.
Carruthers, M. J. (1990). The book of memory: a study of memory in medieval culture. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Carruthers, M. J., & Ziolkowski, J. M. (2002). The medieval craft of memory: an anthology of texts and pictures. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Cicero, M. T., May, J. M., & Wisse, J. (2001). Cicero on the ideal orator. New York: Oxford University Press.
Clark, A. (2003). Natural-born cyborgs: minds, technologies, and the future of human intelligence. Oxford, England: Oxford University Press.
Cohen, G. (1990). Why Is It Difficult to Put Names to Faces? British Journal of Psychology, 81, 287–297.
Coleman, J. (1992). Ancient and medieval memories: studies in the reconstruction of the past. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Cooke, E. (2008). Remember, remember. London: Viking.
Corkin, S. (2002). What's New with the Amnesic Patient H. M. Nature Reviews Neuroscience, 3, 153–160.
Corsi, P. (1991). The enchanted loom: chapters in the history of neuroscience. New York: Oxford University Press.
Cott, J. (2005). On the sea of memory: a journey from forgetting to remembering. New York: Random House.
Darnton, R. (1990). First Steps Toward a History of Reading. In The kiss of Lamourette: reflections in cultural history. New York: W. W. Norton.
Doyle, B. (2000, March). The Joy of Sexing. The Atlantic Monthly, 28–31.
Draaisma, D. (2000). Metaphors of memory: a history of ideas about the mind. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Draaisma, D. (2004). Why life speeds up as you get older: how memory shapes our past. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Dudai, Y. (1997). How Big Is Human Memory, or on Being Just Useful Enough. Learning & Memory, 3, 341–365.
Dudai, Y. (2002). Memory from A to Z: keywords, concepts, and beyond. Oxford, England.: Oxford University Press.
Dudai, Y., & Carruthers, M. (2005). The Janus Face of Mnemosyne. Nature, 434, 567.
Dvorak, A. (1936). Typewriting behavior: psychology applied to teaching and learning typewriting. New York: American Book Company.
Ericsson, K. (2003). Exceptional Memorizers: Made, Not Born. Trends in Cognitive Science, 7 (6), 233–235.
Ericsson, K. (2004). Deliberate Practice and the Acquisition and Maintenance of Expert Performance in Medicine and Related Domains. Academic Medicine, 79 (10), 870–881.
Ericsson, K., & Chase, W. G. (1982). Exceptional Memory. American Scientist, 70 (Nov-Dec), 607–615.
Ericsson, K., & Kintsch, W. (1995). Long-Term Working Memory. Psychological Review, 102 (2), 211–245.
Ericsson, K. A. (1996). The road to excellence: the acquisition of expert performance in the arts and sciences, sports, and games. Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates.
Ericsson, K. A. (2006). The Cambridge handbook of expertise and expert performance. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Ericsson, K., Delaney, P. F., Weaver, G., & Mahadevan, R. (2004). Uncovering the Structure of a Memorist's Superior "Basic" Memory Capacity. Cognitive Psychology, 49, 191–237.
Ericsson, K., Krampe, R. T., & Tesch-Romer, C. (1993). The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. Psychological Review, 100 (3), 363–406.
Farrand, P., Hussein, F., & Hennessy, E. (2002). The Efficacy of the 'Mind Map' Study Technique. Medical Education, 36 (5), 426–431.
Fellows, G. S., & Larrowe, M. D. (1888). «Loisette» exposed (Marcus Dwight Larrowe, alias Silas Holmes, alias Alphonse Loisette). New York: G. S. Fellows.
Fischer, S. R. (2001). A history of writing. London: Reaktion.
Gandz, S. (1935). The Robeh or the official memorizer of the Palestinian schools.
Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 7, 5–12.
Havelock, E. A. (1963). Preface to Plato. Cambridge, Mass.: Belknap Press, Harvard University Press.
Havelock, E. A. (1986). The muse learns to write: reflections on orality and literacy from antiquity to the present. New Haven: Yale University Press.
Hermelin, B. (2001). Bright splinters of the mind: a personal story of research with autistic savants. London: J. Kingsley.
Herrmann, D. J. (1992). Memory improvement: implications for memory theory. New York: Springer-Verlag.
Hess, F. M. (2008). Still at risk: what students don't know, even now. Common Core. Hilts, P. J. (1996). Memory's ghost: the nature of memory and the strange tale of Mr. M. New York: Simon & Schuster.
Horsey, R. (2002). The art of chicken sexing. Cogprints.
Howe, M. J., & Smith, J. (1988). Calendar Calculating in 'Idiot Savants': How Do They Do It? British Journal of Psychology, 79, 371–386.
Illich, I. (1993). In the vineyard of the text: a commentary to Hugh's Didascalicon. Chicago: University of Chicago Press.
Jaeggi, S. M., Buschkuehl, M., Jonides, J., & Perrig, W. J. (2008). Improving Fluid Intelligence with Training on Working Memory. PNAS, 105 (19), 6829–6833.
Johnson, G. (1992). In the palaces of memory: how we build the worlds inside our heads. New York: Vintage Books.
Kandel, E. R. (2006). In search of memory: the emergence of a new science of mind. New York: W. W. Norton.
Khalfa, J. (1994). What is intelligence? Cambridge, England: Cambridge University Press.
Kliebard, H. M. (2002). Changing course: American curriculum reform in the 20th century. New York: Teachers College Press.
Kondo, Y., Suzuki, M., Mugikura, S., Abe, N., Takahashi, S., Iijima, T., & Fujii, T. (2005). Changes in Brain Activation Associated with Use of a Memory Strategy: A Functional MRI Study. NeuroImage, 24, 1154–1163.
LeDoux, J. E. (2002). Synaptic self: how our brains become who we are. New York: Viking.
Loftus, E. F., & Loftus, G. R. (1980). On the Permanence of Stored Information in the Human Brain. American Psychologist, 35 (5), 409–420.
Loisette, A., & North, M. J. (1899). Assimilative memory or how to attend and never forget. New York: Funk & Wagnalls.
Lorayne, H., & Lucas, J. (1974). The memory book. New York: Stein and Day.
Lord, A. B. (1960). The singer of tales. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Lyndon, D., & Moore, C. W. (1994). Chambers for a memory palace. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Maguire, E. A., Gadian, D. G., Johnsrude, I. S., Good, C. D., Ashburner, J., Frackowiak, R. S., & Frith, C. D. (2000). Navigation-Related Structural Change in the Hippocampi of Taxi Drivers. PNAS, 97, 84 398–84 403.
Maguire, E. A., Valentine, E. R., Wilding, J. M., & Kapur, N. (2003). Routes to Remembering: The Brains Behind Superior Memory. Nature Neuroscience, 6 (1), 90–95.
Man, J. (2002). Gutenberg: how one man remade the world with words. New York: John Wiley & Sons.
Manguel, A. (1996). A history of reading. New York: Viking.
Martin, R. D. (1994). The specialist chick sexer. Melbourne, Australia.: Bernal Publishing.
Masters of a dying art get together to sex. (2001, February 12). Wall Street Journal.
Matussek, P. (2001). The Renaissance of the Theater of Memory. Janus Paragrana 8, 66–70.
McGaugh, J. L. (2003). Memory and emotion: the making of lasting memories. New York: Columbia University Press.
Merritt, J. O. (1979). None in a Million: Results of Mass Screening for Eidetic Ability. Behavioral and Brain Sciences, 2, 612.
Miller, G. A. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information. Psychological Review, 63, 81–97.
Mithen, S. J. (1996). The prehistory of the mind: a search for the origins of art, religion, and science. London: Thames and Hudson.
Noice, H. (1992). Elaborative Memory Strategies of Professional Actors. Applied Cognitive Psychology, 6, 417–427.
Nyberg, L., Sandblom, J., Jones, S., Neely, A. S., Petersson, K. M., Ingvar, M., & Backman, L. (2003). Neural Correlates of Training-Related Memory Improve– ment in Adulthood and Aging. PNAS, 100 (23), 13728–13733.
Obler, L. K., & Fein, D. (1988). The exceptional brain: neuropsychology of talent and special abilities. New York: Guilford Press.
O'Brien, D. (2000). Learn to remember: practical techniques and exercises to improve your memory. San Francisco: Chronicle Books.
Ong, W. J. (1982). Orality and literacy: the technologizing of the world. London: Methuen.
Osborne, L. (2003, June 22). Savant for a Day. New York Times.
Peek, F., & Anderson, S. W. (1996). The real rain man, Kim Peek. Salt Lake City, Utah: Harkness Publishing Consultants.
Petroski, H. (1999). The book on the bookshelf. New York: Alfred A. Knopf.
Phelps, P. (n.d.). Gender Identification of Chicks Prior to Hatch. Poultryscience.org e-Digest, 2 (1).
Radcliff-Ulmstead, D. (1972). Giulio Camillo's Emblems of Memory. Yale French Studies, 47, 47–56.
Ramachandran, V. S., & Hubbard, E. M. (2001). Psychophsyical Investigations into the Neural Basis of Synaesthesia. Proc. R. Soc. London, 268, 979–983.
Ramachandran, V. S., & Hubbard, E. M. (2003, May). Hearing Colors, Tasting Shapes. Scientific American, 53–59.
Ravennas, P. (1545). The art of memory, that otherwyse is called the Phenix A boke very behouefull and profytable to all professours of scyences. Grammaryens, rethoryciens dialectyke, legystes, phylosophres [and] theologiens.
Ravitch, D. (2001). Left back: a century of battles over school reform. New York: Simon & Schuster.
Rose, S. P. (2005). The future of the brain: the promise and perils of tomorrow's neuroscience. Oxford, England: Oxford University Press.
Ross, P. E. (2006, August). The Expert Mind. Scientific American, 65–71.
Rossi, P. (2000). Logic and the art of memory: the quest for a universal language. Chicago: University of Chicago Press.
Rowland, I. D. (2008). Giordano Bruno: philosopher / heretic. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Rubin, D. C. (1995). Memory in oral traditions: the cognitive psychology of epic, ballads, and counting-out rhymes. New York: Oxford University Press.
Schacter, D. L. (1996). Searching for memory: the brain, the mind, and the past. New York: Basic Books.
Schacter, D. L. (2001). The seven sins of memory: how the mind forgets and remembers. Boston: Houghton Mifflin.
Schacter, D. L., & Scarry, E. (2000). Memory, brain, and belief. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press.
Shakuntala, D. (1977). Figuring: the joy of numbers. New York: Harper & Row.
Shenk, D. (2001). The forgetting: Alzheimer's, portrait of an epidemic. New York: Doubleday.
Small, G. W., & Vorgan, G. (2006). The longevity bible: 8 essential strategies for keeping your mind sharp and your body young. New York: Hyperion.
Small, J. P. (2005). Wax tablets of the mind: cognitive studies of memory and literacy in classical antiquity. London: Routledge.
Smith, S. B. (1983). The great mental calculators: the psychology, methods, and lives of calculating prodigies, past and present. New York: Columbia University Press.
Snowdon, D. (2001). Aging with grace: what the nun study teaches us about leading longer, healthier, and more meaningful lives. New York: Bantam.
Spence, J. D. (1984). The memory palace of Matteo Ricci. New York: Viking Penguin.
Spillich, G. J. (1979). Text Processing of Domain-Related Information for Individuals with High and Low Domain Knowledge. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 14, 506–522.
Squire, L. R. (1987). Memory and brain. New York: Oxford University Press.
Squire, L. R. (1992). Encyclopedia of learning and memory. New York: Macmillan.
Squire, L. R., & Kandel, E. R. (1999). Memory: from mind to molecules. New York: Scientific American Library.
Standing, L. (1973). Learning 10,000 Pictures. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 25, 207–222.
Starkes, J. L., & Ericsson, K. A. (2003). Expert performance in sports: advances in research on sport expertise. Champaign, IL: Human Kinetics.
Stefanacci, L., Buffalo, E. A., Schmolck, H., & Squire, L. (2000). Profound Amnesia After Damage to the Medial Temporal Lobe: A Neuroanatomical and Neuropsychological Profile of Patient E. P. Journal of Neuroscience, 20 (18), 7024–7036.
Stratton, G. M. (1917). The Mnemonic Feat of the "Shass Pollak" Psychological Review, 24, 244–247.
Stromeyer, C. F., & Psotka, J. (1970). The Detailed Texture of Eidetic Images. Nature, 225, 346–349.
Tammet, D. (2007). Born on a blue day: inside the extraordinary mind of an autistic savant: a memoir. New York: Free Press.
Tammet, D. (2009). Embracing the wide sky: a tour across the horizons of the mind. New York: Free Press.
Tanaka, S., Michimata, C., Kaminaga, T., Honda, M., & Sadato, N. (2002). Superior Digit Memory of Abacus Experts. NeuroReport, 13 (17), 2187–2191.
Thompson, C. (2006, November). A Head for Detail. Fast Company, 73–112.
Thompson, C. P., Cowan, T. M., & Frieman, J. (1993). Memory search by a memorist. Hillsdale, N. J.: L. Erlbaum Associates.
Treffert, D. A. (1990). Extraordinary people: understanding savant syndrome. New York: Ballantine.
Wagenaar, W. A. (1986). My Memory: A Study of Autobiographical Memory Over Six Years. Cognitive Psychology, 18, 225–252.
Walker, J. B. R. (1894) The comprehensive concordance to the holy scriptures. Boston: Congregational Sunday-School and Publishing Society.
Walsh, T. A., & Zlatic, T. D. (1981). Mark Twain and the Art of Memory. American Literature, 53 (2), 214–231.
Wearing, D. (2005). Forever today: a memoir of love and amnesia. London: Doubleday.
Wenger, M. J., & Payne, D. G. (1995). On the Acquistion of a Mnemonic Skill: Application of Skilled Memory Theory. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 1 (3), 194–215.
Wilding, J. M., & Valentine, E. R. (1997). Superior memory. Hove, East Sussex, UK: Psychology Press.
Wood, H. H. (2007). Memory: an anthology. London: Chatto & Windus.
Yates, F. A. (1966). The art of memory. Chicago: University of Chicago Press.
Сноски
1
Доминик Делуиз (1933–2009) – комический актер, режиссер, ведущий кулинарного телешоу и автор книг по кулинарии. (Здесь и далее – прим. ред.)
(обратно)2
Риа Перлман – американская комедийная актриса, сыгравшая в популярном ситкоме «Будем здоровы» (Cheers).
(обратно)3
162 см.
(обратно)4
419,119 кг.
(обратно)5
Consolidated Edison Inc. – компания коммунального энергоснабжения, монопольно обслуживающая северо-восток США. – Прим. пер.
(обратно)6
Комплекс упражнений, помогающих людям правильно использовать свое тело и избавиться от мышечной напряженности. Автор этой методики – австралийский актер Фредерик Маттиас Александер (1869–1955).
(обратно)7
Андре Гигант (1946–1993) – французский рестлер и актер. Настоящее имя – Андре Рене Русимофф.
(обратно)8
Имеется в виду Соломон Вениаминович Шерешевский (1886–1958).
(обратно)9
Александр Романович Лурия (1902–1977) – выдающийся советский психолог, один из основателей нейропсихологии.
(обратно)10
Здесь и далее высказывания доктора Лурии и его пациента Ш. цит. по: .
(обратно)11
Уникальный, единственный в своем роде (лат.).
(обратно)12
Чарльз «Сонни» Листон – американский боксер-профессионал, который так и не смог одержать победу ни в одном матче с Мухаммедом Али.
(обратно)13
Синапс – зона контакта между двумя нейронами или между нейроном и другими возбудимыми и невозбудимыми клетками, обеспечивающая передачу информационного сигнала от одной нервной клетки другой.
(обратно)14
Knights of Learning (англ.).
(обратно)15
В переводе на английский язык слова «подшучивать», «шутка» звучат как josh, что созвучно имени автора.
(обратно)16
Четыре – four (англ.); сходно по звучанию с фамилией Foer.
(обратно)17
Пекарь – baker (англ.).
(обратно)18
Лучевой пистолет – ray gun (англ.).
(обратно)19
От слова pound (англ.) – фунт, мера веса.
(обратно)20
Для приготовления фунтовых кексов традиционно требовалось по одному фунту (примерно 450 г) основных ингредиентов – муки, масла, яиц и сахара, и поэтому кексы обычно выходили очень большими.
(обратно)21
Курортный район неподалеку от Нью-Йорка, популярный среди состоятельных американцев и знаменитостей.
(обратно)22
От англ. сhunking (сhunk – ломоть, большой кусок; порция данных).
(обратно)23
Строчка из детской песенки (Head, shoulders, knees and toes…).
(обратно)24
Примерно 1 м 80 см.
(обратно)25
Имеется в виду философская загадка: есть ли шум от падения дерева в лесу, когда рядом нет никого, кто мог бы этот шум услышать? Впервые этот вопрос был поставлен философом Дж. Беркли.
(обратно)26
Процесс, при котором недавно полученный опыт включает нашу память и активизирует те или иные воспоминания (от англ. to prime – инструктировать заранее, давать установку).
(обратно)27
Полное название книги – «О красноречии к Гаю Гереннию в четырех книгах».
(обратно)28
Гуго Сен-Викторский (ок. 1096–1141) – французский богослов и философ.
(обратно)29
Петр Равенский (ок. 1448–1508) – итальянский правовед, проживавший в Равенне. В 1491 г. написал книгу «Феникс» о методах улучшения памяти.
(обратно)30
Локи (от лат. locus – место).
(обратно)31
Технический сорт винограда. Используется для производства белых вин (нем. Gewürztraminer).
(обратно)32
She-male (англ.) – транссексуал.
(обратно)33
Шелдон Элан «Шел» Силверстейн (1930–1999) – известный детский писатель, художник, поэт, музыкант, сценарист.
(обратно)34
Название тренажера – беговой дорожки.
(обратно)35
Герой одноименного комедийно-детективного мультсериала (США).
(обратно)36
Чака (ок. 1787–1828) – выдающийся зулусский правитель, заложил основы государственности у зулусов.
(обратно)37
Название книги американского детского писателя Теодора Сьюза Гейзеля (1904–1991), творившего под псевдонимом Доктор Сьюз (Англ.: One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish).
(обратно)38
Имеется в виду американский профессиональный рестлер Марк Уильям Кэлауэй, известный под именем Гробовщик.
(обратно)39
Pump It Up – название музыкальных игровых автоматов.
(обратно)40
Роберт Деннис Крамб (род. 1943) – американский художник-иллюстратор, карикатурист.
(обратно)41
Bête noir (фр.) – жупел, пугало.
(обратно)42
Поэт-лауреат – придворное звание, которое присваивается британским монархом.
(обратно)43
Тема, предмет обсуждения (англ.).
(обратно)44
Из ничего (лат.).
(обратно)45
Уолтер Онг (1912–2003) – американский историк и филолог.
(обратно)46
Обязательная музыкальная часть телевизионных роликов, рекламирующих продукцию компании Mennen.
(обратно)47
Имеются в виду так называемые знаки кантилляции, которые были призваны, помимо прочего, передавать мелодию при распевном чтении Торы.
(обратно)48
Точнее, в Боснию, где ученые изучали сербскохорватские народные героические песни.
(обратно)49
Перевод А. Н. Егунова. Цит. по: /
(обратно)50
Непрерывное письмо (лат.).
(обратно)51
«Бога нет нигде» в противоположность предыдущему утверждению «Бог сейчас с нами».
(обратно)52
Расположенный в алфавитном порядке перечень встречающихся в книге слов с указанием контекста их употребления.
(обратно)53
«Лайфлогинг» – постоянное документирование жизни, обычно с помощью видеокамер, видеорегистраторов и т. п. (от англ. lifelogging: life – жизнь, log – бортовой журнал).
(обратно)54
Фрэнк Ллойд Райт (1867–1959) – выдающийся американский архитектор-новатор.
(обратно)55
Доведение до абсурда (лат.).
(обратно)56
Триангуляция – определение взаимного расположения точек на поверхности посредством построения сети треугольников.
(обратно)57
Англ.: Worldwide Brain Club.
(обратно)58
Большой военный корабль, состоявший на вооружении британского флота в XVI–XIX вв.
(обратно)59
Джон Стивен Гудмен – американский актер и продюсер.
(обратно)60
Альфред Мэтью «Странный Эл» Янкович – популярный американский музыкант, выступает с пародиями на современные музыкальные хиты.
(обратно)61
Уильям Эдуард Беркхардт Дюбуа (1868–1963) – американский общественный деятель, социолог, историк и писатель. (В русскоязычной литературе употребляется также иная транскрипция его фамилии – Дюбойс). Афроамериканец по отцу, он считал, что обучать и направлять его собратьев должна более образованная черная элита, которую Дюбуа называл «талантливыми единицами».
(обратно)62
От англ. Regents examinations. Группа тестов, составленных отделом образования штата Нью-Йорк для проверки знаний старшеклассников.
(обратно)63
Вероятно, имеется в виду приключенческая повесть английского писателя Дж. Конрада (Heart of Darkness).
(обратно)64
Маркус Мозес Гарви (1887–1940) – национальный герой Ямайки, идеолог националистического движения «Назад в Африку». Основал Всемирную ассоциацию по улучшению положения негров.
(обратно)65
Малкольм Икс (англ. Malcolm X, настоящая фамилия – Литтл (1925–1965)) – американский борец за права темнокожих, идеолог движения «Нация ислама».
(обратно)66
Почетный студент – звание, которым выделяют учащихся, добившихся высоких результатов в учебе.
(обратно)67
Геттисбергское послание Авраама Линкольна – речь президента Линкольна при открытии Национального солдатского кладбища в Геттисберге, Пенсильвания (1863).
(обратно)68
Джозеф Мейер Райс (1857–1934) – педиатр, журналист, активный участник движения за прогрессивные реформы в американском образовании в 1890-х гг.
(обратно)69
Гуго Сен-Викторский (ок. 1096–1141) – христианский богослов и философ, мистик, глава философской сен-викторской школы.
(обратно)70
Менса (Mensa, от лат. слова, означающего «стол») – общественный клуб, членом которого может стать человек с коэффициентом интеллекта (IQ), равным 148 и выше.
(обратно)71
Имеется в виду Advanced Placement (AP) examination – экзамен для старшеклассников, желающих досрочно приступить к учебе по программам высших учебных заведений. Школьник, обучающийся по программе AP, имеет возможность освоить программу двух первых семестров и сдать экзамены, при этом полученные им оценки будут учтены при зачислении в вуз.
(обратно)72
Период игры в бейсболе, в течение которого команды поочередно играют в защите и нападении.
(обратно)73
Джордж Плимптон (1927–2003) – американский журналист, прославившийся как автор статей, посвященных спорту. Арчи Мур (1916–1998) – американский боксер, чемпион мира в полутяжелой весовой категории в 1952–1960 гг.
(обратно)74
Строка из трагедии У. Шекспира «Кориолан» приводится в переводе А. В. Дружинина.
(обратно)75
Английское слово address означает как «послание», так и «адрес».
(обратно)76
Имеются в виду экзамены, которые британские школьники сдают, чтобы получить свидетельство о продвинутом образовании (General Certificate of Education Advanced Level, или A-Level), необходимое для поступление в британское высшее учебное заведение.
(обратно)77
Британский врач Джон Лэнгдон Даун (1828–1896) был первым, кто описал синдром Дауна. Однако объяснить этот синдром хромосомной аномалией удалось только в 1959 г. французскому ученому Жерому Лежену.
(обратно)78
Оливер Сакс (род. 1933) – известный британский невролог и нейропсихолог, автор популярных книг по психологии. Страдает прозопагнозией – утратой способности распознавать человеческие лица.
(обратно)79
Немецкий врач, нацистский преступник, проводил опыты на узниках Освенцима.
(обратно)80
Мокьюментари (англ. mockumentary – от to mock – осмеивать, подделывать и documentary – документальный) – жанр телевидения и кино. Фильмы этого жанра стилизованы под документальные, но описывают вымышленные события.
(обратно)81
В оригинале эта дисциплина называется Double Deck'r Bust – словосочетание, которое трудно адекватно перевести на русский язык, поскольку она построена на игре слов: double decker – двухэтажный автобус и double deck – двойная колода карт.
(обратно)82
Bedford (англ. bed – кузов, кровать, и ford – переправляться через реку).
(обратно)83
Кабельная телесеть спортивно-развлекательных программ.
(обратно)84
Национальная ассоциация студенческого спорта.
(обратно)85
Перевод С. А. Ошерова. Цит. по: .
(обратно)86
Хадисы – повествования о различных эпизодах жизни пророка Мухаммада, его изречения.
(обратно)(обратно)Комментарии
1
составили в 2008 г. $265 млн: Sharp Brains Report (2009).
(обратно)2
способны запомнить более 80 % увиденного, Lionel Standing (1973), «Learning 10,000 Pictures,» Quarterly Journal of Experimental Psychology 25, 207–222.
(обратно)3
тот же тест был проведен с 2500 изображений. Timothy F. Brady, Talia Konkle, et al. (2008), «Visual Long-Term Memory Has a Massive Storage Capacity for Object Details,» Proceedings of the National Academy of Sciences 105, no. 38, 14325–14329.
(обратно)4
«эти недоступные детали могут в конце концов опять поступить в наше распоряжение». Elizabeth Loftus and Geoffrey Loftus (1980), «On the Permanence of Stored Information in the Human Brain,» American Psychologist 35, no. 5, 409–420.
(обратно)5
Виллем Вагенар пришел к такому же выводу: Willem A. Wagenaar (1986), «My Memory: A Study of Autobiographical Memory over Six Years,» Cognitive Psychology 18, 225–252.
(обратно)6
В научной литературе был описан всего один случай фотографической памяти: Фотографическую память обычно путают с другим причудливым (но реалистичным) феноменом восприятия, называемым эйдетической памятью и встречающимся у 2–15 % детей и крайне редко у взрослых. Эйдетический образ – чрезвычайно яркий образ, который сохраняется перед мысленным взором в течение периода до нескольких минут перед тем, как померкнуть. Дети с эйдетической памятью никогда даже не приближались к уровню идеального запоминания и обычно не в состоянии визуализировать столь детальные объекты, как текст. У таких людей визуальные образы просто блекнут медленнее.
(обратно)7
опубликовал в самом авторитетном научном журнале мира Nature статью. C. F. Stromeyer and J. Psotka (1970), «The Detailed Texture of Eidetic Images,» Nature 225, 346–349.
(обратно)8
они не сумели повторить ловкий трюк Элизабет: J. O. Merritt (1979), «None in a Million: Results of Mass Screening for Eidetic Ability,» Behavioral and Brain Sciences 2, 612.
(обратно)9
«доказательством того, что другие люди могут обладать фотографической памятью». Если кто из ныне живущих и может похвастаться фотографической памятью, то это британский савант по имени Стивен Уилтшир. Его называют «живой камерой» за способность нарисовать любой пейзаж, который он видел в течение всего пары секунд. Но даже его память нельзя считать совершенно фотографической, как я узнал. Она не работает наподобие ксерокса. Стивен позволяет себе вольности. И, что любопытно, его фотографические способности ограничиваются изображением лишь некоторых предметов и некоторых видов пейзажей, в основном городских с архитектурой и машинами. Он не может, скажем, посмотреть на страницу словаря и тут же вспомнить, что там написано. В каждом случае (кроме случая с Элизабет), когда человек заявляет о наличии у него фотографической памяти, этой способности, скорее всего, находится иное объяснение.
(обратно)10
«ни один из них не добился заметных результатов как ученый-теолог». George M. Stratton (1917), "The Mnemonic Feat of the 'Shass Pollak,' " Psychological Review 24, 244–247.
(обратно)11
сеть связанных между собой нейронов. В статье, опубликованной в журнале Brain and Mind, была сделана попытка оценить вместительность человеческого мозга, используя модель, рассматривающую воспоминание как нечто хранящееся не столько в отдельных нейронах, сколько в соединениях между ними. Авторы оценили, что человеческий мозг способен вместить 108432 битов информации. Для сравнения: считается, что в видимой вселенной порядка 1078 атомов.
(обратно)12
физически изменил структуру их мозга. E. A. Maguire et al. (2000), «Navigation-Related Structural Change in the Hippocampi of Taxi Drivers,» PNAS 97, 84398–84403.
(обратно)13
исследователи не обнаружили ни одного значительного структурного отличия. E. A. Maguire, et al (2003), «Routes to Remembering: The Brains Behind Superior Memory,» Nature Neuroscience 6 no. 1, 90–95.
(обратно)14
это кажется бессмыслицей. Если интеллектуальные спортсмены также использовали навыки ориентирования в пространстве, почему тогда их гиппокамп не был увеличен, как у водителей такси? Скорее всего, дело в том, что интеллектуальные спортсмены попросту не используют свои навигационные способности так же часто, как водители такси.
(обратно)15
«парадоксом Бейкера/пекаря». G. Cohen (1990), «Why Is It Difficult to Put Names to Faces?» British Journal of Psychology 81, 287–297.
(обратно)16
на которых ложится весь тяжкий труд по обеспечению нас пищей. Я говорю о тех курицах, что несут яйца, а не о бройлерах, выращиваемых ради мяса.
(обратно)17
«Люди с выдающейся памятью – приобретенной, а не врожденной». K. Anders Ericsson (2003), «Exceptional Memorizers: Made, Not Born,» Trends in Cognitive Sciences 7, no.6, 233–235.
(обратно)18
Исследователи изучили выдающуюся память докторов, бейсбольных фанатов, виолончелистов, футболистов, игроков в крикет, танцоров балета, математиков, любителей кроссвордов, поклонников волейбола. Большая часть этих исследований собрана в The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance, edited by K. Anders Ericsson, Neil Charness, Paul J. Feltovich, and Robert R. Hoffman.
(обратно)19
они могли держать в голове игры с несколькими соперниками разом. В первой половине XX в. умение проводить сеансы одновременной игры вслепую против множества соперников стало своеобразным фетишем среди шахматистов. В 1947 г. аргентинский гроссмейстер Мигель Найдорф установил рекорд, сыграв 45 одновременных игр по памяти. Это заняло у него 23,5 часа, и в итоге у него было 39 побед, четыре поражения и две ничьи, и потом он не спал трое суток подряд. (По некоторым данным, сеансы одновременной игры в шахматы вслепую одно время были запрещены в России по причине их огромного риска для психического здоровья.)
(обратно)20
О лаборанте по имени E.P. L. Steffanaci et al. (2000), «Profound Amnesia After Damage to the Medial Temporal Lobe: A Neuroanatomical and Neuropsychological Profile of Patient E. P.,» Journal of Neuroscience 20, no. 18, 7024–7036.
(обратно)21
учебнике по риторике под названием «Риторика для Геренния». Названа в честь Гая Геренния, которому книги посвящены.
(обратно)22
«Эта книга – наша библия». Это маленькая красная книга издательства Loeb Classical Library, представляет собой английское издание латинской версии и имеет в названии на корешке имя римского политического деятеля и философа Цицерона, хотя оно стоит в скобках. Как минимум до XV в. люди верили, что этот трактат принадлежал самому великому римскому оратору, но современные ученые сомневаются в этом.
Однако предположение о том, что Цицерон мог быть автором этой книги, небессмысленно, поскольку он был знаменит не только отличным владением техниками запоминания – он произносил свои знаменитые речи перед римским сенатом по памяти, – но также (безусловно) являлся автором работы «Об ораторе», где впервые появилось упоминание о Симониде и разрушенном зале для пиршеств. То, что первое письменное упоминание об истории Симонида, древнего грека, жившего в V в. до н. э., появилось четыре века спустя в труде, созданном римлянином, связано с тем фактом, что в античной Греции не сохранилось трудов по памяти, хотя некоторое их количество наверняка существовало. Поскольку рассказ Цицерона появился намного позднее, чем Симонид якобы запомнил места, на которых сидели погибшие люди, никто не может сказать, что в этой истории вымысел, а что правда. Лично я многое готов поставить на то, что это просто миф, но мраморная плита, датированная 264 г. до н. э. – временем за два века до Цицерона, но через два века после обрушения дворца – и раскопанная в XVII в. описывает Симонида как «изобретателя системы помощи памяти». И тем не менее сложно поверить, что техника запоминания была изобретена одномоментно и одним человеком, да еще и в такой поэтической манере. Ученым Симонид известен как человек, который систематизировал или же, возможно, практиковал искусство запоминания и считается его изобретателем. В любом случае Симонид был реальной исторической личностью и настоящим поэтом – судя по всему первым, кто получал деньги за свои стихотворения, и также первым, назвавшим поэзию «звучащим рисованием», а рисование – «молчаливой поэзией». Это довольно примечательное соединение понятий для Симонида, поскольку искусство запоминания, с которым связывают его имя, как раз основано на мысленном превращении слов в визуальные образы.
(обратно)23
это не столько тестирование памяти, сколько проверка воображения. Главный принцип здесь – сконцентрировать как можно больше информации в одном хорошо оформленном образе. В «Риторике для Геренния» рассказывается об адвокате, которому требовалось запомнить главные факты дела: «Прокурор сказал, что обвиняемый отравил жертву и что мотивы преступления связаны в наследованием; он заявлял, что есть множество свидетелей и улик, подтверждающих это». Чтобы запомнить данную информацию, «нам надо представить рассматриваемого человека, больного и прикованного к постели, если человек нам известен. Если он неизвестен, можно вообразить кого-то другого в качестве нашего больного, но это не должен быть человек низшего класса, каковой сразу приходит на ум. И пусть наш подозреваемый держит в правой руке чашу, в левой – таблички для письма, а на безымянном пальце – бараньи яички».
Такой яркий образ точно будет сложно забыть, но требуется некоторое время, чтобы расшифровать заложенную в нем информацию. Чаша – это мнемонический образ яда, таблички для письма напоминают нам о завещании, а бараньи яички – двойной знак, указывающий на свидетелей (благодаря созвучию слова testis, «яички», с testes, «свидетельства») и – поскольку римские кошельки делались из мошонок баранов – на возможность их подкупа. Честно.
(обратно)24
«память необычно возбуждается образами женщин». Rossi, Logic and the Art of Memory, p. 22.
(обратно)25
«суждений, гражданственности и благочестия». Carruthers, The Book of Memory, p. 11.
(обратно)26
«И кипа в сотню книг не будет столь ценна». Draaisma, Metaphors of Memory, p. 38.
(обратно)27
оказали решающее влияние на его авторский стиль. Carruthers, The Book of Memory, p. 88.
(обратно)28
«как основу своего образования». Havelock, Preface to Plato, p. 27.
(обратно)29
профессиональные мнемоники. Моя любимая история о профессионалах по запоминанию – это рассказанная Сенекой младшим история об одном богатом римском аристократе Кальвизии Сабине, который отчаялся запомнить великие труды и купил группу рабов, чтобы те сделали это за него.
«Никогда не видел я человека столь непристойного в своем блаженстве. Память у него была такая плохая, что он то и дело забывал имена Улисса, либо Ахилла, либо Приама… А хотелось ему слыть знатоком. И вот какое средство он придумал: купив за большие деньги рабов, одного он заставил заучить Гомера, второго Гесиода, еще девятерых распределил он по одному на каждого лирика. Чему удивляться, если они дорого обошлись ему?… Собрав у себя эту челядь, стал он донимать гостей за столом. В изножье у него стояли слуги, у которых он спрашивал те стихи, что хотел прочесть, – и все-таки запинался на полуслове… Сабин упорно считал, что знания каждого из его домочадцев – это его знания»[85].
(обратно)30
дословное запоминание Вед было возложено на целую касту жрецов. В Ригведе, старейшей из ведических текстов, более 10 000 стихов.
(обратно)31
должны были сопровождать поэтов, чтобы запоминать их произведения. После принятия ислама арабские мнемоники стали называться хуффазами, или «держателями» Корана и хадисов[86].
(обратно)32
заучивала устные законы для всего еврейского сообщества. Более полную информацию о еврейских мнемониках смотрите в: Gandz, «The Robeh, or the Official Memorizer of the Palestinian Schools.»
(обратно)33
собирание армий, героические спасения, поединки между врагами. Ong, Orality and Literacy, p. 23, и Lord, The Singer of Tales, pp. 68–98.
(обратно)34
но это так и осталось гипотезой. Как оказывается, столь радикальные аргументы вовсе не новы. Похоже, еще в древние времена это было широко распространенным мнением, которое каким-то образом было впоследствии забыто. В I в. н. э. еврейский историк Иосиф написал: «Говорят, что даже Гомер не оставил своих поэм в письменном виде, а существующая версия передавалась по памяти». Традиционно считалось – и эту точку зрения разделял Цицерон, что первая официальная редакция Гомера была заказана афинским диктатором Писистратом в VI в. до н. э. Поскольку связь людей с устной культурой становилась все менее прочной с течением веков, идея литературы без письменности становилась все менее распространенной и под конец превратилась в совершенно неприемлемую.
(обратно)35
«Сочиняли, не прибегая к письму». Дополнительные сведения ищите в Ong, Orality and Literacy – основной источник информации для этой главы.
(обратно)36
«Слово в слово, строчка в строчку». Об этом один из студентов Милмена Пэрри Альбертт Лорд сообщает в The Singer of Tales, p. 27.
(обратно)37
прежде чем попытаться разбить ее на серию образов. Каррузерс в доработанном втором издании «Книги памяти» говорит, что memoria verborum, словесная память, долгое время неверно трактовалась современными учеными и психологами. Это, по сути, не альтернатива заучиванию наизусть, дословному запоминанию, спорит она, и ее никогда и не следовало использовать для запоминания длинных текстов. Скорее, предполагает Мери, она была необходима для восстановления в голове отдельных слов и фраз – возможно, не длиннее стихотворной строки, – которые трудно было запомнить в точности.
(обратно)38
предложил решение, как увидеть невидимое. Согласно Плинию, технику запоминания изобрел Симонид, а Метродор усовершенствовал ее. Цицерон называл его «необыкновенным человеком».
(обратно)39
balistarius. Система Брадвардина позволяла представлять слоги с измененным порядком букв как перевернутый образ изначального слога. То есть «ба» можно было представить в виде аббата, свисающего с потолка.
(обратно)40
аббата, расстреливаемого из баллисты. Или просто аббата, который разговаривает с другим аббатом, свисающим с потолка.
(обратно)41
«то бьет, то ласкает Святого Доминика». Carruthers, The Book of Memory, pp. 136–137.
(обратно)42
«усилить похотливые стремления»: Yates, The Art of Memory, p. 277.
(обратно)43
мы узнали о его отношении к письму. Manguel, A History of Reading, p. 60.
(обратно)44
во времена расцвета письменности в Греции. В эпоху Сократа грамотой владело не более 10 % населения Древнего мира.
(обратно)45
«предназначено в помощь памяти». Carruthers, The Book of Memory, p. 8.
(обратно)46
растягивались до шестидесяти футов. Fischer, A History of Writing, p. 128.
(обратно)47
спрессованного папируса, ввозимого с дельты Нила. Папирус, производившийся из такого же тростника, из которого был сделан и библейский «ковчег из тростника», спасший жизнь младенцу Моисею, назывался также byblos, по греческому названию финикийского порта, куда он экспортировался. Отсюда происходит и слово «библия». Во II в. до н. э. эллинистический правитель Египта Птолемей V Эпифан прекратил вывоз папируса, чтобы тем самым замедлить расширение конкурирующей библиотеки в малоазийском городе Пергаме (кстати, слово «пергамент» происходит от сочетания charta pergamena, пергамские листы – своего рода дань памяти Пергаму, где этот материал применялся весьма активно). С тех пор стали писать на тонком пергаменте, vellum (он часто выделывался из телячьей кожи и поэтому имеет тот же корень, что и в слове veal, телятина). Такой материал было удобнее перевозить, и он более долговечен, чем папирус.
(обратно)48
сообщала читателю длину паузы между предложениями. Была создана «верхняя точка», соответствовавшая современной точке в конце предложения, «нижняя точка», соответствовавшая современной запятой, и «средняя точка», – т. е. пауза промежуточной длины, которая, вероятно, наиболее соответствует современной «точке с запятой». Эта «средняя точка» исчезла в эпоху средневековья. Вопросительный знак появился только после публикации в 1587 г. романа «Аркадия» Филипа Сиднея, а восклицательный знак был впервые применен в Катехизисе Эдуарда VI, вышедшем в Лондоне в 1553 г.
(обратно)49
ГРЕЦИИ. Small, Wax Tablets of the Mind, p. 53. Я позаимствовал у нее идею: здесь напечатано в такой манере, чтобы показать, насколько это трудно прочитать.
(обратно)50
слово, часто повторяющееся в средневековых текстах. Более подробно о чтении scriptio continua см. Manguel, A History of Reading, p. 47
(обратно)51
делает ее чрезвычайно сложной для чтения про себя. И действительно, большая часть из того, что публикуется на современном иврите, – например, материалы в тель-авивских газетах, печатаются без указаний на главные звуки. Слова обычно распознаются как отдельные единицы, а не по их соответствующему звучанию, как, например, в английском языке. Это значительно замедляет чтение на иврите. Тот, кто владеет ивритом и знает английский, обычно читает английские переводы намного быстрее, чем на родном языке, хотя на английском иногда нужно использовать на 40 % больше слов, нежели на иврите.
(обратно)52
разницу между «Несу разные вещи» и «Несуразные вещи». Здесь мы сталкиваемся с омонимами, т. е. со словами или фразами, которые звучат точно так же, как совершенно другие слова или фразы.
(обратно)53
огромный и очень любопытный шаг назад. Small, Wax Tablets of the Mind, p. 114.
(обратно)54
ánagignósko. Carruthers, The Book of Memory, p 30.
(обратно)55
напечатано 10 млрд томов. Мэн Дж. Иоганн Гутенберг: Человек, изменивший ход истории. – М.: Эксмо, 2012.
(обратно)56
считались особенно хорошо укомплектованными. В 1290 г. в библиотеке Сорбонны, считавшейся тогда одной из крупнейших в мире, хранилось 1017 книг – т. е. меньше, чем прочтут за свою жизнь многие из тех, кто держит в руках эту книгу.
(обратно)57
еще не были изобретены. Более подробно об истории оформления и хранения книг см.: Henry Petroski, The Book on the Bookshelf, pp. 40–42.
(обратно)58
весил более десяти фунтов. Illich, In the Vineyard of the Text, p. 112.
(обратно)59
примерно в то же время, когда было введено деление на главы. The Comprehensive Concordance to the Holy Scriptures (1894), pp. 8–9.
(обратно)60
не читая весь предшествующий текст. Draaisma, Metaphors of Memory, p. 34.
(обратно)61
говорить о пре– и постиндексном средневековье. Illich, In the Vineyard of the Text, p. 103.
(обратно)62
в лабиринте внешней памяти. Соображение, высказанное в книге Metaphors of Memory.
(обратно)63
«живым конкордансом». По словам Мэри Каррутерс, см. Mary Carruthers, The Craft of Thought, p. 31.
(обратно)64
последовательность игральных карт. Corsi, The Enchanted Loom, p. 21.
(обратно)65
«начинающихся на букву "А"». Цитируется по: Mary Carruthers, The Book of Memory, p. 114.
(обратно)66
из «интенсивного» превратившись в «экстенсивное». Дарнтон приписывает данную мысль Рольфу Энгельсингу, который ссылается на то, что эта трансформация произошла еще в XVIII в. The Kiss of Lamourette, p. 165.
(обратно)67
одним из известнейших людей в Европе. Оценка Фрэнсис Йейтс в книге The Art of Memory, p. 129.
(обратно)68
круглое семиярусное сооружение. Фрэнсис Йейтс пытался реконструировать модель этого театра в The Art Of Memory.
(обратно)69
«усваивать все человеческие идеи и любые вещи в целом мире». Rossi, Logic and the Art of Memory, p. 74.
(обратно)70
сотни – может быть, тысячи – карточек было сделано. Corsi, The Enchanted Loom, p. 23.
(обратно)71
продиктованный на смертном одре за неделю. Значительная часть информации взята из Douglas Radcliff-Ulmstead (1972), «Giulio Camillo's Emblems of Memory», Yale French Studies 47, 47–56.
(обратно)72
апофеозом представлений о памяти целой эпохи. Современные специалисты по виртуальной реальности рассматривают театр памяти Камилло как предшественника предмета их изучения и считают, что он оказал влияние и на Интернет (совершенный дворец универсальной памяти), и на операционные системы Apple и Windows, в которых пространственно расположенные папки и иконки – просто современная переработка мнемонических принципов Камилло. См.: Peter Matussek (2001), «The Renaissance of the Theater of Memory», Janus 8 Paragrana 10, pp. 66–70.
(обратно)73
«верхом на морском монстре». Эти переводы заимствованы из Rowland, Giordano Bruno, pp. 123–124.
(обратно)74
«попугаем на голове». Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. – М.: Александрия, 2007.
(обратно)75
девяти пар черепных нервов. В настоящее время известно 12 пар черепно-мозговых нервов.
(обратно)76
нынешним $500 000. Fellows and Larrowe, Loisette Exposed, p. 217.
(обратно)77
курс продолжительностью несколько недель. Walsh and Zlatic (1981), "Mark Twain and the Art of Memory", American Literature 53, no. 2, pp. 214–231.
(обратно)78
Иоганном Винкельманом. Немецкий философ Готфрид Лейбниц также писал о подобной системе в XVII в., но существует большая вероятность, что идея делать числа более удобными для запоминания, превращая их в слова, появилась гораздо раньше. Греки имели акрофоническую систему, где первая буква слова, обозначавшего числительное, могла использоваться для обозначения этого числа, как, например, буква «П» означала пять, от «пента». В иврите каждая буква алфавита соотносится с числом – особенность, которую каббалисты использовали для поиска скрытых числовых значений в Торе. Никто не знает, использовались ли когда-нибудь эти системы для запоминания чисел, но сложно представить себе, что какой-нибудь средиземноморский бизнесмен, ведущий в уме бухгалтерию, не додумался до такой простейшей идеи.
(обратно)79
продвинет интеллектуальный спорт на качественно новый уровень. Эд привел мне следующий пример, иллюстрирующий работу своей системы «Миллениум-ЧДП»: «Число 115 – это Псмит, стильный герой П. Г. Вудхауза (к слову, „П“ – глухой звук, как в слове „псих“ или „птерозавр“). Его действие выражается в том, что он отдает зонт, не принадлежащий ему, незнакомой леди под дождем. Число 614 – Билл Клинтон, курящий, но не затягиваясь, марихуану, а число 227 – Курт Гёдель, одержимый логик, который уморил себя голодом, потому что был слишком занят формальными логическими построениями. Теперь я могу соединить три этих числа и сформировать девятизначное число, имеющее почти анекдотичную связь с образом. Так, 115 614 227 – Псмит, курящий не затягиваясь и снизошедший до пускания колечек дыма на формальную логику. Это выглядит довольно понятным, поскольку логика, строго говоря, неподходящее занятие для английского дворянина. Если поменять числа местами, получаем уже другую картинку. Число 614 227 115 становится Биллом Клинтоном, который совершенно забывает поесть, будучи занят спасением хорошеньких девушек от дождя. Этот образ хорошо связывается у меня в голове с уже имеющимися знаниями о жизни Клинтона, поскольку тот уже попадал в неприятности из-за передачи молодым леди цилиндрических предметов, так что большая вероятность активации этой ассоциации и легкий юмор помогают образу лучше закрепиться в памяти. Видишь, любая возможная комбинация обладает своими динамичными эмоциями, и чаще всего – что самое интересное – именно такая комбинация бывает первым, что приходит человеку в голову в процессе вспоминания, еще до того, как другие детали медленно начнут возникать перед его мысленным взором. Я также могу отметить, что это служит хорошим генератором идей и отличным вечерним развлечением».
(обратно)80
начинающие налегают на прыжки, которые они выполняют как нельзя лучше. J. M. Deakin and S. Cobley (2003), «A Search for Deliberate Practice: An Examination of the Practice Environments in Figureskating and Volleyball,» в Expert Performance in Sports: Advances in Research on Sport Expertise (edited by J. L. Starkes and K. A. Ericsson).
(обратно)81
постичь экспертное мышление на каждом шаге. K. A. Ericsson, et al. (1993), «The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance,» Psychological Review 100 no. 3, 363–406.
(обратно)82
анализируя чужие старые игры. N. Charness, R. Krampe, and U. Mayer (1996), «The Role of Practice and Coaching in Entrepreneurial Skill Domains: An International Comparison of Life-Span Chess Skill Acquisition,» в Ericsson, The Road to Excellence, pp. 51–80.
(обратно)83
на 10–15 % превышающую скорость, с которой они могли напечатать это слово. Dvorak, Typewriting Behavior.
(обратно)84
маммологи со временем ставят все менее точные диагнозы. C. A. Beam, E. F. Conant, and E. A. Sickles (2003), «Association of Volume and Volume-Independent Factors with Accuracy in Screening Mammogram Interpretation,» Journal of the National Cancer Institute 95, 282–290.
(обратно)85
школьники усваивают в младших классах старшей школы. Ericsson, The Road to Excellence, p. 31.
(обратно)86
«нет чувств, нет души». Ravitch, Left Back, p. 21.
(обратно)87
способствует «дисциплине ума». Ravitch, Left Back, p. 61.
(обратно)88
инвентарь (inventory) и изобретение (invention). Carruthers, The Craft of Thought, p. 11.
(обратно)89
ученые попросили группу бейсбольных фанатов: G. J. Spillich (1979), «Text Processing of Domain-Related Information for Individuals with High and Low Domain Knowledge,» Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 14, 506–522.
(обратно)90
либо процесс над ведьмами, либо чья-то переписка. Frederick M. Hess, Still at Risk, pp. 1–2.
(обратно)91
Встретиться с Тамметом. Я отправил Дэниелу электронное письмо с просьбой встретиться. Он ответил: «Обычно я прошу денег за интервью с журналистами». После того как я объяснил ему причину, по которой это невозможно, он согласился на встречу со мной при условии, что я упомяну веб-сайт его компании по онлайн-обучению, optimnem.co.uk.
(обратно)92
синдром Аспергера не считался отдельным заболеванием. Синдром Аспергера проявляется примерно у одного из 200 людей, а синестезия примерно у одного из 2000, но частота распространения этих заболеваний может быть недооценена. Никто не знает, бывало ли ранее такое, чтобы оба заболевания встречались у одного и того же человека. Но если предположить, что они проявляются независимо друг от друга, возможно заключить, что по теории вероятности один из 400 000 людей может иметь и синестезию, и синдром Аспергера. Только в Соединенных Штатах таких может быть 750 человек.
(обратно)93
Он официально сменил ее в 2001 г.. Дэниел открыто говорит о смене фамилии. Он сказал, что ему не нравилось звучание старой фамилии, Корни.
(обратно)94
из более чем 9000 книг, прочитанных со скоростью одна страница за десять секунд. Надо отметить, что ни одно специальное издание не попыталось выяснить, что стоит за этим утверждением. Подозреваю, что внимательное рассмотрение выявило бы, что это преувеличение.
(обратно)95
это навык, который вполне можно освоить. В конце концов мои исследования вывели меня на отличную книгу под названием «Великие калькуляторы: Психология, методы и биографии гениев счета прошлого и современности» за авторством Стивена Смита. Смит отрицает распространенное представление о том, что есть нечто особенное в мозгах гениев счета, и объясняет их мастерство скорее всепоглощающим интересом к устному счету. Он сравнивает вычисление с жонглированием: «Любой достаточно старательный человек, не являющийся физически неполноценным, способен научиться жонглировать, но занимается этим обычно горстка увлеченных людей». Джорж Пэккер Биддер, один из самых известных людей-калькуляторов всех времен, был «решительно убежден, что научиться устной арифметике не сложнее, а может, даже и легче, чем освоить обычную».
(обратно)96
не мог бы любой натренированный мнемоник сделать то же самое. В Университете Калифорнии в Сан-Диего Рамачандран и его аспиранты провели еще три исследования синестезии Таммета. Они предложили ему создать, используя пластилин Play-Doh, модели 20 из его образов чисел. Когда они устроили ему неожиданное повторное тестирование, все результаты совпали. После этого они подключили к его пальцам электроды и показали ему знаки числа π после запятой – но с некоторыми неточностями. Они измерили его кожно-гальваническую реакцию и обнаружили, что он сильно реагирует на неверные цифры.
Психологи Университета Калифорнии также провели классический тест Струпа – еще одно исследование с целью подтверждения наличия синестезии. Сначала ученые дали Дэниелу три минуты на запоминание последовательности 100 чисел. Через пять минут он был способен повторить 68 из них, и через три дня он все еще отчетливо их помнил. Затем они дали ему запомнить 100 чисел, при этом размеры цифр на странице соответствовали размерам образов, которые Дэниел, согласно его утверждениям, видел в уме. Девятки были напечатаны крупным шрифтом, а шестерки – мелким. В этом случае Дэниелу удалось запомнить 50 цифр, и он легко повторил их все через три дня.
В заключение они дали ему тест, в котором размеры цифр совершенно не соответствовали размерам образов. Девятки были маленькими, шестерки, наоборот, большими. Они хотели увидеть, выбьет ли это Дэниела из колеи. Им удалось в этом убедиться. Дэниел сумел запомнить только 16 цифр, а через три дня не восстановил в памяти ни одну. Рамачандран и его студенты собрали воедино полученные результаты и подготовили плакат для будущей конференции: «Связана ли синестезия с математическими способностями савантов?», в котором они описали его под псевдонимом Арифмос, «число». Там же содержалось предостережение: «Как и во всех подобных случаях, надо принимать во внимание факт, что Арифмос может выполнять все свои "умственные трюки" исключительно с помощью простого запоминания».
(обратно)97
они не выявили у него ничего подобного. D. Bor, J. Bilington, and S. Baron-Cohen (2007), «Savant memory for digits in a case of synaesthesia and Asperger syndrome is related to hyperactivity in the lateral prefrontal cortex.» Neurocase 13, 311–319.
(обратно)(обратно)

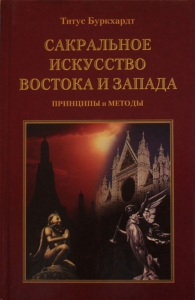



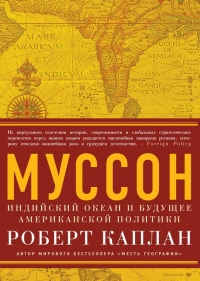




Комментарии к книге «Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания», Джошуа Фоер
Всего 0 комментариев