Стирнс Дэвис Уильям История Франции. С древнейших времен до Версальского договора
© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2016
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2016
* * *
Глава 1. Земля галлов и французов
Выходы к морю. Система Луары. Плодородие страны
В 1869 г. выдающийся француз, бывший премьер-министр, начал длинное повествование об истории своего народа такими словами: «Франция расположена на земле давно цивилизованной и христианизированной, на которой, несмотря на многие несовершенства и нищету для многих, 38 миллионов людей живут в мире и безопасности по законам, которые одинаковы для всех и эффективно охраняются»[1]. Это утверждение было еще более верным в 1914 г., накануне Великой войны. Но для того чтобы понять историю любой страны, совершенно необходимо узнать о ее географии. Географические факторы, несомненно, повлияли на историю Франции так же сильно, как на историю любой другой крупной страны Старого Света, за исключением, возможно, Англии.
Среди самых крупных или самых известных стран Европы Россия, Скандинавские страны, Германия, Голландия и Бельгия, естественно, северные: зимы там суровые, и цивилизация претерпела изменения, неизбежные в суровом климате. Великобритания и Ирландия тоже северные страны, но их жизнь сильно изменило то, что они окружены морем. Греция, Италия и Испания обращены к синему Средиземному морю. Это южные страны, страны олив, винограда и пышных лесов. До них долетают горячие ветры из Африки, и местное население имело прямые контакты с более древними цивилизациями Востока. Но одна страна – южная и северная одновременно. В ней растут и южный виноград, и северные зерновые культуры. На ее южные берега ступала нога древних греков и финикийцев, а с ее северных гор можно увидеть утесы Южной Англии.
Эта страна – Франция, которая была удачно названа «страной-посредницей» между античной и современной цивилизациями и между Южной и Северной Европой.
Таким образом, совершенно ясно, что Франция находится в центре мировых событий. Читателю, который хочет получить общее представление о всемирной истории, французские хроники подойдут для изучения больше, чем хроники любой другой европейской страны. Франция была участницей или заинтересованной наблюдательницей почти всех больших войн и крупных дипломатических споров в течение тысячи лет. Среди религиозных, интеллектуальных, общественных и экономических движений, повлиявших на судьбу мира, очень велика доля тех, которые начались во Франции или были быстро подхвачены французами и распространились среди них вскоре после того, как зародились где-либо еще.
Но Франция географически отделена от соседей и экономически независима. В 1914 г. ее процветание, вероятно, меньше зависело от импортных товаров и внешней торговли, чем любой другой западноевропейской страны. Она была гораздо ближе к тому, чтобы самостоятельно обеспечивать себя продовольствием, чем Англия или Германия. Она могла выдержать полную изоляцию или блокаду легче, чем любое другое великое государство, кроме Соединенных Штатов, – при условии, что ее границы не были бы нарушены[2]. Франция надежно отделена от соседей крупными естественными преградами. Ее побережье протяженнее, чем суммарная длина сухопутных границ: 395 миль береговой линии вдоль Средиземного моря, 572 – вдоль Северного моря и Ла-Манша и 584 мили берегов Атлантики и бурного Бискайского залива. На юге высокие Пиренеи отделяют ее от Испании, и это позволяло Франции чувствовать себя в безопасности даже в те дни, когда Испания была могучей и грозной. От Италии и Швейцарии Францию отделяет еще более надежное естественное укрепление – Альпы и их родичи – горы Юра. До 1870 г. Рейн защищал ее от Германии, но и после потери Эльзаса и Лотарингии на пути армий стояли Вогезские горы, которые было трудно перейти.
Только на северо-западе граница с Бельгией идет по полям и проведена произвольно, а не по какому-либо естественному препятствию. Только здесь ни горы, ни реки не могут прийти на помощь французским генералам, защищающим свою родину. Поэтому неудивительно, что именно через Бельгию в 1914 г. прусский милитаризм попытался проложить себе путь к Парижу, презрев права нейтрального государства и данное обещание.
Для страны Старого Света у Франции довольно большая территория. Значительно превосходит ее только Россия. Если считать по прямой, ее протяженность 606 миль с севера на юг, 675 миль с северо-запада на юго-запад (по диагонали) и 536 миль с запада на восток. Площадь Франции в 1914 г. (до возвращения Эльзаса и Лотарингии) была примерно 200 700 квадратных миль, позже, после победы над Германией, она снова стала равна примерно 206 300 квадратным милям. Корсика, итальянская по своему географическому положению, но полностью верная Франции, добавила к этой цифре еще примерно 3375. Получается, что внутри границ Франции достаточно места для больших различий в обычаях, продукции и пейзажах.
Хотя береговая линия Франции не изрезана глубокими заливами, как берега Британии, Греции или Норвегии, у Франции имеется достаточное количество морских ворот для широкомасштабной торговли и удобного общения с другими странами. На Средиземном море у нее есть Марсель, самый активный порт на этом великом море, и Тулон, ее главный военный порт. На Бискайском заливе она имеет Бордо, Ла-Рошель и Сен-Назер, аванпорт Нанта. На берегах Бретани и на Ла-Манше стоят Брест, Шербур и, главное, Гавр (основной порт Парижа), а также Булонь, Кале и Дюнкерк, которые важны в первую очередь для связи с Англией.
Теперь отвернемся от морского побережья. Территорию Франции можно приблизительно разделить на три большие части – горы, Большое плато и речные системы.
Горы, разумеется, есть только на юге и юго-востоке, где границы Франции приближаются к вершинам Пиренеев и Альп. Эти местности живописны и интересны, но не настолько велики по размеру, чтобы внести значительный вклад в общую жизнь страны.
Большое Центральное плато занимает примерно половину южной части Франции, но отрезано от Альп широкой и глубокой долиной Роны. Многие части этого плато практически ровные и лишены красивых пейзажей, но примерно одна седьмая территории Франции занята большим Центральным горным массивом, который расходится лучами во все стороны от Оверни. В некоторых местах он имеет высоту от 3300 до 4 тысяч футов, а его остроконечные вершины поднимаются выше 6 тысяч футов. Верхние участки этого плато практически лишены растительности; их земля дает сравнительно малочисленному населению лишь скудные урожаи. На южной стороне плато находятся Севенны, горы внушительного размера, высота которых может превышать 5 тысяч футов. Они отрезают теплый Лангедок и равнины нижнего течения Роны от менее плодородных равнин области Руэрг. Другие части Большого плато – Лимузен и Марш, где оно местами достигает высоты 3300 футов. На северо-востоке, ближе к Германии (между Мёзом-Маасом и Мозелем), находится еще одно плато – Арденны, где есть участки высотой от 1000 до 2400 футов. Оно покрыто лесами и разделено на части множеством заболоченных впадин, оврагов и плодородных долин. Поскольку Арденны лежат точно на пути армий, проходящих между Францией и Германией, их положение на местности определило маршруты и расстановку войск во многих знаменитых кампаниях и сражениях.
Но французов, живущих в длинных речных долинах, гораздо больше, чем тех, которые живут на Большом Центральном плато. Общая длина судоходных рек Франции превышает 4300 миль, и еще 200 миль речных русел были превращены в каналы. Кроме того, Франция легко научилась строить обычные каналы, и теперь их в ней больше 2 тысяч миль. Благодаря этому сочетанию рек и каналов значение речного судоходства во Франции гораздо больше, чем почти в любой другой европейской стране. Задолго до появления железных дорог системы каналов и рек делали сравнительно легкой задачей перевозку тяжелых грузов из одного конца этой страны в другой, и это служило мощным стимулом к объединению страны. Такого преимущества не было у стран, которые в транспортном отношении сильнее зависели от телег и вьючных лошадей. Даже сейчас, в эпоху железных дорог, речные баржи составляли значительную конкуренцию товарным поездам.
Тот, кто проехал бы вдоль всех морских побережий Франции, увидел бы, одну за другой, целый ряд крупных рек. На берегах каждой из них стоит множество знаменитых городов и живут миллионы преуспевающих людей. Без жителей речных долин Франции бы не было.
Если начинать с юго-запада, то первая в этом ряду рек – Гаронна. Она начинается в Испанских Пиренеях, но принимает в себя много притоков с Центрального массива. Этот поток длиной 346 миль собирает воду с территории площадью 22 080 квадратных миль, перед тем как к нему присоединяется немного менее полноводная Дордонь, которая берет начало на высотах Оверни. Дордонь пробивает себе путь через плато, а потом блуждает по живописной местности, засаженной виноградниками. Этот прекрасный край продолжается там, где эта река сливается с Гаронной, и они продолжают свой путь, став более известной Жирондой. Фактически Жиронда – это дельта впадающей в море реки. На расстоянии 15 миль от ее устья стоит Бордо, один из крупнейших портов Франции, и вдоль ее берегов расположены некоторые из самых прославленных виноградников в мире, из урожая которых изготавливают знаменитое марочное вино медок.
Двигаясь от устья Жиронды на север, путешественник долго не встретит ни одной крупной реки, впадающей в Бискайский залив. Затем он увидит главную реку страны – Луару. Луара, несомненно, основная водная артерия Франции. Ее протяженность 670 миль. Извиваясь, она спускается с гор и потом проделывает долгий путь до восточной части страны. Она собирает воду с обширной территории площадью 46 750 квадратных миль, на которой живут 7 миллионов французов. Луара рождается в гористой местности немного западнее нижнего течения своей главной соперницы, Роны, поворачивает на север и подходит к Парижу на расстояние меньше 70 миль, потом разворачивается на запад возле Орлеана, после чего, быстрая и сильная, питаясь десятками полноводных притоков, неутомимо движется к Атлантике. Области, расположенные вдоль ее берегов, – настоящее сердце Франции. Это области Орлеан, Турень, Анжу и – вдоль более широких границ ее долины – Берри, Мэн и Пуату. Их имена прочно вписаны во французские исторические хроники. В широкой долине Луары находится прекрасный цветущий край зерна и винограда, по которому расставлены знаменитые замки. Вот названия лишь немногих из них: Блуа, Амбуаз, Шинон, Лош. А из числа столь же знаменитых городов, которых касаются быстрые воды Луары, достаточно назвать Орлеан, Тур, Сомюр, Анжер и Нант.
К северу от Луары протекает вторая особенно дорогая французам река – Сена. Она, несомненно, гораздо меньше Луары: ее длина только 485 миль, и она собирает воду с 30 030 квадратных миль. Но она, как Тибр, Темза и Гудзон, стала известна благодаря славе стоящих на ее берегах городов и их великому прошлому. На притоке Сены Марне (название которой тоже отмечено в истории) стоит Шалон, от окрестностей которого пришлось повернуть назад ордам Аттилы. А на реке Вель стоит Реймс – город, оставивший в истории вечную и печальную память. Сена течет по прямой через Нормандию, и там на ее берегах стоит величавая столица Нормандии – Руан. В устье Сены расположен Гавр, процветающий морской порт. Но конечно, главная отличительная черта Сены то, что она – река Парижа, города, который так часто казался местом, где бьется пульс Франции.
На крайнем севере страны равнина постепенно сужается в сторону Фландрии, словно заостряясь на конце. Здесь она очень низко поднимается над уровнем моря. Реки в этой местности малы, текут медленно и во многих случаях превращены в каналы. Земля в этих краях – Пикардии, Артуа и Французской Фландрии – плодородна, правда, пейзажи немного однообразны. Здесь расположены крупнейшие угольные шахты страны, а также крупные города с активной деловой жизнью – Лилль и Амьен. Но у этой местности, которая не относится ни к Большому плато, ни к Большим долинам, мало отличительных черт.
Во Франции есть еще одна могучая река, хотя и сыгравшая в истории страны менее важную роль, чем Сена, Луара и даже чем Гаронна-Жиронда, – это Рона. Ее длина 507 миль, и она собирает воду с площади 38 180 квадратных миль, но одна десятая этой территории находится в Швейцарии. Рона зарождается в Сен-Готардских Альпах и вытекает из Женевского озера. Возле Лиона (второго по величине города Франции) с этой рекой сливается длинная и мощная Сона, спустившаяся с севера. Затем этот объединенный поток катится на юг по еще одной богатой долине с рядами виноградников вдоль границ, пока, после долгого пути, возле Авиньона земля не становится вдруг гораздо менее плодородной и менее привлекательной. Поток, который стремительно мчался вниз с чистых альпийских ледников, заканчивается возле Средиземного моря грязной дельтой, полной ила и песка.
Климат большой страны, которую обслуживают эти реки, разумеется, весьма разнообразен. В целом это один из лучших климатов в мире, «менее континентальный, чем в Центральной Европе, и менее морской, чем в Англии». Самая холодная часть страны, разумеется, Большое Центральное плато, где зимы часто бывают суровыми, хотя за ними следует чересчур жаркое (с точки зрения американца) лето. Северо-восточные части плато, Шампань, Лотарингия и область Вогезов, имеют континентальный климат, очень похожий на климат Германии и Австрии. В течение зимы там бывает в среднем 85 морозных дней, хотя на равнинах редко выпадает много снега. В речных долинах климат мягче. В Париже среднее количество морозных дней в году лишь 56. Правда, дождливых дней бывает в среднем не меньше 154 в год, но дожди редко идут подолгу, и общая средняя сумма выпадающих осадков за год – всего 20 дюймов. Для Бретани – мощной опоры, которую Франция выставила вперед, чтобы не перевернуться под напором Атлантики, – характерен влажный морской климат, очень похожий на климат юго-запада Англии. Область Бискайского залива и Гаронны, несомненно, теплая и сухая. Что касается юго-восточных областей к югу от гор, то есть Лангедока и Прованса, там климат просто знойный, если не считать то время, когда дуют частые и ужасные мистрали. Эти мощные ветры обрушиваются вниз с Севеннских гор, очищают воздух и оттесняют влагу в море, оставляя юго-восток таким сухим, что в Марселе бывает всего 55 дождливых дней за год.
Такая страна не может не иметь богатую и разнообразную природную флору и фауну и столь же разнообразную и обильную продукцию сельского хозяйства. Южная Франция – страна оливковых деревьев, винограда и шелковицы. В Северной Франции выращивают зерно и разводят сады, как в Англии и Германии. В стране удивительно много (учитывая, как долго в этой местности живут люди) лесов. За ними заботливо ухаживают, ничем не нарушая при этом их природную красоту. Накануне Великой войны государство, состоящее из местных коммун, имело в своей собственности больше 10 тысяч квадратных миль покрытой лесами земли и, кроме того, большие участки лесов принадлежали частным лицам. Эти леса не просто улучшали здоровье населения, но и помогали Франции не превратиться в искусственную страну. Ее природа не была слишком грубо оттеснена «цивилизацией».
Этот беглый обзор природного дома древних галлов и современных французов можно закончить так: Франция – местность, которая по своему географическому положению и размеру, по величию своих рек и по разнообразию рельефа, в том числе гор, прекрасно приспособлена к тому, чтобы быть домом могущественной нации.
Глава 2. Римская провинция и Франкское королевство
Завоевание Галлии Цезарем. Романизация Галлии. В Галлию проникает христианство. Крушение Западной Римской империи. Хлодвиг и христианство. На какие части делилась страна франков. Вторжение мусульман. Пипин Короткий. Рост значения усадеб
Около 600 г. до Рождества Христова маленький флот галер из города Фокеи в Азиатской Греции отважно проложил себе путь в западную часть Средиземного моря и пристал к берегу в бухте там, где теперь стоит город Марсель. Моряки принуждением или уговорами убедили местных вождей разрешить им создать на этом месте поселение – «основать колонию», как говорили греки. Вскоре пришельцы основали там город с храмами, рыночной площадью, крепостными стенами, должностными лицами и основными обычаями коренных эллинских городов. Правда, эти отважные поселенцы оказались далеко от своих родных домов, стоявших на берегу Эгейского моря «под синим ионийским небом». Но это было время, когда греки были предприимчивыми мореплавателями и их моряки исследовали все уголки Средиземного моря так же, как позже испанцы искали «золотые Индии». Финикийцы, уже имевшие монополию на торговлю в этих морях, нахмурились при виде незваных гостей и сделали все возможное, чтобы прогнать их прочь, но их старания были напрасными. Поселение укоренилось на своем месте, процветало и побеждало своих врагов, хотя было самой дальней из всех греческих колоний. С основания этой колонии, которая получила название Массалия, начинается история страны, которая в более поздние эпохи стала называться Франция. До возникновения Массалии эти земли были всего лишь домом диких племен. Теперь у них появилась связь с цивилизацией.
Людей тех племен, с которыми греки из Массалии торговались и обменивали товар на товар, обычно называют именем галлы. Вероятно, они к тому времени уже долго жили в этой местности, вытеснив оттуда какой-то более древний и еще более примитивный народ. Эти галлы были в основном кельтами – представителями большой расы, которая расселялась тогда по большей части Западной Европы, за исключением только Южной и Центральной Италии. Их родичи в то время проникали в Испанию и на Британские острова, а в Шотландии, Уэльсе и Ирландии[3] и сейчас есть много чистокровных кельтов.
Когда греки впервые встретились с галлами, те были совершенно неприрученными дикарями, рыжеволосыми, с тяжелыми кулаками. В своих основных обычаях, добродетелях и пороках они имели много общего с индейцами-ирокезами. Однако, общаясь с греками, галлы многому научились – усовершенствовали свое оружие, более или менее приспособились к жизни в городах и объединили свои крошечные кланы в более крупные племена под властью королей или вождей-олигархов. Они также создали особую разновидность религии. Мы мало знаем о религиозных верованиях, которые преподавали своим ученикам знаменитые галльские жрецы-друиды, потому что эти жрецы исполняли обряды в честь своих грубых божеств в глубокой тайне, они встречались для этого под «священными дубами» и, возможно, приносили в жертву людей. Но мы точно знаем, что они были кастой высокомерных священнослужителей, кем-то вроде индусских браминов или египетских жрецов, и что они имели огромную политическую власть над своей трепещущей в священном ужасе паствой. Остальные галлы постепенно поднимались от дикости к варварству. Обычно они жили племенами, каждый под властью своего избранного или наследственного вождя, который имел своих советчиков или духовных руководителей из числа друидов и свое войско, которое выбирало его или подтверждало его полномочия, а потом сражалось в его битвах. Ниже воинов был менее почтенный слой населения – те из мужчин, кто не был свободным, и женщины. Они занимались бесславным мирным трудом – возделывали поля, обмолачивали зерно и растили детей, пока их господа валялись на медвежьих шкурах, пили много спиртного – напитков домашнего приготовления или более тонких вин, купленных у греческих торговцев, играли в азартные игры, ссорились, охотились и ждали, пока их позовут в бой. У каждого клана, как правило, был свой центральный «город» из круглых хижин с плетеными стенами. Если клан был сильным, этот город, вероятно, стоял на вершине холма и был окружен грубыми, но грозными деревянными и земляными укреплениями. Или же город мог быть защищен рвами и укрыт в глухом темном углу, среди лесов и болот.
До того как римляне вступили на эту землю, на ней уже появились признаки более высокоразвитого общества. Кланы объединялись в союзы, которые занимали большие территории. Некоторые вожди и племена чеканили деньги, и на монеты были нанесены греческими буквами грубые надписи. Торговцы из Массалии или Италии привозили галлам с юга ткани, различные изделия из металла и вина и обменивали все это на меха, шкуры и другое необработанное природное сырье. Иначе говоря, эти «галльские» племена кельтов, будь они предоставлены самим себе, через несколько столетий могли бы развить у себя настоящую цивилизацию – если бы их оставили в покое.
Но их не оставили в покое. Римляне расширяли свои владения, и невозможно было сопротивляться их экспансии. Уже около 122 г. до н. э. они захватили крайний юго-восток галльской территории – тот край вдоль берегов Средиземного моря, который позже стал называться Прованс. (Это название происходит от слова «Провинция»: он был назван так потому, что был римской провинцией, в отличие от остальной Галлии.) Но это был не очень большой по площади округ, и при жизни двух поколений великие италийские завоеватели довольствовались малым – имели лишь немного больше, чем цепь крепостей, которые господствовали над большой стратегически важной дорогой из Италии в Испанию. Тем не менее римское влияние постепенно проникало дальше на север. Почти в каждом клане и племенном союзе среди вождей была партия сторонников Рима, которые считали, что движение римлян невозможно остановить, а потому лучше его приветствовать, чем сопротивляться, но была и партия противников Рима – «патриотов», которые громко возмущались этим постепенным вторжением южных соседей на галльские земли и всегда имели мощную поддержку у друидов. А потом, в 58 г. до н. э., в Галлию вошел величайший за много столетий человек в античной истории, а возможно, самый великий из людей во всей истории человечества – сам Гай Юлий Цезарь.
Цезарь желал покорить Галлию отчасти потому, что такая победа принесла бы ему славу и богатство, в которых он нуждался, чтобы увеличить свои шансы стать монархом Рима на развалинах разрушавшейся Римской республики, а отчасти потому, что ради безопасности античного мира действительно было необходимо силой вытащить Галлию из ее тогдашнего состояния – прекратить буйство варваров и установить цивилизацию и порядок. А предлогов для вторжения у него было много. Грозные германские племена (более варварские и воинственные, чем сами галлы) были готовы переправиться через Рейн и завоевать всю Галлию. Многие галльские вожди и партии, встревоженные этой угрозой, были готовы позвать на помощь и впустить на свои земли римлян. Других вождей умелый политик Цезарь быстро привлек на свою сторону благодаря своей тактичности и умению убеждать. За девять лет этой войны Цезарь редко использовал в ней больше 50 тысяч италийских солдат, но это были самые дисциплинированные легионеры Рима, и возглавлял их военачальник, который не имел себе равных. Поэтому завоеватели смогли захватить и подчинить себе почти всю Галлию, прежде чем медленно думавшие галлы поняли, что римляне собираются остаться в их стране. Тогда галлы не успели прекратить вражду между собой и организовать сопротивление. А потом было уже поздно: Цезарь захватил выгодные позиции и проник глубоко внутрь страны. Галлы нашли себе действительно талантливого и вдохновляющего предводителя – вождя по имени Верцингеторигс, который стал настоящим национальным героем. Он воодушевил галлов, и почти во всей стране вспыхнуло безнадежное восстание против Цезаря. Но его сотни тысяч недисциплинированных новобранцев были легкой целью для дротиков и коротких мечей легионеров. Цезарь быстро загнал его в крепость Алезию (недалеко от Дижона), отразил все попытки галлов привести подкрепление и с помощью голода заставил вождя восставших сдаться. На этом, в сущности, закончилась история доримской Галлии. К 50 г. до н. э. эта страна была полностью покорена и стала такой покорной, что немного позже Цезарь смог увести из нее почти все свои войска за Рубикон, когда отправился в Италию, чтобы основать Римскую империю.
Как завоеватель, он беспощадно убивал врагов и конфисковал их имущество. Но после того как эта грубая работа была закончена, наступило время доброжелательности и примирения. Сначала галлам показали, что сопротивляться Риму бесполезно, потом – что быть подданными Рима совсем не плохо. Налоги были разумными. Вместо произвола угнетавших друг друга племен были установлены закон и порядок. Знатным галлам польстили, дав им римское гражданство. А те из них, кто принадлежал к высшей знати, вскоре смогли надеяться, что станут римскими сенаторами. Вербовщики нанимали в легионы тысячи галльских юношей, обещая им те же плату, долю в добыче и привилегии, которые обычно предлагались солдатам имперской армии.
Поскольку у самих галлов не было высокоразвитой цивилизации, они, как большинство варваров, оказавшихся под таким же давлением, усвоили более совершенные обычаи своих хозяев. Им было легко переименовать своих грубых богов в Юпитера, Меркурия или Юнону. Губернаторы провинций брали молодых вождей в свои дворцы как гостей и заложников одновременно и не только учили их латыни, но и прививали им вкус к произведениям Вергилия и Цицерона, а также учили восхищаться римской одеждой, обычаями римского общества и римскими учреждениями. Власти империи особенно покровительствовали основанию и постройке городов. Древняя греко-римская цивилизация была в первую очередь цивилизацией городов, в отличие от галльского общества, основой которого были деревни. Поэтому римляне поощряли постройку городов как важнейший шаг к латинизации. Иногда прежние кельтские общины преобразовывались по римскому образцу. Но чаще создавались совершенно новые «колонии» или «муниципии», и местных жителей побуждали селиться в них. Очень многие знаменитые города Франции были основаны именно так – непосредственно римлянами. В их число входят (назову лишь несколько из многих) Лимож, Тур и Суасон[4]. У каждого из этих городов была хартия (часто выданная самим римским императором), позволявшая его гражданам выбирать своих должностных лиц, принимать местные законы и дававшая им очень широкую автономию при условии, что налоги вовремя поступали в императорскую казну. В каждом городе были также храмы римских богов, общественные бани, амфитеатр для боев с дикими зверями и гладиаторских боев по итальянскому образцу, цирк для конных состязаний, форум для торговли и общественных собраний, курия, где собирался местный сенат, театр, где ставили латинские комедии, школы, где обучали латинскому красноречию, – в общем, все атрибуты «маленького Рима». Граждане этого города называли себя римскими именами – Юлий, Фабий или Клавдий, носили длинные тоги и очень старались забыть, что их деды сражались под началом Верцингеторигса.
Что касается управления всей страной, то Галлия долгое время делилась на шесть довольно крупных римских провинций[5], наместники которых – проконсулы – занимались в основном проверкой налоговых счетов многочисленных городов провинции и были судьями по важным делам. Страна была настолько покорна, что на многих очень обширных территориях власти империи редко считали нужным держать даже один крупный гарнизон. Чтобы добиться исполнения указов римских цезарей, обычно было достаточно одних полицейских. Правда, все знали, что возле Рейна всегда стоят лагерем несколько надежных легионов. Хотя их главной задачей было не давать германским племенам проникать на запад, в империю, эти войска вполне могли получить приказ подавить любые беспорядки в Галлии, если бы возникла угроза восстания.
Таким образом, галльские провинции стали одной из самых процветающих, мирных и важных частей Римской империи. Обладание этими землями позволило цезарям установить связи с более далекими странами – с Британией (которую они завоевали в I в. н. э.) и с Германией (которую они, правда, не смогли завоевать, но в которую много раз вторгались).
Римляне даже дали галлам национальную столицу – Лугдунум (нынешний Лион). Этот город стал элегантным, его великолепные общественные здания выдерживали сравнение с теми, которые стояли на берегах Тибра. В Лугдунуме раз в год собирались представители всех галльских племен, чтобы совершить сложные обряды жертвоприношения в честь «священного императора», которому они были обязаны своим процветанием, а также (это была важная политическая привилегия) подать цезарям прошения о наказании своих обидчиков, в особенности злобных наместников. Эта романизация имела много результатов. Галлы стали одними из самых верных подданных империи.
Они – во всяком случае, верхние слои их общества – почти забыли свой прежний кельтский язык. Былые племенные законы и обычаи тоже исчезли. Некоторые из самых знаменитых поэтов и ораторов позднейшей латинской литературы родились на той земле, которую мы теперь называем Францией. На берегах Роны, Луары и в особенности Мозеля стояли города и великолепные виллы, почти не отличавшиеся от италийских. Здесь Рим одержал одну из своих самых прекрасных побед. Он завоевал эту страну сначала силой оружия, а потом более достойным образом – своей более высокой цивилизованностью.
Почти триста лет после дней Юлия Цезаря галльские земли участвовали в исторической жизни только как часть великой Римской империи. Согласно эдикту Каракаллы (212 н. э.) все свободные жители этих земель стали римскими гражданами, то есть по закону стали равны народу, который первоначально правил ими. Когда империя приходила в упадок из-за грубых ошибок цезарей, плохо управлявших своим государством, из-за деградации армии и из-за существенных недостатков античной общественной системы, которая остановилась на стадии рабства и не развивалась дальше, галлам, конечно, тоже досталась часть общих бед. Начиная примерно с 230 г. н. э. эта часть империи более сорока лет терпела опустошительные набеги германских племен из-за Рейна, которые не могли отразить потерявшие теперь боевой дух легионеры. В результате этих набегов многие галльские города были разрушены. Их уцелевшие жители защищали себя новыми стенами, которые, как свидетельствуют археологические раскопки, часто строились в лихорадочной спешке. Прежнее римское общество явно катилось к гибели, но около 300 г. н. э. стало казаться, что катастрофу удалось предотвратить: в это время власть в империи взяла в свои руки новая династия талантливых императоров. Своими решительными и коренными реформами они на время обеспечили государству безопасность. Римская империя и вместе с ней Галлия получили передышку еще на сто лет.
В эти спокойные годы в Галлию, как и во всю остальную империю, постепенно проникала новая сила. Вскоре после 100 г. н. э. в этих провинциях появилось христианство. Около 170 г. н. э. в Лионе было так много христиан, что языческие жрецы и губернатор имели основания для их полномасштабного преследования. У нас есть сведения о существовавших немного позже церквях в Отене, Дижоне и Безансоне. Сохранились следы существования христианства около 251 г. в Лиможе, Туре и даже Париже (который по-прежнему был второразрядным городом). Ранние летописи не слишком ясно повествуют о начале истории галльской церкви. Вероятно, в Галлии, как и везде, города стали христианскими задолго до того, как сельские общины отказались от суеверного почитания прежних богов. Язычники, вероятно, были повсюду в империи значительным большинством среди населения до того, как великий апостол Западной церкви, святой Мартин Турский, немного позже 350 г. н. э. обошел всю Галлию, обращая целые округа в новую веру. В любом случае несомненно, что, когда Константин Великий (306–337) и его преемники взяли христианство под свою защиту, а потом сделали его официальной религией Римской империи, население галльских земель восприняло эту перемену достаточно легко. К 400 г. Галлия официально была «христианской». Более того, она была «католически» и «канонически» христианской. Это означало, что основная часть ее населения приняла знаменитый никейский Символ веры и те формы религиозного культа, которые имели поддержку римской церкви и других крупнейших центров богословия. Грозная неканоническая «арианская» ересь (учение унитариев) имела последователей в этих краях, но не смогла там укрепиться. Непринятие арианства сыграло очень важную роль в истории Галлии: благодаря ему Галлия не была отрезана от остального мира в области мышления, когда Римская империя распадалась под ударами готов и вандалов.
Около 375 г. н. э. германские племена снова начали проникать в разлагавшуюся империю. Вскоре легионы стали слишком слабыми, чтобы прогнать их прочь. Но первые нападения варваров были направлены главным образом против балканских областей. Лишь около 400 г. н. э. оборонительные рубежи на Рейне были прорваны, и «римляне» (галлы теперь охотно называли себя этим словом) задрожали от страха, увидев, как их деревни горят, а захватчики подходят все ближе.
Рим был построен не за один день, и Римская Галлия тоже была завоевана не за один день. Некоторыми ее частями варвары завладели быстро, некоторые части стойко сопротивлялись, от некоторых завоеватели вначале были временно отброшены, а в некоторых частях Галлии с захватчиками удалось заключить соглашения на условиях, позволявших германцам и галло-римлянам достаточно удобно жить вместе. Это были, конечно, плохие и печальные времена: старая цивилизация умирала в муках, а новая рождалась вовсе не благополучно. Гуманитарные науки, казалось, стали бесплодными или умерли. Города разрушались, если уже не были разорены захватчиками. Великолепная сеть римских дорог, которые покрывали Галлию, как в наше время железные дороги, приходила в упадок. Торговля и ремесла, кроме самых необходимых, почти погибали. Единственным надежным законом было право сильного. Только в церкви, и особенно в монастырях, кажется, оставалось еще надежное убежище для миролюбивых людей и хрупких женщин. Тем не менее эпоха германских вторжений – это не только разрушение и нищета. Завоеватели понимали, что те, кого они завоевали, превосходят их во всем, кроме войны. Вожди варваров охотно перенимали у римлян не только одежду, правила поведения за столом и придворные церемонии, но и делали галло-римских аристократов своими министрами и чиновниками, чтобы те управляли многочисленным местным населением: германцы сумели покорить жителей римских провинций, но не знали, как потом управлять этими людьми. Уцелели многие римские законы, а также многие особенности прежней налоговой системы. Это было время сумерек, но не полной тьмы.
Когда Западная Римская империя в конце концов перестала существовать, то есть в 476 г. н. э., большая часть Галлии уже была в руках германцев. С 412 г. грозные визиготы владели почти всей ее южной частью и сделали своей столицей Бордо. Ближе к Рейну восточной частью ее центра владели бургунды. На ее севере (любопытно, что он был полностью изолирован от Италии) вели свой последний бой остатки Римского государства во главе с «патрицием» Сиагрием. Визиготы и бургунды уже обратились в христианство, но это была неортодоксальная арианская разновидность христианской религии. Поэтому они были в очень плохих отношениях с местным духовенством и с местным населением, большинство которого составляли католики, верные никейскому Символу веры.
Таким образом, положение Галлии было совершенно неустойчивым, когда на севере заявила о себе новая сила, которая быстро накрыла своей тенью всю Галлию. Это были франки – свободный союз германских племен, который существовал на правом берегу Рейна с III в. Иногда они сражались против римлян, но чаще были – за хорошую плату – их союзниками и посылали своих воинов в армии римских цезарей. Долгое время франки не проявляли никакого желания вторгаться в Галлию. Но в V в. они постепенно начали следовать примеру своих сородичей – других германцев и стали занимать те земли, которые сейчас являются крайним севером Франции. Это было медленное, не слишком уверенное движение, потому что франки, к сожалению, не были едины. Более того, салические франки, рипуарские франки и другие племена этого союза точили свое оружие больше для сражений друг против друга, чем для борьбы против Сиагрия. В любом случае это были свирепые дикие воины и даже не ариане, а язычники с жестокими обычаями и большой охотой решать все вопросы с помощью своих боевых топоров, которые назывались «франциски» и по которым, возможно, франки получили свое имя. В 481 г. вождь салических франков Хильдерик умер, передав свою бурную власть своему пятнадцатилетнему сыну Хлодвигу[6]. Этот сын – плохой человек, но могущественный правитель – силой вписал свое имя в историю.
Хлодвиг был отвратительно аморальным даже для своей эпохи коварства и крови. Самое лучшее, что можно сказать по этому поводу, – что для избавления от зол той эпохи нужен был суровый хирург, чтобы цивилизация не погибла от анархии. И мы можем не сомневаться, что Хлодвиг никогда не отказывался применить скальпель хирурга. Этот человек отличался неустрашимой отвагой, неукротимой энергией и неисчерпаемой выносливостью, но был совершенно лишен жалости, сомнений и угрызений совести. Должно быть, его толпа смелых и закаленных воинов была безгранично предана ему с того дня, когда они подняли его на своих щитах, громко восклицая «Айе! Айе!», и провозгласили королем, а он взмахнул своим мечом и объявил, что будет править ими. В 486 г. возле Суасона он полностью разгромил Сиагрия, последнего защитника Римского государства. После этого Северная Галлия была в руках Хлодвига – точнее, оказалась в его руках, как только он смог покорить или убить всех других менее значительных франкских вождей, которые могли бы попытаться оспорить его право.
Способы, которыми он действовал, потрясали воображение отрядов, которые шли за ним, и не оставляли следа от страхов у его воинов. Однажды этот король потребовал себе в качестве добычи красивую чашу, но какой-то непокорный солдат возмутился тем, что правитель явно пытается взять себе больше чем королевскую долю, разрубил эту чашу боевым топором и крикнул: «Ничего ты не получишь, кроме того, что полагается тебе по обычаю!» Король ничего не ответил: он действительно нарушил свои формальные права. Но через год во время смотра, который король устраивал своим воинам, обидчик встал перед ним и предъявил ему для осмотра свое вооружение. «Никто не ухаживает за оружием хуже тебя!» – воскликнул Хлодвиг и с презрением бросил боевой топор обидчика на землю. Когда тот наклонился, чтобы поднять секиру, король внезапно взмахнул своим топором и разрубил несчастному воину голову, сказав при этом: «Так поступил ты с этой чашей!» Такие суровые и грубые поступки были рассчитаны очень точно: они были идеальным средством добиться беспрекословного повиновения от определенной разновидности воинов, тем более что почти всегда были оправданы своим полным успехом.
Нетрудно догадаться, что Хлодвиг был язычником. Вероятно, на него уже давно производили большое впечатление великолепные молебны и обряды, происходившие в галло-римских церквях, и политические выгоды, которые он получил бы, став единоверцем своих новых подданных – не германцев. Невозможно представить себе, чтобы он понимал хоть что-то из духовного учения христианской религии. Но ему казалось, что Белый Христос священников – видимо, очень сильный бог с «доброй магией», и это ему нравилось: такой бог, если вести себя с ним почтительно, может помочь королю в борьбе против врагов. Вскоре Хлодвиг женился на бургундской принцессе Клотильде, которая была католичкой, хотя большинство ее родных были арианами. Король не сразу принял веру своей жены, но чем дальше, тем более вежливо выслушивал ее доводы в пользу христианства. И вот в 496 г. он вел жестокий бой против соперничавшего с франками племени алеманнов. Сражение шло неудачно для Хлодвига: его самые стойкие воины с секирами начали отступать. Прежние языческие боги франков не приходили на помощь. Настало время для отчаянной попытки. «О Господь Иисус Христос, Которого чтит Клотильда! – воскликнул король. – Если Ты дашь мне победу, я поверю в Тебя и окрещусь во имя Твое!» В ходе сражения произошел перелом, алеманны бежали, и Хлодвиг вернулся домой победителем.
У короля были все причины для того, чтобы исполнить договор и сдержать обет. Разумеется, такого бога он будет поддерживать и станет его сторонником. Хлодвиг принял хрис тианство. Обряд крещения был великолепным и происходил в Реймсе (несомненно, в той церкви, которая была предшественницей более позднего знаменитого кельтского собора). Крестил короля почтенный епископ, святой Ремигий, который разработал для этого случая огромную процессию и религиозное празднество. Хлодвиг и 3 тысячи его могучих воинов все вместе подошли к купели. «Склони покорно шею, – приказал епископ, когда молодой свирепый король-воин приблизился к нему для крещения. – Поклоняйся тому, что раньше сжигал, и сжигай то, чему раньше поклонялся!» Это был счастливый день для епископа. Король Северной Галлии был завоеван для христианства, и притом для самого ортодоксального – католического, что тоже было большой удачей. Став католиком, он установил самые дружеские отношения с могущественным и многочисленным галло-римским духовенством. Хлодвиг в полной степени проявил религиозный пыл новообращенного, и в остальной Галлии галло-римляне католического вероисповедования были готовы приветствовать его, если бы он стал их государем вместо королей-ариан, правивших другими германскими захватчиками.
Вскоре оказалось, что Хлодвиг-христианин – еще более грозный завоеватель, чем Хлодвиг-язычник. В 500 г. н. э. он покорил бургундов. В 507 г. н. э. он сказал своим знатным людям: «Мне очень не по душе, чтобы эти арианские еретики [визиготы] владели какой-нибудь частью Галлии. Пойдем с Божьей помощью вперед, одолеем их и сделаем их землю нашей!» И святые снова благословили его копьеносцев и воинов с секирами. Почти весь юг Галлии был захвачен франками – кроме узкой полосы земли возле Пиренеев. В 511 г. этот коварный и кровожадный король наконец умер, успев разгромить почти всех своих врагов – и внешних и внутренних. С точки зрения служителей церкви, писавших наши хроники, у него все же было одно огромное достоинство: со дня своего обращения он был неутомимым и безжалостным защитником ортодоксального христианства. «Поэтому, – писал благочестивый историк Григорий Турский, – Бог каждый день сокрушал его врагов и увеличивал его королевство от того, что он ходил перед Богом с открытым сердцем и делал то, что нравилось Богу».
Хлодвиг оставил своим наследникам очень компактное государство. Но франкские законы были плохо приспособлены для того, чтобы сохранить королевство единым. Старший сын не был единственным наследником, а потому каждый из четверых сыновей Хлодвига потребовал себе часть отцовского государства. Вскоре деление страны на части, а частей – на более мелкие частицы привело к настоящей вакханалии гражданских войн между кровожадными и честолюбивыми людьми. Эти войны королей – Меровингов (которых так называют по имени Меровея, одного из предков Хлодвига) не подчинялись какой-то общей закономерности. Подданные были беспомощными жертвами разрушительных столкновений между буйными королями-соперниками и между их столь же буйными воинами. Иногда страна, которую мы теперь можем называть страной франков, делилась больше чем на четыре несчастных королевства, которые сражались одно с другим. Эти королевства, как крестьянские хозяйства, делились на части, а те делились снова между спорившими между собой наследниками. Иногда какому-то одному умелому потомку Хлодвига везло, он устранял со своего пути всех своих братьев и племянников и несколько лет правил один.
Сыновья Хлодвига унаследовали от своего великого, хотя и порочного отца по-настоящему грозную власть. Но при его внуках авторитет королей стал явно уменьшаться, уступая место авторитету знатнейших франкских воинов, которые стали требовать себе должности, почести и земли в уплату за поддержку во время непрерывных войн. При правнуках Хлодвига страна была снова, как ей положено, объединена под властью одного короля, но лишь формально. Было очевидно, что монархи все больше становились игрушками в руках некоторых своих главных министров, в особенности того очень высокомерного своего чиновника, который назывался майордом (Major Domus), что значило «палатный мэр». Появились также признаки того, что королевство франков начинает делиться на три большие части согласно границам, которые были в какой-то степени естественными и пото му продержались очень долго. Этими частями были Нейстрия (почти вся северная часть современной Франции), Австразия (находилась к востоку от Нейстрии и включала в себя крайний восток современной Франции и запад современной Германии) и Аквитания (вся современная Франция южнее Луары). Дагобер (628–638) был последним королем из Меровингов, который действительно имел хоть какую-то власть. После него верховными правителями королевства франков были властолюбивые майордомы, которые становились все сильнее, а их «повелители» – короли – все слабели.
К несчастью, в королевстве не был определен порядок преемственности для этой должности некоронованного правителя, и это было губительно для спокойствия страны. Тот, кто хотел стать майордомом, должен был добиться расположения самой сильной группировки из тех, на что делились франкские leudes (могущественные люди), которые обычно были родом из старой земельной аристократии и называли себя потомками галло-римлян. Нужно было умилостивить и церковь с ее епископами, которые имели большую власть и часто вели себя очень по-мирски. Все это означало новый ряд расколов, заговоров и войн, часто очень кровопролитных и очень личных. Майордом Австразии воевал против своего соперника из Нейстрии, а в это время Аквитания под властью наполовину независимого герцога (титул которого, «дукс», первоначально означал просто «вождь») бросала вызов им обоим. То есть в VI в., так же как в VI, цивилизация была вынуждена защищать себя, и такое положение дел казалось еще более устойчивым, чем раньше. Затем наконец наступило улучшение. На первый план вышла великая семья должностных лиц. После многих превратностей судьбы этот род, который позже стал знаменит под именем Каролинги (от Карла Великого, его самого выдающегося представителя), начал поставлять управляющих дворцом, которые правили одновременно Нейстрией и Австразией, и власть их переходила в семье по наследству. Соперники были уничтожены, беспорядки сурово подавлены. Этой династии выпала редкая удача: она произвела на свет последовательно, от отца до правнука, четырех правителей, которые все были очень одаренными людьми, не тиранами и не слабаками, не гнусными политиканами и не безрассудными идеалистами, которые умели и сражаться, и щадить, и командовать другими, и оставлять их в покое. Эти четыре человека сделали очень много для формирования истории всей Европы.
История семейства Каролинг – это гораздо больше, чем история Франции. Это история Германии и Италии начала Средних веков. Она тесно связана с историей возвышения римских пап и даже затрагивает прошлое Испании. Поскольку нас интересует в первую очередь Франция, нам достаточно лишь перечислить некоторые важнейшие события правления этих великих правителей, почти не говоря о том, что относится к нефранцузской части этих хроник. Вот обзор жизненного пути четырех властителей.
Пипин из Херисталя был первым в семье, кто имел власть, которую мы можем назвать систематической и имевшей прочное основание. Эту власть он осуществлял с 679 до 714 г. В его дни общественные дела находились в таком беспорядке, что от него, в сущности, требовалось лишь одно – успешно сражаться. В этом отношении Пипин полностью исполнил свои обязанности: большинство его противников погибли, а остальные покорились. В стране снова появилось что-то вроде закона и порядка. Этот великий майордом не просто одерживал победы над мятежниками. Он реорганизовал франкскую армию так, что она снова стала настоящей боевой машиной. И вскоре эта армия стала нужна.
Преемником Пипина стал его внебрачный сын Карл Мартелл (714–741), который добился власти лишь после очередного периода кровавой неразберихи, но потом оказался таким же тяжелым на руку и здравомыслящим, как отец. Его первыми подвигами стали войны против различных германских племен, живших к востоку от Австразии, – еще лишь наполовину христианизированных и в высшей степени варварских народов. Саксы, баварцы и алеманны – все бежали перед ним. Он также противостоял всегда недовольным герцогам Аквитании, которые правили почти чисто «римским» по происхождению населением и не имели охоты терпеть над собой власть северян.
Исход борьбы с Аквитанией был еще далеко не определен, когда ее герцог Одо внезапно из дерзкого врага превратился в дрожащего от страха просителя. Страшная опасность угрожала не только Аквитании, но и самому королевству франков, и всему христианскому миру. Прошло больше ста лет с тех пор, как араб Мохаммед основал ислам – религию единственного Бога – Аллаха и Его пророка – и предложил иноверцам выбирать между этой верой и войной. За эти годы фанатичные мусульмане захватили Персию, Сирию, Египет и всю Северную Африку и силой заставили жителей этих стран отказаться от прежних верований. Их армия росла как снежный ком за счет воинственных новообращенных бойцов. В начале VIII в. эти полчища переправились в Испанию, раздавили выродившиеся визиготские династии и сделали почти весь полуостров всего лишь эмиратом халифа, жившего в далеком Дамаске. Но эти орды арабов, мавров, а также греческих и испанских вероотступников не собирались останавливаться в Испании. Разве Аллах не пообещал ученикам Корана весь мир? И вот, после нескольких неудачных попыток, в 730 г. начали проникать через пиренейские перевалы в ласковую Аквитанию. Мавританские всадники на выносливых скакунах из пустыни быстро поднимались по горам, грабя, уводя людей в плен и безжалостно сжигая церкви и монастыри. Герцог Одо пытался отразить это нападение, но его усилия оказались напрасными. После отважного сопротивления в руках арабского эмира Абдрахмана оказался Бордо, вероятно самый богатый тогда город на землях бывшей Галлии. Захваченную добычу, которая была огромной, эмир разделил между своими алчными воинами.
Бордо не стал последним христианским городом, пострадавшим от мусульманских конников. Они прорывались на северо-восток, в долину Луары, и дочиста разграбили Бургундию вплоть до Отёна и Санса. Одо отчаянно звал Карла на помощь, и отказать ему было невозможно. Если сегодня будет завоевана Аквитания, завтра огонь охватит само королевство франков. Великий майордом созвал северных воинов с секирами – всех, кого мог набрать в войско. В сентябре или октябре 732 г. Карл повел это войско против воинов арабского эмира. Сражение произошло на одной из равнин возле Тура на Луаре[7]. Вероятно, ни христиане, ни мусульмане не понимали тогда, что эта битва будет одной из тех, которые определяют судьбу мира. По мнению многих живших позже авторов, именно она должна была решить, будет цивилизованный мир читать Библию или Коран. С уверенностью можно сказать одно: если бы франк Карл потерпел серьезное поражение, во всей Западной Европе не нашлось бы другого вождя-христианина, имевшего достаточно военной силы, чтобы обуздать мусульман[8].
Несколько дней армии стояли одна против другой, затем Абдрахман бросил свою великолепную мавританскую кавалерию на боевые ряды франков. Но северные пехотинцы, стоявшие в плотном строю, «как прочные стены или ледяные горы» (это слова одного старинного летописца), отбросили конников с их пиками назад, нанеся им ужасающие потери. Вскоре после этого христиане перешли в наступление и начали прорубать себе путь в лагерь иноверцев. Абдрахман был убит, его войско, собранное из разнородных отрядов, растерялось. Ночь наступила раньше, чем разгром мусульман стал полным, но позже, под покровом темноты, они в панике бежали на юг, оставив победителям свои полные добычи шатры. Это была великая победа, и Карла с тех пор стали называть Карл Мартелл (Молот).
Понадобилось еще несколько лет тяжелых сражений, чтобы выбить арабов-мавров из некоторых крепостей, которые они захватили в Южной Галлии, но больше иноверцы никогда не возвращались для большого вторжения. Чары, дававшие им победу, были разрушены, Аллах отвернулся от них, так зачем бороться с судьбой? Разумеется, их победитель прославился в результате этой победы и укрепил свою власть над всем королевством франков.
Усадьба эпохи Меровингов
Восстановлена. Обратите внимание на большой двор, окруженный жилыми комнатами и портиком. Усадьба окружена забором, а в центре возвышается деревянная башня для обороны от врагов. На заднем плане – хозяйственные постройки. (Воспроизведено по книге. Гарнье и Амман. История человеческих жилищ.)
Наследником победителя в битве у Тура был его сын Пипин Короткий (741–768). Он унаследовал от отца такую прочную власть, что мог тратить часть своих сил на мирные дела, а не расходовать их все на войну. В 752 г. он чувствовал себя так уверенно, что избавился от нелепого «короля-бездельника» Хильдерика из династии Меровингов, который жил в постоянном уединении и власть которого превратилась не просто в тень, а в тень от тени. Пипин осмелился назваться королем, хотя некоторые франкские аристократы могли выступить против этого. Смелость же ему придало официальное согласие папы римского. Папа в это время расширял свою светскую власть над Италией и постоянно опасался нападения упрямых и несговорчивых лангобардов, а потому очень заботился о поддержании хороших отношений с самым великим правителем по другую сторону Альп. Король Пипин должным образом отплатил ему за услугу в 753 г. – привел все свое войско в Италию и заставил короля лангобардов пообещать, что тот оставит пап в покое и даст им спокойно править. Так начались те тесные деловые отношения между правителями королевства франков, а затем Франции и па пами, которые приводили к заключению одного союза или соглашения за другим и закончились только в XX в., когда Третья республика полностью отделила государство от церкви.
Пипин оставил свой королевский титул, прочное взаимопонимание с величайшей духовной властью в христианском мире, мощную армию, верную аристократию и верный народ в наследство своему сыну Карлу, который вскоре был отмечен на страницах мировой истории как Карл Великий. Новому правителю, конечно, очень помогли успехи его предшественников, но нельзя отрицать, что из четырех очень талантливых правителей он был самым талантливым и по способностям намного превосходил остальных. Его царствование (768–814) было одним из поворотных моментов в истории Франции, а также Германии, Италии и церкви.
* * *
При Карле Великом королевство франков сильно отличалось от того Франкского королевства, которым правил Хлодвиг. Многие остатки прежней римской культуры были утрачены. Галло-римские города во многих случаях превратились в вымирающие от голода деревни или совсем исчезли. Торговли, когда-то процветавшей в древней империи, теперь почти не существовало. Каждый маленький край и каждая усадьба жили для себя и сами по себе, сами обслуживали свои хозяйственные потребности и приобретали очень мало привозных вещей, потому что прекрасно обходились без них. Непрерывные войны и грабежи уничтожили многие мирные ремесла и усилили упадок тех, которые продолжали существовать. Даже церковь часто оказывалась в руках прелатов, которые вели себя как миряне, а монастыри стали убежищем не только для благочестивых и спокойных по характеру людей, но и для ленивых. Так что, к сожалению, в области культуры эпоха Меровингов и период майор-домов во многом были временами отступления назад и упадка. Но не все в этом времени было разрушительным. Кроме уже перечисленных мук и разрушений, оно дало несколько важных результатов, которые позже имели очень большое значение для истории будущей новой Франции.
1. С 500 по 800 г. почти завершилось образование нового народа. Франки и галло-римляне стали одним целым: смешанные браки и постоянные контакты разрушили существовавшие между ними барьеры. Разумеется, на севере страны (особенно на северо-востоке) доля германского элемента была больше, чем на юге, и Южная Аквитания продолжала по преимуществу оставаться галло-римской. Но уже нигде не было специально и тщательно проведенной границы между двумя прежними народами. Разумеется, были крепостные крестьяне и знатные господа, но многие крепостные, несомненно, были потомками воинов Хлодвига, а многие господа хвалились своими галло-римскими предками. Так был создан французский народ – в основном кельтский по происхождению, но несущий на себе отпечаток имперского Рима в языке, законах и культуре, а позже получивший от тевтонских завоевателей сильную прививку северной стойкости и мужества. Так образовался народ, смешанный и в расовом, и в культурном отношении, а история учит нас, что обычно именно народы смешанного происхождения наследуют землю. Во Франции встретились кельтский блеск, итальянская хитрость и германская стойкость.
2. В эпоху Меровингов сформировалась та экономическая и политическая единица, которая была характерна для французского общества в течение всего Средневековья и позже почти до самого недавнего времени, – усадьба крупного землевладельца. В позднеримскую эпоху города приходили в упадок, а беднейшая часть населения имела склонность подпадать под власть тех, кто богат, и все больше становилось нормой положение, когда человек или владеет большим поместьем (которое называлось fundus), или зависит от такого владельца. Беднейшие жители такого поместья были в нем просто крепостными, хотя и не находились в полном рабстве. Им было позволено возделывать маленький участок земли и жить на нем, но они не имели права покинуть поместье без разрешения хозяина и подчинялись еще многим строгим ограничениям. В эпоху франков число таких больших поместий продолжало расти. Еще существовало небольшое число свободных крестьян, уважавших себя владельцев крошечных ферм, но оно постоянно сокращалось. Правительство было очень слабым, а времена отличались полнейшим беззаконием, и поэтому бедняк редко мог защитить свои права, если не «вручал себя» (то есть не отдавал себя в зависимость) какому-нибудь крупному землевладельцу, который мог обеспечить ему достойную защиту. Такими большими поместьями с крепостным населением могли владеть не только король, его любимые воины и потомки галло-римской знати. Часто владельцами таких земель были могущественные и богатые епископы и аббаты церкви. Они (помимо своих духовных дел) были в очень земном смысле слова хозяевами нескольких сотен или даже тысяч крестьян, которыми управляли через надсмотрщиков. Это был не феодализм в точном смысле слова, но большой шаг к тому феодализму, который вскоре должен был быстро распространиться по Западной Европе.
Когда Карл Великий был на вершине своего могущества (ок. 800 г.), территория современной Франции составляла примерно половину его владений. Эти области уже заметно отличались от других владений Карла (Германии и Италии). Германия находилась слишком далеко на севере и потому не была по-настоящему латинизирована. Италия была слишком далеко на юге и потому мало заимствовала у Германии. Французские же земли, сердцевина прежнего королевства франков, вобрали в себя силу и с севера, и с юга.
Глава 3. От франков к французам
Военные действия в Саксонии. Церемония. Возрождение классической учености. Раздел империи. Рост феодализма. Хрупкая основа монархии Гуго
В 768 г. Пипин Короткий, великий король франков, скончался и уступил место своему старшему сыну, которого историки называют Карлом Великим (на латыни Каролус Магнус, на французском языке – Шарлемань, что привычно и для говорящих на английском). Этого нового монарха можно считать величайшим человеком в истории Средних веков. Его царствование стало переходным временем между Древним и современным миром, а внушительная личность наложила глубокий отпечаток на сопутствующее ему время и отбросила тень на несколько последующих столетий.
Близкий друг Карла Великого Эйнхард написал его биографию, которая по уровню намного выше большинства произведений средневековой литературы, и оставил нам, в красиво закругленных фразах, полный и гармоничный портрет этого поистине выдающегося человека. Он рассказывает нам, что Карл Великий был «крупным и сильным, имел внушительный рост и прекрасное телосложение. Верх его головы был округлым, глаза широкие и полные жизни, нос немного длинноват. У него были прекрасные и пышные седые волосы, бодрое выражение привлекательного и при ятного лица. Поэтому и сидя и стоя он выглядел очень вну шительно и достойно. Походка у него была твердая, манера двигаться мужественная. Голос звучал чисто, но был не так силен, как можно было предположить при его телосложении»[9].
Эйнхард также рассказал нам, что император имел привычку одеваться просто и был умерен в еде и питье, горячо любил скачку на коне, охоту и многие атлетические развлечения. «Говорил он охотно и легко и умел очень ясно выражать свои мысли словами. Он с большим старанием изучал иностранные языки и настолько овладел латынью, что мог произнести на ней речь так же легко, как на родном (франкском) языке; греческий же язык понимал, но не мог на нем говорить».
За столом он наслаждался музыкой или же слушал чтение религиозных книг или сочинений историков. Он также любил приходить на лекции по грамматике, логике и астрономии, которые читали ученые его времени. Однако мы не должны преувеличивать глубину познаний этого короля-ученого. При всей своей врожденной любви к литературе он так по-настоящему и не научился писать.
В характере Карла Великого было много свойственных людям недостатков. Он мог быть жестоким, а иногда поступал как настоящий тиран. Но если учесть, в какое время он жил, его можно назвать справедливым, великодушным и дальновидным. От своего отца он унаследовал боеспособную армию, и ни один сосед франков не мог сравниться с ним в искусстве войны. Карл высоко ценил прежнюю римскую цивилизацию, как он ее понимал, и в течение всего своего царствования серьезно и разумно работал над тем, чтобы расширить знания и улучшить нравы своего народа. Он начал править как могущественный германский король, но, когда его владения стали расширяться и становиться настоящей западной империей, дал волю своему воображению и позволил, чтобы честолюбие подсказало ему более высокий титул. Правитель, который начал царствовать как король франков, закончил свою жизнь римским императором, претендуя на такую же власть, какую имели древние цезари.
Говоря об этом великом правителе, практически невозможно ограничиться лишь теми событиями, которые произошли на землях, позже ставших Францией. Почти все, что он совершил за пределами бывших галльских земель, отразилось на их судьбе. В частности, он втянул эти земли в длинный ряд войн, которые повлияли на позднейшую Францию тем, что до настоящего времени определяют религию и культуру ее восточных соседей. Когда Карл Великий взошел на престол, значительная часть территории современной Германии не просто была независима от франкских королей, она была языческой и дикой. Саксы, укрываясь за своими болотами и лесами, с особым упорством сопротивлялись всем попыткам обратить их в христианство и цивилизовать. Карл Великий потратил много лет своего царствования (с 772 по 804 г. с большими перерывами) на попытки надеть на этот свирепый неукрощенный народ ярмо тогдашней западной культуры.
С точки зрения современной этики нельзя одобрить то, что Карл Великий распространял христианство и цивилизацию силой оружия, но нельзя и не признать, что, если бы саксов оставили в покое, они, вероятно, еще много столетий провели бы в язычестве, убожестве и вырождении. Раз за разом Карл Великий направлял свои войска в страну этого народа. Обычно франкская армия вторгалась в этот болотистый край весной и оставалась там все лето, загоняя противника в топи и леса, беря заложников, подкупом или запугиванием заставляя пленных креститься. В конце кампании франкские воины строили несколько крепостей и оставляли в них гарнизоны. Потом захватчики уходили обратно, саксы выбирались из леса, многие новообращенные торжественно «соскребали» с себя воду крещения и возвращались к своим прежним богам. Некоторые из франкских крепостей саксы брали штурмом, остальные осаждали. Следующей весной армия завоевателей приходила опять, и все повторялось снова. Однако каждая такая кампания немного укрепляла власть франков над этими землями и немного ослабляла сторонников язычества. Вместе с армией Карла Великого приходила целая армия священников и монахов, «чтобы (как сказано в одной средневековой хронике) этот народ, который с начала мира был опутан цепью демонов, смог склониться под ярмо ласкового и доброго Христа». Везде, где позволяли обстоятельства, строились церкви и монастыри, устанавливались границы епископских епархий, и все население крестили должным образом. Крестили обычно принудительно, и принуждение было суровым: франкские воины своими копьями указывали ближайшую дорогу к купели.
Это была утомительная война без крупных событий, без больших сражений – война партизанского типа. Она целиком состояла из мелких столкновений, налетов и осад. В 785 г. Виттекинд, самый грозный из саксонских вождей, покорился Карлу Великому, но многие бывшие сторонники Виттекинда держались до 804 г. Потом в эту измученную страну наконец пришел мир. Война не была напрасной: средневековая цивилизация (в ее тогдашнем виде) с удивительной быстротой пустила корни на саксонской земле. Меньше чем через сто лет этот край уже был в числе самых передовых и цивилизованных областей Западной Европы. Правда, в это время империя Карла Великого уже быстро распадалась на части и Саксония навсегда расставалась с Францией.
Великий король Карл унаследовал от своего отца тесный союз с папским престолом. Пап уже давно мучил страх, что лангобарды, которые в то время господствовали в Северной Италии и собирались завладеть остальной частью полуострова, захватят Рим. Папы уже сами заявили, что имеют «светскую власть» над городом Римом, и не желали иметь рядом с собой никакого опасного соседа. Если им придется иметь над собой верховного правителя в земных делах, думали они, то гораздо лучше, чтобы он был таким, как король франков, то есть жил далеко и потому не мог бы постоянно вмешиваться в их дела. В 773 г. честолюбивый король лангобардов Дезидерий так сильно нажал на Рим, что папа всерьез обратился в королевство франков за поддержкой. Он умолял о помощи, и этот крик был услышан. Во главе могучей армии, превосходившей противника по силе, великий северный король перешел по перевалам через Альпы. Дезидерий был в ужасе и заперся в своей столице Павии. Там его, как положено, взяли в осаду и с помощью голода вынудили сдаться в 774 г. Тем временем сам его победитель отправился дальше и прибыл в Рим, где папа устроил ему великолепнейший прием и наградил его титулом патриция (то есть верховного защитника) Святого Вечного города. Что касается королевства лангобардов, оно просто было упразднено – в пользу Карла Великого. Теперь он называл себя королем Италии и действительно владел всем полуостровом, кроме крайнего юга, где константинопольские греки еще владели многими округами.
Шли годы. Монархия франков увеличилась не только за счет завоеваний. Ей покорились германский король Баварии и варварские князья народа аваров (жившего на территории нынешней Австро-Венгрии). Разумеется, чем более неодолимым на войне и неутомимым в мирных трудах становился правитель этой монархии, тем прочнее становилось всеобщее убеждение, что этому государю и этому государству совершенно не соответствуют имена и титулы, подходившие для северного королевства. Хотя в Западной Европе уже не осталось совершенно ничего от власти прежних римских императоров, до этого времени люди даже в королевстве франков признавали, что говорящие по-гречески константинопольские императоры теоретически являются наследниками древних цезарей и потому имеют наивысшее звание среди всех монархов. Но папы спорили с этими государями из-за многих богословских догматов и были почти готовы заклеймить их как раскольников. Кроме того, они были очень озабочены тем, чтобы доказать свою независимость от любой светской власти, и потому заявляли, что они, как прямые преемники святого Петра, имеют право давать власть «в этом мире» по своему выбору любому, кому пожелают оказать эту честь.
В 800 г. этот процесс достиг высшей точки развития. Могущество Карла Великого было так велико, что его уже нельзя было считать обычным королем (rex). А папа Лев, со своей стороны, очень старался показать, как римский престол благодарен правителю, который избавил пап от страха перед лангобардами и оказал ему еще много услуг. Кроме того, папа желал также показать, что не зависит от греческих правителей Константинополя. Если бы кто-то сказал, что в мире может быть лишь один император, на это был удобный ответ: в Константинополе тогда правила только императрица Ирина, в высшей степени недостойная женщина, которая пришла к власти, заточив в тюрьму и ослепив собственного сына. Таким образом, все обстоятельства соединились для того, чтобы произошло одно из самых великих и зрелищных событий в истории.
В 800 г. Карл Великий находился в Риме, чтобы подавить возмущение, поднятое некоторыми местными жителями. Наступило Рождество. В великолепной базилике Святого Петра собралось блестящее общество. Король молился у главного алтаря. Можно представить себе, как впечатляюще выглядел этот обряд – дым ладана, поющий хор, роскошно одетые придворные в нефе и еще более роскошно облаченные священнослужители ближе к алтарю. Внезапно папа Лев подошел к стоявшему на коленях монарху и надел на его голову сверкающую корону. Народ мгновенно понял, что это значило, и закричал так, что огромная церковь задрожала: «Могучему Карлу, великому и миролюбивому императору римлян, коронованному Богом, – долгой жизни и победы!» Был Карл Великий императором потому, что римский народ (выродившиеся потомки умерших строителей империи) провозгласил его своим монархом, или потому, что его короновал папа, представитель Бога, или потому, что он уже завоевал право на этот титул своими великими делами? Никто всерьез не задавал себе этот вопрос. Ответ на него искали в кровавой борьбе люди последующих веков, но это относится к истории Германии, а не Франции. В любом случае следующие четырнадцать лет правитель, который раньше назывался «король», именовался в своих указах Карл Август, то есть предъявлял права наследника на все титулы, почести и власть прежних цезарей. С этого времени Карл Великий сознательно старался централизовать свою власть. Он не начал стыдиться родных для него франкских традиций и установлений и никогда не вел себя как тиран, но тем не менее мир увидел государство, очень непохожее на прежнюю франкскую монархию. Так родилась Священная Римская империя – попытка основать заново Западную Римскую империю, но на строго христианской основе. Земли будущей Франции вскоре были отсечены от этого непрочного государственного образования с большими претензиями. Но на территории Германии и позднейшей Австрии оно продолжало существовать вначале как крупное государство, а потом лишь как великолепная тень и существовало до тех дней, когда Наполеон Бонапарт размолол в порошок столько почтенного мусора, оставшегося от средневековой Европы (в 1806 г.).
Империя 800 г. включала в себя всю современную Францию, Бельгию, Голландию и Швейцарию, а также бо́льшую часть современной Германии и Италии. В какой-то мере под ее властью были западная часть позднейшей Австро-Венгрии и крайний северо-восток Испании. Это было огромное, рыхлое по строению монархическое государство, части которого, в сущности, скреплялись только гением Карла Великого и страхом перед франкскими армиями. Однако личные дарования Карла были так велики, что при его жизни действительно казалось, будто народы империи вот-вот сольются в один народ.
Для управления своими обширными владениями он не применял сложную государственную машину. При своем дворе (который обычно находился в городе Ахене, в наше время это крайний запад современной Германии) он имел несколько высших должностных лиц и совет из умудренных жизнью епископов и любящих сражения аристократов. В округах были «графы»[10], которые вершили правосудие и стояли во главе провинциального ополчения. В многочисленных пограничных округах, которые назывались марки, были маркграфы (маркизы), обычно испытанные в боях люди из числа военных. Чтобы эти должностные лица не нарушали порядок, от одного из них к другому постоянно ездили «императорские гонцы» (missi dominici), которые проверяли, не совершают ли те несправедливость, и часто докладывали императору о положении дел на местах. Эта система прекрасно работала, пока был жив Карл Великий, гениальные способности которого компенсировали ее недостатки. Как только он умер, она почти полностью развалилась.
Но Карл Великий дал народам больше, чем твердую власть с законом и порядком (которые, нужно отметить, были редкостью с самого времени падения Рима). Под его покровительством произошло настоящее возрождение учености и искусств. Когда он стал королем, образованность и даже просто грамотность были на очень низком уровне даже в церкви, и он с подлинным энтузиазмом начал бороться с этим злом. Для выполнения своей задачи он вызвал на помощь из англосаксонской Англии выдающегося ученого Алкуина, который стал руководить дворцовой школой – чем-то вроде придворной академии, где обучались юноши из знатных семей. Епископы и аббаты во всей империи должны были создать такие же школы для своих местностей. Карл Великий нанес чувствительный удар по мнению, которое, к сожалению, преобладало в те дни, – по убеждению, что невежество совместимо с подлинной набожностью. В его указе было написано: «Пусть в каждом монастыре и каждой епархии будут основаны школы, где мальчики смогут научиться читать, чтобы старательно исправлять ошибки в псалмах, написанных знаках, песнях, календаре и грамматике, потому что люди часто желают молиться Богу как надо, но молятся плохо из-за неправильных книг».
Под руководством Алкуина возродился и широко распространился интерес к древним классикам. Во многих монастырях переписывали и изучали сочинения Цицерона, Горация, Вергилия и Сенеки. Появились стихи, сочинения по истории и очерки, написанные в их стиле. В этих литературных попытках было очень мало оригинальности; обычно они были всего лишь рабским переносом в другую эпоху идеалов, которые были новыми восемьсот лет назад. Но огромное значение имело то, что мудрость древних (которых благочестивые христиане часто клеймили как «погибших язычников») была в почете и что могущественный правитель возвышал ученых наравне с воинами.
Здесь не хватает места для рассказа о том, как Карл Великий наказывал недостойных священнослужителей, реорганизовывал франкскую церковь, создавал и вводил справедливое законодательство, распространял более совершенные способы ведения сельского хозяйства. В 814 г. великий император умер, достигнув наивысшего преуспевания. Кажется, мало кто из правителей добился таких успехов, как он. Мыслящие люди, жившие в его дни на землях бывшей Галлии, конечно, особенно горячо благословляли свое время и говорили, что теперь галло-римляне и германцы слились в один народ, став подданными новой и лучшей Западной империи, и что длившемуся много веков беспорядку, который начался после падения Рима, явно настал конец.
* * *
Итак, царствование Карла Великого было прекрасной вспышкой света в печальную эпоху сумерек, если не полного мрака. Этот свет был слишком хорош, чтобы гореть долго. Силы беззакония были подавлены лишь на время, и недостатки организации Франкской империи были так велики, что их мог преодолеть лишь величайший монарх. Четыре раза род Каролингов производил на свет таких правителей, но пятого раза не случилось. Карл Великий не разделил свою империю, а передал ее всю своему привлекательному и любезному, но не обладавшему ни сильной волей, ни большим умом сыну, Людовику Благочестивому (814–840). Единственной возможностью сохранить непрочную империю была мудрая и твердая политика ее сплочения и централизации, которая объединила бы галльский, германский и итальянский народы в один довольный жизнью народ. Но невозможно было ожидать, что Людовик выполнит такое труднейшее дело. Несколько лет пример его отца и должностные лица, служившие еще при отце, удерживали части империи вместе, а потом центробежные силы вырвались на волю.
Первая трещина расколола семью самого императора. Людовик был единственным выжившим сыном Карла Великого, но вскоре сыновья Людовика – Лотарь, Людовик и Карл Лысый – уже при жизни отца протянули свои жадные руки к власти. Каждый хотел иметь долю в управлении страной и думал лишь о своих интересах. Никогда отсутствие в монархическом государстве закона о переходе престола к старшему сыну не приводило к таким печальным последствиям, как во франкской империи IX в. Три неразборчивых в средствах брата ссорились и сражались один с другим, свергли своего отца с престола, когда он не пожелал разделить наследство между ними в угоду более сильному из них, потом вернули его на престол. При каждом подобном повороте событий императорская власть слабела и становились сильнее всегда напористые и беззастенчивые аристократы, которым правительство уступало все больше своих земель, богатств и власти. В 840 г., когда Людовик умер, его королевство уже готово было развалиться на куски.
Лотарь, старший из этих троих плохих сыновей, потребовал себе титул императора, и братья охотно предоставили ему этот титул. Но за границы их личных владений началась кровавая война. В 841 г. возле Фонтене (теперь Труа) произошла битва, которая имела огромное значение. Лотарь потерпел поражение от Людовика и Карла Лысого и вскоре был вынужден согласиться на условия мира, которые предлагали ему братья. Так в 843 г. был заключен знаменитый когда-то Верденский договор, в сущности ставший концом империи франков. Людовик получил практически всю Германию, Лотарь длинную узкую полосу земли от Северного моря вдоль западной части Рейна и затем прямо до Италии (отсюда название Лотарингия – «страна Лотаря» у территории, за которую спорят Франция и Германия), а Карл Лысый получил остальную часть расчле ненной Франкской империи, то есть практически всю Францию. Доли Людовика и Карла были ограничены естественными разделительными чертами – географическими рубежами и границами между народами и стали государствами, которым была суждена долгая жизнь. Доля же Лотаря была всего лишь искусственно выделенным куском территории, где раньше не существовало отдельного государства. По мере того как Франция и Германия развивались, она становилась настоящим яблоком раздора между ними. Спор об этой земле начался в 843 г., и в 1914 г. вопрос об Эльзасе и Лотарингии еще продолжал нарушать спокойствие Европы.
Разумеется, мир, заключенный в Вердене, был лишь передышкой между новыми войнами. Лотарь вскоре умер; его сыновья и их недружелюбные дяди в скором времени начали спорить за его владения. Один или два раза империя Карла Великого почти была восстановлена в полном объеме, но не благодаря одаренности какого-то одного правителя, а потому, что все остальные претенденты на власть были убиты или умерли. Некоторые из поздних Каролингов были достаточно одаренными людьми, но многие были лишь немного лучше, чем бездельники Меровинги, которых сменили у власти их деды. В 884 г. в последний раз казалось, что Франкская империя объединилась под властью одного императора. Это был Карл Толстый, бездарный и ленивый человек, главным, если не единственным достоинством которого было императорское происхождение.
К этому времени не только жалкий Карл Толстый, но и сам Карл Великий с огромным трудом смог бы оздоровить большое и громоздкое королевство. Не только местные графы (всего лишь наместники императора) все сильнее проявляли «феодальную» независимость и изображали из себя маленьких королей, не только почти все владения монарха были розданы алчным дворянам, а права короля уважались все меньше, но всей империи угрожала серьезная опасность из-за рубежа. И в первую очередь эта опасность грозила той части государства, которая вскоре стала называться Франция. В течение всего печального IX в. язычники-норманны приплывали из скандинавских фьордов на своих драконьих ладьях и разоряли франкские берега. Год за годом они поднимались на много миль вверх по французским рекам, жгли, грабили и уводили пленных. Они разбивали местное ополчение, собранное для борьбы против них, и быстро уплывали прочь со своей добычей. Когда наконец местные власти собирали регулярное войско, грабители были уже далеко. Эти скандинавские викинги были первоклассными бойцами. Они могли победить почти любого равного им по численности противника, и управляли ими вожди, обладавшие и доблестью, и мастерством. Многие знаменитые франкские города были разорены ими. В конце концов в 885–886 гг. они поднялись вверх по Сене и осадили Париж по правилам военного искусства.
Значение Парижа в то время уже быстро росло. А во время этой осады он вписал свое имя в историю благодаря доблести, с которой его отважный епископ Гозлин и его светский глава граф Эд обороняли свой город от разрушителей-язычников. Захват викингами Парижа в момент, когда население края было полностью деморализовано, вероятно, позволил бы викингам постепенно захватить весь север Франции так же, как их собратья овладели всей англосаксонской Англией. Но Париж выстоял. Город и в это время недалеко вышел за пределы того острова посреди Сены, где сейчас стоит собор Нотр-Дам, поэтому главные сражения шли за обладание мостами, которые связывали Париж с материком. Язычникам удалось захватить один из этих мостов, но второй – нет. Они предприняли отчаянную попытку захватить город путем осады, которая оказалась долгой. Граф Эд уехал из города, чтобы убедить императора поторопиться с отправкой подкрепления на помощь Парижу, но вскоре доблестно вернулся во главе маленького отряда, прорубая себе боевым топором дорогу сквозь войско норманнов и ободряя защитников города. В конце концов Карл Толстый явился спасать Париж во главе большой армии, но этому императору-дегенерату не хватило мужества на то, чтобы дать врагу решающий бой. Он поступил позорно: выкупил Париж за большую плату и позволил отброшенным от города викингам уйти грабить Бургундию, «потому что ее жители не повиновались императору».
Этот низкий и трусливый поступок был почти последним важным делом правителей единой Франкской империи. В 887 г. Карл Толстый был свергнут с престола высшей знатью своей страны, но его владения не достались все целиком одному сопернику. В Германии тогда правил внебрачный представитель рода Каролингов. Там, где сейчас расположен юго-восток современной Франции, вскоре появился «король Бургундии», а в тогдашней Франции (так мы можем теперь называть бывшую франкскую Нейстрию) появились несколько претендентов на власть, но после разногласий и споров правителем стал формально считаться законный государь из рода Каролингов – Карл Простоватый (893–923)[11].
Этот потомок могущественного рода (кстати, не такой глупый, как можно предположить по его прозвищу) действительно мог иметь лишь совершенно формальную власть. Священная Римская империя в то время практически не существовала, и ее будущее было совершенно неясным. Когда она позже возродилась, это произошло лишь в Германии и Италии, а Франция в нее больше по-настоящему никогда не входила. Развитие феодальной системы уже шло полным ходом, и каждая победа воинственных баронов означала такую же по размеру потерю авторитета для их монарха.
Поскольку феодальной системе вассалов и сюзеренов нужна была вершина, никто даже не думал о том, чтобы упразднить королевскую власть, и долгое время знатнейшим феодалам было легче договориться между собой, чтобы королевский сан принадлежал одному из Каролингов, чем передать этот сан сопернику-аристократу не королевского происхождения.
Таким образом, Карл Простоватый правил – или, по меньшей мере, назывался правителем – примерно на четверти обширной территории, которой владели его предки. Один важный указ, который он утвердил, имел большое влияние на будущее. Норманны, благодаря постоянному общению с христианами, понемногу становились менее дикими, но теперь усердно искали свободные земли, чтобы на них поселиться. И Карл заключил сделку с Ролло, хозяином большого флота драконьих кораблей. Король франков отдал во владение Ролло широкую полосу земли вдоль пролива, который теперь называется Ла-Манш, включая крупный город Руан. Эта территория становилась феодальным княжеством, и Ролло, ее новый герцог, должен был жениться на дочери Карла и «принести ему вассальную присягу» за это ленное владение. Кроме того, вождь викингов и его лучшие воины должны были стать христианами и принять цивилизованные обычаи. Договор был заключен и честно исполнен в 912 г. Норманны быстро стали нормандцами в своей новой стране Нормандии. Их грубый скандинавский язык скоро превратился в один из диалектов языка, который теперь явно был французским. Ролло (который, как ему и следовало, сменил имя на Роберт) и его главные воины быстро приобрели обычные достоинства и пороки феодальных баронов. В целом можно сказать: вскоре управление в Нормандии стало лучше, мирные искусства стали развиваться больше, а ее рыцари (когда появилось это звание) больше отличались рыцарским благородством, чем почти во всех остальных частях Франции. Так был добавлен последний крупный элемент в смесь народностей, из которой образовался французский народ. К кельтам, латинянам и германцам добавились скандинавы, которые принесли с собой всю силу Крайнего Севера и не ослабили, а укрепили молодую нацию.
На этом остатке прежнего государства франков Каролинги правили до 987 г. Их власть постоянно слабела, несмотря на мощные попытки нескольких королей из этого рода укрепить ее. Их стали саркастически называть «королями Лана» по названию города Лан (иначе Лаон), единственного города на обширных землях их главных баронов, где короли, как казалось, действительно имели власть. Наконец в 987 г. династия Каролингов почти угасла. Ее единственным представителем оставался еще один Карл – герцог Лотарингский. Он, как утверждают, был вассалом императора Германии. Кроме того, он вызывал сильнейшее отвращение у западных баронов. И появился жаждавший власти кандидат из другого семейства – Гуго Капет, «герцог Франции» (то есть правитель края, центром которого был Париж). Он был потомком того отважного графа Эда, который защитил Париж от викингов. Он был богат, честолюбив, тактичен, и, главное, его поддерживала своими мощным влиянием церковь. Подкупив других знатнейших аристократов щедрыми подарками из числа своих земель и этим ослабляя свою будущую власть, он добился их согласия и 1 июля 987 г. был торжественно коронован в Реймсе как «король галлов, бретонцев, нормандцев, аквитанцев, готов и гасконцев».
Эта новая власть Гуго Капета казалась не слишком прочной. Несомненно, многие герцоги и графы, которые присягали ему как вассалы в Реймсе, в глубине души надеялись, что эта молодая династия скоро погибнет, как династии многих правителей-выскочек. Но если они так думали, то сильно ошибались. Гуго Капет основал династию, различные ветви которой непрерывно правили Францией до 1792 г.[12] Мы можем справедливо сказать, что с его появлением на престоле королевству франков пришел конец и на мировой сцене действительно появилась Франция.
Глава 4. Золотой век феодализма (996—1270)
Ленное владение и военная служба. Феодальный замок. Непослушные крупные вассалы. Первые короли из рода Капетингов. Войны Людовика VI. Роль Франции в Крестовых походах. Филипп и Ричард Львиное Сердце. Триумфальный въезд короля в Париж. Людовик VIII. Крестовый поход Людовика Святого в Палестину. Расширение территории Франции
Когда Гуго Капет стал королем, феодальный строй уже вполне сформировался и жил здоровой жизнью, а это было опасно для власти королей. Термин «эпоха феодализма» слишком часто используют как синоним слов «Средние века». На самом же деле эта эпоха охватывает лишь время примерно с 900 по 1300 г., когда авторитет короля и «народа» был слаб, а те, кого мы называем «феодальной знатью», были сильны. После этого феодализм заметно слабел или его жизнь продлевали искусственно главным образом ради заманчивых социальных привилегий, а королевская власть постоянно набирала силу и одерживала над ним верх. В дни своего процветания феодализм существовал не только во Франции: этот строй испытали на себе Германия, Италия, Испания, а после Нормандского завоевания (1066 г.) и Англия. Но он получил самое полное развитие и проявил самые характерные свои особенности во Франции, и, когда мы пользуемся словом «феодализм», мы инстинктивно описываем этот строй французскими терминами, так же как в философии и искусстве человек всегда склонен обращаться к греческим школам, типам или образцам.
Истоки феодализма можно обнаружить в древних римском и германском обществах еще в эпоху до великих вторжений. Во времена Карла Великого было уже много признаков «феодального строя». Но настоящий феодальный строй возник при очень неудачливых преемниках этого великого императора, когда правительство слабело. С ужасом наблюдая за тем, как оно теряет силу, люди ощущали острую необходимость в общественном порядке – любом порядке, лишь бы он оберегал их от худших разновидностей безвластия.
Примерно к 900 г. власть королей, которые унаследовали обломки империи франков, свелась почти к нулю. Даже если бы эти короли были мудрыми и сильными монархами, сам дух времени ослаблял бы их власть. Многие причины, действуя в течение долгого времени, разрушали то, что мы можем назвать нормальным политическим обществом, в котором все люди – члены одного большого народа, и заменяли этот порядок другим, новым. Этот новый порядок, то есть феодализм, очень трудно описать в немногих словах. Возможно, правильно будет сказать, что это строй, при котором власть основана не на верности всех центральному «правительству», а на множестве отдельных соглашений, каждое из которых заключалось между двумя людьми. По такому соглашению более крупный феодал сдавал землю на условиях, похожих на аренду, менее крупному феодалу, который становился его вассалом, и одновременно делался старшим над ним и его главой во время войны. В феодальную эпоху спрашивали не «Из какого вы народа?» а «От кого вы держите свои земли?». Ответ на этот вопрос определял место человека в обществе и в политической жизни.
Из всех причин, которые вызывали развитие феодализма, самой широко распространенной была сдача королями и другими крупнейшими землевладельцами своих земель в аренду в обмен на военную службу[13]. Сначала этот «лизинг» (так это назвали бы современные люди) был лишь временным и прекращался, если арендатор не платил должным образом свою ренту (состоявшую из военной службы и финансовой помощи) и всегда прекращался в случае смерти арендодателя (сюзерена) или арендатора (вассала). Но когда власть королей ослабла и к тому же каждый арендатор, долго занимавший свой лен или феод (так называлось феодальное владение), со временем начинал чувствовать, что владеет этой землей по праву, а не пользуется ею с чьего-то разрешения, вассальные отношения становились все более длительными и все больше приближались к постоянным. Теперь король мог забрать лен у вассала только в крайнем случае. Кроме того, король был обязан оставить лен за сыном или сыновьями умершего вассала, а если у покойного не было сыновей, передать лен в держание его дочери или даже наследникам по боковой линии. К 900 г. крупнейшие в королевствах вассалы выполняли только формальные обязательства по отношению к тому, кто числился их повелителем. Не называясь независимыми правителями, они фактически стали независимы, и очень редко их «сюзерен-король» имел власть и силу, чтобы принудить их к чему-то.
Однако крупные вассалы, в свою очередь, были вынуждены делить свои владения между более мелкими «князьками». Те могли иметь великое множество зависимых от них мелких дворян, каждый из которых, возможно, имел только укрепленную башню и несколько акров голой земли. Феодальная система опутала своими щупальцами практически все общественное устройство Франции. Епископы и аббаты церкви тоже часто были феодальными землевладельцами и в этом случае имели все политические и военные права, которыми пользовался дворянин-мирянин (кроме права лично сражаться мечом)[14]. Считается, что от пятой части до четверти территории Франции составляли земли, принадлежавшие этим богатым священнослужителям, иногда жившим очень по-мирски.
Вполне естественно, что несчастные низы общества, которые находились в различных видах зависимости в римскую и франкскую эпохи, были включены в феодальную систему как всего лишь крестьяне своих господ (крепостные или чуть выше крепостных), смиренные и необходимые сторонники господствующей знати. Их положение определилось точнее и стало более ясным немного позже.
В основе этого феодального режима не было определенного порядка или системы. Теоретически каждый дворянин[15] был обязан хранить верность своему сюзерену, а тот – своему, и т. д. вверх до короля. На самом же деле в вассальных отношениях царила полная неразбериха. Один ученый в отчаянии справедливо назвал феодализм «организованной анархией». Однако в этой путанице есть несколько разделительных линий, которые облегчают понимание некоторых феодальных учреждений и условностей. Вот несколько полезных пояс нений:
1. Дворяне-феодалы самого низкого уровня, как правило, назывались просто «сеньор» или «сир» (что значит «господин») и владели маленьким замком. Над ними стояли по порядку (от низшего звания к высшему) бароны, виконты, графы, маркизы и герцоги, а во главе всех стоял король. Великий аббат церкви мог быть равен по рангу виконту, князь-епископ равен графу или стоял даже выше. Однако строго зафиксированных правил не было. Во Франции некоторые графы были совершенно равны по могуществу некоторым герцогам[16], а другие графы могли по некоторым из своих земель быть вассалами виконта или даже барона. Были и дворяне, которые официально считались еще ниже по званию, но гордо равняли себя со знатнейшими в сословии. Например, владелец большого замка в Пикардии (знаменитые развалины этого замка без всякой причины были уничтожены немцами в 1917 г.) хвастливо заявлял в девизе своей семьи: «Я не король, не принц, не герцог, не граф, я только сир де Куси».
2. В этом пункте мы рассмотрим обычные обязательства дворянина перед его сюзереном. Прежде всего, он был обязан «оказывать почтение» сюзерену, то есть опускаться перед сюзереном на колени в требовавших этого случаях, и дать клятву, что будет исполнять феодальные обязанности, а также не станет причинять сюзерену вреда. Главной из обязанностей, которые полагалось исполнять, была, конечно, обязанность сражаться против врагов сюзерена, давать ему хорошие советы, в особенности помогать ему в присуждении наград и осуществлении правосудия, а в некоторых, достаточно редких случаях (выкуп из плена, приданое для старшей дочери и т. п.) снабжать сюзерена деньгами. За это сюзерен предоставлял вассалу военную защиту против его, вассала, врагов и честное поведение при рассмотрении любого дела в суде, а также должен был позаботиться о том, чтобы детей вассала не лишили обманом отцовского наследства.
3. И наконец, отметим, что, как правило, в феодальную эпоху центром всей жизни и всей деятельности был замок дворянина. В каждом полноценном ленном владении был хотя бы один замок; иногда это была сложно устроенная крепость, иногда всего лишь маленькая башня[17]. Но захват даже самого маленького замка (до изобретения пороха) был медленным и кровопролитным. Даже очень слабый барон за своими прочными стенами мог с несколькими верными слугами, имея хороший запас хлеба и пива, отстоять свои права против своего сюзерена. Эти замки стали начали строить в большом количестве главным образом для того, чтобы остановить норманнов и других налетчиков, но они выросли повсюду и стали центрами политической дезинтеграции. Как правило, обезвредить их было можно только с помощью утомительной блокады, заставив защитников голодать. Их хозяева вели себя как маленькие короли. Они имели право «тюрьмы и виселицы», то есть могли карать своих крестьян смертью; они чеканили собственные деньги и вели кровопролитные войны против соседей из ближайших замков или против князя-аббата соседнего монастыря. Примитивное чувство чести обычно заставляло их исполнять обещания, которые они давали своему сюзерену, в первую очередь находиться в течение оговоренного количества дней на военной службе. Но если сюзерен был мудрым человеком, он не вмешивался ни в то, как его вассалы управляют своими ленами, ни в ссоры между вассалами. Власть же сюзерена над теми, кто зависел от его собственных ленников, была в лучшем случае непрочной. Существовала старинная поговорка: «Вассал моего вассала – не мой вассал». Если низшие дворяне выполняли свои клятвенные обязательства перед своим господином и не втягивали его в войну с его соседями, этого было достаточно. А их господин (если не был королем), в свою очередь, вероятно, не доверял своему сюзерену.
Таким образом, средневековое французское общество было устроено так: масса крестьян, не имевших ни политических прав, ни положения в обществе, трудились; высокомерные одетые в доспехи бароны грубо командовали этой лишенной привилегий невооруженной толпой, а ослабший король часто дрожал от страха перед своими «вассалами». Эти феодальные дворяне всерьез боялись только громогласных угроз церкви.
Через двести лет после того, как архиепископ Реймсский (глава духовенства страны) надел корону на голову Гуго Капета, молодое королевство Франция находилось в бедственном положении.
Самому ее существованию часто угрожала опасность. Должно быть, часто корона ее короля казалась людям маскарадной короной из мишуры. Чтобы купить поддержку дворян, согласившихся на его коронацию, Гуго Капет был вынужден уступить им так много земель и власти, что почти разорился. Наверное, нигде «организованная анархия» феодализма не торжествовала так, как во Франции перед наступлением 1000 г. Теоретически Гуго Капет получил ту огромную власть, которую имел Карл Великий, за исключением лишь императорского титула. На самом же деле он лишь получал наибольшие почести среди нескольких сотен баронов, каждый из которых называл его «добрый господин» потому, что желал использовать его как узду для своих недружелюбных соседей, но не потому, что хотел иметь над собой короля, действительно обладающего властью.
Гуго имел какую-то власть лишь над своим прежним «герцогством Французским», то есть над окрестностями Парижа и землями к югу от Парижа до Орлеана на Луаре. Этот край обычно называли «королевским доменом», то есть «личными владениями короля». Они были не больше, чем маленький американский штат Массачусетс. И даже внутри этого домена многие мелкопоместные бароны неохотно подчинялись королю, если подчинялись вообще. За пределами этой провинции король не имел почти никакой власти. Великие герцоги Нормандии, Бургундии и Бретани и равные им по надменности графы Фландрии, Шампани и Вермандуа могли каждый вывести в поле столько же вооруженных слуг, сколько имел король, и без колебаний начинали войну против него каждый раз, когда им подсказывали это обида или честолюбие. На юге королевства, правителем которого назывался Гуго, герцог Аквитании и граф Тулузы делили между собой власть над народом, который отличался по языку и обычаям от своих северных соседей. Оба они обычно не слишком утруждали себя даже внешними формами почтения к своему королю. Эти южные земли (Midi) так сильно отличались от Северной Франции, что их жители были почти отдельным народом. Южане говорили на мелодичном лангедокском языке, а на землях вокруг Парижа был в употреблении лангедольский язык, звучавший грубее и резче. У южан было больше роскоши в быту и больше следов прежней галло-римской культуры в обычаях. Северофранцузские монахи сердито заявляли, что в моральном отношении люди за Луарой гораздо более распущены[18]. В любом случае слияние «Франции» и «Юга» в единое счастливое государство сделалось одной из великих задач для будущих поколений, и эта задача должна была стать тяжелой, даже если бы повсеместная феодальная анархия не делала ее намного труднее.
Кроме всех только что упомянутых знатнейших феодалов было множество менее значительных графов, виконтов и баронов, которые правили своими владениями «по милости Божь ей» (то есть не подчиняясь никакому сюзерену), чеканили собственные деньги, ссорились и заключали мир по собственному желанию и тиранили своих подданных. Короче говоря, они делали все, что полагается делать правителю маленького государства, проявляя лишь необходимый минимум уважения к своему «повелителю-королю», жившему в Париже. При таких обстоятельствах настоящим чудом было то, что династия Капета вообще смогла создать жизнеспособное королевство. И все же это было сделано. Из феодального хаоса начала рождаться величественная французская монархия.
Эта монархия набирала силу, а силы баронов убывали. Это происходило в результате совместного влияния многих причин. Вот некоторые из них.
Многочисленные дворяне королевства постоянно сопротивлялись королю, но эти «государи своих поместий» были рассеяны по всей стране и жестоко враждовали один с другим. Они редко были способны настолько забыть о своих разногласиях, чтобы объединиться против короля, и почти в каждой войне некоторые вассалы поддерживали его.
Королям из рода Капетингов везло в одном: очень долго, до 1328 г. в их семье всегда был наследник по прямой линии. Правящий король всегда мог предъявить сына, которого знать могла избрать и короновать младшим королем еще при жизни отца. Долгое время сан короля, по крайней мере теоретически, был выборным, и монарха избирали знатнейшие люди страны. Но примерно к 1200 г. стало совершенно ясно, что Капетингу может наследовать только другой Капетинг, и выборы превратились в пустую формальность. Постепенно их заменила передача королевского сана по наследству. Между членами королевской семьи не было споров о наследовании престола и почти не было войн, которые могли бы еще больше ослабить королевскую власть.
Люди привыкли к мысли, что правителем Франции может быть только Капетинг. К тому же, хотя некоторые из этих королей-Капетингов были заурядными людьми, среди них не было ни одного совершенно недостойного править. А некоторые (причем те, кто был на престоле в самые критические периоды) были явно талантливыми правителями. Так что, если бы пришлось вычислять, пригоден ли кто-то из них для управления страной, величина «личные особенности» в таком уравнении в большинстве случаев была бы со знаком «плюс».
Еще одним решающим фактором было умение этих королей поддерживать дружеские отношения с церковью. В течение всего этого периода папы, как правило, были в ссоре с императорами Германии или открыто воевали против них. Для Рима это была дополнительная причина поддерживать хорошие отношения со вторым по надменности монархом христианского мира. Обычно феодалы притесняли своих соседей – епископов или аббатов, и король, как правило, приходил на выручку служителю церкви. А церковь охотно платила королю за такую защиту мощной моральной (а иногда и физической) поддержкой в его борьбе против вассалов.
Со временем незнатные низшие слои общества, в особенности жители городов, стали добиваться свобод для себя и своей местности, и король часто защищал их против их господ-баронов. Монарх получал за помощь вознаграждение в виде субсидий, которые эти новые подданные были рады ему платить, а деньги всегда означали власть. К тому же каждая потеря баронами части их подданных, разумеется, укрепляла монархию.
И наконец, нужно отметить, что, пока династия Капетингов продолжала существовать, многие феодальные династии угасли. Их уничтожили вражда между семьями, местные войны, Крестовые походы и многие подобные бедствия. Разумеется, король брал себе оставшиеся без господ лены, и мало было тех, кто посмел бы ему противоречить.
Вот как получилось, что молодая французская монархия наконец стала выбираться из имевшей печальный вид пропасти и подниматься к величию.
Однако прошло еще сто лет, прежде чем появились заметные признаки перемены к лучшему. Три короля, правившие после Гуго Основателя, были одними из самых ничтожных представителей своего семейства. Эти короли – Роберт (996– 1031), Генрих I (1031–1060) и Филипп I (1060–1108) – все были слабохарактерными людьми, что было дополнительной трудностью вдобавок к основной, то есть к опасной ситуации, в которой им приходилось действовать. Владения Филиппа даже были немного меньше, чем у Гуго Капета. И вдобавок ко всем этим бедам в его царствование у парижских королей появился очень грозный соперник. Герцоги Нормандии с тех самых пор, как приняли христианство и поселились в этой провинции, были почти независимыми правителями. И вот в 1066 г. нормандский герцог Вильгельм Завоеватель сверг в Англии Англосаксонскую династию и стал в полной мере королем этой страны. Благодаря своей умелой и от важной политике Вильгельм держал Англию в руках гораздо крепче, чем его так называемый сюзерен – основную часть Франции. Было бы вполне естественно, если бы герцог Нормандии, став теперь независимым государем Англии, отказался от вассальной присяги парижскому королю и сбросил своего бывшего повелителя с престола силой оружия. Но этого не произошло. Вильгельм I умер в 1087 г., и его сыновья стали ссориться из-за его владений. Много боевой силы Нормандии утекло в Святую землю: лучшие нормандские воины отправились в Первый крестовый поход (1095–1099) и погибли в нем. Благодаря этому Франция получила передышку и не была полностью разрушена, но угроза сохранялась. Пока герцог Нормандский имел огромное владение за морем, откуда мог привозить золото и воинов, какая надежда на неопасную жизнь могла быть у его «сюзерена» Капетинга? XII в. оказался по-настоящему критическим для Франции.
Монархия Капетингов спаслась от гибели и возвысилась отчасти благодаря разладу среди ее врагов, а отчасти благодаря милости Провидения, которое послало ей целых трех очень талантливых королей. Все они входят в число главных строителей Французского государства. Это были Людовик Толстый, Филипп Август и – последний в списке, но далеко не последний по значению – Людовик Святой.
У Людовика VI Толстого (1108–1137) неповоротливым было только тело. Могучие боевые кони стонали под тяжестью этого тучного, но сильного короля, когда он непрерывно объезжал свои владения, используя всю свою ограниченную власть, чтобы заставить своих подданных уважать королевские законы. Иль-де-Франс (королевские владения вокруг Парижа) были гуще всех средневековых провинций населены не признававшими никакого закона мелкопоместными дворянами, которые захватывали путешественников в плен, грабили их и держали в заложниках, чтобы получить за них выкуп. Они грабили имущество церкви и превратили весь Иль-де-Франс в ад, которому не было конца. Людовик нашел себе достойного восхищения министра и помощника – мудрого аббата Сугерия, который был одним из первых среди великих королевских администраторов, сделавших так много для создания Франции. Сугерий писал: «Долг королей – с помощью силы и прав, изначально принадлежащих их званию, подавлять дерзость дворян, которые разрывают государство на части непрерывными войнами, разоряют бедняков и уничтожают церкви». Для XII в. это были гневные слова. Господин Сугерия час то был вынужден позволять крупным феодалам, жившим за пределами его личных владений, поступать, как им хотелось, но он по меньшей мере стал хозяином в своем собственном небольшом доме. Разбойничьи замки один за другим были осаждены и захвачены, и худшим из притеснителей был дан урок, который должен был запомниться надолго.
В своих войнах против крупных вассалов Людовик, конечно, не имел достаточно военной силы для крупных завоеваний, но все же он доблестно боролся за свои права, и борьба была не совсем напрасной. Силой оружия он удерживал нормандцев на расстоянии, но в 1124 г. Генрих I, герцог Нормандии и король Англии, заключил союз со своим зятем, императором Германии Генрихом V, и королю из рода Капетингов пришлось столкнуться с очень серьезной опасностью. Генрих Германский ввел большое войско в Восточную Францию и даже угрожал Реймсу. Именно тогда и вспыхнул первый сигнал, означавший, что французы объединяются в осознающий себя народ и могут совместно выступить против опасности, идущей из-за рубежа. Людовик VI отважно развернул великую орифламму – огненно-красное шелковое знамя Французского королевства и созвал всех своих вассалов. Большинство из них охотно и отважно явились на зов короля. Великие князья-епископы прислали множество воинов. Граф Шампани и герцог Бургундии привели всех своих слуг, так же поступили главы многих менее значительных правящих семей. Собралась такая армия, что Генрих Немецкий не стал дожидаться исхода борьбы. Он не рискнул вступить в сражение и тихо вернулся домой, а Людовик получил огромный почет и в огромной степени усилил свое влияние. Все признали, что король Франции – не обычный верховный правитель-сюзерен, а священный глава «благороднейшего и христианнейшего народа французов», который назначен этому народу в защитники от чужеземцев. Благодаря своему новому престижу Людовик смог вмешаться в улаживание беспорядков в Оверни (провинции южных земель) и во Фландрии. В обоих случаях он вернулся домой с честью и, как он сам тогда говорил, показал, «что у королей длинные руки».
Другой вид деятельности Людовика был еще опаснее для высшей знати. Во всех городах Франции возникали «свободные коммуны». Горожане писали хартии, где перечисляли нужные им свободы, и требовали предоставления этих свобод от своих правителей. Это было начало того движения угнетенной недворянской части общества, которое потом так сильно изменило мир. Король Людовик не слишком благосклонно относился к таким волнениям, если они происходили внутри королевских владений, но он был хитер и понимал, что такие действия за пределами его земель подрывают власть крупных феодалов – его соперников. Поэтому он использовал свое влияние, чтобы на чужих землях коммуны получали хартии от своих сеньоров. Это не значит, что ему нравились коммуны, но он не мог упустить случай нанести удар по своим крупным вассалам.
Когда Людовик VI умер (в 1137 г.), французская монархия была заметно сильнее, чем при его вступлении на престол (в 1108 г.). Нормандско-английская угроза не исчезла, однако король Франции очень удачно, как он считал, женил своего сына и наследника Людовика VII[19] на Элеоноре Гиеньской, наследнице большого лена Пуату и еще большего по размеру герцогства Аквитанского, в которое входила основная часть южных земель. Благодаря этому владения французских королей могли бы простираться до самых Пиренеев, и король стал бы несравненно сильнее любого из своих вассалов. Но, к несчастью, Людовик VI (1137–1180), хотя и не был совсем слабым человеком, был далеко не таким энергичным, как его отец. Он даже был таким «благочестивым, таким милосердным, таким доброжелательным, что, увидев его, можно было подумать, будто это не король, а какой-то добрый монах». Такой человек не соответствовал духу времени.
В 1149 г., возвращаясь из Палестины после завершившегося полным провалом Второго крестового похода, Людовик VII поссорился со своей жизнерадостной и не слишком благочестивой королевой. Вскоре он развелся с Элеонорой и честно вернул ей ее огромное приданое – почти все южные земли. Элеонора была еще пригодна для замужества, а ее богатства делали ее заманчивой целью для любого знатного поклонника. Вскоре она вышла замуж за Генриха Анжуйского и этим едва не погубила Францию. Ее новый муж был не только графом Анжуйским и герцогом Нормандским, в 1154 г. он стал королем Англии Генрихом II. Этот Генрих, получивший прозвище Плантагенет, был очень энергичным правителем, а его способности были почти равны его энергии. Теперь его владения во Франции были несравненно больше по размеру, чем владения его номинального сюзерена из Парижа. Генрих владел всей Англией и начал завоевание Ирландии. Сначала ему мешали напасть на Капетинга тяжелые ссоры в его собственной семье и то, что ему было трудно держать под контролем Англию. Но с этих пор в течение примерно пятидесяти лет над Французским королевством нависала как дамоклов меч угроза со стороны Анжу. Людовику VII не суждено было дожить до ее устранения.
Этот XII в., конечно, был временем, когда если не французские короли, то французский народ показал, как много в нем скрыто силы. Крестовые походы были в самом разгаре. Строго говоря, эти мощные военные движения, целью которых было освободить Палестину от мусульман, относятся к истории всей Европы, а не одной Франции. Но Франция была их главной родиной, она отправила в эти походы, вероятно, больше воинов, чем все остальные христианские государства, вместе взятые, и принесла столь же большие жертвы. В городе Клермон, в Оверни, в 1095 г. папа Урбан II впервые проповедовал свое «евангелие меча». И мощный хор голосов ответил ему громким криком: «Бог этого хочет!» Среди военачальников армии, штурмовавшей Иерусалим в 1099 г., почти все было французами, или нормандцами, или хотя бы уроженцами спорных земель Фландрии и Лотарингии[20]. Христианское Иерусалимское королевство, существовавшее с 1099 до 1187 г., было почти рабским подражанием феодальной Франции на побережье Востока.
В неудачном Втором крестовом походе Людовик VII был одним из главных участников, а из пяти последующих Крестовых походов, участники которых заслужили так много бесполезной славы, все, кроме одного (Пятого, 1228–1229), осуществлялись в значительной степени под французским руководством и с участием многочисленных французских отрядов. Эти экспедиции неизбежно привели к огромным затратам и страданиям. Разумеется, походы окончились неудачей потому, что крестоносцы, к сожалению, не знали условий, в которых нужно вести боевые действия на Востоке. Но выносливость и мужество крестоносцев были великолепны и стали свидетельством большого ума, энергии и широких возможностей формировавшегося французского народа.
Крестовые походы имели не только религиозные и социальные последствия. Их влияние не ограничилось тем, что вернувшиеся воины привезли домой из Палестины любовь к восточным шелкам, шербетам и другим утонченным удовольствиям и узнали там, как им усовершенствовать укрепления своих замков. Были и хорошо заметные политические результаты. Многие дворянские семьи перестали существовать: все их представители были убиты, а многие другие настолько обеднели из-за затрат, вызванных походами, что были вынуждены покинуть свои феоды. В обоих случаях королевская власть постоянно оказывалась в выигрыше.
Кризис французской монархии произошел при сыне Людовика VII, Филиппе II, который за свои великие дела вскоре после воцарения заслужил себе высокое имя Филипп Август (1180–1223). Именно он больше, чем кто-либо, был творцом величия Франции. Когда он взошел на трон, само существование королевства было под вопросом. Когда он скончался, казалось, что Франции обеспечено будущее, полное побед. Поэтому он – одна из важнейших исторических фигур.
Правда, в наше время у него есть критики, которые не приходят в восторг от этого холодного, осторожного, расчетливого и твердого человека, который при необходимости мог быть львом, но всегда предпочитал роль лисицы. Он был не более неразборчив в средствах, черств душой и жесток, чем большинство его современников, и на его совести мало крупных преступлений. Современные ему хроникеры описывают Филиппа Августа без враждебности, почти дружелюбно: «Он был хорошо сложен и красив. Голова у него была лысая (после болезни), лицо приятное и румяное. Он любил веселье, вино и женщин, был щедр к своим друзьям и скуп с теми, кого не любил, был католиком (то есть благочестивым) в вере, дальновидным и упорным в решениях». Этому королю повезло: он правил очень долго и за это время увидел, как почти со всеми его врагами исполнилось то, чего он желал.
Генрих II, государь Англии, Анжу и Нормандии, не смог разорвать узы номинальной зависимости от Франции из-за раздоров в собственной семье и собственных владениях[21]. Война между ним и Филиппом шла с перерывами до 1189 г., когда новость, что сарацины вернули себе Иерусалим, заставила всех королей Европы на время забыть о вражде между собой и заняться подготовкой Крестового похода. Почти сразу после этого Генрих II умер. Его сын Ричард Львиное Сердце (король Англии Ричард I, прославленный в романе «Айвенго») был великолепным рыцарем и прекрасно командовал своими войсками в бою, но не имел политических и дипломатических способностей своего отца. В конце 1189 г. Филипп и Ричард как соратники направились в Палестину, чтобы вернуть Святой город. Они отправились в поход как друзья, но в пути поссорились, а их ссоры в то время, когда они находились в Сирии, во многом стали причиной неудачи несчастливого Третьего крестового похода. В 1191 г. Филипп с отвращением «умыл руки» в этом деле и поспешил обратно во Францию, как только был взят укрепленный город Акра. Ричард повел себя более достойно: он оставался в Сирии до 1192 г., пока не стало очевидно, что Иерусалим не будет отвоеван. Тогда он заключил перемирие с мусульманским султаном Саладином и тоже отправился домой. Однако, проезжая через Европу, он был предательски брошен в тюрьму своим врагом, герцогом Австрийским Леопольдом, и несколько лет провел в плену в Германии. Филипп же в полной мере использовал эти годы, чтобы интриговать против своего соперника вместе со всеми недовольными жителями анжуйских земель, подрывая его власть.
В 1194 г. Ричард снова вышел на свободу. Он был таким искусным полководцем, что сумел прекратить интриги Филиппа на пять лет, пока сам не погиб (в 1199 г.) от случайной стрелы при штурме замка в Южной Франции. Эта стрела определила многое в истории. Трудно сказать, как сложилась бы судьба Франции, если бы этому талантливому военачальнику было суждено прожить долгую жизнь. После Ричарда законным наследником, по меньшей мере части его владений, вероятнее всего, был его племянник, принц Артур. Но младший брат Ричарда Джон (король Джон, или Иоанн Английский, вероятно самый большой негодяй, когда-либо позоривший собой английский трон) протянул руки ко всем владениям брата. «Анжуйская» доля наследства, составлявшая его значительную часть, была разделена. Филипп, как сюзерен «обязанный вершить правосудие», поспешил встать на сторону молодого Артура и объявил, что тот имеет законные права на Анжу, Нормандию и Британию.
Джон был не совсем бездарным полководцем. Он нанес поражение Артуру, захватил того в плен, а потом довершил начатое дело, убив племянника. Теперь Филипп имел дело с совершенно ясной и точно определенной феодальными обычаями ситуацией. Джон убил наследника трех крупных ленов и незаконно захватил их, то есть «разорвал все узы вассальной верности». Поскольку подлинных наследников не было, эти лены возвращались в руки сюзерена. Джон был так жесток и так непопулярен у французских баронов, что большинство других вассалов Филиппа охотно поддержали короля Франции. А вассалы Джона часто сражались за своего сюзерена очень вяло или не сражались вообще.
Зимой 1203/04 г. Джон трусливо, как и следовало ожидать от этого труса, укрылся в Англии. Тогда Филипп усилил осаду большого замка Шато-Гайяр, вероятно самого мощного замка в то время. Ричард построил его на месте, имевшем первостепенную важность, чтобы перекрыть путь из Парижа вниз по Сене в Нормандию. Защитники сражались доблестно, но к ним не пришла помощь извне. Инженеры Филиппа прорвали одно за другим внешние укрепления Шато-Гайяра, и в апреле 1204 г. этот большой замок сдался. В июне того же года Руан, столица Нормандии, открыл свои ворота, и почти все бывшее герцогство норманна Ролло вскоре оказалось в руках Филиппа. После такой демонстрации силы было достаточно легкой прогулки французских войск по землям вдоль Луары в 1204 и 1205 гг., чтобы Мэн, Турень, Анжу и Пуату сменили сюзерена. К 1208 г. у Джона остались во Франции почти только Сентонж и Гасконь – часть прежнего Аквитанского герцогства в южных землях. Огромная когда-то Анжуйская империя почти исчезла.
Однако Джон не сдался без борьбы. В 1214 г. Филипп столкнулся с настоящим кризисом. Из-за выгод, получаемых от анжуйских земель, во многих регионах Франции начались мятежи, во многих ее частях у короля появились враги. Но главным было то, что из-за них император Германии Отто (иначе Оттон) IV вторгся во Францию через Фландрию. Вместе с ним в походе были почти все князья из нидерландских династий. Эти правители маленьких государств, чья верность всегда была ненадежной, не желали слишком большого усиления ни Франции, ни Германии. Опасность была велика. Сам Джон тоже начал вводить свои войска во Францию там, где граница проходила вдоль Луары, но Филипп созвал всех своих вассалов и получил значительную помощь от ополчений новых «вольных городов». Горожане старались показать, как они благодарны королю, своему защитнику, и как много пользы могут ему принести. Французы и немцы сошлись в бою возле моста у Бувина (между Лиллем и Турне). Это было средневековое сражение, когда противники просто бросаются друг на друга: в нем было мало полководческого искусства, зато много отваги. Филипп находился в самом центре битвы. Немецкие пехотинцы стащили Филиппа с коня и едва не взяли в плен, но его рыцари обрушились на них и выручили своего короля. В конце концов северофранцузские рыцари своими неудержимыми атаками очистили поле и от немцев, и от их фламандских и английских помощников. Оттон в свою очередь тоже едва избежал плена и с позором бежал, оставив в плену у французов шесть графов и двадцать пять менее знатных баронов, а также множество рыцарей и простолюдинов.
Жители королевской столицы радостно встречали вернувшегося Филиппа. До нас дошел рассказ о том, как в день его въезда в Париж голоса духовенства, певшего Te Deums, смешивались со звоном колоколов и ревом труб. Дома были увешаны шторами и коврами, а улицы выстланы зелеными ветками и цветами. Все горожане, священнослужители и студенты университета с пением хвалебных песнопений вышли встречать короля. Это поистине была победа всего народа: ополчения коммун сражались так же отважно и сыграли в битве не меньшую роль, чем феодальные воины[22]. Французский народ находил себя и чувствовал, что полезен и силен. Поэтому битва у Бувина осталась в истории как одно из сражений, решавших судьбу мира.
Джон после своего поражения при Бувине быстро ускользнул обратно в Англию, не рискуя нанести противнику серьезный удар. Давнее наследство герцогов Нормандских было окончательно потеряно для него. Филипп примирил враждующие партии завоеванной им страны, действуя при этом с изумительным мастерством: он умел сделать так, чтобы завоевание не казалось обидным, и одновременно укрепить свою новую власть. Новшества, которые король Филипп ввел в управление более обширными теперь королевскими землями, показывают, что он был не только успешным воином, но и великим государственным деятелем. Не углубляясь в технические подробности, скажем, что он стал назначать должностных лиц высшего уровня, которые назывались бальи, для надзора за королевскими чиновниками более низкого уровня – прево и для борьбы со злоупотреблениями и умело осуществил финансовые меры, благодаря которым смог нанимать в свою армию солдат[23] и выплачивать им стабильное жалованье, то есть не зависеть только от феодальных войск; этот король также явно благоволил новым «вольным городам», которые давали простор для действий и свободу людям из низов общества.
В 1223 г., когда Филипп Август умер, он оставил после себя королевство, в котором к личным владениям королей прибавились огромные территории от Пикардии почти до центра Аквитании. В 1180 г. его владения делились всего на тридцать восемь округов, во главе которых стояли прево, в 1223 г. во Франции было уже девяносто четыре таких превоства. Королевские доходы увеличились более чем в два раза. Феодалы дрожали от страха перед своим королем и твердо знали, что с этих пор они в лучшем случае лишь привилегированные могущественного монарха. Другими словами, в правление Филиппа Августа родилось великое государство Франция.
Кроме того, в это царствование был сделан важный шаг к тому, чтобы сделать область с центром в Тулузе, восточную часть южных земель, зависимой от Северной Франции.
Филипп не участвовал в этом процессе непосредственно, но ничего не делал, чтобы ему помешать. По словам историков, в этом цветущем краю с мягким климатом католическая церковь ослабила свою хватку и значительная часть населения заразилась «альбигойской» ересью – учением смешанного типа, которое было наполовину христианством, наполовину восточной мистикой и отвергало почти все ортодоксальные догмы. Поскольку мягкие меры, то есть старания победить ересь силами проповедников, потерпели неудачу, в 1207 г. великий папа Иннокентий III велел проповедовать «всеобщий Крестовый поход» против еретиков. Многие северофранцузские бароны были в восторге от его призыва: их звали воевать за веру в стране, которая находилась рядом и была полна добычи. С 1207 по 1218 г. очаровательные Прованс, Тулуза и другие области юга были полностью разорены, их города разграблены, рост местной цивилизации остановлен и было убито множество местных жителей, в том числе немало благочестивых католиков[24]. Могущество графов Тулузских, когда-то независимых почти как короли, было почти полностью уничтожено.
В конце концов, пожар Крестового похода погас сам: его топливо выгорело. Еретики исчезли, а выжившие южане в отчаянии повернули оружие против захватчиков и прогнали большинство из них со своей земли. Но для того чтобы иметь хоть какую-то защиту от врагов, граф Амори Тулузский и южные бароны были вынуждены позвать на помощь короля Франции и поклясться, что будут его смиренными вассалами. При сыне Филиппа, Людовике VIII, почти вся эта огромная часть южных земель была полностью взята под королевский контроль. Теперь знамена Капетинга гордо развевались на всей территории от серых вод Ла-Манша до синего Средиземного моря.
Лувр при Филиппе Августе
Этот дворец, одновременно служивший крепостью, был намного меньше современного Лувра
Правление Людовика VIII (1223–1226) оказалось таким коротким, что он не успел оставить сколько-нибудь заметный след в истории своего времени. Он оставил трон своему сыну, которому при вступлении на престол было двадцать один год. Этот сын, Людовик IX (1226–1270), известный в более поздних летописях как Людовик Святой, стал следующим после Филиппа Августа главным творцом величия королевства Франции.
Когда он официально вступил на престол, королевская власть столкнулась с угрозой, которая всегда была серьезной опасностью для любой феодальной монархии, – с регентством. Правление слабого регента, который ведет дела от имени малолетнего короля, стало бы настоящим расцветом для крупных баронов. Но все эти себялюбивые раскольники не учли, что им придется иметь дело с Бланкой Кастильской, талантливой и энергичной матерью короля. К тому времени, как ее сын вырос и стал править самостоятельно, она поставила феодалов на положенное им место. Король Англии Генрих III (сын Джона), мечтавший вмешаться в дела Франции, был разбит и прогнан домой, и власть французских королей над Тулузой, установленная Людовиком VIII, стала еще крепче. Мать и сын, видимо, всегда жили в полном ладу между собой и относились друг другу с полным доверием. Она много лет продолжала быть опорой власти сына, управляя Францией, когда он уезжал в Палестину или отправлялся в Крестовый поход. До самой ее смерти (в 1252 г.) трудно было сказать, кто первый человек в королевстве – она или король. Характер этой могущественной королевы-матери иногда кажется суровым и мужским, но никто не может отрицать, что она была очень талантлива и использовала свои большие способности на благо Франции. В ее лице мы видим, должно быть, первую из тех выдающихся женщин, которые сыграли такую большую роль в истории французской монархии.
В правление Людовика Святого произошло мало драматических или выдающихся событий, если не считать два его Крестовых похода (подробности которых выходят за пределы темы этой книги). Но он произвел огромное впечатление на своих современников. Его друг и боевой соратник, господин де Жуанвиль, оставил нам восхитительное описание жизни Людовика – наивный, но полный любви и, видимо, очень точный рассказ о личности и делах этого действительно хорошего человека. Биограф описывает его так: стройная фигура, большие голубые глаза, длинные светлые волосы и «манеры как у девушки». Но в его действиях не было ни капли робости, когда он отдавал под суд недовольных баронов, нарушавших его законы, или когда шел в бой, если его честные старания сохранить мир не приводили к успеху. В нем средневековая набожность сияла самым ярким светом[25].
Его благочестивая жизнь доказала, что можно было очень строго соблюдать правила относительно молитв и постов, заботиться о больных, собственными руками раздавать хлеб нищим, построить много церквей, больниц и других благотворительных учреждений и одновременно поддерживать закон и порядок в большом королевстве, прогонять со своей земли врагов, вводить справедливые законы и заставлять порочных людей дрожать от страха перед справедливым гневом короля.
В 1248 г. Людовик «принял крест», то есть отправился в Крестовый поход. Дух первых крестоносцев слабел в новых поколениях. Теперь люди уже не так сильно, как на сто лет раньше, хотели спасти свои души паломничеством в Иерусалим. Однако Людовик считал, что его долг – еще раз попытаться вернуть христианам Святой Город. Этот поход оказался таким же неудачным, как предыдущие. Король высадился в Египте, какое-то время отважно сражался там, а потом, в 1250 г., попал в плен к магометанам и освободился только после того, как уплатил большой выкуп. Однако своим героическим поведением в плену он заслужил восхищение не только у всего христианского мира, но и у державших его в неволе египтян, которые, как утверждают, рассматривали возможность сделать его своим султаном, если бы он принял ислам.
В 1254 г. Людовик вернулся во Францию и в течение следующих пятнадцати лет посвящал себя заботам о счастье своего королевства. Он, несомненно, был самым могущественным монархом своего времени. До нас дошли восхитительные описания того, как он любил вершить правосудие и проницательно, умело и быстро судил как знатных, так и простых людей, сидя вместе со своими судебными советниками под дубом в королевском Венсенском лесу. Папы внимательно прислушивались к почтительным, но очень ясным и понятным советам, которые король иногда давал им по поводу их жалких споров из-за мирских проблем. Могущественные бароны просили его быть судьей в их спорах даже в тех случаях, когда по феодальным обычаям имели право обнажить свой меч. Беспокойные партии или члены династий в Англии и в Лотарингии (которая тогда еще не была частью Франции) просили его решать споры между ними. Все это означало, что король Франции добавлял к своему вещественному могуществу ту не поддающуюся точному определению, но часто непреодолимую моральную силу, которая возникает, когда земное величие, сила ума и высокий дух соединяются в одном человеке.
В государственных делах Людовик не был большим новатором, но он, не нанеся ни одного сильного удара по феодализму, постоянно укреплял авторитет королевской власти. Он употреблял все свое влияние, чтобы запретить или по меньшей мере сделать нежелательным «благородное право» решения судебных дел поединком, когда переданное в суд дело решалось сражением между защитником одной стороны и защитником другой, а не честным путем предоставления доказательств судье, который, рассмотрев их, выносит приговор. Была создана система королевских судов, устроенная так, что люди легко могли обращаться в эти суды для пересмотра решений, вынесенных судами их сеньоров. Со временем (во всяком случае, при рассмотрении важных дел) «суд сеньора» стал лишь номинальным и предварительным перед тем, как дело передавалось «королевскому правосудию». Таким образом, Франция была подчинена единой системе судов, что еще больше объединило страну. Еще одним шагом к объединению государства, и даже шагом по более прямому пути, была другая мера Людовика. Он реформировал систему чеканки королевских денег и положил в ее основу новые, честные принципы. С этого времени королевские монеты были в обращении на всей территории королевства. А жалкие маленькие монетные дворы баронов из-за коррупции и неодинаковых стандартов чеканили монеты, которые были в ходу только во владениях выпустившего их сеньора. Разумеется, хорошие деньги короля быстро вытеснили из обращения плохие деньги феодалов. Невозможно даже подсчитать, какое огромное значение это имело для развития экономической жизни Франции.
Авторитет и престиж монархии Капетингов неизмеримо выросли за сорок четыре года правления этого гениального человека – мудрого, отважного, энергичного и искренне набожного. Людовик IX был идеальным королем-христианином XIII в. Даже злоключения в Египте, казалось, были посланы этому королю Небом для того, чтобы ярче были видны его добродетели. Еще при жизни его стали называть святым, и смерть Людовика усилила этот ореол святости. В 1270 г. король Франции снова отправился в Крестовый поход, хотя все его приближенные – люди с большим жизненным опытом – настойчиво отговаривали его от этой войны. Европа устала от Крестовых походов, и только огромное личное влияние короля помогло собрать и отправить в путь на кораблях большую армию. По пути в Палестину это войско высадилось возле африканского города Туниса, чтобы усмирить его правителя, мусульманского князя, который угрожал Сицилии. Вскоре в лагере крестоносцев началась чума, король заболел и после короткой болезни умер (в том же 1270 г.). Разумеется, поход сразу же был прерван, и армия вернулась во Францию с гробом любимого монарха. Современники единодушно считали этого правителя святым, и в 1297 г. (необычно короткий срок для католической церкви) Людовик был положенным образом канонизирован в Риме и его имя внесено в календарь. С этого времени французские короли могли гордиться тем, что в их роду были не только государственные деятели и воины, но и святой, признанный церковью, достойный равняться с мучениками, святыми епископами и вдохновенными богословами. Пока в умах и душах людей сохранялся дух Средних веков, это было огромной выгодой для династии Капетингов.
В 996 г. Гуго Капет оставил после себя небольшое родовое владение – Париж и земли вокруг него – и слабые претензии на вассальные обязанности многочисленных непокорных феодалов. В 1270 г. святой Людовик, его прямой потомок, оставил в наследство своему сыну Филиппу III прочное и обширное государство, которое простиралось от моря до моря, огромные доходы и грозную армию. Франция заняла в Европе высокое положение и с тех пор никогда его не теряла, несмотря на то что много раз переживала тяжелые испытания.
Глава 5. Жизнь в феодальную эпоху
Феодальный замок. Сюзерен и вассал. Убожество жизни всех людей феодальной эпохи. Какие общественные группы включала в свои ряды церковь. Интеллектуальная жизнь в Средние века. Крестьяне. Их тяжелое положение. Свободные крестьяне. Внешний вид города
Средневековые хроникеры часто рассказывали о делах баронов и королей феодальных времен скучно и без подробностей. Их сухие летописи редко волнуют наше воображение, если мы не можем представить себе мир, в котором они жили. Жизнь во времена первых Капетингов, когда королевская власть была очень слаба, а феодальная анархия – в самом расцвете сил, часто кажется нам более далекой, чем жизнь Древних Афин или Рима, несмотря на то что по времени Гуго Капет гораздо ближе к нам, чем Перикл или Август. Не может быть и речи о том, чтобы дать здесь идеальное описание условий жизни в феодальную эпоху: на это не хватило бы и гораздо более длинной книги. К тому же в Средние века дела были такими запутанными, что любое обобщение относительно того, как люди тогда жили, думали и действовали, становится более рискованным, чем обычно. Тем не менее мы можем считать некоторые черты тогдашней жизни типичными и подлинными и рассказать о них. Даже очень неполное описание тех условий, в которых королям Франции пришлось строить их государство, поможет нам понять, какая трудная задача стояла перед ними, как медленно и с каким трудом французский народ шел вперед перед тем, как смог превратиться в великую современную нацию.
* * *
В Средние века люди делились на три основных сословия – феодалы-воины, привилегированные священники и крестьяне, обязанные служить[26]. Мы рассмотрим жизнь только двух первых классов, потому что обычно только они считались по-настоящему важными.
Как правило, ячейкой жизни в Средние века был не город и не лишенная укреплений крестьянская усадьба, а феодальный замок – укрепленное жилище с большими или меньшими претензиями на внешнюю роскошь, стоявшее, если была возможность, на высоком холме. Часто возле замка располагалась маленькая деревня, где прижимались одна к другой грубые хижины, в которых жили крестьяне владельца замка. В начале феодальной эпохи эти замки были устроены очень просто. В большинстве случаев это была всего одна башня – вначале деревянная, позже каменная. Она могла быть круглой или квадратной, а окружали ее только грубый забор и ров. Здание было выше любой лестницы, которую могли бы использовать осаждающие. Проемы в белой каменной кладке стен начинались только на большой высоте над землей. Еще выше располагалась узкая дверь, куда можно было войти только по шаткому деревянному мосту, который было легко разрушить, или по хрупкой лестнице, которую каждую ночь поднимали вверх. Внутри башня делилась на несколько темных, похожих на пещеры комнат, которые располагались одна над другой и были связаны между собой лестницами. Единственным назначением такого неуютного замка была защита его обитателей, причем защита просто с помощью высоты и мощи[27] здания, а не путем умелого расположения его частей.
Вид снаружи
Вид внутри
Постепенно эта простая башня-донжон стала сложнее[28]. Первоначальную башню сохраняли, но лишь в качестве возможного последнего оплота в большом комплексе укреплений. Появились внешние ограды, рвы с водой, боковые башни, ворота, защищенные подъемными мостами и опускающимися решетками, а также большой двор, окруженный достаточно пригодными для жилья зданиями. Донжон по-прежнему стоял в центре и как будто хмурился, глядя с высоты на остальные постройки. Для противника прорвать внешние укрепления означало лишь оказаться перед более мощными, внутренними. Самым лучшим средневековым замкам было достаточно иметь очень маленький гарнизон. Даже не самый сильный барон мог, укрываясь за такими стенами, нанести поражение королевской армии.
В этом замке (более или менее крупном в зависимости от могущества и честолюбия владельца) жили сам хозяин-феодал (сеньор), его семья и несколько десятков или сотен личной прислуги – воины, слуги и служанки. Для нормального средневекового дворянина законным было лишь одно занятие – воевать или готовиться к войне. В начале феодального периода случаи, когда французский юноша из знатной семьи учился читать и писать, были исключением[29]. С самого раннего возраста его учили воевать – ездить на одном из свирепых боевых скакунов, легко и быстро прыгать в тяжелых доспехах и при этом наносить удары, в совершенстве владеть мечом и копьем. Отец мог отправить юношу ко двору своего сюзерена «на воспитание», то есть для обучения всему, что полагалось знать воину благородного происхождения. Там он становился «оруженосцем» сюзерена и ему давали уроки придворного церемониала, обучали вежливости, положенной при обращении с женщинами благородного происхождения, учили прислуживать на пирах и празднествах, но основная часть его образования была все же военной. Когда юноша достигал возраста примерно двадцати лет, его обучение завершалось. Теперь он был первоклассным воином; на огромном коне и в грозных доспехах он один был равен двадцати хуже обученным и плохо вооруженным пехотинцам. В конце учебы сюзерен устраивал для него хорошо продуманный праздник, на котором молодому дворянину вручали новые шпоры и опоясывали его новым мечом. В заключение этой церемонии сюзерен по обычаю ударял его рукой по голове или по плечу и произносил: «Будь доблестным!» С этого момента молодой оруженосец становился рыцарем[30] (на латыни это звание называли miles, что значит «воин»).
Если этот молодой человек был старшим сыном в семье, то он мог надеяться, что со временем унаследует замок своего отца. Младший сын должен был стать авантюристом, воевать на службе у какого-нибудь правителя и попытаться благодаря его милости добыть себе оставшийся без держателя лен или жениться на богатой наследнице.
Время, которое дворяне проводили в своих замках, не занимаясь военными делами, они могли коротать, устраивая бесконечные охоты с собаками или соколами, буйные празднества (очень часто переходившие в бесстыдные скотские попойки) или организовывая турниры – развлекательные бои, в которых было много смертельного риска. У среднего феодального сеньора было мало спокойных занятий. Чтобы зимний вечер был сносным, сеньор мог коротать его, играя в шахматы или слушая песню менестреля о «великих делах Роланда и Карла Великого», но, вероятно, такие развлечения казались ему очень скучными[31].
У женщин, живших в замке, характер был под стать нраву их мужчин. Супругу сеньора, вероятно, выдали за него замуж ее родители, когда она была еще почти ребенком, и при этом обращали мало внимания на желания дочери[32]. Иногда муж обращался с женой почти так же грубо, как с глупым неуклюжим слугой. Но жена, в свою очередь, становилась суровой и властной женщиной, которая хорошо умела наказывать свои десятки «неряшливых и ленивых» служанок и командовала гарнизоном замка, когда муж уходил в набег. Это было суровое время, и тот, кто был слаб, редко бывал в состоянии пережить физические опасности, подстерегавшие детей.
Теоретически, феодальный порядок был в высшей степени человечным: «повелитель» и его «подчиненный» договаривались о том, что будут хранить верность друг другу и защищать друг друга, а также об условиях службы и наградах. На самом же деле этот порядок поощрял принуждение, нарушение клятв, агрессию и восстания. Практически каждый дворянин, то есть человек, принадлежавший к высшему, военному сословию феодального общества, был чьим-то вассалом[33] и имел своих вассалов. Вассал был обязан опускаться на колени перед «своим милостивым господином» и дать клятву быть ему полезным помощником в обмен на предоставленный ему земельный лен. Главными обязанностями верного вассала было давать своему сюзерену хорошие советы[34], оказывать ему, в некоторых случаях и в определенном ограниченном размере, денежную помощь, и в первую очередь сражаться ради него (вместе со своими сторонниками) в течение определенного количества дней в году, а также, разумеется, не делать ничего, что повредило бы интересам сюзерена. Тот, в свою очередь, обещал своему вассалу «правосудие и защиту».
Обычно ценность такого договора зависела от того, сколько силы и такта проявил сюзерен, требуя его заключения, и от нужд вассала. Честолюбивый и умелый правитель мог создать крупное феодальное владение, но его слабому наследнику все вассалы «отказали бы в почете», лен быстро рассыпался бы на куски, и наследник потерял бы его. Многие бароны, формально находившиеся в положении подчиненных, держали свои многочисленные лены от двух или более сюзеренов одновременно. Часто случалось, что эти сюзерены были в состоянии войны один с другим. В результате вассал стравливал их между собой и получал от этого большую выгоду.
Часто «оказание почета» становилось простой формальностью, и вассал фактически был независимым правитем[35]. Кроме того, вопрос об отношениях его собственных вассалов к его сюзерену всегда был деликатным. Сюзерен всегда старался забрать у зависевших от него феодалов своих подвассалов (то есть их вассалов) и сделать тех, кто зависел от его подчиненных, своими непосредственными ленниками, чтобы они были больше подчинены ему самому и оттого охотнее ему служили. Существовала поговорка: «Вассал моего вассала – не мой вассал». Из-за разногласий по этим вопросам подчиненности подвассалов между феодалами шли бесконечные споры.
Феодальная эпоха была временем непрерывных войн. Вероятно, каждый барон был по различным причинам обижен на равного ему владельца соседнего лена, на своего сюзерена (или сюзеренов) и на своих вассалов. Даже самые низшие из дворян дорожили правом вести собственную «частную войну». Церковь, которой иногда помогали короли, пыталась сдерживать эти местные войны с помощью «Божьего перемирия» (прекращения боевых действий с ночи среды до утра понедельника, а также в праздники) и многих других мер.
Но решать свои проблемы мечом в бою было «благородным правом» дворян. И часто бароны-соперники действительно шли на уступку, если решали свой спор в единоборстве («судебном поединке») в присутствии судей, которые обеспечивали соблюдение правил боя, а не созывали своих вассалов, родственников и т. д. и не втягивали весь свой край в войну.
Права на охоту и ловлю рыбы, границы владений, раздел лена между братьями, требование матери-вдовы, чтобы ей выделили приданое, разногласия по поводу права сюзерена объявить лен свободным – вот лишь немногие причины, из-за которых феодалы могли обречь целую общину на нищету и несчастья. Эти феодальные войны были полной противоположностью тому, как их представляет себе большинство наших современников. В них было мало крупных сражений[36]. Слабые феодалы запирались в своих замках. Более сильный противник старался принудить своих врагов к сдаче, сжигая их беззащитные деревни, разоряя их поля, угоняя их скот, преследуя их крестьян. Боевые действия обычно ограни чивались единоборствами, налетами, засадами или мелкими стычками. Страдали от войны в основном крестьяне – беспомощная добыча обеих сторон. Со временем один из противников выдыхался, и наступал мир, хранить который противники, как положено, клялись на ларце с реликвиями святых в соседней церкви. Но война могла возобновиться в любой момент, если недовольная сторона видела новые возможности для победы. Таким образом, никакого нравственного благородства не было в этих войнах, которые иногда так прославляют как воплощение «рыцарской роман тики».
В X в. феодальная анархия была наиболее сильна. Примерно с 1000 г. положение постепенно и непрерывно улучшалось, но и намного позже во Франции, как и во всей остальной Европе, к сожалению, не было закона и порядка.
Нам нужно напрячь воображение, чтобы представить себе время, когда нормой повседневной жизни была война, а не мир и когда «взять в руки оружие» было почти таким же обыкновенным делом, как надеть плащ. Поездка на любое расстояние без собственного оружия и без надежной охраны, если была возможность ее иметь, была практически немыслимым делом почти для всех, кроме служителей церкви[37] и крестьян в лохмотьях.
Помимо этого господства вооруженного насилия, жизнь в феодальную эпоху имела много других недостатков. Практически все люди, кроме служителей церкви, были неграмотны. И знатные бароны, и простые крестьяне становились жертвами грубых суеверий. Церковь правильно поступала, придавая огромное значение предупреждениям насчет адского пламени: только звериный страх – боязнь вечно гореть в аду – удерживал многих дворян-грешников в рамках приличий. Ни в замках, ни в лачугах не было даже зачатков современной санитарии, а значит, не было и ее результата – здоровой жизни. На полу огромных залов, в которых сеньоры и их слуги пировали и напивались допьяна, лежал толстый слой тростника, который меняли всего несколько раз в год. В этот тростник бросали большинство объедков. То, что не съедали многочисленные собаки, оставалось лежать на полу до далекого дня уборки. Вероятно, даже в 1200 г. в Европе не было ни одного замка (даже замка великого короля), где современный человек не пришел бы в ужас по очень многим причинам, которые оскорбляли бы его зрение, слух и обоняние. Медицинская наука часто была просто шарлатанством[38]. Среди детей велика была доля мертворожденных, а значительная часть тех, которые родились живыми, умирали в младенчестве. Короче говоря, из-за плохой санитарии, отсутствия медицинской помощи и незнания законов здоровья доля людей, доживавших до старости (даже если не учитывать убитых на войне), была гораздо меньше, чем сейчас.
Это была эпоха, когда действительно «выживали самые приспособленные».
Первоначально средневековый замок был похож на унылую казарму, и для людей Средневековья было счастьем то, что они проводили под открытым небом столько времени, сколько было возможно. Позже замки стали более пригодны для обитания, а под конец в них появилась грубая роскошь, хотя они никогда не были по-настоящему уютными в хмурые зимние дни.
Но, на взгляд человека с современными представлениями о жизни, самым большим недостатком Средневековья были сильнейшие ограничения для ума и однообразие. Большинства интеллектуальных развлечений не существовало, идей было очень мало, кругозор людей был узок[39], круг занятий не менялся – попойки, соколиная охота, охота на медведей, турниры и война. В такой, почти мертвящей душу обстановке жил сеньор крупного феодального владения. Неужели людям с более слабым телом и более тонким умом действительно некуда было уйти из этой тоскливой застойной жизни? Нет, уйти было можно – в церковь.
С 900 до 1250 г., а возможно, и позже самые умные люди Европы обычно были служителями церкви. Она вбирала в себя ту энергию, которая сегодня питает собой не только духовенство, но также адвокатов, врачей, учителей и представителей многих других важных профессий. Церковь стала участницей системы феодального землевладения. Вероятно, примерно треть земель Западной Европы была в держании у духовных лиц, которые «оказывали за них почет» своим сюзеренам и сами принимали такой же почет от своих мирян-вассалов. Многие бароны, умирая, чувствовали угрызения совести после буйной жизни и завещали большинство своих поместий какой-нибудь епархии или аббатству «на вечную пользу своей душе». Разумеется, по законам и мнению общества право на существование имела только одна церковь – католическая.
Иметь две дозволенные религии на земле казалось так же немыслимо, как если бы в небе было два солнца. По мирским и церковным законам смерть на костре была для еретиков такой же неизбежной, как смерть на виселице для убийц. Никто даже не мечтал о том, чтобы это было иначе.
Служители церкви делились на два основных разряда – белое духовенство, то есть те, кто жил «в миру» и «заботился о душах», и черное духовенство, то есть монахи, подчиненные монашескому уставу. Епископы часто получали большие доходы с имений, принадлежавших их епархиям (то есть церковным округам). Обычно епископ был верховным феодальным сюзереном значительной территории и не только управлял ее церквями, но и занимался светскими делами своего владения. Часто епископы бывали королевскими министрами, дипломатами, а иногда даже стояли во главе армий. Иногда люди незнатного происхождения достигали епископского сана, но, как правило, епископы были из дворянских семей: жизнь доказала, что соседняя епархия – удобное место для младших сыновей знатного рода, куда они могут уйти, когда старший сын получит семейные владения. Приходских священников низкого ранга обычно назначал на должность богатый мирянин, который поддерживал своими пожертвованиями местную церковь (или его наследники). Часто эти священники были крестьянскими сыновьями. Они, конечно, были по сану ниже епископов, но крестьяне почитали этих своих сородичей не только как священных посредников между Богом и человеком, но часто и как единственных людей в приходе, которые имели хоть какое-то образование, то есть умели читать, писать и немного говорить на латыни.
Среди черного духовенства аббаты – настоятели монастырей – часто были влиятельными феодалами, почти равными по силе самым могущественным епископам. Монахи, как правило, были более образованными, чем приходские священники, поскольку меньше работали с мирянами и могли посвятить свободное время учению. В худшем случае, как нас уверяют, монахи проводили жизнь в праздности и объедались на обедах. В лучшем случае монах напряженно трудился, выполняя всевозможные мирные дела, и постоянно упорно учился. Часто аббатства, находившиеся рядом, сильно отличались по образу жизни. В одном порядки могли быть очень мягкими, а монахи другого славились ученостью и аскетизмом.
У всех служителей церкви было лишь одно общее требование: чтобы их не судили обычным светским судом. Священника должен был допрашивать его епископ, монаха – его аббат. Церковь фактически была «государством в государстве».
Примерно до 1200 г. почти вся интеллектуальная жизнь, видимо, была сосредоточена в церкви[40] – сначала только в монастырях, которые имели школы для обучения своих послушников и будущих священников, а позже в школах при крупных соборах. Знания, которые хранили эти монастыри, были почти все записаны на латыни и основаны либо на Библии и трудах ранних христианских писателей (отцов церкви), либо на сочинениях таких древнеримских авторов, как Цицерон и Вергилий. В этой науке было невероятно мало оригинальности: почти никто не исследовал сам явления природы. Каждому ученому очень хотелось сказать, например, «Так говорил святой Иероним» и считать, что обсуждение вопроса полностью прекращается, если процитировать освященного временем почитаемого автора. Конечно, из-за этого происходило много нелепых недоразумений, если древние ошибались или если их слова были неверно поняты (что случалось очень часто). Тем не менее огромной заслугой монахов было то, что они поддерживали хотя бы какую-то интеллектуальную жизнь в Средние века – в эпоху бурь и потрясений. Их другой, не менее великой заслугой было то, что они сохранили достижения античной цивилизации до наступления следующей эпохи, когда люди смогли на основе этих достижений построить новую, более благородную цивилизацию. Несмотря на то что средневековые монахи рабски преклонялись перед изречениями «Учителя Аристотеля»[41], писали на пергаменте длиннейшие книги о неясных тайнах богословия и в своих совершенно не научных «хрониках» так плохо описывали события своего собственного времени, они все же были героями в эпоху, когда, наверное, было невероятно трудно стремиться к чему-то, кроме феодальной славы[42].
Примерно к 1200 г. презираемые до этого «народные» языки, на которых говорили миряне (северофранцузский, провансальский и др.), стали применяться в литературе, но величавая латынь средневековых служителей церкви еще долго сохраняла свою роль языка образованных людей. Другие языки с трудом вытеснили ее с этого места лишь ко времени протестантской реформации[43].
Средневековое общество было очень религиозным, но набожность принимала особые, характерные для этого общества формы. Люди того времени проявили свое религиозное усердие в постройке большого числа великих архитектурных сооружений, которые стоят и теперь как славные памятники лучшему, что было в эпохе Средних веков. Великие средневековые церкви, разумеется, есть в Германии, Италии, Северной Испании и Англии, но именно во Франции они приобрели самый изысканный и благородный облик.
Иногда их строили могущественные бароны, иногда епископы или аббаты. Но часто целая община объединялась и преподносила Богу этот великий дар, в течение примерно ста лет расходуя свои богатство и силу на постройку величавого собора[44]. Сначала это были церкви в романском стиле (с круглыми арками). Примерно после 1150 г. их начали строить в более элегантном готическом стиле (с остроконечными стрельчатыми арками). Этот стиль возник, видимо, в Иль-де-Франсе, поблизости от Парижа[45]. Величайшими образцами этого стиля стали такие французские соборы, как парижский Нотр-Дам, и еще более прекрасные соборы в Амьене, Шартре и Реймсе. Многие другие соборы, например в Туре, лишь немногим уступают им. Эти «каменные симфонии» с башнями, которые словно взлетают в небо, высокими сводчатыми крышами, сложной каменной резьбой, множеством статуй святых, большими окнами с неподражаемыми витражами свидетельствуют о том, что в Средние века жизнь могла быть полна искренней религиозной веры и любви к искусству, а также доказывают, что техника мастеров того времени достойна восхищения, и говорят нам о том, что, несмотря на феодальную анархию, силы цивилизации и справедливости постепенно и непрерывно шли к победе[46].
Рыцари с мечом в руке и священники с пером в руке сделали почти всю историю раннего Средневековья. Но эти два счастливых сословия вместе едва составляли сороковую часть населения. К ним принадлежал лишь один человек из каждых сорока. Пора немного поговорить о тех тридцати девяти, которым повезло меньше.
В 1000 г. подавляющее большинство французских крестьян были крепостными. Они не имели права уйти с земли, на которой жили, из них выжимали все силы принудительным трудом и личными налогами, вступить в брак они могли только с согласия сеньора, а для того, чтобы передать свое маленькое хозяйство и личные вещи в наследство своим детям, были обязаны уплатить большой налог – тоже сеньору. Их даже можно было покупать и продавать, но только вместе с землей, к которой они были прикреплены навечно. Если они убегали, их могли разыскивать как «бесхозных людей», и господин мог требовать их себе, как беглых рабов. Однако были и свободные крестьяне, которых становилось все больше. Положение средневековых крепостных отличались от полного рабства тем, что они были прикреплены к земле и хотя не владели, но фактически пользовались маленьким крестьянским хозяйством. В Средние века было и небольшое число подлинных рабов, но их было так мало, что они не играли заметной роли в жизни общества.
Эти люди могли по своей воле вступать в брак, менять место жительства и передавать свое имущество. Но по положению в обществе они были не намного выше крепостных. Они не имели действенной защиты от жестокости и произвола своих господ, которые могли брать со «свободных» такие же налоги, как с «крепостных», и обращаться с ними почти так же грубо.
И дворяне, и служители церкви учили вилланов[47] (другое название крестьян) добровольно покоряться судьбе, поддерживать высшие классы общества своим трудом, благодарить Небо, если к ним проявляют хоть немного справедливости, и смиренно терпеть, если господин бьет их плетью или обращается с ними немного хуже, чем со своими собаками и скотом[48] (такое бывало очень часто). Если говорить правду, вилланы, вероятно, были больше похожи на зверей, чем на людей. Свои дни они проводили в изнурительной работе, возделывая поля очень грубыми лопатами и мотыгами. Их дома были лачугами из дерева и высушенных на солнце кирпичей под крышами из соломы или тростника. Пища у них всегда была скудная. А уж об их уме, манерах и чистоплотности незачем и говорить. В хижине среднего крестьянина грязные полуголые дети возились друг с другом на земляном полу рядом с поросятами и домашней птицей. «Как Бог и святые могут любить таких существ?» – спрашивали себя дворяне. Между ними и крестьянами, несомненно, была огромная пропасть.
Городов в начале Средневековья было мало, и они не имели большого значения. Почти все крестьяне тогда жили в жалких хижинах, в поместье какого-нибудь феодала. Сельское хозяйство было крайне примитивным, засушливый или сырой год означал голод и нищету на большой территории. Сохранились жуткие рассказы о людоедстве в голодное время и о том, как увеличивалось в это время число волков и людей, жестоких и хищных, как волки. Даже те права, которые феодальное законодательство обеспечивало крестьянину, он редко мог отстоять, если его хозяин был недобросовестным человеком. Разве крепостной мог силой привести на суд своего одетого в броню господина? До нас дошло очень много вызывающих отвращение рассказов о крайних случаях тиранства и жестокости. Однако постепенно положение крестьян улучшалось. Это происходило по нескольким причинам:
а) служители церкви на принадлежавших ей обширных землях, как правило, обращались с крестьянами гуманнее, чем это делал средний сеньор[49];
б) церковь объявила, что дворянин, освободивший своих крепостных, заслуживает величайшей похвалы. Часто барон, страдавший от угрызений совести, пытался расплатиться с Богом за свои грехи, освободив всех или часть своих крестьян;
в) феодалам, особенно во времена Крестовых походов, были очень нужны наличные деньги для ведения войн. Какими бы нищими ни были крестьяне, часто кто-то из-них или целая деревня имели небольшие сбережения. Когда господин нуждался в деньгах, эти люди могли выкупиться на свободу, внеся всю плату за один раз.
Итак, крепостные всегда старались стать свободными крестьянами. Они, и освободившись, оставались презираемыми вилланами, людьми неблагородного происхождения, но были менее беззащитными. Став свободным, крестьянин мог заключить со своим господином соглашение, в котором устанавливалась фиксированная сумма налогов, которые освобожденный должен был платить со своей земли, и объем принудительного труда, который господин требовал с него. Кроме того, усиливалась королевская власть, и короли в определенной степени защищали крестьян, чтобы те были противовесом дворянству. Несмотря на все это, деревенские вилланы до самого конца Средних веков, как правило, по-прежнему были неуклюжими, глупыми и невежественными и страдали от произвола. Жители Европы, не родившиеся дворянами, впервые приобрели широкие возможности и стали сильными благодаря росту городов.
Римская империя вся была усеяна величественными городами. Многие из них угасли сразу. Другие в эпоху Каролингов были всего лишь умирающими с голоду деревнями, стоявшими внутри развалин древних стен. Но в первые десятилетия после 1000 г. города начали оживать. Иногда возродившаяся торговля пробуждала к жизни полумертвую общину, иногда необычно умный сеньор способствовал росту города, иногда решающую роль играло соседство с процветающим монастырем.
К 1100 г. в Западной Европе появились признаки городской жизни. К 1200 г. в ней было много довольно крупных городов[50].
Сначала в этих городах жили несколько дворян и много людей крестьянского сословия, предпочитавших торговать, а не возделывать землю. На городскую общину распространялись обычные феодальные законы (или беззаконие). Крестьяне несли на себе почти такое же бремя, как если бы работали в поле. Но в этих городах люди недворянского сословия могли объединиться, как никогда не объединились бы в сельской местности. Они быстро осознавали, как их много и как велика их сила. Купцы и мастера-ремесленники богатели и уже не были совершенно беззащитны перед сеньором. Вскоре города окружили себя стенами, способными выдержать натиск обычной феодальной армии. Внутри этих стен, на узких улочках, рыцари, такие грозные в открытом поле, были почти беспомощны перед камнями и кипятком, которые горожане обрушивали на них сверху, из домов. В течение XII и XIII вв. города Франции отвоевывали себе хартии о правах у своих королей или сеньоров.
Иногда великодушный и умный правитель добровольно предоставлял городу такую хартию. Часто горожане покупали ее, выплачивая для этого дополнительный налог. В некоторых случаях король или крупный сюзерен дарил права городу: он мог сделать это наперекор желанию местного барона, считая его опасным и желая создать ему соседа-соперника. Но часто горожане поднимали восстание, то есть запирали городские ворота, собирались вместе по сигналу огромного набатного колокола, штурмовали жилище местного светского правителя или князя-епископа и, угрожая оружием, получали от него хартию. Результат во всех случаях был один и тот же – аккуратно и по всем правилам составленный документ, согласно которому город становился «вольным», то есть получал определенные права местного самоуправления. В этом же документе строго определялись список и размер налогов, которые горожане должны были платить сеньору, и их обязанности перед ним. После этого жители города уже не были беспомощными крестьянами.
Они назывались «свободные горожане» (по-французски «буржуазия») и имели собственные права. Они сами выби рали своих должностных лиц, набирали солдат в местное ополчение, повышали свои налоги. Если удача им улыбалась, то связь горожан с бывшим феодальным сеньором делалась очень слабой и город становился настоящим маленьким государством, почти как древнегреческие города.
Это новое сословие горожан, которое вклинилось между двумя высшими сословиями и крестьянами, высшим сословиям было совсем не по душе. «Коммуна – новое гнусное слово!» – восклицает один священник-хроникер. Но аристократы и служители церкви охотно и с радостью извлекали всю возможную выгоду из этих незваных новичков, потому что богатство, ум, предприимчивость и новые идеи быстро нашли себе приют в вольных городах.
Средневековые города управлялись по-разному в зависимости от времени и страны, но никогда не были демократиями. Иногда многочисленные мелкопоместные дворяне, жившие в городе, братались с горожанами недворянского происхождения и становились городской аристократией. Чаще крупнейшие купцы, главы торговых и ремесленных гильдий, объединялись в группу городских «патрициев», которая управляла городским советом. Один из них обычно становился главным должностным лицом города. Такой градоначальник назывался мэром, шерифом или как-то иначе: названий было много. Но, хотя патриции и были аристократией, они обычно правили разумно и заботились об интересах города. Вряд ли мэр мог, подобно феодальному правителю, презирать желания и права низших сословий. Короче говоря, управление «вольным городом» часто было эффективным и основанным на здравом смысле, хотя и не на принципе равенства всех людей.
Типичный средневековый город, должно быть, удивлял и поражал людей своим видом. Он был мал по размеру из-за малого числа жителей и из-за необходимости сделать длину стен как можно меньше, чтобы их легче было защищать. Но внутри этих стен прижимались один к другому большие многоэтажные дома. Узкие улицы были грязны и плохо вымощены, и часто по ним бродили свиньи, которые, подъедая мусор, играли роль уборщиков. Но всюду бурлила жизнь. Каждый горожанин спешил куда-то, расталкивая всех остальных. То там, то тут среди грязных улиц возвышались чудесные по красоте приходские церкви. В центре города находилась большая рыночная площадь, где шла торговля под открытым небом. Поблизости от нее возвышался над остальными церквями серый городской собор, гордость горожан. Рядом стояла и ратуша, изящное средневековое здание, в котором заседал городской совет, а также иногда отмечали большие общественные праздники. Над ратушей часто поднималась в небо колокольня, с которой звонил большой колокол, созывавший горожан на общее собрание или подававший им сигнал надеть доспехи и выйти защищать стены. Дома, церкви и общественные здания многих французских городов и сегодня свидетельствуют своей роскошной красотой, как великолепны были крупные города в конце Средневековья.
Вот какими были некоторые из физических, политических и социальных условий, в которых великое государство, известное под именем Франция, становилось единым и сильным. Везде безобразие и несправедливость боролись с добродетелью и красотой. Вероятно, контрасты во всех областях той жизни были гораздо резче, чем в нашем сегодняшнем существовании. Но, что бы еще мы ни говорили, у этих живших в феодальные времена строителей своего государства были сила, энергия и несгибаемое мужество. Жизнь в Средние века часто была очень суровой школой, но эта школа хорошо обучала своих воспитанников, и те, кто выживал после ее уроков, были подготовлены к тому, чтобы совершать большие дела и телом и умом. Сегодня Европа, и в том числе Франция, несомненно, закончили выбрасывать из своей жизни остатки Средних веков – те пережитки прошлого, за которые если не вся Европа, то, по меньшей мере, Франция держалась даже слишком крепко вплоть до 1789 г. Но для любой страны плохо стыдиться своего прошлого, и у Франции XX в. нет причин стыдиться того, что она – наследница Франции Филиппа Августа и Людовика Святого.
Глава 6. Начало современной эпохи: 1270–1483. Столетняя война
Первые Генеральные штаты. Салический закон. Битва при Креси. Анархия. Карл VI. Карл VII. Судьба Жанны Дарк[51]. Французы отвоевывают Париж. Людовик XI. Общая атака против Людовика. Карл терпит поражение от швейцарцев. Двойственный характер царствования Людовика
Людовик Святой оставил после себя действительно величественное королевство. Старинная феодальная знать больше не представляла большой угрозы для королевской власти. Она по-прежнему существовала, была очень богата, окружала себя показной роскошью и торжественными церемониями, имела великолепные замки и «права сеньора» и требовала для себя больших общественных привилегий и особого покровительства со стороны закона. Но все знали, что эти господа – всего лишь «опора трона» – аристократы, которые ищут благосклонности короля и часто требуют ее повелительным тоном, но на самом деле не добиваются, чтобы он отдал им основную долю своей власти. Тем не менее в последующие два века королевская власть и с ней счастье государства не увеличивались так, как можно было ожидать. Для разочарования и даже движения назад в это время были три причины.
Во-первых, в любой подлинной монархии всегда много зависит от личности монарха. Род Капетингов произвел на свет нескольких очень талантливых правителей, но теперь это королевское семейство начало вырождаться, а некоторые короли этого периода даже были совершенно не способны править. И Франция расплачивалась за их неумелость. Во-вторых, хотя старая феодальная аристократия слабела, на сцену выходила новая королевская аристократия, состоявшая из младших отпрысков и родственников королевской семьи. В теории этим принцам было дорого единство Франции и величие их династии. Но на практике они часто затевали возмутительные, очень громкие ссоры из-за высоких должностей при дворе, должностей королевских губернаторов, контроля над королем (если тот был слабым человеком). Кроме того, они часто старались получить часть королевских владений себе в качестве «удела», то есть править там как наполовину независимые наместники короля, вторые после него. Таким образом, некоторые из худших врагов французской монархии принадлежали к самой королевской семье.
И наконец, Франция столкнулась с серьезной внешней опасностью. Короли Англии, потомки герцогов Нормандских, потеряв свое прежнее герцогство, стали отождествлять себя со своими новыми подданными – народами Британских островов, создали грозную военную силу и стали регулярно организовывать нападения на континентальную Европу. В результате этих атак они едва не завоевали Францию.
Годы с 1314 (когда умер Филипп IV, внук Людовика Святого) и до 1483 (когда умер Людовик XI) были временем тяжелых испытаний для всего французского народа. По меньшей мере один раз казалось, что все королевство будет захвачено врагами и погибнет. Несколько раз возникала большая опасность того, что от Франции навсегда будут отсечены какие-то ее части и она останется искалеченной. Но в конце концов гений французского народа позволил ему устранить внешнюю опасность и твердо указать непослушным принцам из королевского семейства на их место. На рубеже Нового времени Франция снова была богатой, прогрессивной и сильной.
* * *
Трудно дать характеристику этому долгому и тревожному периоду, не увязнув во множестве имен и подробностей. Вот некоторые из его основных событий. Филипп III Смелый, сын Людовика Святого, правил не очень долго (1270–1285), и в его царствование не произошло ничего значительного. Но его сын Филипп IV Красивый правил дольше (1285–1314) и совершил более выдающиеся дела. Никто не может сказать, что этот внук святого имел хороший характер, но Филипп IV был одним из тех алчных и неразборчивых в средствах людей, которые совершенно недостойным похвалы способом действительно двигают мир вперед. Главным событием значительной части его царствования была его знаменитая вражда с папой Бонифацием VIII, одним из самых эгоистичных и властных понтификов, когда-либо управлявших церковью из Рима.
Непосредственным поводом для этой вражды был спор о том, вправе ли король облагать налогом богатое французское духовенство. Филипп утверждал, что имеет это право, Бонифаций с ним не соглашался, а Филиппу, разумеется, совершенно не хотелось, чтобы богатства как минимум пятой части французских земель навсегда ускользнули из рук его казначеев. Однако этот спор был частным случаем более широкого вопроса: может ли папа в мирских делах быть главнее короля? Может ли он считать себя чем-то вроде монарха над монархами, который просто передает земную власть над миром государям, готовым верно служить ему коронованными наместниками? Такой же спор был основной причиной кровопролитных войн между папами и императорами Германии, и казалось, что тогда папский престол в основном победил. Но короли из династии Капетингов теперь держали свое государство в руках гораздо крепче, чем до этого любой император из Саксонского рода или из семьи Гогенштауфен держал в руках Германию. Французы совершенно не желали, чтобы итальянский князь (которым, несомненно, был Бонифаций) вмешивался в их явно нецерковные дела. Когда папа, после предварительных переговоров и компромиссов, стал угрожать, что отлучит Филиппа от церкви, король в ответ нанес ему мощный и наглядный удар.
В 1302 г. он созвал в Париже Генеральные штаты Франции. Филипп был в высшей степени деспотом по своим целям и способам их достижения, но понимал, что в борьбе с таким могущественным противником, как папа римский, ему нужна поддержка всех составных частей его народа. Уже очень давно короли, решая дела государства, пользовались помощью советов, состоявших из знатных дворян и высшего духовенства. На этот раз представители горожан (буржуа) впервые тоже были вызваны на собрание, чтобы помочь поддержкой и мудростью своему сюзерену. Ясно и без слов, что этим людям из третьего сословия невероятно польстило это приглашение заседать вместе со светской и церковной знатью. Они охотно проголосовали за одобрение всей политики короля и присоединились к представителям двух высших сословий, когда те посоветовали королю не идти на компромисс с папой. С этого времени Генеральные штаты, собрание представителей трех главных сословий французского общества, иногда созывались, чтобы помочь королю в делах страны, однако по многим причинам это собрание не превратилось в постоянный, регулярно заседающий законодательный орган, подобный английскому парламенту[52].
Таким образом, Франция твердо поддержала Филиппа, и все угрозы и проклятия Рима не смогли расшатать трон короля. Король даже послал своих вооруженных сторонников в Италию и арестовал Бонифация как незаконного папу (в 1303 г.)[53]. Папа вскоре был освобожден из тюрьмы своими друзьями, но плен и унижение стали таким потрясением для него, что прожил он еще недолго и умер, полностью опозоренный. Его преемники (люди робкие и покладистые) поспешили помириться с монархом, который дал им такой ужасный урок. В 1309 г. они переселились из Рима в город Авиньон на юге Франции и оставались там до 1376 г. Во время этого долгого «вавилонского пленения» папы были под самым боком у грозного «старшего сына церкви», который царствовал в Париже, и часто всю их политику определяли мирские интересы Франции. С церковной точки зрения это был ужасный скандал, но, конечно, покорность пап усилила влияние французского короля во всех частях христианского мира[54].
После Филиппа IV осталось три сына, но ни один из них не имел сыновей-наследников. Людовик X умер, процарствовав два лишенных событий года (1314–1316), и оставил после себя только дочь. Его следующий по возрасту брат сразу же заявил, что женщины не имеют права наследовать корону Франции. Ответственным мужчинам не нравилось слабое женское правление: при нем открывалась возможность для всяческих беспорядков. Поэтому королевские юристы и Генеральные штаты подтвердили, а вернее, придумали так называемый Салический (якобы первоначально существовавший у салических франков) закон, по которому женщина не могла быть царствующей королевой Франции[55]. Брат-претендент, Филипп V, царствовал после своего брата согласно этому закону (в 1316–1322 гг.), но это было еще одно короткое правление без событий. Он тоже умер, не оставив сына, и его место на престоле занял третий брат, Карл IV (правил в 1322–1328 гг.). Ему повезло не больше, чем двум старшим: он тоже умер молодым, не оставив наследников мужского пола. Набожные французы качали головой и говорили, что род Капетингов проклят за оскорбление, нанесенное папе Бонифацию VIII. В любом случае Карл был последним прямым представителем прямой линии рода Капетингов на французском троне. Корона перешла к его двоюродному брату Филиппу Валуа, отец которого был младшим братом Филиппа IV. С этой смены династии для Франции начались тяжелые дни.
Филипп VI Валуа (1328–1350) был не совсем бездарным правителем, но непоследовательным и безрассудным. Такой правитель плохо подходил для руководства страной в дни, когда на нее напал опасный внешний враг.
Филипп не умел проявить такт в переговорах со знатнейшими аристократами Франции и, в частности, быстро поссорился с князем Робером Артуа, родственником королей. Робер вскоре бежал ко двору короля Англии Эдуарда III и начал разжигать вражду между двумя странами. Кроме того, король увяз во фламандских делах. Свободолюбивые фламандские князья сопротивлялись своему местному правителю, Филипп встал на сторону своего вассала, графа Фландрии, и выступил против них. Богатые и могущественные горожане, «самый трудолюбивый, богатый и свободный народ в Европе», сразу же начали переговоры с Эдуардом III, который был вынужден помочь им потому, что Фландрия была большим рынком для английской шерсти.
Эдуард тем охотнее хотел вмешаться во французские дела, что сам мог, и с большими основаниями, претендовать на корону Филиппа. Если бы не было Салического закона, Эдуард, возможно, правил бы не только в Лондоне, но и в Париже благодаря правам своей матери Изабеллы, дочери Филиппа IV. Английский король был вполне способным монархом, умелым военачальником и обладал (о чем вскоре узнала Европа) военной силой – лучниками с большими луками, которые позже сделали его могущественным правителем в Европе.
Боевые действия начались в 1337 г. и велись бессистемно. Сначала англичане попытались вывести Фландрию из-под контроля французов, но не добились решающих результатов. Позже, в 1341 г., вражда стала более ожесточенной, когда два претендента начали борьбу за корону герцогов Бретани[56]. Филипп поддержал одну партию, другая, естественно, обратилась за поддержкой к Эдуарду. Тот, чтобы иметь приличный предлог для вторжения во Францию, довольно дерзко заявил о своих претензиях на французскую корону. Война в Бретани не принесла никому бесспорной победы, но в общем закончилась выгодно для французской партии. Только в 1346 г. руки у Эдуарда оказались свободны, и он смог отправить за Ла-Манш большую армию. В июле этого года он высадился у мыса Ла-Хог во главе 32 тысяч солдат; для Средних веков это, несомненно, было большое войско.
До этого времени Филипп имел значительное преимущество в войне. Англичанам не удалось стать хозяевами ни во Фландрии, ни в Бретани. Но теперь Эдуард уже не верил, что ему могут помочь местные восстания, и надеялся только на собственные силы. Он быстро захватил город Кан, прошел через Нормандию почти до самых ворот Парижа, а потом повернул на север, сжигая и разоряя сельскую местность, но редко останавливаясь для осады городов. Если бы Филипп последовал примеру древнего Фабия и применил тактику выжидания, англичане, вероятно, вскоре ушли бы обратно с опустошенной ими земли, причинив мало вреда. Но для короля Франции было невыносимо видеть, как его страну разоряют, словно поля какого-то мелкопоместного барона. Он созвал все войска своего королевства. Французские дворяне быстро и охотно откликнулись на его призыв. Чтобы противостоять английским лучникам, было нанято большое количество итальянских арбалетчиков. У местечка Креси возле Абвиля в Пикардии 26 августа 1346 г. французы наконец создали тяжелое положение для англичан и навязали противнику большое сражение.
Тогда весь мир узнал, что на полях войны появилась новая сила. До этого дня при любых, но равных условиях рыцари-феодалы на своих огромных боевых конях и в тяжелых доспехах почти всегда могли одолеть даже самых лучших и храбрых пехотинцев. Но Эдуард очень умело использовал своих английских лучников. Эти стрелки выпускали из больших тисовых луков стрелы «длиной в ярд». С расстояния во много десятков шагов они вели стрельбу с высокой скоростью и большой точностью, а их стрелы пробивали любые доспехи, кроме самых лучших. Длинный лук, в сущности, был мощнее позднейшего мушкета и оставался мощнее при жизни многих поколений после изобретения пороха. В течение всего дня французские рыцари с безумной и губительной отвагой старались пробиться домой сквозь тучи смертоносных стрел. Вечером остатки нападавших отступили с поля боя. Никогда еще французы не терпели столь ужасного поражения. Король Богемии (союзник Филиппа) пал в этой битве. Вместе с ним погибли 11 князей, 80 рыцарей, имевших право вести свое войско под собственным знаменем, 1200 обычных рыцарей и, как утверждают, 30 тысяч простых воинов. Такие потери ошеломили Францию.
Эдуард трезво и расчетливо использовал свою победу. Он осадил Кале – главные ворота во Францию для тех, кто попадал в нее через Ла-Манш, и голодом заставил жителей этого города сдаться, хотя они очень храбро защищались. Филипп пытался прислать им подкрепление, но безуспешно. С этого времени у англичан были в руках очень удобные для вылазок ворота, из которых они в любой момент, стоило им пожелать, могли вторгнуться во Францию. Кале оставался в руках англичан до 1558 г.
Филипп Валуа умер в 1350 г. От новых поражений и потерь его спасла не снисходительность или терпение Эдуарда, а Черная смерть – ужасная эпидемия, которая пронеслась по Европе в 1348 г., уничтожая одинаково и англичан, и французов, и на время остановила все войны так же, как и все мирные разновидности жизни. Вместо Филиппа стал править его сын Иоанн, храбрый, с пылким и порывистым характером, но совершенно легкомысленный и сумасбродный. Новый правитель скоро опустошил казну расходами на свою роскошь и беспечной щедростью к своим придворным, а потом почти разрушил экономику Франции столь же необдуманной мерой – уменьшил содержание благородных металлов в монетах, напрасно пытаясь делать деньги из ничего. Такой король не мог противостоять англичанам во время их второго большого нападения.
В 1356 г. Эдуард, принц Уэльский, которого часто называют Черным принцем, чтобы отличить от его отца, начал новое вторжение во Францию. На этот раз англичане вышли в поход из Бордо и Гиени (частью которой они владели все эти годы, сохранив эту землю за собой еще в те дни, когда рассыпалось на части государство Генриха Анжуйского) и направились на север, вероятно к Кале. Это было крайне рискованное предприятие, хотя Черный принц был по меньшей мере таким же одаренным военачальником, как его отец. В его армии было чуть больше 8 тысяч человек, и она вполне могла быть уничтожена во вражеской стране. Король Иоанн снова созвал всех своих вассалов, и опять французское рыцарство, храня верность своему королю, откликнулось на его призыв. Имея под своим началом больше 50 тысяч человек, он окружил англичан на холме возле Пуатье. Силы были настолько неравны, что, если бы король только продолжал блокировать вражескую армию, голод, должно быть, заставил бы незваных гостей сдаться. Но Иоанн и его любившие риск советники не захотели довольствоваться такой скучной победой. Они считали, что должны смыть позор поражения при Креси в честном бою, и потому бой произошел. Но он не смыл позора Креси. Из-за непонятного безумия или безрассудства французская конница пошла в атаку по узкому проходу, с обеих сторон которого стояли в ряд за живыми изгородями английские лучники, которые без труда расстреливали своих врагов. Когда атакующие в беспорядке отступили, Черный принц начал контратаку. Отряды короля Франции не умели взаимодействовать между собой, а потому были уничтожены поодиночке. В конце сражения Иоанн, проявивший в этой битве большую личную отвагу, был захвачен в плен. Вместе с королем в плену оказались его младший сын, 13 графов, один архиепископ, 70 баронов и несколько тысяч менее знатных воинов. Это была катастрофа, и гораздо более тяжелая, чем при Креси. Франция не только потерпела поражение, но и лишилась своего главы.
Следующие несколько лет были не намного лучше анархии. Король находился в плену в Лондоне. Регентом считался наследный принц Карл, носивший звание дофин[57], который тогда был еще неопытен, слаб и труслив. Карл Злой, король маленькой страны Наварры[58] и притом знатнейший французский аристократ, беззастенчиво оспорил право Карла управлять Францией и добавил к ужасам иностранного вторжения все несчастья гражданской войны. Дофин созвал Генеральные штаты, но собрание депутатов от сословий королевства не оказало наследнику престола большой помощи. Радикальная часть сословных представителей, главой которой был купеческий прево Парижа Этьен Марсель, пыталась использовать эту возможность, чтобы ослабить королевскую власть и создать что-то вроде правительства из представителей третьего сословия. Современным читателям должен понравиться этот смелый шаг в сторону демократии, но на самом деле это было неподходящее время для дерзких экспериментов. Радикалы быстро опустились до кровопролития и насилия. Марсель вскоре был убит при попытке сдать Париж Карлу Злому. Восстание отчаявшихся крестьян, голодавших и деморализованных (Жакерия), было потоплено в крови, и, когда Иоанн был освобожден согласно договору, подписанному в деревне Бретиньи (в 1360 г.), во Франции снова установилось что-то похожее на мир.
Этот договор не был приятным для Франции. Правда, Эдуард не настаивал на своем очень сомнительном праве на французскую корону, но в остальном его требования были унизительными. Иоанн должен был выплатить выкуп в 3 миллиона золотых крон (огромная сумма в те времена) и отказаться от полного суверенитета не только над Кале, но и над практически всей Аквитанией. Так французская монархия потеряла добрую половину юга, и Черный принц создал в Бордо двор для наместников короля, своего отца. Лучшее, что можно сказать об этом времени, – что во Франции наконец был мир и появилась возможность восстановить страну. При Иоанне нельзя было ожидать заметных улучшений, но в 1364 г. этот безрассудный и любивший удовольствия король умер.
Дофин взошел на престол и начал править страной как король Карл V (1364–1380). Будучи наследником престола, он приобрел печальный опыт, и об этих событиях в истории осталась печальная память. Но несчастье стало для Карла хорошей школой. В нем не было ничего от героя, но не было также ни капли безрассудства. Физически он был слаб и оттого похож на ученого монаха-отшельника. В истории он остался как Карл Мудрый, один из умнейших монархов среди всех, которые правили Францией.
Угроза со стороны Англии слабела. Королевство Эдуарда III все же было тогда сравнительно бедным и было не в состоянии долгое время каждый год отправлять на континент новую армию, а лишь такие ежегодные нападения могли стать серьезной опасностью для Франции. Вскоре Черный принц был вынужден снова выступить в поход. Он повел свою армию из Бордо в Испанию, чтобы восстановить на престоле короля Кастилии Педро Жестокого, очень порочного и злобного человека, которого его подданные справедливо изгнали из страны. Черный принц победил (в 1367 г.), и Педро временно вернулся на свой трон. Но король Кастилии оказался очень неблагодарным протеже. Английский принц-полководец истощил силы своей армии и ослабил верность своих новых аквитанских подданных, установив для них тяжелые налоги. Недовольные из числа южан вскоре обратились за помощью в Париж, и Карл охотно выслушал их. За это время он спокойно и без шума реорганизовал свою армию, наполнил казну и теперь был готов разорвать договор, заключенный в Бретиньи. В 1370 г. война возобновилась.
Карлу повезло: он нашел себе очень талантливого военачальника – Бертрана дю Геклена, доблестного рыцаря из Бретани, который никогда не уклонялся от сражения, если оно могло дать ему преимущество, но ясно понимал, что пытаться победить английских лучников, атакуя их конницей в плотном строю, – просто безумие. Черный принц снова прошел со своей армией по французской земле, но все города встретили его запертыми воротами, и он не имел ни одной возможности вступить в открытый бой. Эта партизанская тактика быстро лишала сил малочисленные английские армии. Эдуард III сердито говорил: «Во Франции еще не было короля, который сражался бы меньше, чем этот, но ни один из них не доставлял мне столько неприятностей». Черный принц заболел, вернулся в Англию и там умер (в 1376 г.). Английские военачальники, которые остались командовать войсками вместо него, были не ровня дю Геклену. Неурядицы в Англии не позволяли им получать подкрепление с родины. К 1380 г. в руках англичан остались лишь города, расположенные на побережье, – Кале, Шербур и Брест на севере, Бордо и Байонна на юге. Первая большая атака англичан на Францию закончилась.
Карл Мудрый прожил всего сорок три года. Его смерть стала бедой для Франции. Старшему сыну этого короля, Карлу VI (1380–1422), было всего двенадцать лет, и он никогда не отличался большим умом. В 1392 г. новый король сошел с ума, но временами его разум прояснялся, и по этой причине его нельзя было полностью отстранить от власти и назначить регента. Годы, когда он числился королем, были для его народа непрерывным несчастьем. Сначала алчные и бездарные дяди Карла спорили о том, кто будет владеть королем и держать в руках бразды правления. Потом их сменили группировки более молодых аристократов, и вдохновительницей многих интриг этих придворных партий была безнравственная и беспринципная королева, супруга Карла, Изабелла Баварская. Соперничающие партии вскоре перешли от заговоров к убийствам. В 1407 г. могущественный герцог Орлеанский был заколот по прямому указанию своего соперника, герцога Бургундского. После этого вражда партий стала непримиримой. Бургиньоны (бургундская партия), несмотря на свое преступление, потеряли контроль над королем, и Карлом стали управлять их соперники – партия арманьяков[59], которая вскоре стала сильнее, потому что к ней присоединился дофин.
Но герцог Бургундии Иоанн Бесстрашный все же сумел развязать почти во всем королевстве гражданскую войну. И тут внезапно нагрянула новая беда: англичане во главе со своим королем Генрихом V (у Шекспира он – обаятельный принц Хел) начали новое вторжение.
Самим Генрихом V трудно не восхищаться, но нельзя отрицать, что он заявил о своих правах на французский трон, когда говорить о них было бессмысленно и бесполезно. Он высадился возле Арфлёра в Нормандии (в 1415 г.), захватил этот город и начал трудный поход до Кале.
В его армии с трудом можно было насчитать 15 тысяч солдат. Если бы французские князья из партии арманьяков, заявлявшие, что они – правительство короля, умели управлять своими войсками, они бы отрезали путь Генриху так же верно, как Иоанн мог бы сделать это с Черным принцем возле Пуатье. Но буйные вожди французов ничему не научились за шестьдесят лет. Они по-прежнему считали, что война – это только атаки конных рыцарей с копьями на изготовку. 50 тысяч французов, командующим которыми числился дофин, атаковали Генриха около Азенкура, поблизости от Кале, и повторилось то, что произошло в прежних сражениях. Земля была сырой и скользкой, отчего бойцы не могли быстро двигаться. Когда французы безрассудно попытались пойти вперед, они двигались в плотном строю, что делало их удобной целью для английских лучников. Когда длинные луки закончили свое дело, англичане пошли в наступление на деморализованного противника, и сражение закончилось почти бойней. Дофин бежал, оставив 10 тысяч своих людей убитыми на поле боя, а очень многих знатнейших аристократов – в плену у Генриха. По власти королей во Франции был нанесен сильнейший удар.
Сражение в XV в.
Генрих умело использовал свою победу. Он позволил армань якам и бургиньонам воевать между собой внутри Франции, но в 1418 и 1419 гг. взял в свои руки Кан, Руан и другие города-крепости Нормандии. В 1419 г. арманьяки отомстили за убийство герцога Орлеанского, предательски убив герцога Бургундии, Иоанна Бесстрашного.
Штурм и оборона города в XV в.
Дофин был замешан в этом заговоре[60], а Филипп Бургундский, сын и наследник Иоанна, из-за убийства отца бросился прямо в объятия англичан.
Бургундия уже была большим и мощным княжеством, и многие ее земли находились вне Франции – «в империи». Филипп был более могущественным, чем многие тогдашние короли, и его сторону приняла бессердечная королева Изабелла, которая так ненавидела дофина, своего родного сына, что устроила заговор, чтобы лишить его престола и посадить на трон Франции Генриха Английского. От имени беспомощного Карла VI Бургундия и Изабелла заключили в Труа (в 1420 г.) позорный договор, по которому дофин лишался наследства, а Генрих должен был жениться на Екатерине, дочери короля Карла, и после смерти Карла стать королем обеих стран – Франции и Англии. Дофин еще удерживал в земли к югу от Луары, но казалось, что англичане все крепче сжимают в кулаке всю Северную Францию. Париж был в их руках и вместе с ним – значительная часть прежних владений рода Капетинов, когда в 1422 г. Генрих V умер. Через несколько недель за ним последовал сумасшедший старый Карл VI, царствование которого было одним из самых бедственных во всей истории Франции.
У Генриха V остался десятимесячный сын от Екатерины, в будущем – несчастный король Англии Генрих VI. Регенты этого ребенка владели практически всей Францией к северу от Луары, а также землями вокруг Бордо. Его признавали «королем» герцог Бургундский и парижский парламент, высший законодательный орган Франции. К югу от Луары большинство областей теперь признавали дофина королем Карлом VII (1422–1461). Это был «молодой человек девятнадцати лет, с приятными манерами, но слабый телом, бледный и недостаточно мужественный». Его обвиняли в любви к постыдным удовольствиям.
Он был запятнан убийством Иоанна Бесстрашного. Никто не мог отрицать, что Карлу, как тогда казалось, не хватало энергии. Он как будто был доволен, что агрессивный английский регент, герцог Бедфорд[61], отбирает у него королевство.
На юге большинство французских наместников и дворян были на стороне Карла. Французы были решительно против того, чтобы иметь короля-англичанина. Армии герцога Бедфорда прекрасно умели воевать, но были малочисленны, и было ясно, что французы севера признают королем лишь потому, что их постоянно принуждают к этому. Тем не менее положение Франции казалось почти безнадежным. Власть Карла была так слаба, что его обычно называли не королем, а дофином или, с ядовитой насмешкой, именовали «буржским королем» – от названия города Бурж, где он жил. Только этим городом он владел по-настоящему. Военачальники и знатные придворные Карла постоянно не ладили между собой. Его казна была пуста, а налоги почти невозможно было собрать. На юг постоянно совершали набеги и наводили ужас на его жителей «вольные отряды» наемных солдат, ставших грабителями. Когда эти наемники не сражались за деньги на стороне какого-нибудь правителя, они бродили по стране, объедая население и грабя одинаково сторонников всех враждующих партий. И в Северной, и в Южной Франции торговля, хозяйственная жизнь и культура, казалось, были близки к гибели.
При таких обстоятельствах Бедфорду казалось, что одним дерзким яростным ударом он завоюет корону Франции для своего племянника Генриха и сделает его бесспорным королем этой страны. В октябре 1428 г. англичане осадили Орлеан – один из главных городов, еще остававшихся у Карла. Именно Орлеан был главным препятствием для продвижения захватчиков на юг от Луары. К маю 1429 г. положение Орлеана стало очень серьезным. Защитники города храбро оборонялись, но попытки привести к ним подкрепление закончились неудачей, а продовольствие кончалось. Если бы Орлеан пал, победившие англичане, вероятно, вошли бы в Аквитанию.
Уже два года все мыслящие французы остро чувствовали унижение своего народа. Англичане часто вели себя грубо и жестоко с теми, кого покорили силой оружия. Для них все ужасные несчастья страны: паралич экономики, голод, эпидемии, убийства – имели одну причину, а именно захватчиков. Положение казалось таким безнадежным, а правительство дофина таким неповоротливым, что мужчины, скрипя зубами и сжимая рукояти своих мечей, говорили, что помощи можно ждать «только от Бога». И тогда произошло то, что многие назвали чудом, – появилась та, кого все должны назвать посланной Небом предводительницей.
Очень трудно не писать о личности человека, если этот человек – Жанна Дарк. Но это лишь краткий очерк французской истории, а не исследование ее действующих лиц, даже самых важных и интересных ее фигур. Если говорить кратко и излагать только сухие факты, произошло вот что:
1. Жанна Дарк родилась в 1409 г. в крестьянской семье, в деревне Домреми на границе Шампани.
Это был один из немногих восточных округов, которые еще оставались в руках Карла. Когда она выросла и стала благочестивой крестьянской девушкой, у нее начались видения – образы Франции, освобожденной от английского ига, и Богородицы, которая снова и снова говорила ей: «Жанна, иди освободи короля Франции и верни его королевству». Психологи могут определить, из чего состояли эти видения – ее «голоса». Но нет сомнения, что Жанна искренне верила в их подлинность.
2. В 1429 г., когда Орлеан был при последнем издыхании, Жанна появилась при дворе дофина в замке Шинон, возле Тура. Она убедила даже недоверчивых придворных и самого правителя, что послана Богом и что ей надо дать армию, которая спасет Орлеан. Войском, которое ей отдали под начало, она руководила как умелый командир, провела его через ряды англичан в город, а потом организовала успешную вылазку и сама командовала этой операцией. Французы сражались отважно, веря в то, что их действия направляет святая. Английские лучники в ужасе бежали и потом клялись, что им пришлось сражаться против дьявольской «чародейки». Бедфорд сердито написал в Англию: «Все наши дела шли прекрасно, пока ученица дьявола, которую называют Девой, не пустила в ход свои лживые заклинания и колдовство». Орлеан был полностью освобожден.
3. После этого Жанна успешно провела Карла в Реймс по землям, часть которых находилась в руках врага. В этом городе Карл был коронован в знаменитом соборе как король Франции и перестал быть «дофином». На церемонии коронации Жанна гордо стояла у алтаря с королевским знаменем в руках.
4. Теперь Жанна выполнила свое изначальное предназначение. По некоторым сведениям, она говорила, что «была бы рада, если бы ее отослали обратно к ее отцу и матери, чтобы она могла ухаживать за их овцами и быками, как привыкла». Но в руках англичан оставались Париж и большой кусок Северной Франции, и Жанна решила, что обязана начать наступление на них. На этот раз она воевала не так успешно. При дворе завистливые военачальники и себялюбивые советники начали интриговать против нее. Король уже не так горячо поддерживал ее. Достойно ли короля Франции, чтобы он был обязан троном и властью крестьянской девице?
5. В 1430 г. Жанна, командуя отрядом, совершавшим вылазку из города Компьень, попала в плен к бургундцам. Герцог Филипп осознанно продал свою пленницу англичанам, которые жаждали мести. Неверный и раболепный епископ Бове услужил им – стал судьей Жанны и допрашивал ее в церковных судах по обвинению в «колдовстве». Если бы ему удалось доказать, что Карл добился своих последних успехов благодаря посланнице дьявола, это было бы, конечно, сильнейшим ударом по его престижу! Все виды хитрости, принуждение и некоторые менее жестокие пытки были использованы, чтобы заманить Жанну в ловушку. Жанна очень умело сопротивлялась тем, кто ее допрашивал, но в конце концов принесла публичное покаяние. После этого было легко, прибегнув к небольшой уловке[62], объявить, что она вернулась к своему прежнему «достойному проклятия поведению». И 30 мая 1431 г. Жанна была сожжена заживо на главной площади Руана как неисправимая ведьма. Однако на костре она вела себя как героиня и благочестивая христианка.
Ее палачи задрожали, грубые английские лучники ужаснулись. Один из секретарей короля Генриха отвернулся от костра и воскликнул: «Мы погибли: мы сожгли святую!»
В гибели Жанны виновны многие – продажные бургундцы, бесчестный епископ, напуганные и безжалостные англичане, и последний по упоминанию, но не по значению в этом списке – сам Карл VII. Он грубо позволил убить женщину, которая, вероятно, спасла для него корону, хотя легко мог бы спасти Жанну, если бы пригрозил казнить в ответ нескольких знатных английских дворян, которые были у него в плену.
Даже тогда мало было тех, кто принял всерьез выдвинутое против Жанны обвинение в колдовстве. Убив ее, англичане ничего не выиграли. В 1456 г. папа римский торжественно отменил вынесенный ей приговор и объявил ее невиновной. В 1908 г. она была внесена в Риме в списки блаженных и сразу же после этого канонизирована церковью.
После мученической смерти Жанны англичане еще какое-то время оставались во Франции, но свое дело Жанна выполнила. Во французах пробудился патриотизм, захватчики были вынуждены перейти к обороне, и наконец король Карл стал другим. Он попал под влияние своей любовницы Агнессы Сорель, и, кажется, эта женщина, хотя их связь и была незаконной, очень способствовала его перемене к лучшему. Карл нашел себе мудрых советников и умелых военачальников. Герцог Филипп Бургундский начал уставать от союза с англичанами и ссориться с бывшими союзниками. В 1435 г. умер герцог Бедфорд, большой друг Бургундии. Англичане лишились своего лучшего вождя, и Филипп Бургундский открыто перешел на сторону французов. Карл торжественно выразил ему свое сожаление по поводу убийства его отца, а в качестве более вещественного дара уступил ему обширную территорию. Этот союз быстро принес результаты. В 1436 г. Париж открыл ворота перед королем Карлом, а капитулировавший английский гарнизон хмуро покинул город.
После этого война шла медленно. Французы по частям отвоевали Нормандию и остальные захваченные англичанами земли. Боевые действия иногда прерывались перемириями. Из-за того, что власть Генриха VI была слабой, у англичан начались трудности дома. У них уже не было лучников и тяжеловооруженных всадников для войны за Ла-Маншем. В 1453 г. произошло последнее крупное сражение. Это случилось на юге. Около Кастийона, поблизости от Бордо, войска Карла разбили последнюю присланную из Англии армию, которой командовал старый граф Толбот. Англичане были полностью разгромлены. Бордо был осажден и сдался (1453). Впервые со времен Людовика VII у английских королей не было ни одной крепости на французском юге. От завоеваний Эдуарда III, Черного принца и Генриха V остались только Кале и две деревни рядом с ним на крайнем севере Франции.
Столетняя война закончилась[63]. После нее Франция осталась изувеченной и опустошенной. Плохое управление, чрезмерные налоги, разорение, причиненное вражескими армиями, упадок морали в торговле, грабительские требования шаек наемных солдат, которых имели на службе все воюющие стороны, почти разорили многие когда-то процветавшие округа. Вероятно, в 1453 г. Франция имела меньше населения и была менее цивилизованной и прогрессивной страной, чем в 1328 г., когда вступил на престол первый король из семьи Валуа. Но ужасные бедствия непрерывной войны сплотили французов. В то время было мало королевств, народ которых был настолько единым. Разумеется, необходимость совместных усилий для отпора чужеземцам стала преимуществом для королевской власти. Во-первых, прямым и важным последствием войны стало признание французами того, что для обороны королевства король может взимать с них (помимо положенных ему «феодальных сборов») дополнительные налоги без согласия Генеральных штатов. Вторым столь же важным ее последствием стало то, что король теперь имел постоянную армию, не имевшую ничего общего с отрядами феодалов. Эти новые войска – конницу, отряд которой назывался копье[64], «вольных лучников» и другие воинские части – король мог использовать практически бесконтрольно. Тут на него не могли оказать сильного влияния ни аристократы, ни народные представители. Такая возможность для правителя, не отчитываясь ни перед кем, тратить средства из любой общественной казны и наличие у него послушной постоянной армии справедливо считаются основами самодержавия.
* * *
Карл VII, который был таким слабым в начале своего правления, умер в сиянии славы. Его сын Людовик XI (1461–1483) был в очень плохих отношениях со своим отцом и в момент смерти Карла жил при дворе Филиппа Бургундского фактически на положении изгнанника. Все ожидали, что новый король станет лишь подручным своего могущественного вассала, но меньше чем через два месяца после того, как Филипп помог Людовику короноваться в Реймсе, король и герцог поссорились. И бо́льшая часть царствования Людовика прошла в борьбе с Бургундией, быстрое возвышение которой стало постоянной угрозой для безопасности Франции.
Людовик XI занял интересное место в истории Франции. «Плохой человек, но хороший король» – вот довольно точная характеристика его политики и поступков. Нет сомнения, что выглядел он далеко не внушительно. Вот какова была его внешность: «Тело нескладное, ноги как у рахитика, взгляд глаз умный и проницательный, но длинный крючковатый нос придавал что-то нелепое лицу, выражение которого говорило о хитрости, а не о достоинстве». Нам также известно, что он очень любил носить простую серую одежду, ездил по своей стране на муле в сопровождении всего шести слуг и всегда носил простую фетровую шляпу, украшенную свинцовыми изображениями святых. Этих образков на шляпе суеверного короля было много. Ему нравилось ездить по стране инкогнито и выбирать себе помощников и приятелей из средних и даже низших слоев общества. Те были в восторге оттого, что попали в друзья к самому «своему повелителю-королю». Людовик не слишком полагался на верность многих представителей высшей знати, и потому многие его советники и даже министры были противоположностью аристократам, то есть слугами или ненамного знатнее слуг. Цирюльник этого короля, вероятно, имел во Франции больше влияния, чем королевский родственник. Кроме того, этот король был суеверен. Он щедро одаривал деньгами церкви, носившие имена влиятельных святых, поклонялся священным реликвиям, подлинность которых вызывала сомнение, окружал себя астрологами и врачами-шарлатанами. Жизнь и страдания людей ничего не значили для Людовика. Тюрьмы в его замках обычно были полны, его палач постоянно находился рядом с ним и никогда не оставался без работы. Даже его самое торжественное обещание чаще всего оказывалось ненадежным. И все же, несмотря на все только что сказанное, дела этого короля в конечном счете принесли много блага Франции. Большинство его жертв не заслуживали слез. О нем было верно написано: «Людовик был одним из немногих людей, которым судьба предназначила совершить поистине великие дела, но при этом не быть великими».
Людовик совершил много дел, но самым важным из них было то, что он помешал герцогам Бургундии создать «промежуточное королевство» между Францией и Германией, которое окружило бы Францию и отняло бы у нее многие важнейшие провинции. В 1467 г. умер герцог Филипп Добрый. Ему наследовал его сын Карл Смелый. Герцогская корона Карла была намного ценнее, чем короны тогдашних королей Шотландии, Португалии или Дании. Вероятно, он казался более богатым и могущественным, чем король Англии, которого теперь французы прогнали обратно на его остров. Благодаря наследствам, завоеваниям, брачным договорам и другим подобным основаниям бургундские герцоги владели, кроме своего прежнего герцогства во Франции, множеством земель, разбросанных от Северного моря до Альп. Они были графами Голландии и Фландрии, то есть контролировали значительную часть территории сегодняшних Бельгии и Голландии, и получали огромные доходы от всех многолюдных и трудолюбивых фламандских городов. У них было много мелких владений на территории современного Эльзаса. Священная Римская (то есть Германская) империя теперь значительно ослабла, и ее император Фридрих III был не сильнее, чем его империя. Карл был уверен, что сумеет, подкупив или запугав Фридриха, получить от него королевскую корону. А тогда государь Бургундии смог бы писать как равному своему бывшему сюзерену, а в близком будущем «брату», который жил в Париже.
Но на пути Бургундии к величию были препятствия. Земли Карла были обширны по площади, но разбросаны на очень большой территории и сильно отличались одна от другой. У ткачей из Гента было мало общего с крестьянами, жившими поблизости от швейцарских кантонов. К тому же права Карла на некоторые из этих земель можно было оспорить, причем на достаточно справедливых основаниях. Однако новый герцог был очень талантливым и столь же честолюбивым. У него были большие ресурсы, он был зятем нового короля Англии Эдуарда IV, а недостатка энергии у него не было – наоборот, у Карла ее было слишком много. Во многих хрониках Карла Смелого даже называют Карлом Безрассудным. Однако его план в целом казался вполне осуществимым. Карл хотел полностью использовать нелюбовь многих знатнейших французских дворян к их скупому королю с его неаристократическими манерами. Он рассчитывал, подстрекая англичан, добиться, чтобы они попытались вернуть утраченные ими провинции и возобновили свои вторжения, а потом сам нанести точный и мощный удар и добиться своей цели. В итоге Франции мог быть нанесен почти такой же смертельный удар, как тот, который отвела от нее Жанна Дарк. Новый удар отвратил от страны человек, совершенно не похожий на Жанну, – хитрый лис Людовик XI, один из самых ловких хитрецов, которые когда-либо знали, в каких случаях надо убегать, а в каких кусаться.
Карлу, конечно, очень помогало то, что у Людовика были заклятые враги в его собственном доме. Главным врагом был родной брат короля, герцог Берри, который постоянно плел заговоры вместе с Карлом, общим врагом всех французов, чтобы добиться от брата-короля денег или должности наместника какой-нибудь области. Людовик отражал эти удары тем оружием, которое было в его распоряжении, – полным набором тонких хитростей и уловок. Утверждают, что он никогда не встречал своих противников лицом к лицу в открытом бою. Никогда ни один человек не был в большей мере воплощением политики, чем сын Карла VII. Один современник сравнил его с пауком, который тихо плетет свою сеть, а потом спокойно ждет, пока в нее попадут несчастные комары и мошки. Это было очень удачное сравнение.
В 1465 г. Людовику пришлось столкнуться с восстанием всей французской знати, которое возглавил герцог Берри, и бургундцы отважно встали на сторону восставших. Мятежники лицемерно назвали себя Лигой общественного блага и цинично заявили, что беспокоятся об угнетенных буржуа и крестьянах (которые действительно платили очень тяжелые налоги). Но на самом деле никогда не было больших эгоистов, чем члены этой лиги. Казалось, что они сильнее армии Людовика. Тогда король без колебаний заключил мир со своими мятежными подданными и стал обеими руками раздавать уступки их вождям. Берри получил в управление огромную провинцию Нормандия. Бургундии же Людовик отдал много городов, в том числе Булонь и Перонну[65]. Но все это король Франции сделал лишь для того, чтобы успокоить своих врагов, а потом разделить их и уничтожить по одному.
На это Людовику понадобилось несколько лет. Потом его противники еще не раз объединялись в союзы против него, и, когда один союз распадался, на его месте возникал другой. Вскоре герцога Берри убедили сменить Нормандию на Гиень. Новое княжество королевского брата было приятным, но там он был дальше от своих бургундских союзников. Людовик то сражался с Карлом Смелым, то обманывал его. Брат Людовика Берри умер в удачное для короля время (в 1472 г.)[66], и герцог Бургундии во главе большой армии пошел с севера на Париж. Ему удалось дойти до Бове. Карл поклялся уничтожить огнем или мечом всех подданных Людовика и все его земли, чтобы дать урок французскому королю, и все земли вдоль берегов Соммы были разорены почти так же безжалостно, как во время более крупной войны незадолго до этого. В городке Нель бургундцы убили множество мужчин, женщин и детей, которые пытались укрыться в местной церкви. Такие ужасные меры устрашения обычно навлекают возмездие на тех, кто их применяет. Когда Карл появился под стенами Бове, жители этого города нашли в себе отвагу для отчаянной обороны. Горожан вела в бой отважная молодая женщина, Жанна Ашет. Бургундцы, потеряв во время штурмов полторы тысячи человек, были вынуждены свернуть лагерь и уйти; их планы были сорваны. Результатом этого похода стало перемирие, которое для Карла было равно крупному поражению. Людовик силой или подкупом уводил от него, одного за другим, его французских союзников, и герцог был вынужден противостоять своему номинальному сюзерену без их помощи.
Карл еще имел большую надежду на свой союз с Англией. В 1475 г. Эдуард IV с хорошо подготовленной армией переправился через Ла-Манш и высадился в Кале, но Людовик быстро и своевременно добился встречи с английским завоевателем и убедил его, что тот мало выиграет, участвуя в игре эгоистичного бургундца. Чтобы подсластить свои доводы, Людовик передал Эдуарду из рук в руки 75 тысяч золотых крон и пообещал каждый год выплачивать еще 50 тысяч. Эдуард без колебаний покинул Карла в беде и вернулся домой – в сущности, бесславно.
У герцога и теперь еще были смелые планы на будущее и большая власть. Но он решил, что сможет получить больше от нападения на слабые княжества рядом с Германией, чем от новой атаки против Людовика. В 1475 г. он захватил герцогство Лотарингское, а потом в плохой для себя час решил покорить свободные швейцарские кантоны. К тому времени швейцарские горцы уже много лет бросали вызов войскам Австрии, но Карл не извлек уроков из давних сражений при Моргартене и Земпахе[67], а также из их других побед швейцарцев. Людовик остался в стороне. Хитрый король спокойно позволил Карлу завести его гордую армию в труднопроходимые горы, где грозная конница и артиллерия[68] герцога оказались бессильны против стремительного натиска швейцарцев, вооруженных пиками и алебардами, и стал ждать результата. Он рассчитал верно: Карл был позорно разгромлен возле города Грансон и бежал, спасая свою жизнь (в 1476 г.). Проявив бешеную энергию, он набрал новую армию и снова вторгся в Швейцарию. На этот раз горцы встретили его у города Морат, на краю озера, и уничтожили от 8 до 10 тысяч бургундцев, не считая тех, кто утонул.
Изгнанный герцог Лотарингский теперь выступил на сцену, потребовал свое наследство и занял свою прежнюю столицу Нанси. У Карла оставалось достаточно сил, чтобы набрать еще одну армию и отвоевать этот город, но Людовик послал помощь его сопернику и дал швейцарцам совет срочно перейти в наступление. В январе 1477 г. Карл Смелый сражался под стенами Нанси, и этот бой стал для герцога последним. Его солдаты были разогнаны или убиты, и правитель, который почти основал в Европе новое независимое королевство, тоже пал в сражении. Людовик не скрывал своей радости по этому поводу.
У Карла Смелого осталась только дочь, Мария, которой было восемь лет. Людовик быстро завладел большей частью владений ее отца в Восточной и Северной Франции. Однако ему не хватило сил или отваги, чтобы попытаться захватить огромные владения герцога в Нидерландах, и со временем эти земли попали под влияние Габсбургской Австрии. В 1482 г. по договору с опекунами Марии Франция приобрела Пикардию, Артуа и герцогство Бургундское вместе со многими зависящими от них землями. Кроме того, Людовик расширил территорию Франции также в сторону Испании и полностью включил в состав своего королевства многие из тех провинций, которыми управляли в качестве наместников знатнейшие аристократы.
Со времени изгнания англичан ни один французский король не прибавлял к своему королевству таких обширных территорий.
Людовик во время своего царствования не только интриговал или сражался. Не имея возможности надеяться на верность знати, он не только назначал на многие высшие должности представителей буржуазии («горожан») и даже низкородных крестьян, но немало сделал и для облегчения судьбы низших слоев общества в целом – улучшил их положение перед законом и расширил права самоуправления для их городов. Он улучшал дороги, призывал к своему двору опытных купцов, чтобы они посоветовали, как создать благоприятные условия для торговли и ремесел, основывал новые ярмарки и рынки и привлекал во Францию итальянских ремесленников, которые могли изготавливать стекло. Он интересовался очень широким кругом вопросов – от создания условий для развития рудников до составления научных схем для объединения королевских законов в единый кодекс. А еще (последнее по упоминанию, но не по значению) он основывал новые университеты и школы, где готовили юристов и медиков, и покровительствовал недавно изобретенному искусству книгопечатания.
Людовик XI заслуживает высочайшей похвалы за то, что сумел устранить угрозу со стороны Бургундии и даже использовать эту опасность для расширения и усиления Франции; за то, что, вернувшись к практике Филиппа IV, он дал часть должностей в правительстве людям из недворянской части общества и снова указал аристократам, где их место. Он «сделал больше, чем кто-либо другой, для создания монархии во Франции и в определенном смысле был новатором в политике». Но, возвращаясь к рассказу о личности этого омерзительного своей алчностью и низостью короля, мы опять чувствуем к нему отвращение. Когда ему нужно было сражаться, он побеждал достойными презрения средствами. Он не просто заключал родовитых заговорщиков и мятежников под стражу, что было необходимо, – он держал их в мерзких зловонных «клетках» и тюремных башнях и обращался с ними с самой утонченной средневековой жестокостью. До сих пор склепы и темные камеры его мрачного замка Лош убедительно и ярко напоминают о том, какой жестокостью могло обернуться милосердие этого порочного короля. Он не только не знал жалости к знатнейшим феодалам, восстававшим против его власти; так же безжалостен он был и к несчастным горожанам, которые сопротивлялись его мучительно тяжелым налогам. Известно, что после одного восстания горожан предводители этих мятежников были повешены на деревьях вдоль дорог или брошены в реку в зашитых мешках, на которых было написано: «Не мешайте королевскому правосудию!»
Он был суеверным до конца своей жизни. В 1482 г. к нему пришли фламандские послы, чтобы получить его подпись под договором о мире с Марией Бургундской. Король умирал от паралича. Он велел принести Евангелие, на котором собирался дать клятву соблюдать договор, и сказал: «Прошу вас извинить меня за то, что я присягаю левой рукой: правая немного ослабла». Но потом, опасаясь, что договор, клятва о котором принесена левой рукой, может показаться недействительным, он с огромным трудом коснулся священной книги правым локтем! Он должным образом молился всем святым и всем священным реликвиям о продлении своей жизни, но она оборвалась в августе 1483 г.
Об этом короле хорошо написано: «В Людовике XI не было ничего благородного, кроме его целей, и ничего великого, кроме результатов, которых он достиг». Но если бы его характер и был другим, этот король не смог бы сделать больше, потому что своими достижениями он создал Францию.
В 1483 г., в конце Средних веков, Франция была самой населенной, самой богатой и самой единой страной в Европе и, вероятно, той, которая управлялась лучше всех. Благодаря изумительной способности к восстановлению, которую так часто проявлял французский народ, от разрушений, причиненных Столетней войной, не осталось и следа. Казалось, что перед Францией открывается великое будущее.
Глава 7. Беспокойный XVI в.: 1483—1610
Итальянские войны. Глупая итальянская политика Людовика. Генрих II. Распространение новых учений. Религиозные войны. Нерегулярные и беспорядочные боевые действия. Ссоры с крайними католиками. Новая гражданская война. Покорение Парижа. Прекрасные реформы Сюлли. Поддержка промышленности. Высокое место Генриха IV в истории
Людовик XI умер в 1483 г. В 1453 г. турки захватили Константинополь. Почти в это же время Гутенберг в Майнце выпустил первую печатную книгу. Колумб открыл Америку в 1492 г. Лютер прибил свои тезисы к церковной двери и этим начал протестантскую Реформацию в 1517 г. Ясно видно, что Европа, и вместе с ней, разумеется, Франция, была в те дни накануне той великой перемены в деятельности людей и в их идеях, которую мы называем началом современной эпохи.
В этом первом «современном» движении Франция не была впереди всех стран. Для этого было несколько причин. Она вполне восстановилась после Столетней войны в том смысле, что сожженные деревни и города были отстроены заново, но ее культурное развитие затормозилось. Французские архитекторы, поэты, скульпторы, трубадуры, философы и служители церкви больше не были образцом художественной и интеллектуальной культуры для Европы, как в XIII в.
Другой причиной было то, что на Европейском континенте возникла еще одна великая монархия. Сначала она не угрожала открыто уничтожить Францию, как это делала Англия, но, несомненно, она долгое время затмевала Францию, унижала ее и самым гибельным для Франции образом вмешивалась в ее дела. Этим государством была Испания. Долгое время на ее месте было скопление беспокойных маленьких королевств, теперь же они наконец объединились в одно мощное военизированное монархическое государство под властью знаменитых короля Фердинанда и королевы Изабеллы, которое позже (после 1516 г.) оказалось под властью австрийской династии Габсбургов. А Габсбурги к тому времени завладели наследством прежней Бургундии – Нидерландами и австрийскими землями в Германии, кроме того, они уже давно носили корону Священной Римской империи. Со времен Гуго Капета у Франции не было такого опасного внешнего соперника на юге и востоке. Все это, разумеется, означало, что будущее Франции – туманное и мрачное, пока не ослабнет испано-габсбургская угроза.
Кроме того, автор должен еще раз напомнить читателям тот очевидный факт, что при настоящей монархии в опасной степени зависит от личных качеств монарха. Карл VII в конце своего правления и Людовик XI были очень умелыми королями, и их страна пожинала плоды их мастерства. Но с 1483 по 1589 г. все стало иначе. Можно без преувеличения сказать, никто из монархов, которые правили Францией в этот период, не заслуживает большего, чем одна короткая фраза, а большинство из них достойны лишь осуждения как слабые люди или тираны. Королевство платило полную цену за бездарность каждого короля, и такие несчастья, разумеется, одна из характерных черт самодержавия.
Годы с 1483 до 1610 очень четко выделяются во французской истории как отдельный период. В начале этой эпохи Франция залечила свои раны, избавившись от опасностей Столетней войны, но вряд ли уже была достаточно сильна, чтобы пускаться в рискованные предприятия ради господства над Европой. В конце же этого времени угроз со стороны Испании слабела, и, если бы у Франции были великие короли или великие министры, она, несомненно, вполне могла бы стать первой среди государств западной цивилизации. Этот долгий период так же четко делится на части: 1) годы с 1483 по 1559, время так называемых Итальянских войн, когда французские короли напрасно и глупо пытались наконец присоединить к своему королевству большой кусок Италии; 2) годы с 1559 по 1589, когда всю Францию терзали Религиозные войны между католиками и протестантами; и 3) годы с 1589 по 1610, когда великий король Генрих IV (знаменитый Генрих Наваррский) прекратил Религиозные войны, отразил испанское вторжение, излечил Францию от ее бед и снова вывел свое королевство на путь, ведущий к процветанию.
Если не считать этого короля, все французские монархи этого периода были посредственностями или еще хуже. Часто нет необходимости долго говорить об их «царствованиях», потому что обычно король был лишь орудием в руках сил более могучих, чем он. Лучше подробно рассказать о различных событиях этого времени, не удекляя слишком много внимания тем, кто играл роль короля.
Людовик XI оставил после себя полную казну, послушное королевство и сильную армию. Желать, чтобы его преемники при таких условиях спокойно сидели дома, совершенствуя свою страну и не пытаясь ловить рыбу в мутной воде тогдашней международной политики, – значило бы требовать от них слишком много. А Италия в конце XV в. все время словно сама напрашивалась на то, чтобы ее завоевал чужеземец.
Итальянский народ тогда наслаждался наивысшим расцветом своего чудесного Ренессанса – эпохи возрождения греко-римской литературы, науки и искусства, которая началась немного позже 1300 г. Флоренция, Милан, Рим, Венеция, Перуджа, Сиена и десятки менее крупных городов стали центрами новых прогрессивных направлений в живописи, архитектуре и скульптуре, а также во всех родах литературы и отраслях знания. Франция не могла сравниться с ними в этом отношении. К тому же южный полуостров был очень богат. Итальянские ремесленники были самыми искусными мастерами в мире. Города, где они жили, были полны изящества и роскоши, неизвестных к северу от Альп. Но, к великому сожалению, при всем этом великолепии в Италии не было политического единства. В Милане был свой правитель, вернее, «деспот». Венеция была аристократической республикой. Флоренция называлась республикой, но находилась под контролем великой семьи Медичи. В Центральной Италии господствовали римские папы, которые управляли ею как мирские государи. Югом полуострова владел король Неаполитанский. Кроме этих, в Италии было еще много других государств, меньших по размеру и более слабых. Эти крошечные государства постоянно воевали между собой и были вполне готовы позвать чужеземца, чтобы он помог им раздавить недружелюбных соседей. Таким образом, Италию в любом случае скоро должно было захватить какое-нибудь крупное и мощное государство. В сущности, вопрос был лишь один – завоюет ее Франция или Испания.
Трудно не испытывать морального отвращения к этим «итальянским войнам». Они были начаты без всякого серьезного повода и велись почти исключительно ради «славы» мно гочисленных соперничавших монархов. Но этика в Европе 1500 г. была иной, чем в Америке XX в.
Карл VIII (1483–1498), легкомысленный и неблагоразумный сын Людовика XI, в 1493 г. явился в Италию во главе великолепно снаряженной армии. Его позвал на полуостров герцог Миланский, узурпировавший свою власть; кроме того, король имел не очень ясные права на то, чтобы унаследовать корону Неаполя. В начале похода Карл со своей блестящей армией легко захватил Неаполь, но вскоре он обнаружил, что государства Северной Италии вооружаются против него. Он вернулся назад, во Францию еще быстрее, чем шел вперед. Итальянские правители и король Испании Фердинанд, который был умным и ловким, а потому быстро вмешался в эту борьбу, быстро прогнали за Альпы последние французские гарнизоны. Карл умер в 1498 г. в результате несчастного случая[69]. Казалось, что от его удивительной войны не осталось ничего, кроме воспоминаний. Но на самом деле она имела большие косвенные последствия: подданные Карла принесли с собой домой достижения итальянского Ренессанса. Французы соприкоснулись с цивилизацией, которая была гораздо более передовой и искусственной, чем их собственная. Итальянские артисты, повара, портные, шуты, учителя греческого и латинского языков широким потоком направились в страну, лежавшую к северу от Альп. Их было гораздо больше, чем раньше, и они встречали радушный прием при дворе короля, в замках знатнейших аристократов, в Парижском университете и почти везде. Произошла глубинная модернизация французской культуры[70].
Следующий король[71], Людовик XII (1498–1515), был гораздо более достойным человеком, но во внешней политике был не умнее Карла. Как правитель собственной страны он был одним из лучших монархов за всю историю Франции. Налоги были уменьшены, были приняты меры, чтобы увеличить благополучие низших слоев общества, причем это было сделано искренне.
На содержание королевского двора шли почти только одни доходы с личных поместий короля. Ненужные пенсии и прочие излишества были сокращены. Этот монарх заявил: «Лучше пусть придворные смеются над моей скупостью, чем народ плачет из-за моей расточительности». В 1513 г. он объявил в своем указе: «Ни при каких обстоятельствах мы не увеличим бремя, лежащее на нашем бедном народе, поскольку знаем, как тяжела его жизнь и как велики нагрузки в форме прямых налогов и иных повинностей, которые он нес до сих пор и, к нашему величайшему сожалению и горю, продолжает нести». Сохранилось также прекрасное свидетельство того, что эта благодетельная внутренняя политика принесла результаты. Один автор писал: «В Париже, Руане, Лионе и любом другом большом городе королевства там, где во времена Людовика XI можно было найти одного богатого и процветающего купца, в это царствование можно было обнаружить больше пятидесяти таких купцов». Страна так процветала, что доходы короля увеличились почти в два раза даже после сокращения налогов. Франция была так богата, что другие короли завидовали Людовику XII.
К сожалению, всю эту справедливо заслуженную славу он потерял из-за своей глупой итальянской политики. Все царствование этого короля было рядом предательств и интриг, союзов, новых союзов против прежних союзников, войн, перемирий и снова войн с целью завладеть землями в Италии, особенно герцогством Миланским. Людовик воевал с папой римским, с Фердинандом Испанским, с императором Максимилианом и под конец – с королем Англии Генрихом VIII, который заключил союз с Испанией. Во всех этих войнах он потерпел неудачу, причем не из-за слабости своих армий, а из-за невезения и бездарности своих полководцев. Какое-то время он владел Миланом, потом был вытеснен оттуда и, наконец, чтобы защититься от нападения англичан, был вынужден пообещать Генриху VIII город Турне и 100 тысяч крон в придачу (1514). Когда он умер, у Франции так же не было владений в Италии, как не было после несчастливого Карла VIII. Военные предприятия Людовика поглотили огромную сумму денег и стоили жизни десяткам тысяч французов, а его враги, в первую очередь Испания, казались сильнее, чем когда-либо раньше.
Следующим монархом был дальний родственник Людовика, Франциск I (1515–1547). Его внешняя политика в целом была не лучше, чем у Людовика, а внутренняя намного хуже. Франциск любил показной блеск и потому покровительствовал художникам, архитекторам и поэтам – ученикам итальянцев, чем внес большой вклад в прогресс французской культуры. Кроме того, он охотно тратил деньги из казны на грандиозные постройки и поощрял к такому же строительству своих богатых аристократов. Поэтому в его время было построено много изящных замков. Это уже были величественные резиденции и дворцы, а не мрачные неуютные замки уже закончившихся теперь Средних веков. До сих пор окрестности Тура усеяны великолепными зданиями, которые напоминают нам об этом времени величавой красоты и роскоши. Шамбор, Шенонсо и Блуа – вот лишь несколько названных наугад знаменитых замков из числа тех, которые были построены или перестроены при этом любившем великолепие и блеск короле. Однако Франциск не был мудрым королем, который бы заботился о благе своих подданных. Он был безнравственным, расточительным, сумасбродным и эгоистичным. Если он не расточал богатства Франции на своих блиставших роскошью тунеядцев придворных, то обычно тратил эти богатства с еще меньшей пользой – на войны за власть в Италии, которые не дали в результате почти ничего, кроме поражений и горя.
В начале правления Франциска австрийские Габсбуги добились того, чего желали всем сердцем: почтенная корона Германской империи, личная власть над австрийскими землями, которая была ценнее этой короны, а также Нидерланды и все королевство Испания – все это оказалось в руках одного правителя, который известен в истории как Карл V (так он именовался в Германии)[72]. Он был гораздо более последовательным и ловким, чем Франциск, и к тому же имел бы в своем распоряжении гораздо больше средств, если бы сосредоточил их на выполнении одной задачи. В течение практически всего своего царствования Франциск боролся с Карлом – напрямую за власть над Италией и косвенно при решении вопроса о том, австрийский или французский король станет главой Европы.
Результатом стал утомительный ряд вторжений Франциска или его военачальников в Италию, а также союзов и договоров с папой или против папы, поскольку теперь Святой престол в своих мирских интересах был на стороне то Франции, то Испании. Иногда Франциск одерживал победу, но, если рассматривать эти события в целом, он чаще терпел поражение.
Всего войн между Франциском и Карлом было четыре. Вначале Франциск вторгся в Италию, но был разбит и захвачен в плен в сражении при Павии (1525). «Все потеряно, кроме чести», – написал он тогда своей матери, королеве-регентше. Король купил себе свободу, подписав очень невыгодный для него мирный договор, от которого поспешил отказаться, как только вышел на свободу. Остальные три войны были не такими катастрофическими. Каждый раз, когда Карл пытался ввести свои испанские и немецкие войска во Францию, французы быстро отбрасывали их назад. Генрих VIII Английский иногда становился союзником Карла. Но в это время король Англии уже собирался порвать с католической церковью (которую Карл стойко защищал), а потому был не очень последовательным врагом Франции. Кроме того, Карлу постоянно мешали военные операции грозных в то время турок и сильнейшая неприязнь к нему новой партии немецких князей-«протестантов», которые ожесточенно сопротивлялись его стараниям восстановить прежнюю церковь. Когда Франциск I умер (1547), великий спор между Валуа-Капетингами и Габсбургами не окончился, но география давала большие преимущества Габсбургам. Вице-короли Испании правили в Неаполе и Милане, а у французов вряд ли оставался за Альпами хотя бы один гарнизон.
При Генрихе II (1547–1559), сыне Франциска, в борьбе с Габсбургами начался перелом к лучшему, хотя лично новый король был ничуть не лучше своего отца. Пользуясь гражданскими войнами между германским императором и князья ми-про тестантами, французы захватили три больших пригра ничных города – Тул, Мец и Верден (1552). Карл сделал отчаянную попытку вернуть их, и его армия, 60 тысяч солдат, во главе с ним самим осадила Мец. Однако наместник Генриха, герцог Гиз, доблестно и умело оборонялся. За два месяца блокады города по нему было сделано 40 тысяч выстрелов из орудий (до этого старинная артиллерия еще никогда не выпускала так много снарядов). Но он все же выстоял, а Карл потерял две трети своей армии и был вынужден снять осаду. «Я прекрасно вижу, что Фортуна – женщина! – с горечью воскликнул он. – Молодой король ей милей, чем старый император».
В 1556 г. Карл отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа II, короля Испании. Филипп женился на Марии Католичке, дочери Генриха VIII, и этим сделал Англию противницей Франции. В 1558 г. герцог Гиз внезапно атаковал Кале. Малочисленный английский гарнизон совершенно не ждал нападения, и герцог легко захватил этот город – ворота во Францию. В 1559 г. был заключен мир. Испанцы выиграли крупное сражение возле Сен-Кантена, но Филипп хотел освободить себе руки, чтобы раздавить протестантскую религию везде, где та поднимет голову. Поэтому он договорился с Генрихом на удобных для того условиях. Король Франции сохранил за собой Верден, Тул и Мец, в его руках остался и Кале, несмотря на яростный протест униженных англичан.
Генрих II умер почти сразу после заключения этого договора. На придворном турнире он был случайно ранен сломанным копьем капитана своей гвардии, шотландского рыцаря Монтгомери. Вскоре великие Религиозные войны начали терзать и опустошать всю Францию, но нет никаких доказательств того, что Генрих II смог бы справиться с этими бедствиями.
Французскую Реформацию труднее анализировать, чем Реформацию в Германии, Англии или любой другой стране. Нет сомнения, что она началась как искренний протест против правил и догм католической церкви. Но прежде чем это движение набрало силу, к нему подключилась политика. Возможно, во Франции политическая сторона Реформации была выражена сильнее, чем в любой другой стране, затронутой теми мощными судорогами, которые начались в 1517 г., когда в саксонском городе Виттенберге были вывешены «Девяносто пять тезисов» Мартина Лютера.
В это время французскую церковь тоже обвиняли в мирском поведении, вырождении и проповеди ложного учения – в том, за что критиковали католическую церковь почти везде, кроме оплотов католицизма – Италии и Испании.
Вероятно, эти обвинения были так же справедливы или несправедливы, как в других странах. Уже в 1520 г. в небольшом городе Мо на реке Марне, поблизости от Парижа, существовала группа богословов-радикалов, которые переводили Новый Завет и преподавали вызывавшее тревогу учение. Правительственные борцы с ересью вскоре разогнали этих несчастных вольнодумцев. Но величайший из религиозных реформаторов-французов, Жан Кальвин, трудился за пределами Франции. Кальвин родился в 1509 г. в Нуайоне, тихом пикардийском городке, который стал местом таких кровопролитных исторических событий в 1917–1918 гг. Большую часть жизни он был пастором, проповедником-оратором и некоронованным правителем швейцарского города-республики Женевы, которая находилась возле французской границы, но не была под контролем короля. Это, несомненно, был один из самых мощных умов, рожденных Францией. Сегодня его «Наставление в христианской вере», как богословское сочинение, может быть, неприятно и даже почти отвратительно для читателей своей холодностью. Но во времена Кальвина эта книга, полная умно сформулированных призывов и неопровержимой логики, посылала армии в бой, заставляла людей с радостью умирать на эшафоте и вооружала одно королевство против другого. С 1541 по 1565 год Кальвин жил в Женеве и за это время послал оттуда целую армию красноречивых учеников, воспитанных в самой крепкой и агрессивной разновидности протестантизма. Благодаря своим знакомствам во Франции они встречали у французов гораздо более теплый прием, чем последователи Лютера, распространявшие чисто немецкую разновидность протестантизма.
Турнир 19 июня 1559 г., на котором был смертельно ранен Генрих II
Под влиянием такой мощной силы протестантизм быстро распространялся во Франции при Франциске I и Генрихе II. Оба этих короля, особенно Генрих, внесли необходимые обновления в старые законы против еретиков и не скупились на дыбы и костры для протестантов. Было много казней за веру. Видный член Высокого суда Парижа (то есть парижского парламента), Анн Дюбур, попытался заступиться перед Генрихом II за преследуемых и в результате сам был казнен. Тем не менее отколовшихся от католической церкви стало так много, что обычные репрессии уже не могли помочь. Многие менее знатные дворяне перешли в «реформированную религию», а вскоре к ним присоединились несколько знатнейших родственников королевской семьи, в том числе могущественный принц Конде, а также Гаспар де Колиньи, адмирал Франции[73] и другие магнаты, стоявшие возле самого трона. К 1560 г. конфликт был близок к кульминации.
Однако французские протестанты с самого начала работали в очень трудных условиях. Все признают, что в Германии и Англии местные правители – князья или король – желали получить контроль над церковными должностями и особенно над богатствами церкви, и это очень сильно побуждало многих из них прислушиваться к словам протестантских богословов. А во Франции такого никогда не было. В 1516 г. Франциск I подписал в Болонье свой знаменитый договор с папой Львом X (конкордат), согласно которому король гарантировал папе значительную часть доходов французского духовенства, а за это получал право назначать духовенство и осуществлять общий контроль над ним. Таким образом, король Франции держал в своих руках высшие должности французской церкви и значительную часть ее богатств на тех же основаниях, что и те нецерковные должности и привилегии, которые он имел право распределять. Разумеется, это давало неисчислимые выгоды королевской власти. А папе конкордат принес мало чести: Лев отдал значительную часть духовной свободы французской церкви, чтобы его кусок финансового пирога ему присылали прямо в Рим. Зато теперь король, так крепко державший католическую церковь в руках, не мог ничего выгадать в этом мире, если бы рискнул своей душой и перешел в новую религию.
Религиозные войны во Франции начались в 1562 г. и, в сущности, закончились только в 1598 г. Это было время тревог и смуты, которое принесло беды и нищету во многие части государства, но всегда было много обширных округов, где обстановка оставалась сравнительно мирной. Протестантская партия вскоре получила название гугеноты, которое считается искажением немецкого Eidgenossen – конфедераты. Ее главные силы находились в южных землях, но у новой религии были отдельные оплоты и на севере страны. В частности, гугеноты захватили и удерживали город Ла-Рошель, крупный морской порт на берегу Бискайского залива.
Иногда в его гавань к ним прибывали подкрепления от английских и голландских протестантов. Гугеноты также могли (когда у них были деньги) нанимать солдат в лютеранских областях Германии. Но главной силой протестантской армии была ее стремительная конница, состоявшая из мелкопоместных дворян, которые целыми толпами переходили в новую веру. Но у гугенотов – не считая того, что они постоянно враждовали с королем, королевским двором и, разумеется, со всей церковью, грозной и огромной организацией, в особенности с орденом иезуитов, имевшим прекрасное руководство, – всегда была одна слабая сторона: они не смогли произвести глубокое впечатление на крестьянство и буржуазию всей Франции. В нескольких округах низшие слои населения приняли новую веру, но таких округов было мало. Париж тоже оставался верным католической религии до фанатизма: даже в дни официальной веротерпимости внутри его стен нельзя было открыто служить протестантскую службу.
Совершенно ясно, что в таких обстоятельствах победа протестантов была в лучшем случае под сомнением. После 1560 г. новая религия привлекла мало новых последователей. Речь шла уже о том, смогут ли протестанты добиться разумной терпимости от католического большинства. Неясно, смог бы протестантизм завоевать себе законное место в обществе, если бы остался чисто религиозным движением, но в действительности дворяне-гугеноты скоро начали добавлять к своему религиозному пылу явную враждебность к королевской власти. Сочувствие религиозному движению протестантов или восхищение душевным благородством некоторых гугенотских вождей не должны мешать современному человеку осознавать, что гугеноты нередко становились сторонниками политического раскола Франции, и поэтому их движение было угрозой для силы и благополучия страны. Слишком часто их борьба была новым эпизодом долгой дуэли между центральной властью и уходящим в прошлое феодализмом. Если бы гугеноты смогли привлечь на свою сторону короля и низшие слои населения, это было бы хорошо, но, если нет, они, несомненно, раскололи бы страну не только по религиозному признаку, но и политически.
С 1559 по 1589 год королями Франции были по очереди три сына Генриха II. Все они умерли, не произведя на свет сыновей. Все трое были эгоистичными любителями роскоши и разврата, неспособными не только мудро править государством, но даже просто быть умными в политике.
Чаще, чем они, дела Франции решала их мать, настоящая правительница страны, Екатерина Медичи, по происхождению итальянская принцесса, безнравственная, но очень хитрая и ловкая женщина. Она то лгала, то шла на уступки, была то милосердной, то жестокой и коварной, и все это для того, чтобы сохранить в целости власть королей, когда этой власти угрожала огромная опасность[74]. Франциск II правил всего лишь с 1559 по 1560 г., его брат Карл IX был королем с 1560 по 1574 г., Генрих III, третий и, вероятно, худший из троих, был на престоле с 1574 по 1589 г. За это время произошло не меньше восьми войн, которые фактически были гражданскими, хотя назывались войнами между королем и протестантами. И часто боевые действия шли так, что королевская семья была недовольна своей победой почти так же, как поражением.
Людовик XI
Екатерина Медичи
Генрих IV
Максимильен, герцог Сюлли
Дело было в том, что из-за слабости королей знатнейшие княжеские семейства стали протягивать руки к короне. Со стороны протестантов это делал могущественный род, состоявший из семей Бурбонов и Конде. Антуан де Бурбон был женат на Жанне, королеве маленького государства Наварра, и поэтому был выше по положению, чем обычные «принцы крови» – родственники королевской семьи. Но самым важным было то, что его сын, Генрих Наваррский, мог по праву наследования взойти на французский трон, если бы правящая династия Валуа угасла, что было весьма вероятно. Молодой Генрих рос в протестантской вере, что, разумется, вызывало ужас и тревогу у многих набожных католиков. С другой стороны королевской семье угрожали могущественные герцоги де Гиз. Они не имели прямых прав на корону, но были честолюбивы и время от времени очень ясно давали понять, что рассчитывают получить высший сан в стране. Гизы были ультракатоликами. Слабые короли из семьи Валуа (которые часто, в сущности, хотели помешать развязыванию разорительных гражданских войн, а не подавить ересь) редко казались им достаточно ортодоксальными. Гизы встали во главе партии крайних сторонников церкви. Эту партию, конечно, поддержали неутомимые иезуиты, католическое движение стало расти, и вскоре его стал поддерживать деньгами и своим влиянием король Испании. В сущности, Гизы сознательно торговали своей ортодоксальностью. С королями, якобы их «повелителями», на чьей стороне они сражались и выиграли много сражений, эти герцоги часто были в самых худших отношениях. Гизы поставили себе цель полностью подчинить себе королей, и даже у слабых Валуа хватало ума на то, чтобы понять их намерения. Кончилось тем, что в последний период Религиозных войн Гизы объединили ультракатоликов в Священную лигу, покровителем которой стал король Испании Филипп II. Было объявлено, что цель Лиги – уничтожение протестантов, но ее настоящей, плохо скрываемой целью было посадить одного из Гизов на трон Гуго Капета.
Подробности этих войн совершенно неинтересны. Боевые действия велись беспорядочно – то в одном месте, то в другом, почти во всех частях Франции, где гугенотам удалось создать себе хотя бы несколько опорных пунктов. Канцлер Л’Опиталь, один из немногих настоящих государственных деятелей своего времени, в 1560 г. на заседании Генеральных штатов в Блуа произнес благородный призыв к терпимости: «Будем сражаться с ересью оружием милосердия, молитвы, убеждения и подходящими к этому случаю словами Бога. Доброта совершит больше, чем суровость… Забудем имена [наших] злобных партий и будем довольствоваться именем «христиане».
Эти великодушные слова не были услышаны в борьбе сиюминутных страстей. Войны продолжались, иногда прерываясь плохо соблюдавшимися перемириями. Гугеноты проиграли большинство ожесточенных сражений этого периода, но до 1572 г. их главой был адмирал Колиньи, изумительно стойкий в несчастье и с удивительным мастерством умевший отвратить худшие последствия каждого поражения. Королева-мать Екатерина снова и снова заключала с гугенотами соглашения о «мире», допускавшие значительную терпимость к их религии. Основной причиной ее миролюбия было то, что в случае окончательного поражения гугенотов королевская власть оказалась бы полностью отдана на милость Гизов.
В 1572 г. произошло одно из самых печальных событий в истории Франции, которое стало несмываемым пятном на именах Валуа и Гизов. В этом году не просто снова был временный «мир», но роялисты и гугеноты проявляли явные признаки готовности примириться, по крайней мере в политических делах. Колиньи находился в Париже, и казалось, что он приобрел большое влияние на непостоянного короля Карла IX. Многие дворяне-протестанты приехали в Париж следом за своим вождем. Разрабатывались большие планы прекращения междоусобной вражды путем совместной атаки обеих партий на общего врага, испанского короля Филиппа. Но королева-мать Екатерина, видимо, отказалась от них в последний момент: она боялась решительной схватки с Испанией и еще больше боялась, что Колиньи станет командовать вместо Гиза на заседаниях Королевского совета. Она сделала странный шаг в обратном направлении: временно снова перешла на сторону партии Гизов и убедила молодого короля, что он должен уйти из-под власти наставника-протестанта, и прибавила к этому совету другой, кровавый: гугенотов надо уничтожить, перерезав их всех. Карл IX, хотя и был слаб душой, не сразу решился согласиться на это преступление[75], но в итоге сдался и сердито сказал: «Если вы должны убить их, убейте всех, чтобы не осталось никого, кто бы смог упрекать меня».
В ночь с 23 на 24 августа 1572 г. (это и была злосчастная Варфоломеевская ночь) началось уничтожение всех протестантов в Париже. Колиньи был заколот в своей постели. Город был полон фанатиков, которые с восторгом исполняли приказы Гиза. А герцог радостно объявил: «Друзья, продолжайте свое дело: король приказывает вам это!» Бойня в Париже продолжалась три дня. За это время были хладнокровно убиты минимум 2 тысячи гугенотов. Потом резня распространилась на провинцию, и там, по самой низкой оценке, погибли 8 тысяч протестантов[76].
Конечно, это стало тяжелым ударом для гугенотов, но они не были истреблены. Наоборот, они вскоре перешли к такому отчаянному сопротивлению, что быстро добились нового временного указа о веротерпимости. Но долгосрочное соглашение было невозможно, пока оставался нерешенным вопрос о наследовании престола, а Гизы и Священная лига требовали физического уничтожения всех еретиков до одного. В 1584 г. умер последний представитель рода Валуа, который мог рассчитывать на то, чтобы унаследовать трон, и по всем законам Франции наследником стал Генрих Наваррский, гугенот. Священная лига и ее сторонники, которые полностью контролировали Париж, начали лихорадочно действовать. Гизы оказали сильнейшее давление на слабодушного Генриха III (вероятно, худшего и самого слабого в своей ветви рода; он стал в ней и последним), чтобы заставить его подчиниться их предательской политике. Они даже устроили наконец заговор с целью вообще свергнуть короля с престола под предлогом, что нельзя надеяться, чтобы он смог сопротивляться требованиям Наварры. Однако Генрих III, вытерпев много унижений, стал защищаться как затравленный зверь. В 1588 г. в Блуа он велел жестоко убить герцога Гиза и его брата, кардинала Людовика. Потом он вступил в союз с так называемым мятежником, Генрихом Наваррским, и выступил в поход, чтобы осадить Париж.
Фанатики из Лиги нанесли ответный удар в полном соответствии с духом XVI в. и отомстили за своих защитников. Молодой монах Жак Клеман проник к королю под предлогом, что должен передать ему «очень важное тайное сообщение», и вонзил Генриху III кинжал в живот. Так было покончено с последним из выродившихся Валуа. Екатерина Медичи, старая королева-мать, стоявшая в центре многих интриг и многих злых дел, умерла немного раньше. Теперь род Бурбонов мог завладеть короной Франции.
Генрих IV (1589–1610), или Генрих Наваррский, как его фамильярно называли еще долго после того, как он занял французский престол, – один из самых симпатичных и самых почитаемых правителей в длинном ряду французских королей. Его молодость была в высшей степени бурной и тревожной. Благодаря родству с королевской семьей он стал вождем партии гугенотов и провел много лет в почти непрерывных войнах. Маленькое королевство Наварра не дало ему почти ничего, кроме титула короля и более высокого ранга, чем у обычных, некоронованных принцев. Его мать была набожной протестанткой и воспитала его в кальвинистской вере, но он явно не был очень пылким сторонником отвлеченных принципов железного богослова Кальвина. Вот характеристика Генриха IV: «Любезный почти до фамильярности, с быстрым умом, настоящий гасконец – уроженец французского юга, – добрый и снисходительный, но мастерски умевший читать по внешности характеры людей, стоявших вокруг него», а в случае необходимости суровый и непреклонный. В сражениях он был храбрым до безрассудства. Генрих не был великим стратегом, но, несомненно, был прекрасным командиром на поле боя. Он умел собрать вокруг себя компетентных советников, добиться от них горячей преданности и пользоваться их советами. Что касается его нравственных правил в личной жизни, они были совершенно некальвинистскими. Рассказ о его внебрачных любовных увлечениях был бы скорее интересным, чем поучительным. От главной любовницы, знаменитой Габриели д’Эстре, у него было несколько внебрачных детей. Такие мелкие грехи не портили репутацию короля в XVI в. Парижане были в ужасе не из-за нестрогой морали короля, а только из-за богословских принципов, которые он исповедовал!
Через день после смерти Генриха III Генрих IV объявил, что не будет применять свою власть, чтобы подорвать влияние католической религии ради укрепления протестантской. Но испуганным аристократам и иезуитам из Лиги было мало простого заявления. Они поспешно провозгласили ушедшего на покой по возрасту старого кардинала Бурбона Карлом X. Кардинал не имел детей, и было ясно, что он скоро умрет. Но члены Лиги, которых теперь возглавлял еще один из семьи Гиз, герцог Майенский, брат герцога де Гиза и кардинала, надеялись, что к этому времени смогут посадить на престол наследника из другой семьи. Филипп II, король Испании, постоянно оказывал им поддержку людьми и деньгами, но не только потому, что всюду его признавали защитником католической религии. У самого Филиппа были права на французскую корону, правда сомнительные. Он мог бы предъявить их, если бы удалось устранить род Бурбонов, и теперь ждал подходящего момента. Если бы ненавистный Наварра был разгромлен или убит, планы Майена занять престол столкнулись бы с надеждами Филиппа и началась бы открытая борьба между сторонниками двух кандидатов. Так в партии крайних католиков произошел раскол по признаку конечной цели, но она была еще настолько сильна, что положение Генриха IV казалось почти безнадежным.
Сначала в его руках была только примерно шестая часть Франции – город тут, округ там. Но не вся остальная территория была на стороне Лиги. Очень многие провинции и могущественные аристократы строго соблюдали нейтралитет, стараясь уберечь свою территорию от разорения, которое несла с собой война, и ожидая, что будет дальше. Разумеется, Генрих мог рассчитывать на гугенотов, но они составляли, вероятно, меньше 10 процентов населения страны. Он также получал определенную помощь от королевы Англии Елизаветы, протестантки, но больше всего он надеялся на свое громкое имя, дававшее ему законное право на трон (вскоре именно по этой причине многие умеренные католики перешли на его сторону) и на собственные силы, которые еще никогда не подводили его. Вначале у него было намного меньше войск, чем у Майена, и тот три недели подряд атаковал Генриха возле Арка в Нормандии. Войска Лиги старались прорвать укрепления противника, но были отброшены и разгромлены. Генрих был в восторге уже оттого, что сражался в бою, как настоящий мужчина. «Иди и повесься, храбрый Крийон: мы сражались при Арке, а ты там не был!» – писал он своему военачальнику. Майен, потерпев поражение, был вынужден отступить в Пикардию.
В 1590 г. Генрих собрал достаточно большую армию и повел ее на восток. Возле Иври, примерно в 50 милях от Парижа, он вступил в бой с войсками Лиги. Католических повстанцев было 15 тысяч против 11 тысяч людей короля, но это его не устрашило. Его сторонники обезумели от ярости, увидев испанских солдат, стоявших в строю под знаменем мятежников (это были вспомогательные войска). «Друзья, держите строй! – приказал король и добавил: – Если вы потеряете из виду свои знамена, белое перо, которое вы видите на моем шлеме, всегда укажет вам путь к чести и славе». Начался кровопролитный бой между всадниками. Они сражались копьем против копья, и, наконец, доблестная кавалерия Генриха прорвала неприятельский строй. Солдаты Лиги бросились бежать. «Щадите французов, но смерть всем иностранцам!» – приказал король. Дорога на Париж была открыта; Генрих прямым путем направился к столице и подошел к ее стенам.
Проповедники-иезуиты так настроили и возбудили парижан, что те были готовы сопротивляться еретику до конца. Они говорили горожанам, что тот, кто погибнет в борьбе против Генриха, будет достоин мученического венца. Париж держался четыре месяца. Король все теснее сжимал вокруг него кольцо блокады. В городе уже ели лошадей, ослов и всевозможных нечистых животных; ходили даже слухи, что голодавшие солдаты крали детей и съедали их, сварив в казарменных котлах. Когда голод наконец стал почти невыносимым, испанский губернатор Бельгии, герцог Пармский, привел на помощь защитникам армию. Он умело прорвался через расположение королевских войск и доставил в Париж продовольствие. Генрих был вынужден снять осаду. В 1591 г. Генрих осадил Руан, но Парма, который, вероятно, был лучшим стратегом своего времени, сумел вовремя спасти и этот город.
Будущее короля опять казалось очень мрачным. Он побеждал в открытых сражениях, но не мог захватить крупные города. Его армия состояла из наемников и добровольцев-гугенотов, которых очень трудно было удержать вместе. Но в это время его враги поссорились. Филипп явно желал добиться отмены Салического закона и заставить Генеральные штаты выбрать королевой Франции его дочь Изабеллу. Однако многие пылкие предводители католиков не желали даже думать о таком унижении своей страны перед иностранцами. Майен тоже создал себе много врагов: он управлял Парижем как безжалостный тиран и пролил в столице много крови во имя религии. Умеренные католики, которых называли «политиками», стали сильнее, а вскоре король сменил веру, что еще больше усилило эту партию.
Генрих никогда не жил в строгом согласии с гугенотской моралью. Вероятно, в общем и целом протестантская религия нравилась ему больше католической, однако больше всего его раздражало то, что будет казаться, что он сменил веру по принуждению. Но даже многие его советники-гугеноты говорили ему, что он обязан принести мир стране, приняв веру значительного большинства своих подданных. В 1593 г. Генрих объявил, что желает «получить наставления» от католических богословов, собравшихся в Нанте. После этого он заявил, что «обратился» в католическую веру, опустился на колени перед дверью церкви Святого Дионисия, провозгласил себя католиком и в 1594 г. был коронован, как положено, в великом соборе Шартра[77].
Генрих цинично заявил, что «Париж стоит мессы», и был совершенно прав. Крайние сторонники Лиги продолжали кричать о его «лицемерии» и побуждали парижан сопротивляться правителю, который «раньше был» еретиком. Но все более разумные католики быстро и своевременно перешли на сторону Генриха, в особенности потому, что он осыпал их вождей обещаниями дать им пенсии и проявить к ним благосклонность. И вот 21 марта 1594 г. ворота Парижа открылись перед Генрихом. Горожане приветствовали его криками: «Ура миру! Да здравствует король!» Испанский гарнизон тихо капитулировал. Генрих сказал его офицерам: «Господа, рекомендуйте меня своему повелителю и больше никогда не возвращайтесь сюда!» Только в 1598 г., после долгих и тяжелых боев, король Франции смог заключить достаточно выгодный договор с Испанией, но к этому времени он уже четыре года был хозяином своего королевства. На этом Религиозные войны закончились, и Генрих IV смог заняться лечением ран, которые он нанесли Франции.
Гениальный и энергичный король Наваррский, наследник безнадежного наследства, наконец стал очень могущественным королем Франции. Для его новой задачи ему понадобилось все его могущество. По подсчетам историков, только после 1580 г. 800 тысяч человек погибли в результате войны или сопутствовавших ей бедствий. Было разрушено до основания 9 городов, сожжено 250 деревень и уничтожено 128 тысяч домов. Разумеется, торговля и промышленность были почти уничтожены, а во многих регионах в таком же состоянии находилось и сельское хозяйство. В условиях гражданских войн и при полной несостоятельности последних трех Валуа как монархов королевские финансы, естественно, было в полном беспорядке. Государственный долг был равен примерно 60 миллионов долларов – гигантская сумма в те времена. А это был только один признак всеобщего беспорядка.
За двадцать восемь лет войны, которая обычно имела разрушительный партизанский характер, привычная судебная система во многих областях страны была уничтожена. Не только некоторые знатнейшие аристократы, в том числе Монморанси, Гизы, Бироны и д’Эперноны, вели себя на землях, которыми управляли от имени короля, словно в собственных наследственных королевствах. Каждый мелкопоместный дворянин в своем замке правил своим имением как феодал эпохи до Филиппа Августа и играл роль никому не дающего отчет независимого князька. Стало много настоящих разбойников. Дороги сделались опасными: на них часто грабили купеческие обозы. Промышленность в городах почти угасла. При таких обстоятельствах стране было необходимо мудрое управление и во многих случаях суровое и непреклонное правосудие. Только в 1605 г. буйные аристократы научились жить по королевским законам, а не по своим собственным. В этом году Генрих проехал через земли юга, творя правосудие по-римски, и внезапно «укоротил на голову» (то есть обезглавил топором) многих родовитых возмутителей спокойствия. Только в провинции Лимузен, согласно письменным данным об этих событиях, «слетели с плеч десять или двенадцать голов». Непослушный герцог Буйонский бы изгнан за пределы страны – в Германию. Все это была крайне необходимая работа, и этому королю она была вполне по силам.
Но гораздо раньше он залечил главную рану Франции. Ради прекращения войны и ради обладания Парижем он «нырнул» (его собственное выражение) из кальвинистской веры в католическую. Но и сменив религию, он не забыл своих давних сторонников-гугенотов, которые теперь стали очень недоверчивыми. В 1598 г. он объявил «не подлежащий отмене» Нантский эдикт, в котором к гугенотам было проявлено больше терпимости, чем в то время проявляли к религиозным сектантам в любой стране Европы. В этом случае Франция далеко опередила то время с его фанатизмом. Гугенотам было дано право свободно совершать обряды их веры в их замках, во всех городах, где протестантские религиозные службы уже совершались, и по меньшей мере в одном городе каждого бальяжа (то есть округа). Им был предоставлен доступ в университеты и другие учебные заведения, а также дана возможность занимать государственные должности. Раз в три года им было разрешено собираться на общие совещания, чтобы направлять жалобы правительству. Им была предоставлена часть мест в Верховных судах (парламентах) Парижа, Тулузы, Гренобля и Бордо при рассмотрении всех дел, к которым имели отношение протестанты. И наконец, им было дано право в качестве «гарантии» своих свобод иметь свои гарнизоны в нескольких городах, в том числе в их любимой Ла-Рошели. Конечно, католическим экстремистам такой мягкий эдикт не мог понравиться. Крайние католики горячо жаловались на него и давали понять, что не верят в искренность обращения короля в их религию, но Генрих заставил большинство населения Франции принять это постановление как часть законодательства страны. Нантский эдикт оставался одним из основных законов Франции до 1685 г., когда внук великого короля Генриха в злой час отменил постановление деда, чем причинил большой вред своему королевству.
Генрих IV и его первый министр и личный друг герцог Сюлли прославили себя тем, что они, которые почти всю жизнь, начиная с ранней юности, провели в войнах, теперь, в отличие от многих победоносных военачальников, сумели провести подлинные и широкомасштабные реформы в мирное время. Способность Франции восстанавливать свои силы вообще всегда была очень сильна, а личная энергия, бережливость и ум большинства французов были так велики, что, дав им всего лишь обычные условия мирной жизни, можно было с достаточной уверенностью ожидать возрождения и процветания страны. Но Генрих IV и Сюлли пошли гораздо дальше. Их реформы и нововведения не выглядели эффектно. Гораздо легче подсчитать результаты великого сражения, чем ясно, но коротко описать целый ряд не очень крупных административных и хозяйственных мер. Каждая из них сама по себе значила мало, но все вместе они принесли стране счастье. Вероятно, лучшим делом Сюлли стало то, что он добился от королевских чиновников обыкновенной честности и ввел в королевской администрации новые эффективные методы управления страной. Сюлли, который сам был трудолюбив и безукоризненно честен и вникал во все мелкие подробности дела, постепенно очистил порученную ему ветвь власти от всей массы незаконных доходов (которые американцы выразительно называют «привитыми черенками»), лишних затрат и откровенного казнокрадства, которые начинались при дворе и дотягивались своими грязными щупальцами почти до каждого мелкого чиновника казначейства.
По некоторым оценкам, «утечки» при сборе налогов были так велики, что, если народ платил государству 200 миллионов ливров[78] в год, оно едва получало 50 миллионов. Сюлли начал борьбу со всем этим беззаконием, стал его наказывать и уничтожать. Он не отменил многочисленные установления, оставшиеся от Средневековья (например, прямой налог на крестьян), хотя они были плохи по самой своей сути и легко позволяли совершать злоупотребления, но он, хотя бы на время, уничтожил большинство злоупотреблений. Он ввел режим строгой экономии. После двенадцати лет его пребывания в должности «суперинтенданта финансов» государственный долг Франции уменьшился на треть, деньги на необходимые государственные расходы стали честно выделяться, и в подвалах Бастилии – королевского замка в Париже – лежали 40 миллионов ливров резерва на случай нужды.
Такая суровая экономия и сокращение дополнительных сборов и прибылей, разумеется, вызвали очень громкий и гневный протест в могущественных кругах, но Генрих IV встал на сторону своего министра. Похоже, что король и его помощник оба действительно хотели позаботиться о низших классах общества не только потому, что богатые крестьяне увеличили бы доход короля, но по причине искренней симпатии к своему народу.
Французы любили повторять пожелание короля, «чтобы скоро у каждого крестьянина по воскресеньям была курица в горшке». Сюлли энергично следовал указанию короля и тратил казну не на содержание расточительного двора, а на постройку дорог и каналов и в первую очередь на внедрение более совершенных приемов сельского хозяйства. Знаменитый министр утверждал, что плодородные поля и тучные стада на пастбищах – это «настоящие рудники и сокровища Перу» для Франции.
Был лишь один случай, когда Сюлли проявил предрассудки аристократа и военного: он воспротивился мерам по более широкому развитию промышленности во Франции и заявил, что ремесла «не дают людей, пригодных для солдатской службы». Но в этот раз министр пошел против короля. Генрих поддерживал все, что Сюлли делал для развития сельского хозяйства[79], но был склонен развивать и промышленность. Благодаря Генриху во Франции начали разводить шелковичных червей, и с этого началась та шелковая промышленность, которая позже принесла Франции столько богатства и почета. Кроме того, король поддержал или основал в своей стране текстильную промышленность, производство золотой нити, спрос на которую был очень большим, потому что она шла на украшение одежды, гобеленов, которые изготавливались на вертикальных ткацких станках, позолоченной кожи, стекла и зеркал. Раньше итальянские мастерские были почти монополистами по изготовлению этих изделий.
Король находил время и на то, чтобы улучшить и украсить Париж. В столице по-прежнему было много нищенских домов и грязных улиц, среди которых то там, то тут возвышались изящный дворец или церковь. Во многом благодаря Генриху IV город французских королей стал превращаться в лучше всех застроенную, самую элегантную, а вскоре – и в самую великолепную столицу в Европе. Генрих также добавил много крупных дополнений к уже просторному Луврскому дворцу.
Казалось, что Генрих IV уже не помнил, что когда-то в украшенном перьями шлеме шел как рыцарь в бой возле Иври. Но он не забыл прошлое. На средства, которые путем экономии собрал Сюлли, король смог собрать грозную армию, не разоряя своих подданных чрезмерными налогами. В 1595 г. во французской армии было только четыре регулярных полка. В 1610 г. таких полков было одиннадцать. Артиллерия стала намного совершеннее и многочисленнее.
Королевские арсеналы были хорошо наполнены; их тоже стало больше. Было нанято значительное число иностранных наемников[80]. Генрих уверенно смотрел в будущее и предвкушал то время, когда сможет, опираясь на все ресурсы богатого и верного ему королевства, нанести новый удар по старому врагу своего народа – династии Габсбургов, которая правила Австрией и Испанией. В 1610 г. ему показалось, что время для этого настало. В Германии уже начались те ожесточенные споры между протестантами и католиками, которые вскоре привели к Тридцатилетней войне (1618–1648). Генрих стал готовиться к вмешательству в эти события на стороне протестантов, противников семьи Габсбург.
Причина спора была совершенно нерелигиозная: речь шла о том, кто унаследует владения герцога Клевского, который был также герцогом Юлихом. Но уже одно то, что король собирает большую армию, чтобы сражаться на стороне еретиков-лютеран, встревожило многих крайних католиков. Они никогда не считали обращение Генриха в их веру более искренним, чем оно было на самом деле. А ненавистный для них Нантский эдикт намного перевешивал в их мнении благосклонность короля к иезуитам. Теперь эти злобные люди начали искать подходящее орудие для своей цели. В 1610 г. начались разговоры о том, что король мрачен и страдает от зловещих предчувствий, хотя казалось, что он находился на вершине славы и преуспеяния. И вот 14 мая он поехал в карете навестить своего старого друга Сюлли, который был болен. Через пять дней Генрих должен был присоединиться к своей огромной армии, которая уже шла в Германию. Форейторы по небрежности не расчистили карете путь на узкой улочке. С грохотом катившаяся по городу королевская карета на мгновение остановилась, и в этот момент какой-то человек взобрался на одно из задних колес, пролез внутрь кареты и два раза вонзил в короля кинжал. Генриха на максимальной скорости доставили в Лувр, но он умер до того, как ему смогли бы оказать помощь. Убийца, которого звали Франсуа Равальяк, был слабоумным фанатиком. Он заявил, что «король собирался начать войну против папы и поэтому убить его было хорошим делом».
Незачем говорить о том, что этот несчастный был казнен с применением самых утонченных постсредневековых пыток.
Генрих IV был во всех отношениях одним из самых достойных королей среди всех, кто правил Францией, – возможно, самым достойным со времени Людовика Святого. Конечно, говоря о нем как о человеке, его нельзя назвать образцом высокой нравственности: после того как в 1599 г. умерла его любимая фаворитка Габриель д’Эстре, «при его дворе соблюдали моногамию не больше, чем при дворе турецкого султана». Он мало заботился о своей законной супруге, Марии Медичи из рода герцогов Тосканских. Но в XVII в. легко смотрели на такие пороки монарха, а как правитель и строитель Франции Генрих IV заслужил очень высокую оценку. Результаты его мудрой политики стали видны в дни его внука Людовика XIV.
Глава 8. Великий кардинал и его преемник
Ришелье. Ришелье и протестанты. Ришелье и дворянство. Ришелье и королева-мать. Борьба против Габсбургов. Победы над Австрией. Характер Ришелье. Последние заговоры знати. Поражение Испании. Людовик XIV правит сам
Когда герцогу Сюлли сообщили, что кинжал Равальяка оборвал жизнь Генриха IV, Сюлли в отчаянии воскликнул: «Франция попадет в руки иностранцев!» И он не ошибся. Новый король Людовик XIII (1610–1643) стал считаться царствующим монархом с момента смерти своего отца, но был беспомощным малолетним ребенком. Править Францией стала его мать, королева Мария Медичи, итальянка по рождению, «грузная и вялая», с очень средними умственными способностями. Она охотно позволяла, чтобы ею управляли ее недостойные фавориты. Сюлли впал в немилость и покинул свою должность. После этого семь лет настоящим правителем Франции был итальянец Кончини, «который получил звание маршала, ни разу не побывав под огнем». Незачем и говорить о том, что власть, которую он приобрел, его иностранное происхождение и высокомерие сделали его крайне непопулярным у пылких и мужественных французских дворян, и в 1617 г. Кончини был убит в результате дерзкого и успешного заговора. Его застрелили у самых ворот Лувра знатные заговорщики, которые заявили, что молодой король приказал им арестовать Кончини, а итальянец стал сопротивляться. В это время Людовик XIII был уже достаточно взрослым, чтобы защитить себя, хотя и слишком юным для того, чтобы править самостоятельно. Он заменил любимца своей матери собственным любимцем – умным, угодливым и беспринципным де Люинем, который фактически был первым министром короля до своей смерти в 1621 г.
При таком правлении одна партия эгоистичных аристократов боролась против другой, беспечно принося в жертву интересы государства. Незачем даже говорить, что политика страны, превосходная и смелая при Генрихе IV, пришла в достойный сожаления упадок. Генрих был грозным монархом, видел врага в каждом Габсбурге и считал Австрию заклятым врагом Франции. Но Мария Медичи и опекуны сознательно играли на стороне Габсбургов и женили молодого короля на австрийской принцессе Анне. Такое правительство, неспособное отстаивать интересы Франции за границей, вряд ли могло быть сильным внутри своей страны. Аристократы начали жить по своему старому доброму феодальному правилу «делай, что тебе заблагорассудится». Протестанты и католики опять начали ссориться по политическим причинам. В 1614 г. слабое правительство попыталось успокоить общественное мнение, созвав уже устаревшие и утратившие доверие Генеральные штаты – то неэффективное собрание, в котором представители дворянства, духовенства и третьего сословия встречались раздельно, подавали прошения королю, обсуждали свои нужды, а потом расходились. На собрании 1614 г. споров было еще больше, чем обычно. Его участники не подали правительству практически никаких предложений по улучшению королевства. Бесполезность Генеральных штатов в качестве помощника для короля стала так ясна, что в следующий раз их созвали только накануне Французской революции, в 1789 г.[81]
Но как раз в этот момент, когда казалось, что слабое правительство не устоит и Францию ждет если не феодальная анархия, то, по меньшей мере, долгий период слабости и плохого управления, за руль государства взялась крепкая рука.
Людовик XIII был человеком очень средних способностей, но ему повезло гораздо больше, чем многим более талантливым королям: он нашел себе действительно великого первого министра и имел достаточно стойкости и здравого смысла, чтобы сохранить за ним эту должность. Итак, мы приступаем к рассказу об одном из подлинных создателей великолепия Франции – о кардинале Ришелье.
Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье, родился в 1585 г. возле Шинона. Его семья, как и семьи многих других знаменитых людей, была «бедной, но благородной». Первоначально его учили как будущего военного, но скоро он понял, что, по крайней мере для него, гусиное перо гораздо лучшее оружие, чем меч. Он стал служителем церкви, и влияния его семьи хватило на то, чтобы он стал епископом Люзона.
Позже он брюзгливо сказал, что это была «самая жалкая и неприятная епархия во Франции». Молодой прелат, несомненно, искренне исповедовал католическую религию, но никто не утверждал, что Ришелье когда-нибудь считал церковь чем-то, кроме средства, чтобы возвыситься в земном мире. Кажется, он старался расходовать как можно меньше времени на управление подчиненным ему духовенством и тратил свои силы в основном на то, чтобы пробиться вверх при дворе. Огромный талант в практических и общественных делах вскоре вознес его высоко среди придворных.
В 1614 г. Ришелье был в составе Генеральных штатов; эгоизм и политическое бессилие участников этого представительного собрания вызвали у молодого политика отвращение. В 1616 г. он недолго был министром, но пока страной командовали сначала Кончини, а потом де Люинь, молодому прелату негде было по-настоящему проявить свой талант в правительстве. Однако Ришелье постепенно и непрерывно набирал силу при дворе. В 1622 г. он получил красную шляпу кардинала, а в 1624 г. Людовику XIII хватило ума понять, что этот служитель церкви и есть тот «первый министр», который сможет привести страну в порядок для него. Можно справедливо сказать, что после этого в течение восемнадцати лет Людовик XIII царствовал, а Ришелье правил. Монарх сиял лишь отраженным светом в лучах могущества своего наместника.
Ришелье совершенно искренне заботился о благе Франции. Но он считал, что это благо ей принесет военная слава, а не тихое экономическое процветание. Он твердо решил подавить всякую оппозицию власти короля внутри страны и любыми средствами, честными или нечестными, расширить границы королевства. Он без колебаний применял суровые и совершенно ненаучные способы налогообложения. Сохранившиеся со времен Средневековья остатки «народных свобод» вызывали у Ришелье только насмешливое презрение. Опыт участия в Генеральных штатах 1614 г. убедил его, что наилучшее государство – самодержавие с умным правителем во главе. Свои методы он применял грубо и был при этом неразборчив в средствах, но, по крайней мере, нужно сказать, что Ришелье никогда не опускался до беспричинной жестокости, а некоторые из раздавленных им противников, несомненно, заслужили свою судьбу. В начале карьеры Ришелье о нем было написано: «Это ум, которому Бог не поставил пределов», и дела кардинала более чем оправдывают эту оценку.
Итоги деятельности Ришелье можно описать тремя фразами: он отнял у протестантов политическое значение; он вернул знать к прежней зависимости от королевской власти; он создал мощную армию и отправил ее на победоносную войну против Австрии. Говоря проще, он укрепил власть короля внутри страны и сделал ее грозной для других государств.
Ришелье враждовал с протестантами по политическим причинам, а не по религиозным. Он не пытался вмешаться в вопросы их совести или нарушить их право на религиозные собрания. Но с тех пор как вступил в силу Нантский эдикт, стало совершенно ясно, что каждое содержавшееся в нем право протестантов на собственные гарнизоны в каком-либо хорошо укрепленном городе и на проведение собраний с политическими целями – это возможность для непокорных дворян подрывать власть короля и готовить гражданские войны. Два раза Ришелье от имени короля вел войну против дворян-протестантов. Вторая из этих войн была по-настоящему большой и кровопролитной. Ла-Рошель, приморская крепость гугенотов, отчаянно оборонялась (1627–1628) и выдерживала организованную кардиналом блокаду, пока дети не стали умирать на улицах от голода. Протестанты надеялись, что англичане, их единоверцы, пришлют им подкрепление, но бездарный король Англии Карл I не смог найти адмиралов, которым хватило бы отваги провести свои суда по бухте сквозь построенные кардиналом препятствия. Когда английские корабли ушли обратно, Ла-Рошель сдалась. Она держалась так долго, что выжившие горожане «были похожи на мертвецов». Это был конец политической партии гугенотов. Они потерпели поражение, но ушли с честью. Ришелье (более мудрый, чем был позже Людовик XIV) сохранил за ними их религиозные привилегии, и еще пятьдесят лет французские протестанты жили в мире и гармонии с католиками, которые редко можно было встретить в любой другой части Европы, кроме Голландии. Так было потому, что (я привожу здесь мудрые слова самого кардинала) «мы должны доверять Провидению и не применять против [учений реформатов] никакую силу, кроме силы доброй жизни и доброго примера».
Это была первая трудная задача для кардинала Ришелье. Но смирить высшую знать было еще более важным и гораздо более трудным делом. Высокомерные недовольные аристократы могли плести интриги против ненавистного им министра во всех закоулках дворца. В любой момент Людовик XIII мог поддаться чьему-то тайному влиянию, уступить врагам кардинала и вышвырнуть его с должности. Но чтобы Франция стала великой, было совершенно необходимо указать несогласным с властью аристократам их место, и первый министр не отступил перед этим суровым испытанием. Он говорил: «Мне трудней завоевать четыре угла королевского кабинета, чем выиграть все сражения в Европе». Кардиналу пришлось бороться не просто с тонкими интригами и обычными заговорами, а с полным беззаконием большей части всего французского дворянства. Дуэли между французскими аристократами распространились настолько, что стали злом для страны. Один хорошо знакомый с этой ситуацией писатель утверждал, что в этих личных единоборствах погибло больше дворян, чем во всех Религиозных войнах. Поводом для дуэли служил любой пустяк: два «человека чести» не захотели разойтись на улице; один случайно посмотрел на другого холодно или высокомерно или же вообще не пожелал посмотреть; двое задели друг друга на ходу и т. п. У каждого противника был секундант. Эти секунданты, которые назывались «свидетелями», не имели никакого отношения к первоначальной провокации, но не просто следили, чтобы сражение шло по правилам, а дрались сами, хотя могли совершенно ничего не знать о причине спора. Поэтому в ссору, которую затеял дворянин, иногда втягивались все его ближайшие друзья. Часто на таких поединках дрались всерьез, до смерти, и не один человек, а пять или шесть могли погибнуть во время одной дуэли. Существовали королевские указы против всего этого, но французские аристократы привыкли смеяться над этими королевскими распоряжениями так же, как над многими другими законами. В итоге дуэли XVII в. стали, по большому счету, уносить больше жизней, чем средневековые турниры и судебные поединки.
Разумеется, в основе этого кровопролития лежало старое феодальное представление о том, что настоящему дворянину стыдно решать свои споры каким-либо путем, кроме силы своей вооруженной руки. Ришелье начал упорную борьбу против этих массовых дуэлей – вероятно, и как против дерзкого неповиновения королевской власти, и потому, что они были бесчеловечными с точки зрения морали. В 1626 г. кардинал применил законы против дуэлей так сурово, что встревожил этим недовольных. Некий граф де Бутвиль из великого рода Монморанси был изгнан в Брюссель за то, что участвовал в двадцати двух дуэлях. После того как правительство отказалось его простить, он имел дерзость дернуть льва за хвост: вернулся в Париж и специально сразился на дуэли среди бела дня на Королевской площади (1627). Рука кардинала мгновенно покарала знатного дуэлянта: Бутвиль и его секундант, граф де Шапель, были сразу же арестованы, допрошены и приговорены к смерти. Высшая знать громогласно протестовала против такой «жестокости». Все виды влияния – общественные и политические, открытые и тайные – были использованы для того, чтобы Людовик XIII помиловал нарушителей закона. Но король не пожелал унизить своего великого министра прощением виновных, хотя, вероятно, ему в какой-то мере нравилось их «высокое чувство чести». Нарушители закона были казнены, и Ришелье заметил по поводу их смерти: «Ничто лучше не позволяет сохранить силу закона, чем наказание людей высокого звания, когда оно равно их преступлению». Такие кары, правда, не привели к полному прекращению дуэлей, и они еще долго были проклятием французского дворянства. Но дуэли потеряли свои худшие свойства, и в любом случае те, кто не желал подчиняться закону, получили суровый урок.
Примерно в это же время Ришелье нанес еще один, и гораздо более результативный удар по дерзким смельчакам, которым, возможно, захотелось бы бросить вызов королю. Во Франции в это время было еще много почтенных старых замков, укрепления которых могли выдержать все, кроме осады по правилам с применением тяжелой артиллерии. Само их существование позволяло их знатным владельцам строить планы мятежа. И кардинал приказал лишить все эти замки укреплений или вообще уничтожить. Для французских средних классов и крестьянства, долго страдавших от высокомерия феодалов или даже от угнетения с их стороны, это был самый популярный указ, который можно было себе представить. Тысячи людей охотно помогали королевским чиновникам разрушать укрепления или полностью сносить донжоны. В результате многие когда-то великолепные замки превратились в окутанные плющом развалины, а остальные были превращены в изящные, но непригодные для обороны замки нового типа. Возможно, любители старины в более поздние времена жалели об уничтожении этих величественных реликвий феодализма, но для установления мира в стране оно принесло огромную пользу. После него король все в большей степени становился единственным во Франции, кто имел солдат и крепости.
Пока Ришелье боролся только против дворян низшего или среднего уровня, его положение было достаточно прочным. Но когда его политика столкнулась с интересами родственников самого короля, ситуация изменилась. Кардинал был таким умелым правителем, что, в сущности, ни один высокопоставленный сановник не мог чувствовать себя спокойно в его присутствии. Даже сам король боялся и в какой-то мере недолюбливал своего министра, хотя в то же время говорил себе, что этот грозный «слуга» ему необходим. В 1626 г. несколько очень могущественных особ вступили в тайный сговор против Ришелье. Их главой считался Гастон Орлеанский, брат самого короля и наследник престола, но он, бесспорно, был глуп, и настоящим мозгом заговорщиков был маршал д’Орнано, к которому Ришелье раньше благоволил и которого продвигал по службе. Почти все остальные французские принцы, видимо, знали что-то об этих замыслах. Вероятно, заговорщики хотели силой сместить кардинала с должности, раз король отказывался уволить его, и заменить Ришелье более уступчивым и послушным министром. Но эти высокородные господа быстро узнали, как опасно интриговать против того, в ком идеально сочетались лиса и лев. До Ришелье дошли слухи об их интригах, и кардинал сначала предоставил им свободу действовать, а потом внезапно начал арестовывать вождей заговора. Орнано был посажен под арест в Венсенскую крепость и через несколько месяцев умер в этом заточении. Другой предводитель заговорщиков, граф де Шале, умер на эшафоте. Трусливые принцы из королевской семьи отделались легко: большинство были изгнаны из Франции на определенный срок. Гастон Орлеанский после припадка бессильной ярости официально помирился с королем и его министром. Кардинал поступил мудро, когда не стал проливать кровь королевских родственников: благодаря этому он на какое-то время стал сильнее, чем был когда-либо. Король дал ему отряд из ста телохранителей, словно кардинал тоже был членом королевской семьи, и отменил высокие должности коннетабля и адмирала Франции. Раньше эти посты давались каждый одному из знатнейших аристократов, и коннетабль имел большую власть над сухопутными войсками, адмирал над флотом, теперь же власть короля над армией стала более полной.
Так Ришелье встретил и отразил первую опасность, угрожавшую лично ему, но этим он заслужил постоянную ненависть двух королев. Королева-мать, Мария Медичи, «возненавидела своего «неблагодарного» министра, и говорили, что эта ненависть была усилена безответной страстью». Анна Австрийская, супруга Людовика, была в очень плохих отношениях со своей свекровью. Однако неприязнь к Ришелье вскоре побудила ее помириться с королевой-матерью. В сентябре 1630 г., когда Людовик лежал тяжело больной в Лионе, королевы добились от него обещания снять кардинала с должности министра, но король обещал это неуверенно и с условием: сделать что-то можно будет лишь посте заключения мира с Испанией. Когда до французского двора дошло известие о перемирии, заключенном в Регенсбурге, Мария поспешила напомнить об этом обещании. Если бы она вела себя более тактично и менее грубо, она, возможно, добилась бы своего. Но 10 ноября 1630 г., когда двор вернулся в Париж, в Люксембургский дворец, и король выздоровел, королева-мать устроила скандал в присутствии сына: она выругала кардинала и его любимую племянницу, мадам де Комбале, «словами, которые постыдилась бы употребить даже торговка рыбой» и вывела из комнаты кардинала, который даже не пытался защищаться. Это была одна из тех минут, когда домашняя ссора может возвеличить или погубить империю (такое возможно в любой стране, которой правит монарх). Если бы Людовик дрогнул, Ришелье бы погиб, и будет справедливо сказать, что вместе с ним погибли бы надежды Франции на ближайшее будущее. Королю не хотелось ссориться с матерью, и он слушал ее молча, но еще меньше ему хотелось лишать должности министра, главной виной которого явно было то, что он предпочитал интересы своего монарха интересам вдовствующей королевы. После ухода Марии Людовик не сказал ничего, и некоторые друзья Ришелье укрепили короля в его решении не рисковать благом Франции из-за вспышки женского гнева.
А вдовствующая королева вышла из кабинета своего сына с видом победительницы. Придворные, приспосабливаясь к новой ситуации, столпились вокруг королевы и начали ее поздравлять. Прошел слух, что кардинал пакует свои ценные вещи и готовится к бегству. Вряд ли это было правдой, но Ришелье действительно боялся, что король покинул его так же, как почти все остальные. Однако, пока он унывал, а парижские подхалимы ждали, когда им назовут имя нового первого министра, пришел гонец от короля и сообщил, что его повелитель не намерен смещать с должности своего великого наместника. «Продолжай служить мне, как служил, а я буду поддерживать тебя против всех, кто поклялся тебя уничтожить», – сказал король кардиналу. Этот день (11 ноября 1630 г.) прославился во французской истории под названием «день обманутых». Многие раздувавшиеся от гордости вельможи, которые в тот день показали, что рады предполагаемому триумфу королевы-матери, сразу же потеряли свои почетные должности и звания. Мария Медичи безуспешно пыталась помириться с кардиналом, но проигрыш был для нее слишком большим унижением, и в 1631 г. она уехала в Брюссель. Она больше не вернулась во Францию и умерла в позолоченном изгнании.
Если даже королева-мать не смогла сместить Ришелье, то, разумеется, ни один человек ниже ее по званию не был в состоянии это сделать, хотя и были другие заговоры с такой целью. В 1632 г. герцог Анри де Монморанси даже открыто поднял восстание против короля в Лангедоке, но быстро лишился головы из-за этой грубой ошибки. В 1642 г. Сен-Мар, молодой любимец короля, честолюбивый придворный и пустой человек, тоже попытался сыграть в измену и погиб на эшафоте. Но в общем и целом после 1630 г. Ришелье был неоспоримым хозяином Франции. Теперь он мог приняться за более великие дела, чем борьба с кабинетными интригами и будуарными заговорами.
Ришелье вовсе не был умелым гражданским администратором. Налоги были для него лишь способом собрать деньги на снаряжение большой армии, а то, что налогоплательщики станут нищими, его не интересовало. Талья (главный налог на крестьян) была удвоена ради покрытия расходов на войны с Испанией. В 1634 г. на юге и в 1639 г. в Нормандии произошли крупные крестьянские восстания, и имя кардинала стало так же ненавистно низшим классам общества, как высшей знати.
Но кардинал не имел себе равных как дипломат и организатор войн и коалиций. Вероятно, ни один государственный деятель в те дни, когда говорили, что быть дипломатом – значит «лгать ради своей страны», не владел лучше его зловещим оружием интриги, тайной переписки и секретных сделок. Кроме аккредитованных послов и явных агентов он с несравненным мастерством использовал услуги конфиденциальных представителей и просто шпионов. Некий отец Жозеф, услужливый и лицемерный служитель церкви, был его личным представителем на целом ряде важных конференций и, вероятно, играл большую роль во многих значительных исторических событиях.
Цель внешней политики Ришелье была очень проста – унизить семейство Габсбург и заставить всех признать Францию первой страной в Европе. Габсбурги не были единым родом: одна ветвь этой династии правила в Австрии, другая в Испании. Но их семейный союз был достаточно прочным. Испания еще теоретически была великой монархией с обширными владениями и грозной армией, но уже появилось много признаков того, что материал, из которого сложено это здание, прогнил и от этого оно рухнет, даже если по нему не ударит никакое бедствие. В 1618 г. император Австрии (который более официально именовался «императором Священной Римской империи») начал войну не на жизнь, а на смерть с немецкими протестантскими государствами. Сперва он вел ее в основном по религиозным причинам, но к 1624 г., когда Ришелье пришел к власти, стало ясно, что частично причина войны другая. Вопрос стоя так: сможет ли Австрия с помощью Испании подчинить себе и объединить под своей централизующей властью всех менее крупных правителей Германии, в особенности северных? Благодаря испанскому золоту и испанским солдатам с их пиками протестанты раз за разом терпели поражение. Несколько лет казалось, что они будут побеждены. В этом случае восточным соседом Франции стало бы огромное государство Габсбургов с территорией от Балтийского моря до Адриатики. Для Франции это было бы катастрофой, и Ришелье всеми силами боролся против такой возможности.
Однако этот очень воинственный кардинал с очень мирским складом ума не мог сразиться с врагами на берегах Рейна: у него было слишком много дел дома. Нужно было раздавить мятежных гугенотов и недовольных дворян. Но этот воин-прелат, сжимавший кольцо осады вокруг Ла-Рошели в войне против французских еретиков, нажимал на все пружины влияния, чтобы помочь немецким еретикам, и посылал им деньги, потому что они были врагами ненавистной Австрии. Ришелье нисколько не тревожила такая непоследовательность его политики, из-за которой его враги называли его «папой гугенотов и патриархом атеистов». Наконец в 1631 г. Ришелье напрямую договорился с королем Швеции Густавом-Адольфом, лютеранином, и пообещал заплатить этому великому полководцу большую сумму денег, если тот вторгнется в Германию и унизит Австрию. Разумеется, Густав полностью выполнил свою часть соглашения (это должным образом отмечено в истории Центральной Европы). Он разрушил власть Габсбургов над протестантами Северной Германии своей знаменитой победой при Брейтенфельде (1631), и, хотя он сам пал в бою в 1632 г., серьезной опасности для существования немецкого протестантизма больше не было. Но кардинала не интересовала безопасность тевтонской ереси, его интересовал престиж французской монархии. Теперь его руки освобождались от домашних дел, и он мог направить основную часть своей энергии на подготовку Франции к войне с другой страной.
До этого, хотя Франция обладала большими ресурсами и воинственным населением, она вела боевые действия совершенно не по правилам науки. Постоянная армия была очень мала. Из сельских дворян можно было набрать многочисленную лихую кавалерию – при условии, что срок службы будет коротким, а дисциплина нестрогой. Немало пехотных полков было укомплектовано наемниками. В них служили немцы, швейцарцы, шотландцы, ирландцы и солдаты из других народов, которые считали, что король платит им аккуратно. Часто этими войсками командовали придворные или любимцы короля, которые далеко не всегда имели полководческие способности или хотя бы хорошую военную подготовку. По всем этим причинам французские армии до 1630 г. не могли сравниться по организованности и эффективности с лучшими испанскими армиями.
Ришелье заслуживает чести считаться первым настоящим строителем современной французской военной машины, которая позже была такой грозной для всех противников. Он делал грубые ошибки. Он слишком часто принимал всего лишь скопления людей за дисциплинированные армии. Он иногда выбирал очень некомпетентных генералов, но он извлекал уроки из собственных промахов и отважно и энергично устранял последствия поражений и бедствий. И еще при его жизни его усилия начали приносить плоды.
История войн, которые Ришелье вел против других стран, – это в значительной степени история последних этапов печальной Тридцатилетней войны в Германии (1618–1648). Эта война началась как борьба из-за религии, а после 1632 г. продолжалась почти исключительно как борьба за то, Австрия или Франция со своей союзницей Швецией получит наибольшую материальную выгоду от разорения беспомощных малых немецких государств. В 1635 г. Франция уже вмешалась в эту войну, начав активные боевые действия против Испании и Австрии. Ришелье собрал очень большие армии, но они еще были недостаточно обучены. В 1636 г. испанцы нанесли мощный удар по Франции из своих бельгийских провинций и даже угрожали Парижу; их удалось остановить только возле Корбина-на-Сомме. Геройскими усилиями Ришелье смог отвести в сторону этот удар, а вскоре события приняли выгодный ему оборот и после этого продолжали развиваться в удачном для него направлении. В 1638 г. военачальник Бернард Саксен-Веймарский, немец по происхождению, но воевавший на французские деньги за интересы Франции, захватил почти весь Эльзас (кроме Страсбурга). После его смерти в 1639 г. эта желанная территория была передана Франции. К этому времени армии Ришелье почти везде наступали. До 1642 г., в котором великий кардинал умер, французы наносили удары по Габсбургам и их союзникам за Пиренеями, в Италии, во Фландрии и за Рейном. Более старая испанская монархия на всех рубежах была вынуждена перейти к обороне.
Через год после кончины Ришелье организованные им войска под командованием назначенных им генералов разгромили противника в решающей и ожесточенной битве возле Рокруа в Шампани (1643). В этом бою прочные каре отважных испанских солдат, вооруженных пиками, рассыпались и рухнули под напором французской конницы; 7 тысяч солдат были убиты, а 6 тысяч взяты в плен. «Победа при Рокруа стала концом военного превосходства Испании и началом военного превосходства Франции». Она была одержана благодаря тому, что французские военачальники и солдаты, которых организовал и стимулировал Ришелье, оказались умнее испанцев. Это был самый большой триумф кардинала, хотя он никогда не услышал о нем.
Хотя Ришелье и не дожил до победы при Рокруа, он умер счастливым и удачливым. Власть короля, его повелителя, всюду стала крепче, и со всех границ уже докладывали о победах. В 1621 г. у Людовика XIII была армия из 12 тысяч человек, в 1638 г. их было 150 тысяч, в 1642 г. еще больше. В первую очередь Ришелье заботился об обучении двух молодых генералов. Позже они стали полководцами тех войн, которые едва не сделали Францию владычицей мира, и остались в истории под именами Конде и Тюренн. Положение семейства Габсбург в Германии было уже очень трудным. Французские знамена уже развевались над эльзасскими крепостями возле Рейна, а через шесть лет Габсбурги были вынуждены подписать унизительный для них Вестфальский мирный договор.
Ришелье умер в конце 1642 г. Его жизнь состояла из непрерывных интриг и войн. Вероятно, если бы судьба подарила ему более мирное существование, он стал бы щедрым покровителем искусств и литературы. Он и сам был немного литератором – оставил интересные и имеющие большое значение мемуары, оказывал законное покровительство поэту Корнелю и в 1635 г. среди военных забот нашел время, чтобы основать знаменитую Французскую академию, которая затем оказывала такое сильное влияние на жизнь страны.
Конечно, для кардинала было удачей то, что король, его «повелитель», был недостаточно чувствительным и энергичным и не считал свое достоинство униженным, когда его всесильный первый министр вел себя как государь страны. Ришелье построил для себя в Париже огромный дворец Пале-Кардинал, который позже стал широко известен под названием Пале-Рояль. Забирая свою долю королевских доходов, он никогда не проявлял умеренность. В 1617 г., когда Ришелье был «бедным епископом», его доход был равен 25 тысяч ливров, а в конце жизни составлял 3 миллиона. На стол он тратил 1000 крон в день и очень любил роскошные празднества. С его племянниками и племянницами обращались почти как с принцами и принцессами королевской крови, и знатнейшие аристократы были обязаны прислуживать, как лакеи, этому всемогущему человеку, который управлял королем.
Если судить по дошедшим до нас описаниям, Ришелье выглядел представительно, несмотря на болезненное телосложение и худое лицо. В присутствии этого строгого и величавого, как государь, человека страх перед ним охватывал всех, в том числе самого Людовика. Коварный, неразборчивый в средствах, никогда не шедший прямым путем в своих делах, несгибаемо беспощадный к любому врагу, кардинал, однако, был способен и на большое мужество, и на великодушие. К сожалению, он придавал понятию «благо общества» слишком узкий смысл, и в его представление об этом благе не входили тысячи законов, которые современные правительства считают необходимыми для удачного управления страной. Но по крайней мере он никогда не отступал от того, что считал своим долгом перед Францией и ее королем. Ни угрозы, ни опасность, ни желание добиться популярности и одобрения не могли заставить его нарушить долг. Он больше, чем любой великий француз, похож на другого знаменитого первого министра, жившего в более позднюю эпоху, – на Отто фон Бисмарка. Мораль и честолюбие у обоих были почти одинаковые, но кардинала Ришелье можно отчасти оправдать тем, что он жил в зловонной атмосфере королевского двора XVII в. Бисмарк жил позже – в XIX в. За такой долгий срок нормы поведения в нашем мире должны были бы измениться.
Людовик XIII умер через семь месяцев после смерти своего великого министра (14 мая 1643 г.). Как король он почти ничем себя не проявил, но он заслуживает места в истории за одно свое великое достоинство – за то, что, несмотря на сильнейшее давление противников Ришелье, восемнадцать лет сохранял за ним власть.
Эти восемнадцать лет оказались решающими в истории Франции. При преемниках Людовика XIII и Ришелье положение этой страны было таким, что она становилась все сильнее.
В первые десять лет после смерти Ришелье Франция еще не дала Европе почувствовать всю свою силу. Главной причиной этого было то, что так называемый повелитель великого кардинала оставил после себя только одного наследника – пятилетнего сына. Французскому королевству снова пришлось пережить горести и ослабление, связанные с регентством. Анна Австрийская, мать Людовика XIV (царствование которого стало необыкновенно долгим: формально он правил семьдесят три года (с 1643 по 1715 г.), не была способна сделать то, что сделала когда-то Бланка Кастильская, регентша при более раннем Людовике. Возможно, Анна была чуть-чуть талантливее, чем ее свекровь Мария Медичи, но в любом случае она полностью находилась под влиянием нового первого министра, кардинала Мазарини. Перемены его политики и повороты его судьбы в значительной степени определяли историю Франции в следующие восемнадцать лет.
Мазарини был ловким, льстивым, хитрым, покладистым и весьма расчетливым итальянским священником. Он приехал во Францию в 1634 г. и стал ценнейшим помощником Ришелье. Великий прелат возвысил Мазарини, добился для него кардинальской шляпы и, несомненно, был бы рад, если бы узнал, что тот станет его преемником. Мазарини, конечно, не был таким великим человеком, как Ришелье. Он был более заурядным, менее отважным и был меньше склонен действовать способами, которые требовали мужества. Но все же он от природы был наделен талантом государственного деятеля и умело преодолевал большие трудности, хотя не всегда героическими способами. Разумеется, французская аристократия ненавидела его за то, что он был итальянцем. Король был несовершеннолетним, а регентша и ее министр не очень крепко держали власть в руках, и эти знатные господа почувствовали, что настало время избавиться от некоторых унизительных ограничений, которые наложил на них Ришелье. Когда этого господина людей в конце концов не стало, Франции в последний раз пришлось вынести мучения из-за реакционеров-аристократов.
Давно прошли те дни, когда крупные феодалы-вассалы мечтали разделить королевство на части. Теперь благородные графы, маркизы, герцоги и принцы крови на самом деле желали, чтобы им разрешили иметь столько, сколько им хочется, должностей на королевской службе, прав назначения на должность и субсидий из казны. Праздная и легкомысленная жизнь французского двора XVII в. была благоприятна для интриг в будуарах и заговоров в парадных комнатах. Придворные интриговали просто для того, чтобы не скучать[82]. Никаких более благородных мотивов, чем перечисленные здесь, не было у тех важных господ и дам в кружевных воротниках, которые разрабатывали планы устранения «итальянца». Однако нужно сказать, что были и другие, более обоснованные причины для недовольства правительством. Ришелье отвратительно управлял финансами, а Мазарини был не намного лучше в этом отношении. Суперинтендантом казначейства при нем был итальянец Эмери, так же непопулярный, как его господин. Налоги собирали с безжалостной строгостью. Государственные должности продавали, чтобы пополнить казну. Деньги занимали под 25 процентов, и все же Тридцатилетняя война еще продолжала медленно идти к своему дорогостоящему и болезненному концу. Кардинала Мазарини справедливо обвиняли в том, что он вил собственное гнездо за счет государства.
Эти обстоятельства позволили знатным заговорщикам, много говорившим о том, что надо взяться за оружие для спасения короля от его «злых министров», завоевать большую симпатию у народа, в основном у жителей Парижа.
Кроме того, парижский парламент, Высший суд Франции, очень хотел показать, что у него есть власть. Все члены этого суда были дворянами, получили свои должности по праву наследования и уже давно требовали предоставить им право отказываться «регистрировать» указы короля, то есть вносить их в реестр юридически обязательных постановлений. Фактически эти парламентарии требовали дать им право налагать вето на королевские указы[83]. К тому же у них был перед глазами пример гораздо более могущественного законодательного парламента Англии, который как раз в те дни добивался превосходства над Карлом I во время Пуританской революции.
Эти три силы – неудовлетворенные аристократы, недовольные налогоплательщики и желавший отстоять свои притязания суд – объединились и подняли ряд восстаний, от которых трон под молодым Людовиком XIV сильно зашатался. В 1648 г. начались войны, известные под названием Фронда (1648–1653). Их подробности не имеют большого значения, хотя придворные написали о Фронде много пикантных и романтических мемуаров. Какое-то время ее главными движущими силами этого движения были великие полководцы короля – Конде и Тюренн. У обоих были обиды на Мазарини. Оба несколько раз, хотя не во всех случаях одновременно, принимали участие в восстании против правительства. Оба (хотя Конде в большей степени) вступили в сговор с врагами-испанцами против своего короля. Сражения в этих войнах иногда были кровопролитными, но редко бывали решающими. Сначала парламент, а вскоре и жители Парижа поняли, что высокопоставленные аристократы, которые на словах так горячо сочувствовали бедам низов общества и клялись бороться за должное уважение к закону, на самом деле сражались главным образом за пенсии, права назначения на должность и командные посты в армии. Мазарини в самый разгар этой бури благоразумно покинул королевский двор, но, как только королевские войска одержали победу над восставшими, он вернулся (1653) и стал еще могущественнее, чем прежде. В этом же году Париж сдался Тюренну, который снова был твердым сторонником короля.
Парламент и горожане заключили мир с молодым королем, а Конде бежал к испанцам. Так дала свое последнее сражение старинная аристократия, которая была как бельмо на глазу для всех французских королей со времени коронации Гуго Капета.
Мир не наступил сразу после краха Фронды. Испания не участвовала в Вестфальском договоре 1648 г. между Францией и немецкими государствами, по которому Франция получила основную часть Эльзаса. Гордым кастильцам очень не хотелось признать, что их мечте о власти над всем миром навсегда пришел конец и что к северу от Пиренеев появилось государство сильнее Испании. Когда Конде бежал с родины, его радушно приняли в Брюсселе угодливые администраторы этого города. Они с радостью отдали свои войска под командование этого знаменитого полководца. Но беглецу, вероятно, была не по душе роль мятежника, и в любом случае его новые испанские войска были хуже его прежних французских полков. Он одержал несколько побед над своим прежним соратником, а теперь противником Тюренном. Поскольку война шла медленно, в 1657 г. Мазарини отложил в сторону свою гордость католика и заключил союз с пуританином Кромвелем, грозным протектором Англии. Тот прислал на континент дивизию своих распевавших псалмы конников, которых прозвали железнобокими. В 1658 г. французы и англичане сражались плечом к плечу против испанцев в знаменитой когда-то Битве в дюнах на песчаном побережье возле Дюнкерка. Испанцы потерпели поражение. Их могущество близилось к концу, и гордый король Испании Филипп IV покорно согласился на условия, навязанные двумя народами, которые надеялся покорить его предок Филипп II. Дюнкерк был уступлен Англии[84]. Франция получила части провинций Артуа, Руссильон (в Пиренеях) и много округов в Лотарингии, неудачливый герцог которой встал на сторону испанцев. Было также решено, что Людовик XIV женится на инфанте Марии-Терезе. Невеста должна была принести королю в приданое 300 тысяч золотых крон и ради приданого отказаться от всех прав на трон своего отца[85].
Этот Пиренейский мир (1659) окончательно решил вопрос о том, какое государство сильнее всех в Европе – Испания или Франция. Оставалось лишь выяснить, пойдут ли честолюбивые стремления Франции дальше этого. Так Мазарини поставил сияющую точку славы в своем труде по управлению иностранными делами. Молодой король выглядел послушным учеником кардинала. Казалось, он довольствовался тем, что, подражая своему отцу, позволяет талантливому ми нистру стоять вместо него у руля государства. Аристократов лишили последних остатков силы, позволявшей им сопротивляться королю. С тех пор они были всего лишь послушными позолоченными украшениями великолепного королевского двора или, в лучшем случае, верными командирами королевских армий.
Однако во времена Ришелье (а возможно, еще раньше) во Франции появился новый тип королевских администраторов – интенданты. Округа, которыми они управляли, приблизительно соответствовали провинциям страны (которых было много). Это были люди незнатного происхождения, которые всем были обязаны только королю и все, чего желали, надеялись получить только от него. Интенданты формально не заменили прежних королевских наместников, продолжавших быть знатнейшими дворянами страны, но быстро отняли у наместников большинство их функций. К 1660 г. интенданты уже становились необходимы для королевской власти в качестве ее представителей и давали возможность королевским министрам централизовать управление страной в Париже. Еще никогда со времени падения Римской империи ни один монарх, даже самый надменный, не был таким полным господином своих подданных и их имущества, как Людовик XIV.
В 1661 г. Мазарини умер. Он завершил труд Ришелье и, уходя из жизни, оставил своего повелителя-короля самым великолепным и самым могущественным монархом в мире. Он позволил государственному долгу увеличиться и в других вопросах гражданского управления тоже проявил себя хуже, чем в дипломатии и придворных интригах, но, по крайней мере, позаботился о собственном благосостоянии. Он завещал своим наследникам имущество стоимостью 100 миллионов ливров, выдал своих многочисленных племянниц замуж за знатнейших французских и итальянских дворян, племянника сделал герцогом, а брата (когда-то бедного итальянского монаха) кардиналом. Но его величайшим успехом было то, что в молодом короле он нашел послушного и восхищенного воспитанника и усердно старался обучить короля всем тем обходным путям и хитростям государственной деятельности, которые в ту эпоху считались величайшей мудростью в мире.
Людовику XIV было двадцать два года, когда его министр и наставник покинул его. До этого времени жизнь короля состояла только из придворных развлечений, и казалось, что это его удовлетворяет. Сразу же после смерти Мазарини низшие по званию министры пришли к Людовику и спросили, к кому они теперь должны обращаться за указаниями. Все ожидали, что Людовик назначит нового первого министра, а сам продолжит прежнюю суетную жизнь. Но молодой король ответил: «Ко мне!»
Людовик XIV решил, что будет не только царствовать, но и править.
Глава 9. Людовик XIV, «король-солнце», и его деятельность во Франции
Власть Людовика XIV неоспорима. Главные сановники государства. Кольбер. Кольбер создает французскую промышленность. Великие коммерческие компании. Лувуа. Новые виды оружия. Великий инженер Вобан
Теперь мы приступаем к рассказу о самом важном царствовании в истории Франции – возможно, кроме правления Филиппа Августа. Людовик XIV был очень далек от совершенства как правитель, но нельзя отрицать, что он был великим в ограниченном, но подлинном значении этого слова. Он был велик тем, что сильно влиял на жизнь, поступки и воображение не одних французов, а всех европейцев. В течение по меньшей мере сорока лет его правления казалось, что Франция может стать не просто самым сильным, а господствующим государством в Европе и превратить Париж в новый Рим эпохи империи. Чтобы понять обстоятельства, которые позволили этому королю стать центром, к которому стремились мысли всего мира, нужно изучить его личность, принципы его правления, достижения его министров, дисциплину его армий, церемониал его двора. Только после этого мы сможем понять, как он смог сделать Францию центром внимания Европы.
На следующий день после смерти Мазарини Людовик XIV, как уже было сказано в предыдущей главе, собрал своих государственных секретарей и заявил: «До сих пор я позволял другим вести мои дела. Теперь я сам буду своим первым министром. Я буду рад вашим советам, когда потребую их. Я требую, чтобы вы ничего не скрепляли печатью без моего распоряжения и ничего не подписывали без моего согласия». Так монарх объявил, что желает быть настоящим королем. Ему было тогда двадцать два года, а умер он в семьдесят семь. За эти пятьдесят пять лет (с 1661 по 1715 г.) желание, о котором он объявил в первый день своего истинного правления, не покидало его ни на секунду. Он никогда не имел первого министра и всегда был королем.
Людовик XIV был среднего роста, но внушал почтение всем, кто на него смотрел, благородством и величием без высокомерия, которые были видны в каждом его жесте. По словам его современника, герцога де Сен-Симона, «и в домашнем халате, и на праздниках», и за бильярдным столом, и во главе своих войск он выглядел «хозяином мира». Острота ума у него была средняя, зато было много здравого смысла. Король редко принимал решение по какому-то делу, не получив подробной информации о нем от людей, которые, как считалось, знали его суть. У Людовика была природная склонность к правде. «Он любил истину, беспристрастие, порядок и разум». Он также обладал большим моральным мужеством и твердым характером, которые ярче всего проявились в последние, полные бед годы его жизни, когда его войска были разбиты, в его страну вторглись враги и почти всю его семью унесла смерть.
У этого короля было мало собственных идей. Но одна идея с самой юности глубоко вошла в его ум и определила всю его жизнь. С раннего детства он слышал от других, что он «видимое божество», «наместник Бога». В первой тетрадке-прописях, составленной для маленького Людовика, когда его учили писать, были фразы: «Королей нужно чтить. Они делают то, что хотят». Он был глубоко убежден в том, что он не такой, как все другие люди, что он носит на голове корону по воле Бога, что он – король милостью Божьей, наместник Господа на земле. Однажды он должен будет дать отчет о своих делах Богу, но только Богу, и никому больше[86].
Людовик XIV
Кардинал Ришелье
Жан-Батист Кольбер
Мадам де Помпадур
Тогда практически весь французский мир считал эту идею верной. Один из его подданных, Лабрюйер[87], сказал прямо: «Тот, кто полагает, что лицо монарха – причина счастья придворного, чья жизнь наполнена желанием видеть государя и быть им увиденным, может понять, как святым достаточно созерцать Бога, чтобы ощущать торжество и блаженство». Для Людовика XIV такой взгляд на свое предназначение имел два очень важных последствия.
Во-первых, поскольку он заместитель Бога, он должен быть полным господином своих подданных, то есть иметь право распоряжаться по своей воле их имуществом, свободой и даже жизнью, а они должны ему повиноваться безусловно и «безоговорочно». Во-вторых, на нем лежит долг исполнять свое, как говорил он сам, «ремесло короля». Он обязан «делать все для блага государства» и использовать свою власть лишь для того, чтобы «с большей отдачей трудиться ради преуспеяния своих подданных».
Людовик XIV не всегда обеспечивал подданным это преуспеяние, но, по крайней мере, был добросовестным тружеником. «Царствовать можно лишь с помощью труда, – писал он своему сыну. – И желать первого без второго – это неблагодарность и открытое неповиновение по отношению к Богу, несправедливость и тирания по отношению к людям». Поэтому каждое утро король посвящал часть своего времени общественным делам, занимаясь ими в одиночку или вместе с государственными секретарями. Каждый его день и час был подчинен строгому расписанию, и Сен-Симон писал, что «с альманахом и часами в руках человек, находившийся на расстоянии 300 лье от короля, мог точно сказать, что король делает в данный момент».
Мысль о том, что он – наместник Бога, наполняла Людовика не поддающейся описанию гордостью. Он радовался, что его называют «король-солнце», и почти разрешал, чтобы его угодливые придворные поклонялись ему, как святому или полубогу. Его подчиненные, проходя через его спальню, когда в ней никого не было, делали глубокий реверанс перед королевской постелью или шкатулкой с королевскими салфетками для умывания, как перед главным алтарем в церкви. Они организовывали «культ королевского величества»: каждый обычный поступок короля в его повседневной жизни – пробуждение, обед, прогулка, охота, ужин, отход ко сну – становился публичной церемонией, отрегулированной до мелочей. Все это вместе называлось «королевский этикет»[88].
«Король-солнце» вставал в восемь часов. В его спальню группами впускали придворных. Такая группа называлась «антре» (entree) («вход»), и во время одной церемонии пробуждения (она называлась «леве» (lever) их было шесть. Вслед за последней группой еще несколько сот человек наконец оказывались рядом с королем. Те, к кому король был наиболее благосклонен, допускались к его величеству в тот момент, когда он вставал с постели и надевал королевский халат. Наименее удачливые входили лишь тогда, когда король протирал ладони салфеткой, смоченной в спирту, и заканчивал одеваться. Этикет предписывал, кто должен подавать какой предмет одежды королю. Например, «дневную рубашку», завернутую в белый шелк, должен был подавать сын короля, принц крови, а если никого из них не было, гофмейстер. Правую перчатку подносил королю первый камердинер спальни, левую – первый камердинер гардероба. Смотритель гардероба подавал наместнику Бога штаны и помогал ему застегнуть их.
Одетый таким образом, король переходил в свой кабинет, отдавал приказания на день, а потом шел на мессу в часовню. Выйдя оттуда, он до часу дня совещался со своими министрами. В час он обедал один в своих покоях. Этикет в этом случае предусматривал каждую мелочь так же, как и для церемонии пробуждения. Каждое блюдо вносил дворянин, впереди которого шли церемониймейстер и метрдотель, а сзади три королевских охранника с мушкетами на плечах. Сзади короля в продолжение всей церемонии стояли пять дворян. Если он хотел пить, были нужны три дворянина, чтобы подать ему стакан воды или вина. Таким был этикет в обычные дни. В торжественные дни и дни гран-кувер (grand couvert), то есть парадного обеда (обычно это бывали воскресенья), король тоже сидел за столом один, но вокруг него находились около тридцати человек, из которых примерно половина – вооруженные охранники. В такие дни людям разрешалось входить и смотреть на то, как ест их великий монарх.
После обеда король отправлялся на прогулку – иногда пешком, но чаще верхом на коне или выезжал на охоту, что тоже случалось часто. Вернувшись, он переодевался с теми же церемониями, которые сопровождали его утреннее одевание. Затем он снова запирался в кабинете, где читал доклады государственных секретарей и писал письма. За этой работой он проводил час или два. В десять часов он ужинал вместе со своей семьей, и это тоже была большая церемония. После ужина наступало время игры в карты, а после карт, наконец, куше (coucher) – торжественная церемония отхода ко сну, такая же публичная и сложная, как леве.
Двор французских королей стал роскошным и сложно устроенным в дни Франциска I. Во время Религиозных войн он был совершенно неорганизованным. При Генрихе IV он стал очень простым и даже по-военному суровым. Теперь, под рукой его далеко не просто внука, он стал невероятных размеров. В него входили придворный корпус военных – около 10 тысяч человек в великолепных мундирах, охрана, достойная самого грозного из монархов христианского мира, и гражданский придворный штат численностью не меньше 4 тысяч человек. Служителей королевской кухни (эта служба называлась la bouche du roi – «рот короля»), то есть тех, кто готовил и подавал еду для королевского стола и только для него, было 498 человек. Но кроме хозяйства короля были домашние хозяйства королевы, дофина, супруги дофина и троих их детей. Дочь дофина, когда ей было всего 2 года, имела собственное «домашнее хозяйство» (maison) из двадцати двух человек обслуги, в число которых входили три гувернантки и восемь фрейлин.
Начальниками этих служб были представители высшей знати. Глава служителей королевского стола носил титул великий магистр Франции, и эту должность занимал не кто иной, как первый принц крови, сам принц Конде, который по-прежнему был грозным полководцем, чьи победы наводили ужас на всю Европу. Обычно носители таких должностей исполняли их сами, а не доверяли это представителям. Подать королю рубашку или тарелку было желанной честью. Многие дворяне низшего ранга просто стояли вокруг короля: каждый из них надеялся, что после вечерней игры в карты король осчастливит его и возвысит над остальными собратьями просьбой нести свечу, чтобы осветить путь к постели.
Итак, Людовик XIV полностью укротил когда-то высокомерную и независимую французскую знать. Он хотел, чтобы все эти высокородные господа постоянно вращались вокруг него, прислуживая ему в огромной королевской резиденции в Париже, а потом, когда был построен еще более просторный Версаль, делали то же самое в Версале. Каждый день король, проходя по дворцовым галереям или по аллеям своих обширных парков, устраивал смотр своим придворным. Тот, кто не явился ко двору, кто бы он ни был, не мог надеяться ни на какие милости от государя. Если короля просили сделать что-то хорошее для того, кто отсутствовал, король отвечал: «Этого человека я не видел. Я его не знаю», и это было самым страшным осуждением из всех возможных.
Поэтому все французские дворяне, которые могли найти средства на поездку, съехались к королевскому двору. Деревенские замки опустели: теперь в своих поместьях жили только бедные, впавшие в немилость или поразительно лишенные честолюбия дворяне. Аристократы, чтобы жить с пышностью, соответствующей их положению, строили для себя изящные особняки вокруг королевской резиденции, так что, когда Людовик XIV переехал в Версаль, они помогли ему построить на новом месте настоящий город.
Хотя в результате принятых королем мер дворянство стало действительно его дворянством, Людовик XIV предоставлял им очень мало возможностей для карьеры. Дворянин мог служить в королевской армии или королевском флоте, мог поступить в «гражданское хозяйство» короля и подавать государю салфетку или снимать крышку с блюда, мог крутиться вокруг дворца в качестве услужливого придворного без определенных обязанностей. Но король почти никогда не допускал дворян к повседневному гражданскому управлению страной – ни в правительство, ни на должности администраторов. «Не в моих интересах выбирать на должности людей очень высокого звания, – написал однажды Людовик. – Важно, чтобы народ по происхождению тех, кто мне служит, понимал, что я никогда сознательно не поделюсь с ними своей властью».
Постоянными членами центрального правительства были канцлер, генеральный контролер финансов, четыре государственных секретаря, многочисленные государственные министры, а также государственные советники. Большинство этих должностей существовали уже при предыдущих королях. Канцлер, генеральный контролер и секретари объединялись в совет, который в современной Франции назывался бы Советом министров. Канцлер был главой судебной администрации, он также был председателем всех Королевских советов в отсутствие короля. Контролер, разумеется, отвечал за казну и за все ее проблемы. Четыре секретаря были секретарь домашнего хозяйства короля, секретарь иностранных дел, военный секретарь и секретарь флота. Но каждый из них кроме обязанностей, обозначенных в его должности, по поручению короля был (согласно достаточно давнему обычаю) также гражданским администратором отданной ему в управление части страны. Формально секретари были всего лишь писцами короля, которые были обязаны докладывать ему обо всем, а затем беспрекословно выполнять его приказания. На самом же деле они, конечно, имели большую власть и большую свободу действий.
Под началом у этих высших должностных лиц были четыре больших совета, состоявшие из министров (которые на самом деле были только верховными советниками) и обычных советников. Король при желании сам был председателем этих советов. Совместно они были Верховным советом во многих важных делах, главным образом в военных и дипломатических вопросах. Были также Совет финансов и Совет депеш (так назывались послания от чиновников, управлявших страной на местах). Был также Совет, который рассматривал все важные юридические вопросы, интересующие правительство.
Это явно была простая структура для управления большим самодержавным государством, в котором все государственные дела все больше сосредоточивались при дворе короля. Вполне очевидно, что все зависело от способностей государя, канцлера, контролера и четырех государственных секретарей. Они держали страну в своих руках с помощью крайне важных помощников – интендантов. Правда, продолжали существовать губернаторы из высшей знати, которых назначали в старые провинции – например, в Тулузу или Нормандию. Но власть губернатора, который когда-то был заместителем короля в своей провинции, теперь была урезана настолько, что его должность была почти только почетной. И в любом случае король, повелитель губернатора, обычно удерживал его при своем дворе, далеко от провинции, которой тот якобы управлял. Настоящим, работающим администратором был незнатный интендант. Округ, которым он управлял, назывался женералите (и часто был намного меньше средней провинции)[89]. Мало было такого, чего не мог бы сделать деятельный интендант, если его не остановят королевские министры. Если он желал, то мог быть председателем на заседаниях суда. Он контролировал местные финансы, деятельность администрации в городах и общественные работы. В случае каких-либо беспорядков он набирал и возглавлял ополчение в своем округе и решал все военные вопросы, если для этого не были нужны сложные боевые действия под руководством профессионального генерала королевской армии. Короче, как тогда говорили, интендант – это «как будто сам король находится в провинции». Такими интенданты оставались до революции 1789 г.
Во время первой, самой благополучной части царствования Людовика XIV самое большое значение среди королевских министров имел Жан-Батист Кольбер. Он был одновременно генеральным контролером, секретарем флота и секретарем домашнего хозяйства короля. Он был самым могущественным из всех подданных короля, и без Кольбера его повелитель едва ли смог бы достичь того богатства и могущества, которые возвысили Людовика над всей Европой.
Кольбер (1619–1683) был сыном торговца мануфактурными товарами (в первую очередь тканями) из Реймса. В юности он приехал в Париж и получил должность управляющего личным имуществом кардинала Мазарини. Этот Божий слуга с цепкими руками быстро обратил внимание на финансовый талант человека, который сохранил и умножил его собственность. Умирая, он в своем завещании официально рекомендовал Людовику Кольбера как «очень верного» человека. В то время будущему контролеру было сорок два года.
В момент смерти Мазарини финансы Франции находились в руках Фуке, человека очень талантливого и очень честолюбивого. Его положение казалось таким прочным, что он мог безнаказанно обогащаться и использовал свое огромное богатство как основу для интриг, чтобы добиться постоянной политической власти.
Когда Людовик стал сам править страной, одним из первых действий короля стало свержение этого слишком самоуверенного министра. Людовик отстранил Фуке от должности, отнял у него приобретенное сомнительным путем богатство и приговорил к пожизненному заключению в тюрьме (1661). На его место король поставил Кольбера, который потом, как увидел король, никогда не злоупотреблял своей властью.
Кольбер был одержим страстью к труду. Слышали, как он говорил, что не прожил бы и шести лет, если бы его «приговорили к безделью». В половине шестого утра он входил в свой кабинет, и если видел на письменном столе депеши, то потирал руки, как гурман перед пиршеством. Как правило, он работал шестнадцать часов в день. Побеспокоить его во время работы было обидой, которую он не прощал. За ледяную холодность своих манер он получил прозвище Север. Рассказывают, что однажды какая-то дама встала перед ним на колени, умоляя его о милости. Кольбер в ответ сразу же опустился на колени лицом к ней и сказал: «Умоляю вас, оставьте меня одного!»
Что такое была деятельность Кольбера, легче всего понять, когда осознаешь, что он двадцать два года один исполнял должности, которые сегодня во Франции занимают минимум девять министров. Его прозвали «рабочим быком» Людовика XIV. Однако его побуждали к труду не только природная склонность, но и подлинный патриотизм. Кольбер был безгранично предан своему королю и Франции и работал для них, потому что хотел, чтобы они были первым королем и первым королевством в мире. Им он посвятил все свои безграничные таланты.
Главная идея Кольбера была очень проста: он хотел сделать Францию богатой. Ради этой цели он использовал все возможные средства, чтобы привлечь деньги во Французское королевство и уменьшить богатство соперничающих с Францией стран[90]. В особенности и в первую очередь он старался реорганизовать финансовую систему государства, развить промышленность и создать благоприятные условия для торговли.
Начав управлять финансами, Кольбер прежде всего сурово обошелся со всеми, кто при слабом режиме Мазарини разворовывал казну.
Сотни богатых вельмож оказались под следствием и были вынуждены вернуть в казну сумму равную более 85 миллионов долларов США. В это же время был уменьшен общий беспорядок в финансовой системе. Управление казначейством всегда было самым слабым местом французского королевского режима до самого его крушения в 1789 г. Но при Кольбере оно управлялось лучше, чем когда-либо до или после него. Он добился того, что тогда было редкостью в кругу правительственных финансистов, – строгого отчета за каждый грош. Кроме того, он всерьез пытался сделать так, чтобы расходы были ниже доходов. У него даже было что-то вроде простейшего бюджета. Можно сказать, что с 1661 по 1672 г. дефицит Франции не угрожал. После 1672 г. из-за непрерывных войн и бесконечных расходов на постройку королевского замка в Версале во Францию вернулись плохие времена. Кольбер до своей смерти успел увидеть, как финансы страны снова приходят в достойный сожаления беспорядок.
Его подлинным достижением было развитие французских мануфактур, которые сделали Францию крупной промышленной страной, и этого видного места среди индустриальных стран Франция больше никогда не теряла. Он снова начал развивать страну в тех направлениях, которые оставались забытыми слишком долго – со времени Генриха IV. Для этого он сначала направил энергию правительства на те отрасли промышленности, которые уже существовали, – производство одежды, ковров и шелковых тканей, а потом начал внедрять и продвигать отрасли, раньше почти неизвестные во Франции, – производство стекла, фарфора, кружев и изделий из железа. Именно в те дни началось постоянное производство восхитительных шелковых тканей в Лионе, фарфора в Севре, кружев в Шантильи и т. д. – элегантных изделий, которые принесли Франции почет и славу везде, где жили люди с хорошим вкусом. Чтобы обеспечить этот прогресс, Кольбер выдавал большие денежные награды успешным ремесленникам и предоставлял привилегии иностранным ремесленникам, которые соглашались поселиться во Франции. Но в основном он поддерживал промышленность тем, что выделял из казны средства на закупку сырья и постройку крупных для того времени фабрик. Вместо мелкого производства в «семейных мастерских», где трудились мастер-ремесленник и несколько его учеников, были созданы настоящие большие мануфактуры – такие, к которым мы привыкли теперь. На некоторых основанных Кольбером предприятиях трудились сотни рабочих, а по меньшей мере на одном – на суконной фабрике в городе Абвиль, в Пикардии, – были заняты 6500 рабочих. По их числу она вполне выдерживает сравнение с крупнейшими современными фабриками. Таким образом, Кольбер может считаться одним из отцов современного фабричного производства.
Однако великий министр не просто хотел сделать Францию экономически независимой. Его честолюбивые планы шли дальше этого. Он был намерен сделать другие страны экономически зависимыми от Франции. Ради этого он хотел, чтобы французские изделия были самыми надежными, долговечными и элегантными во всем мире. Поэтому процессы изготовления изделий были подробно регламентированы законодательством. Существовало не меньше тридцати двух наборов правил и сто пятьдесят законов на этот счет. В них были точно определены, например, длина и ширина кусков сукна и количество нитей в основе ткани и уточной пряже. Каждый ремесленник был обязан метить свои изделия собственным клеймом. Эти изделия проходили подробный осмотр, и, если в них находили дефекты, некачественную продукцию конфисковали, выставляли на всеобщее обозрение у столба, указав рядом имя их изготовителя, а потом разрывали на части и сжигали. В случае повторного нарушения закона самого изготовителя на два часа выставляли у столба вместе с его нечестными изделиями. Оправдывая эти суровые меры, Кольбер коротко и метко сказал: «Я всегда обнаруживал, что изготовители товаров очень упрямо держатся за свои ошибки!»
Этими мерами Кольбер достиг своей цели. Изделия с французским клеймом скоро стали считаться самыми лучшими на всем рынке. «Эти вещи в такой моде, что заказы на них идут потоками отовсюду», – писал посол Венеции. Значит, именно Кольберу французская промышленность обязана тем, что прославилась высоким качеством своих изделий. Эта репутация до сих пор остается одним из ее главных преимуществ в борьбе с конкурентами.
Чтобы стимулировать продажу этих изделий, Кольбер приложил такие же усилия для активизации французской торговли в целом. Правда, его попытки улучшить условия для торговли внутри страны не вполне удались, но он, несомненно, дал сильный толчок внешней торговле Франции.
Внутри королевства каждая провинция экономически была почти независимым государством. В каждой из них были свои таможенные пошлины и заставы для их сбора, свои меры веса и длины. Купец из Оверни платил налог за право ввозить свои товары в Лангедок, купцы из Шампани платили за право въехать в Бургундию. Это, разумеется, был один из вредных пережитков феодализма. К тому же дорог было мало, и они были в плохом состоянии.
Кольбер не мог уничтожить многие губительные препятствия, стоявшие на пути реформ, и он продолжали существовать до 1789 г. Но он значительно улучшил дороги и увеличил их число. В частности, он развивал систему водных путей по рекам и каналам, которую использовал уже Генрих IV. Со времени Кольбера система водных путей внутри страны стала решающим фактором экономической жизни Франции, а иногда даже временно заменяла железные дороги. Во внешней торговле великий министр добился большего. Для него она была важнее, чем внутренняя, потому что позволяла Франции увеличить ее власть над другими народами. Чтобы взять в свои руки очень прибыльную торговлю пряностями с Востоком, которая так сильно обогатила сначала Венецию, а потом Голландию, он создал несколько сложно организованных «компаний океанской торговли», самой важной из которых была, разумеется, Ост-Индская компания, грозная соперница двух подобных ей компаний – Английской и Голландской. В таком деле невозможно было обойтись без эффективного торгового флота, и Кольбер начал его создавать. Он старательно сохранял налоги, которые уже уплачивали иностранные корабли (особенно голландские) за вход во французские гавани, и одновременно создал систему премий за постройку и техническое обслуживание французских торговых кораблей. В результате этих мер французские грузовые суда начали конкурировать с голландскими и английскими во всех океанах мира.
Однако Кольбер понимал, что большому торговому флоту должен служить опорой большой военный флот. Ришелье старался сделать своего короля грозным на море, но менее мудрый Мазарини позволил Королевскому флоту прийти в упадок. В 1660 г. Людовик XIV был хозяином всего 18 малых военных кораблей. В 1683 г., когда Кольбер умер, король имел 276 военных судов гораздо более совершенного типа – галеры, которые, правда, были пригодны только для Средиземного моря, 120-пушечные линейные корабли и фрегаты для разведки и крейсерского плавания. Раньше матросов на французские корабли набирали варварским способом – группы вербовщиков в случайно выбранное время похищали подходящих для службы мужчин в портовых городах и, по сути дела, превращали их в рабов. Кольбер заменил этот произвол регулярным набором во флот новобранцев из той части населения, которая занималась мореплаванием. Опытные моряки были обязаны один год из четырех служить в Королевском флоте. Начиналась эта служба с двадцати лет, а кончалась в шестьдесят. За это они в старости получали пенсию. Таким образом король получил в свое распоряжение 60 тысяч надежных моряков. Благодаря стараниям Кольбера Людовик XIV в первые двадцать пять лет своего правления был силен в океане почти так же, как на суше.
Итак, Кольбер ускорил развитие французских финансов, промышленности, торговли, торгового флота и военного флота. В его лице крупная буржуазия, для которой были характерны надежность и созидательная творческая сила, получила настоящую возможность показать, что она может совершить для страны. Больше, чем любой другой министр, он был творцом славы своего короля. Однако еще при своей жизни он увидел, что многое из созданного им разрушено. У короля голова закружилась от гордости, побед и «славы». В казне опять был дефицит. Людовик больше не доверял министру, который все время читал ему нравоучения о том, как необходимы мир, экономия и развитие очень прозаических и будничных промышленных проектов. Кольбер умер в 1683 г., когда Франция уже вступила в первую из того ряда губительных войн, которые позже разрушили ее процветание.
Агрессивная военная политика Людовика XIV привела к полному преобразованию французской военной системы. Во Франции это произошло раньше, чем в других крупных государствах; в значительной мере именно поэтому французские войска до 1700 г. сражались так успешно. Ришелье своими энергичными нововведениями проложил путь к реформе армии, но военная машина монархии Бурбонов была усовершенствована лишь при жизни следующего поколения. Основным изменением, конечно, было то, что постоянную регулярную армию сменили армии, набиравшиеся на время в случае войны. Руководил всеми этими нововведениями Лувуа.
Без гениального Кольбера Франция не могла быть такой богатой, чтобы выдержать грандиозные проекты Людовика XIV. Без гениального Лувуа попытка осуществить эти проекты была бы невозможна в военном отношении.
Отец Лувуа был одним из государственных секретарей при Мазарини. В 1666 г. сын сменил своего отца на высоком посту канцлера. Он был гораздо моложе Кольбера, но был очень похож на него бесстрастием, страстью к усердной и трудной работе и любовью к порядку. В отличие от Кольбера он никогда не рисковал делать то, что могло лишить его расположения повелителя-короля, и потому не выступал против расточительности двора и особенно против ненужной траты государственных денег при постройке Версаля. Напротив, он постоянно льстил королю и этим путем вскоре приобрел на Людовика гораздо большее влияние, чем имел министр финансов. Известно, что он бывал жестоким, несдержанным и грубым. Именно ему приписывают идею для обращения протестантов в католичество принудительно размещать солдат на постой в протестантских домах, а также мысль о разорении Пфальца, то есть два самых грязных пятна на истории правления «короля-солнце». Однако никто не может отрицать, что Лувуа был талантливым военным секретарем. До него даже в таком большом и могучем государстве, как французская монархия, обычно основную часть армии распускали сразу после заключения мира. Когда начиналась новая война, ее первые дни уходили не на сражения. Сначала надо было долго и с трудом созывать войска, отыскивать знающих свое дело офицеров, по ходу дела придумывать структуру новой армии и т. д. Если враг нападал внезапно и был лучше подготовлен, положение быстро становилось отчаянным. А с тех пор как шведский король Густав-Адольф в своих немецких кампаниях доказал, что военное искусство можно поставить на почти научную основу, время, нужное для подготовки умелых офицеров и солдат, значительно возросло. Это неизбежно приводило к двум решениям: 1) готовиться к войне нужно в мирное время; 2) вся королевская армия должна быть постоянной.
У Людовика XIV в 1661 г. уже были постоянные войска, которые вызывали достаточно сильную зависть у других королей; а именно домашние войска (maison du roi), то есть великолепный гвардейский корпус, и двенадцать постоянных полков пехоты. На этом фундаменте Лувуа построил огромную военную структуру. В 1670 г. в армии было уже примерно шестьдесят пехотных полков, около 1690 г. их стало девяносто восемь. К началу Войны за испанское наследство (1701) у Людовика было двести полков – почти невероятное число для того времени. Некоторые из этих полков, конечно, были созданы из-за чрезвычайной ситуации. Но и в дни мира великий монарх ежедневно отдавал приказы 47 тысячам кавалеристов и 127 тысячам пехотинцев. Все они были должным образом размещены в казармах и вооружены и получали все необходимое согласно хорошо разработанной системе обеспечения. Ни у одного короля в Европе не было ничего равного этой военной структуре для мирного времени.
В отличие от других армий того времени в этой французской армии была одинаковая одежда для солдат, дисциплина и система тактики. Этим она резко отличалась и от французских армий предыдущей эпохи, в которых каждый полк подчинялся собственным правилам. Например, огромным достижением стало то, что все обычные полевые орудия армии стали стрелять ядрами одного и того же размера, то есть ядра от одной пушки можно было заменить ядрами от другой. Солдат набирали по вербовке, потому что призыва на воинскую службу в известном нам смысле этого слова тогда не существовало. Внушавшие доверие сержанты-вербовщики имели обыкновение приезжать в округа, страдавшие от голода или другого бедствия, и убеждали отчаявшихся крестьян записаться в армию лживыми рассказами о том, что на королевской службе жизнь роскошная, казармы прекрасные, а дисциплина нестрогая. Приехав в казарму, новобранец обнаруживал, что на самом деле его ждут «одна кровать на троих, немного плохого хлеба и 5 су в день на пропитание».
Дисциплина в армиях XVII в. часто бывала такой слабой, что это мешало действиям войск в решающих сражениях. Солдатами армии Лувуа командовали сторонники строгой дисциплины, которые заставляли их подчиняться. Непослушных рядовых пороли плетьми. Но военный министр настойчиво требовал такого же полного повиновения и от самих офицеров. Молодые безответственные дворяне больше не могли весело проводить жизнь возле военного лагеря. За нарушение приказа они быстро оказывались на гауптвахте. Напрасно родовитые офицеры жаловались, что Лувуа настойчиво требует от них «научиться подчиняться до того, как они смогут командовать»: именно этого он от них и хотел.
Изменения в тактике и вооружении армии не были радикальными, но стоит отметить, что именно в эти годы солдаты практически перестают носить доспехи (исключением были только некоторые элитные кавалерийские части, где доспехи сохранялись больше для красоты, чем для защиты). Вместе с доспехами исчезла и пика – практически последняя сохранившаяся разновидность почтенного копья древних времен. До этой поры было совершенно необходимо иметь в каждом полку какое-то количество солдат с пиками, чтобы вражеская кавалерия не разгромила дерзкой атакой шеренги его медленно стрелявших мушкетеров. Но задолго до 1700 г. появился привычный сейчас штык, с которым каждый мушкет в чрезвычайных ситуациях превращался в пику, так что особые солдаты с пиками стали не нужны. Правда, у первых штыков был большой недостаток: прикрепленные к мушкету, они закрывали его дуло, так что стрелять было невозможно. Но примерно в 1701 г. был найден способ прикреплять штык так, чтобы огнестрельное оружие могло в полной мере применяться и по основному назначению. Таким образом, новое изобретение не только практически вытеснило старое копье, но и дало пехотинцу большое преимущество при отражении атак конницы. Теперь он мог убивать мчащихся на него кавалеристов выстрелами, сам при этом укрываясь за изгородью из стальных кольев.
Но от этой армии, конечно, не было бы никакой пользы, если бы ее верховные военачальники не были талантливыми, а часто даже гениальными полководцами. Людовик XIV унаследовал от режима Мазарини двух, вероятно, лучших полководцев Европы – Конде и Тюренна. Правда, Конде был скорее отважным тактиком, чем великим стратегом. Но Тюренн, несомненно, был лучшим военачальником Европы во времена от Густава-Адольфа до Фридриха Великого и, вероятно, был равен по таланту им обоим. В 1660 г. Людовик назначил этого скромного и уравновешенного человека главным маршалом лагерей и армий Франции. Возможно, у него не было того вдохновения, которым в более поздние времена отличался Наполеон. Но Тюренн мог с великолепной отвагой осуществлять планы, которые до этого разрабатывал с научной точностью[91]. Передвижения его войск были молниеносными по сравнению с медленными маневрами армий средних военачальников того времени, когда полководец мог потратить целый сезон боевых действий на одну осаду или одно неважное сражение. И все же солдаты Тюренна были преданы ему и называли его «наш отец», потому что он тратил много времени на расчеты, чтобы избежать ненужных жертв. Когда в 1675 г. Тюренн умер, у Людовика XIV не нашлось полководца, который был бы равен главному маршалу и смог бы стать ему настоящей заменой. Однако у короля были два военачальника, более компетентные, чем обычные генералы, а именно герцог де Вандом и маршал Виллар. Но в конце жизни короля, кажется, у него не осталось первоклассных лидеров, и он смог найти не преемников для них, а лишь новых носителей для их высоких титулов. После 1700 г. французское военное искусство пришло в большой упадок, от которого пострадали и король, и его королевство.
Тюренн также превосходил большинство современных ему полководцев в желании вызывать на бой и принимать бой. В это время так же, как в эпоху расцвета феодализма, было мало больших ожесточенных сражений (по сравнению с общим объемом боевых действий). Идеальной войной считалась та, в которой вторгшаяся армия превосходила в маневрировании войска защитников территории и вынуждала их беспомощно наблюдать, как она осаждает и захватывает одну за другой их крепости. Попасть в ситуацию, когда нельзя было избежать сражения по всем правилам, считалось почти неправильным действием для военачальника. Он мог выиграть бой, но все равно оказаться чуть слабее противника в военной игре. Людовику XIV в его войнах больше всего нравились осады. Он много раз давал своим генералам указание осадить тот или иной фламандский или немецкий город, а потом сам приезжал в лагерь своей армии, наблюдал с безопасного расстояния за тем, как солдаты все ближе продвигают к городу свои окопы, и наконец при сдаче города принимал у его коменданта шпагу.
«Великий монарх» только гордился «своими» осадами. Человеком, который действительно руководил ими, был его главный комиссар по фортификации, Вобан, который усовершенствовал искусство атаковать и оборонять города еще больше, чем Тюренн усовершенствовал стратегию и тактику. В сущности, Вобан, вероятно, был для Людовика более ценным военным специалистом, чем даже его более знаменитый современник-маршал. Учитывая короткую дальность стрельбы тогдашней артиллерии, его схемы атаки с помощью длинных траншей, которые он называл параллелями, «рикошетного» огня, «батарей приближения» и других приемов кажутся чудесами изобретательности. После того как город был захвачен, Вобан направлял весь свой гениальный дар на перестройку городских укреплений, чтобы сделать их неприступными. Была даже хвастливая поговорка: «Ни один город, который Вобан честно атаковал, не устоял перед атакой. Ни один город, который он один раз укрепил, никогда не был взят». Короче говоря, этот офицер, которого Лувуа и Людовик нашли простым капитаном и возвысили до маршала Франции, создал систему фортификации и ведения осады, которая просуществовала до наших дней (то есть до начала XX в. – Пер.), когда появление дальнобойной артиллерии и сверхмощных взрывчатых веществ заставило внести в нее изменения[92].
Итак, благодаря гению Кольбера, Лувуа, Тюренна, Вобана и последнего в списке, но не последнего по значению Лионна, очень находчивого, ловкого и умелого секретаря по иностранным делам, Людовик XIV владел не просто великим королевством. Он обладал великим королевством, все экономические и военные ресурсы которого находились полностью в руках короля и в котором очень талантливые государственные служащие и военачальники были готовы исполнить желание своего повелителя. Учитывая образование, полученное Людовиком, его взгляды на жизнь и его честолюбивые мечты, легко понять, что вскоре он заставил свое имя звучать во всех уголках Европы.
Глава 10. Людовик XIV – властелин Европы
Ссора с папой. Характер войн Людовика. Вторая война: нападение на Голландию. Гугеноты при Людовике XIV. Пагубные результаты репрессий. Любовницы Людовика. Рисвикский мир. Соперничество наследников испанского трона. Война за испанское наследство. Утрехтский договор. Со смертью Людовика кончается эпоха
О природе единовластия и могущества Людовика XIV было сказано в предыдущей главе. Осталось рассказать лишь о том, как этот король использовал свои возможности, подобных которым до этого не было ни у кого в истории Франции. Не только власть самого Людовика была огромной, но прежние соперники его династии слабели и угасали. Испания засыпала без надежды на пробуждение; причиной ее угасания были губительные войны, непросвещенное правительство и оцепенение умов, скованных страхом перед инквизицией. Германия после Тридцатилетней войны рассыпалась на несколько сотен слабых и бедных княжеств; Австрия, которая формально считалась главой этих государств, была ослаблена и утратила доверие. В Англии умер могучий Кромвель, и его место занял развратник и мот Карл II, который настолько не уважал свое королевское достоинство, что вскоре захотел быть фактически на содержании у своего кузена Людовика. Голландия казалась сильной на море, но позже ход событий показал, что Голландской республике не хватало ни населения, ни ресурсов, чтобы успешно противостоять на суше первому монарху эпохи. Более далекие от Франции страны, например Швецию или Польшу, вряд ли можно было принимать в расчет, хотя французское дипломатическое ведомство, не имевшее себе равных, часто привлекало эти государства на сторону своего повелителя. Что до Турции, все еще имевшей большие претензии империи воинственных иноверцев, то ее падишах был вполне готов заключить союз с «христианнейшим королем» для чего-нибудь вроде войны против их общего врага Австрии. Таким образом, положение во всей Европе было самым благоприятным для грандиозных планов Франции.
Однако Людовик после того, как стал править сам, еще несколько лет не начинал войну. Это было счастливое время, когда Кольберу было разрешено в полной мере применить его гениальные способности реформатора и данные казначейства постоянно отражали рост процветания страны. Но Людовик быстро дал понять, что намерен предъявить права на лидерство среди всех монархов. В 1661 г. испанский посол в Англии в злополучную минуту осмелился потребовать себе на одной из придворных церемоний место более почетное, чем у его французского коллеги. Интересно, что между проживавшими тогда в Лондоне испанцами и французами произошла ссора с применением оружия из-за того, чей посол должен идти впереди другого посла в процессиях при дворе Карла II, а англичане сохраняли нейтралитет и с усмешкой наблюдали за этим сражением. Испанцы победили и убили лошадей, запряженных в карету французского посла, а карета посла Испании триумфально уехала с места боя вслед за каретой короля Карла. Как только об этом оскорблении стало известно в Париже, Людовик громогласно заявил, что отомстит за него, и приготовился к войне. Испанский двор, зная, как слаба Испания, смиренно извинился перед королем Франции, отправил в немилость своего слишком усердного посла в Лондоне и направил своим представителям при всех европейских дворах официальный приказ никогда не требовать более почетного места, чем у представителей Франции. Такая дипломатическая победа над государством, которое до этого было самой гордой монархией в мире, показала всему миру, как велик престиж «короля-солнце».
В 1662 г. папа римский Александр VII тоже ощутил на себе гнев Людовика. Этот тогдашний папа имел личные счеты с Мазарини. Когда во время драки корсиканские гвардейцы папы выстрелили внутрь дворца, где жил французский посол в Ватикане, и убили нескольких человек из его свиты, эти буяны не понесли серьезного наказания. Людовик был искренним католиком, но, когда речь шла о его интересах, без колебаний применял к святейшему отцу угрозы или силу в любых мирских делах. Теперь он поспешно приказал армии из 24 тысяч человек войти на территорию Папского государства[93], а Парижский университет в это время осудил с научной точки зрения учение о том, что папа имеет власть над королями.
Александр ждал помощи от Австрии и Испании, но ждал напрасно. За несколько дней до того, как французская армия вошла в Рим, папа был вынужден принести искренние извинения, выплатить денежную компенсацию и отправить собственного племянника, кардинала Киджи, специальным послом в Париж, чтобы тот передал королю глубокие соболезнования его святейшества. После этого Людовик мог гордиться тем, что унизил папу так же сильно, как унизил наследника грозного Филиппа II. Все правители и народы Европы почувствовали великий, смешанный с почтением страх перед королем Франции и теми, кого он защищал. В 1662 г. Людовик добавил к своим владениям прекрасный город Дюнкерк, расположенный на самом краю Фландрии. Кромвель в упорной борьбе отнял Дюнкерк у испанцев, но теперь Карл II нуждался в деньгах и нисколько не гордился тем, что сохраняет для Англии второй Кале. Карл быстро продал Франции этот важный город за 5 миллионов ливров. Так Людовик ценой сравнительно малых расходов приобрел город, который, находясь в руках более агрессивного английского правительства, был бы для Франции как бельмо на глазу. До 1668 г. король продолжал таким же образом повышать престиж своего государства без серьезных боевых действий. Кольбер каждый день, не проливая крови, одерживал экономические победы. Родовитые аристократы перестали интриговать и устраивать заговоры: они начинали получать удовольствие от своей роли ярких бабочек, порхающих в великолепном дворе. Промышленный и торговый талант средних и низших классов французского общества беспрепятственно получал поддержку. Гугенотское меньшинство жило в мире с католическим большинством. Хотя король и правил самодержавно, в это время самодержавие было полностью повернуто к людям своей справедливой и эффективной стороной. Никогда, ни раньше, ни позже, Франция не выглядела долгое время более процветающей, спокойной и счастливой, чем в эти золотые годы с 1661 по 1668.
Естественно, что при таком упорядоченном правлении и большом материальном процветании возникли литература и умственная жизнь, достойные истинного золотого века. Корнель, основатель французской трагедии, умер лишь в 1684 г. Возможно, свои самые великие произведения он создал до того, как Людовик XIV начал править сам, но в блистательные дни собственного правления «короля-солнце» творили Расин (1639–1699), чьи трагедии заслуживают почти такой же славы, как трагедии Корнеля, и прежде всего Мольер (1622–1673), «князь комедии», галльский Аристофан, чьи персонажи стали бессмертными литературными типами. Возможно, он был бы равен по гениальности Шекспиру, если бы его муза, кроме комедий, вдохновила его и на трагедии. Это всего три имени из большого списка французских литераторов того времени, взошедших на олимп славы. Были еще Лафонтен, чьи басни стали классикой; Боссюэ, красноречивый придворный проповедник, в чьих проповедях и речах выражено все лучшее, что было в католическом христианстве; Фенелон, тоже церковный литератор, чья слава едва ли меньше славы Боссюэ; Паскаль, математик и философ. Чтобы выбрать совершенно другой тип гениального дарования, добавлю к этому списку мадам де Севинье, в «письмах» которой перед нами раскрывается непревзойденная картина жизни двора в ту эпоху и умственный кругозор тогдашней знати.
Естественно, что развитие литературы сопровождалось развитием изящных искусств – архитектуры, живописи и скульптуры, в особенности тех направлений в них, которые, по мнению современников, могли умножить великолепие дорогих дворцов и особняков знати. Это искусство было формализованным, тяжеловесным и слишком усложненным, но никто не может отрицать, что оно было элегантным. Сквозь цветистость богато украшенных фасадов и сложную искусную отделку батальных картин и портретов для галерей часто ощущался подлинный гений. Если ли бы Людовик пожелал выглядеть только мирным королем, он мог бы справедливо утверждать, что быстрое развитие и победы его народа во всех мирных занятиях скоро сделают Францию госпожой всего мира в области культуры без единого пушечного выстрела. Однако, учитывая полученное королем воспитание, его собственные врожденные склонности и дарования и то, какие соблазнительные возможности открывало перед ним расстроенное состояние европейских дел, такой отказ от военных планов был для него невозможен. Людовик XIV должен был попытаться стать военным хозяином Европы.
С конца Средних веков четыре раза могучее в военном отношении государство делало явную и грозную попытку добиться власти, которую справедливо можно назвать «господство над всем миром». И пока эти грандиозные планы не терпели крушение благодаря чьей-то твердости, в мире не было покоя. Первую из таких попыток подражать Древнему Риму сделал король Испании Филипп II. Ему совместно нанесли поражение, сочетая при этом отвагу и мастерство, Елизавета Английская, Вильгельм Оранский и король Франции Генрих IV. Вторую попытку предпринял Людовик XIV во имя бурбонской Франции. Третью предпринял Наполеон, тоже во имя Франции (хотя при очень непохожих обстоятельствах). Четвертую предприняла Германия в 1914 г., когда армии Вильгельма Гогенцоллерна шли к «господству над миром или гибели».
Людовик XIV, конечно, не имел осознанного намерения завоевать весь мир; возможно, он не признавался в этом желании даже себе самому. Он просто направил свое королевство по пути наименьшего сопротивления, а поскольку одно завоевание неизбежно ведет к другому, Франция в результате расширилась бы настолько, что на нашей планете вряд ли нашлось бы государство, которое можно было бы считать равным Франции. Более очевидным желанием короля, которое он выражал открыто, было намерение осуществить задачу, формулировку которой приписывают Ришелье, – «расширить Францию так, чтобы она включала в себя все места, где когда-то была Галлия». Такой проект, разумеется, подразумевал захват очень больших территорий. Он означал завоевание Нидерландов по меньшей мере до Рейна, а возможно, и за Рейном, аннексию всех мелких немецких государств к западу от Рейна и поглощение остатков «спорных земель» к востоку от Франции, в том числе Лотарингии и Свободного графства Бургундия. Это графство было частью давних владений Карла Смелого. Когда этот правитель потерпел неудачу и плохо закончил свою жизнь, Франция не присоединила эти территории к себе навсегда, и потом они долго находились под очень непрочной властью Испании.
К 1668 г. Людовик прочно завладел умами всех обитателей Европы. «Каждое утро князья [Германской] империи, испанские гранды, голландские купцы и римские кардиналы с нетерпением спрашивали, что нового известно о короле Франции. Опасности, которых они ждали от его честолюбия, и великолепие, которым он окружил себя, обсуждались в каждом зале заседаний каждого совета, в каждой кофейне и в каждой парикмахерской Европы». В 1668 г. Людовик, который раньше был (для своего положения) весьма миролюбивым государем, начал первую из четырех следовавших одна за другой войн, которые вначале неизмеримо увеличили его «славу», но в конце концов привели к тому, что эта слава поблекла и процветание его страны было полностью уничтожено. Эти войны закончились только в 1714 г., за год до смерти короля. Между ними были периоды перемирия и непрочного покоя, но не подлинного мира. Почти всегда эти войны велись против одних и тех же давних противников и приблизительно на одних и тех же полях сражений. Все цивилизованные страны Европы или участвовали в боевых действиях, или, по меньшей мере, соблюдали очень непрочный нейтралитет, а потому эти войны стали длинным и важным периодом в истории всего мира.
Однако сами эти войны не представляют совершенно никакого интереса. До последней решающей битвы в них было мало больших ожесточенных сражений (это уже было отмечено раньше) и еще меньше таких, которые решали исход кампании. Почти во всех случаях война выглядела так: одна сторона наступала и начинала осаждать крепости противника, а тот старался снять с них осаду; затем роли менялись. В более ранних войнах французы почти всегда наступали. Они были осаждающей стороной, а их противники были счастливы, если, выигрывая время, не позволяли французам взять слишком много крепостей. В более поздних военных столкновениях удача стала отворачиваться от французов, а в самом конце войн французы уже защищали границы своей страны с мужеством отчаяния. Из-за этого однообразия войн Людовика и отсутствия в них волнующих событий будет достаточно сказать лишь несколько слов об их главных событиях и важнейших принятых в их ходе решениях и немного рассказать о том, какие действия дипломатов каждый раз приводили к возобновлению этой долго тянувшейся борьбы. В этой войне за господство над Европой не было ничего похожего на битву при Саламине, на сражение при Ватерлоо или на битву на Марне.
В 1667 г. Людовик заявил о своих правах на значительную часть Испанских Нидерландов (Бельгию) на основании положений фламандского законодательства (хотя его претензии с очень большим трудом можно было бы защитить в суде). Король утверждал, что наследницей этих земель была его жена, испанская принцесса, а не ее родившийся от другой матери брат, слабый умом Карл II, король Испании. Тюренн без труда разорил значительную часть Фландрии и Геннегау. Было ясно, что Испании, если будет сражаться одна, остается только согласиться с решением своего могучего северного соседа. Однако богатых и влиятельных тогда голландцев испугало то, что эти территории, которые всегда были разделительной полосой между ними и Францией, оказались под угрозой. Они поспешно заключили союз с Англией и Швецией, чтобы совместно оказать на Францию давление и с помощью угроз остановить продвижение французов. Могущество Людовика XIV было так велико, что он мог бы бросить вызов всем союзникам сразу и сделать рывок вперед, но на этот раз осторожные советники удержали короля, и Людовик подписал Ахенский мирный договор (в 1668 г.), по которому он оставил Испанию в покое, а она уступила ему некоторые фламандские города, в том числе Лилль и Турне. Но, заключая мир, великий король только выигрывал время.
Свой следующий удар Людовик нанес не по самой Испании. Он понимал, что территории этой обширной обветшавшей империи окажутся в его руках гораздо быстрее, если сначала он избавится от менее надменных, но крепче стоящих на ногах противников, которые сильно ему досаждали. Уже много лет Франция и Голландия были союзниками и друзьями, но Людовик ненавидел голландцев. Причиной ненависти было не то, что они помешали ему завоевать Бельгию, а то, что они были республиканцами, а эта система правления противоречила всем представлениям короля Франции о законной власти; за то, что они были протестантами; и, наконец, за то, что вели себя очень хитро в своих торговых делах с Францией. Прежде всего Людовик предусмотрительно стал близким другом короля Англии Карла II – того монарха с низкой душой, который был рад получать содержание из-за границы, чтобы перестать зависеть от своего парламента, предоставлявшего ему деньги. В 1670 г. этот наследник Эдуарда III и Генриха V осознанно продал себя наследнику Филиппа Валуа, подписав с Людовиком составленный по всем правилам, хотя и тайный договор в Дувре. Внешняя политика Англии должна была обслуживать потребности французской внешней политики, а за это «веселый король» Карл должен был получать 200 тысяч фунтов в год, пока будет продолжаться запланированная война, и 6 тысяч французских солдат для подавления восстаний в Англии, когда объявит себя католиком (в договоре он торжественно обещал перейти в католичество). «Карл сказал французскому министру, что желает договориться с Людовиком, «как джентльмен с джентльменом». После этого, опираясь на такую непрочную основу – на правила вежливости, он стал продавать себя и свой народ». Теперь Людовик был уверен, что английский флот не станет чинить ему препятствий, а, наоборот, окажет помощь. При таких условиях французский король мог приступить к энергичным действиям против Голландии. Людовик уже обеспечил себе (так он думал) нейтралитет многочисленных немецких государств, щедро одарив деньгами их правителей. У французского короля не было серьезных оснований для недовольства Голландией, но в 1674 г. он написал: «Причиной нынешней войны можно считать неблагодарность и нетерпимое поведение голландцев». В другой раз он более откровенно написал о себе: «Когда человек может делать все, что пожелает, ему трудно желать лишь то, что правильно». Поэтому в 1672 г. он атаковал голландцев всеми своими не имевшими себе равных войсками.
Флот Голландии в то время был, возможно, лучшим в Европе, но, увы, на суше ее оборонительные сооружения пришли в упадок, и ее главные государственные деятели братья Де Витт вели себя глупо: почти до последнего момента они не верили в злые намерения короля. Тюренн легко перевел своего государя и армию из 100 тысяч человек через Рейн, захватил те несколько голландских крепостей, которые попытались сопротивляться, и, казалось, был уже готов овладеть Амстердамом. Охваченные ужасом голландцы предложили королю большие уступки в обмен на мир, но безуспешно. Людовик, слишком поверивший в свое всемогущество, предложил свои условия, согласно которым голландцы лишались значительной части своих земель, а остальные их земли должны были стать смиренными вассалами Франции. Он забыл, что имеет дело с потомками людей, устоявших против самого Филиппа II Испанского. В Амстердаме произошло мощное народное восстание, в результате которого сторонники Франции Де Витты лишились власти. Молодой принц Вильгельм Оранский (прямой потомок знаменитого Вильгельма Молчаливого) был провозглашен статхаудером, или, по-немецки, штатгальтером (то есть верховным наместником). Голландские войска быстро собрались, и мужество отчаяния заставило их сплотиться. Людовику, ожидающему в своем лагере дрожащую от ужаса делегацию голландцев, которая объявит, что они покорно согласились на его условия, сообщили, что эти дерзкие республиканцы разрушили дамбы и море втекло сквозь них на сушу, создав непреодолимую преграду между его армией и Амстердамом. «Королю-солнце» осталось лишь вернуться назад почти с позором и начать долгую, изнурительную войну против многих стран, которые теперь поспешили на помощь голландцам.
Завоевание Людовиком Голландии стало бы первым шагом к захвату испанцами Бельгии и к развязыванию ничем не ограниченной агрессии в Германии. Теперь, когда первая атака была отбита, Австрия, Испания и многие немецкие князья, в первую очередь могущественный курфюрст Пруссии-Бранденбурга, активно включились в войну. Было похоже, что против Франции сражается вся Европа, кроме одной Англии, но и та, несмотря на все обещания Карла II, оказалась очень нерешительной союзницей. Однако ресурсы Людовика XIV были так велики, а военная машина, которую создал для него Лувуа, была такой совершенной, что король Франции не только удерживал свои владения, но постоянно захватывал земли врагов, главным образом Испании. У созданной против него коалиции не было полководца, который выглядел бы достойным противником для Тюренна или хотя бы для Люксембурга, который стал командовать французскими войсками после гибели Тюренна, убитого в 1675 г. Несмотря на это, Вильгельм Оранский проявил себя как находчивый и неутомимый лидер. Правда, французы язвительно смеялись над ним, утверждая, что «ни один «великий полководец» не проиграл столько сражений и не был вынужден снять столько осад, как он». Но хотя Вильгельм часто терпел поражения, ни одно из них не было катастрофой. Он никогда не терял мужества в трудных обстоятельствах и, более того, никогда не позволял терять мужество своим союзникам и сторонникам. Его недоверие и ненависть к Людовику были огромны. Все свои дипломатические способности (а в дипломатии ему не было равных) он употреблял на то, чтобы создавать одну за другой большие коалиции против Франции. Этот холодный, несимпатичный человек с железными нервами постепенно изматывал своего могучего соперника и в конце концов почти полностью лишил его сил.
В 1678 г. обе стороны устали от войны. Франция добилась больших успехов, но не разгромила вражескую коалицию. Коалиция никакими средствами не могла ослабить Францию настолько, чтобы сделать ее неспособной к войне. В Нимвегене (возле Гааги) был подписан мирный договор, по которому Голландия получала обратно все свои территории, но Испания была вынуждена уступить еще один кусок Фландрии, включая Валансьен и Камбре, а также всю провинцию Франш-Конте, Австрия же уступила много мелких территорий вдоль Рейна. Людовик не разгромил Голландию, как планировал сделать в 1672 г., но приобретения, которые он получил в результате этой войны, были настолько велики, что привели в восторг придворных поэтов и историков. Король Франции сражался против почти всей Европы и победил. Однако уже стали видны признаки того, что его войны сильно подрывают благосостояние Франции.
С 1678 до 1688 г., когда формально началась следующая большая война, положение Людовика сильно ухудшилось. В 1683 г. умер Кольбер. Финансы Франции уже были в беспорядке. Великий министр постоянно говорил о необходимости экономить, за это его повелитель-король лишил его своей милости и почти отказался работать с ним. Однако после смерти Кольбера Людовик имел веские причины пожалеть о нем. Все министры, которым король после него доверял гражданское управление страной, были людьми очень средних способностей. Постепенно редел прекрасный круг талантливых гражданских администраторов, которых Мазарини завещал правительству.
Вряд ли Кольбер смог бы отговорить короля от того, что либерал-католик (Дюрюи) (вероятно, Виктор Дюрюи, известный французский историк и деятель образования, который жил в XIX в. и был современником автора. – Пер.) назвал «величайшей ошибкой царствования» Людовика, – от отмены Нантского эдикта. После 1630 г. протестанты уже не представляли никакой угрозы для спокойствия Французского государства. В беспокойные годы Фронды они были верны законной власти и вели себя спокойно. Очень многие знатнейшие семьи, которые когда-то поддерживали гугенотов, – семейства Конде, Колиньи и др. – постепенно вернулись к католической вере теперь, когда первоначальный пыл реформаторов ослаб, а двор явно благоволил только к друзьям старой религии. Но буржуа и крестьяне, исповедовавшие протестантизм, стойко хранили свою веру. Большинство среди протестантов составляли процветающие торговцы и ремесленники, которых уважали за трудолюбие, воздержанность и честность. Кольбер обнаружил, что они очень полезны для его планов, и часто давал им работу на своих новых фабриках или в коммерческих предприятиях. Дюкен, один из величайших мореплавателей Франции, и Ван Робэ, руководитель мануфактуры в Абвиле, были протестантами.
Теперь эти безвредные, уважающие себя и очень ценные люди составляли явно меньше 10 процентов всего населения Франции. Здравомыслящие католики считали, что протестантов надо оставлять в покое. Кардинал Мазарини сказал: «Эта маленькая кучка овец питается ядовитыми травами, но не уходит в сторону от остального стада». Когда Людовик XIV начал править сам, он открыто заявил, что не будет проявлять благосклонности к протестантам, но будет уважать права, которые дает им закон. Сам король был набожным католиком, и в его уме было мало места для либеральных богословских взглядов, но только в 1678 г., когда был мир и король чувствовал, что его руки свободны, он начал принимать серьезные меры против гугенотов. Вероятно, Людовик искренне ненавидел протестантскую ересь, но у него были по меньшей мере две нерелигиозные причины для этих мер. Во-первых, он все время был в плохих отношениях с Папским престолом из-за мирских интересов, а потому очень хотел доказать всему миру, что он все-таки «старший сын католической церкви», хот и спорит с папой по поводу права своего посольства в Риме предоставлять убежище объявленным вне закона головорезам или по поводу того, что архиепископом Кельнским избран сторонник Франции. Во-вторых, его, вероятно, очень раздражало, что в королевстве, где он желал быть полным и единственным властелином и считал свои самодержавные указы законом для всех своих подданных, значительное число французов заявляло, что в одном очень важном деле их взгляды не совпадают с взглядами короля.
Рядом с Людовиком было много влиятельных сил, которые побуждали его стать гонителем протестантов. Видные придворные, дамы с нестрогой моралью, но безупречные католички, а также красноречивые нетерпеливые епископы и лидеры церкви постоянно оказывали давление на Людовика, убеждая его обратить в католичество подданных, отступивших от истинной веры. Для начала король отнял у протестантов все привилегии, которые не были строго предусмотрены для них действовавшим тогда законодательством. Протестантам было запрещено преподавать и заниматься медицинскими профессиями, а также занимать государственные должности. Затем он послал в протестантские общины проповедников, которые должны были сеять там семена истинной веры с помощью красноречия, лести и угроз. Следующий шаг был гораздо более зловещим: король издал указ о том, что ребенок в возрасте семи лет может сам выбрать, какую религию исповедовать. Если от мальчика или девочки хитростью добивались слов, указывающих на то, что он или она хочет быть католиком, ребенка могли забрать у «неверующих» родителей и отдать под опеку не еретикам, но родители при этом должны были оплачивать его содержание. Следующим после этого этапом гонений было осознанное размещение солдат на постой в домах мирных протестантов, которые не поддерживали королевское «наставление в вере». Гуляки-военные оскорбляли протестантских женщин и пьянствовали ночи напролет, как животные, и им не просто разрешали это, а даже подстрекали к такому поведению. «Они входили в спокойный благочестивый дом, и жизнь в нем становилась похожа на жизнь в публичном доме или кабаке».
Под давлением таких обстоятельств десятки тысяч протестантов заявили, что убедились в истинности догм католического учения. Архиепископ города Экс-ан-Прованс «признался, что страх перед драгунами обратил гораздо больше людей, чем деньги и чем его красноречие». Хотя гонители протестантской веры признавали, что многие «обращения» были ненадежными или сомнительными, они хвалились тем, что хотя бы дети новообращенных будут воспитаны в истинной вере. Двор был в восторге от преувеличенных данных о количестве новообращенных. «В каждом бюллетене королю сообщают о тысячах обращенных», – писала мадам де Ментенон. По поводу каждой победы истинной веры звучали благодарственные псалмы и салюты из пушек, и в дворцовых парках устраивали иллюминацию.
В 1685 г. Людовик был искренне убежден, что практически все французские протестанты обращены в католичество, а потому можно отменить Нантский эдикт, который больше не нужен и стал просто уродливым пятном на страницах законодательства «христианнейшего короля». Королевский совет единогласно высказался за отмену. И 18 октября 1685 г. король подписал указ об отмене Нантского эдикта и приказал отныне прекратить все формы протестантского богослужения и немедленно уничтожить все протестантские часовни и «храмы».
Католическое население Франции приняло этот указ с нескрываемой радостью. Престарелый канцлер Летелье, ставя большую печать на этот документ, отменяющий ересь, воскликнул: «Ныне отпущаеши раба Своего, Господи!» Придворный проповедник Боссюэ, просвещенный и гуманный человек, был в восторге и сказал королю: «Это деяние достойно вашего царствования и вас самих, ереси больше нет. Да хранит Владыка Небесный владыку земного». Мадам де Севинье, достойная уважения и сострадательная аристократка, в одном из своих писем восхищалась: «Ничто не может быть лучше; ни один король никогда не совершал и совершит ничего столь же достойного памяти».
Едва утихла эта первая радость, как стало ясно, что отмена эдикта принесла Франции большой вред. Тысячи протестантов отреклись от своей веры под действием принуждения, но другие тысячи сохранили свою веру. Их гонители видели для себя лишь один выход из этой ситуации – жесточайшее преследование.
Согласно новому закону все гугенотские пасторы изгонялись из Франции, но ни одному мирянину из их паствы не разрешалось покинуть королевство, а нарушителей запрета ждали крайне тяжелые наказания. Протестантов, не пожелавших немедленно подчиниться, покарали еще более тяжелым солдатским постоем, чем тот, который применяли раньше. «Его величество повелел, – писал Лувуа, горячо одобрявший эти гонения, – употребить все средства, чтобы стало ясно, что те, кто упорствует в религии, неугодной королю, не дождутся ни покоя, ни милости». Вскоре тюрьмы и галеры наполнились протестантами, осужденными за различные нарушения нового закона или за то, что, пытаясь спасти себя, притворно перешли в католическую веру, а потом отказались от нее. Но, несмотря на угрозы, грубость солдатни, оковы и виселицы, преследование гугенотов почти сразу же привело к катастрофическим для Людовика последствиям. Десятки тысяч протестантов тайком пересекали границу Франции. Их гневные протесты громко зазвучали в Англии, Голландии и лютеранской Германии. Эти беглецы принадлежали к числу лучших ремесленников и купцов Франции; теперь они поставили свои коммерческие способности или свое мастерство на службу другим государствам, ее самым непримиримым соперникам. По приблизительным подсчетам, всего из Франции эмигрировало более 200 тысяч гугенотов, и вместе с ними жизненная сила, наполнявшая Францию, утекла из нее в Англию, Голландию и Бранденбург, а также в английские и голландские колонии, особенно в Южную Каролину и на мыс Доброй Надежды.
Таким образом, преследование протестантов оказалось одним из самых самоубийственных поступков, которые когда-либо совершал какой-либо французский король. Людовик не только экономически усилил своих врагов. Отмена Нантского эдикта пришлась как раз на то время, когда большие расходы правительства на войну уже разрушали богатство и процветание Франции, и вызвала экономический кризис, разорив значительную часть самых преуспевающих граждан. Вобан не только был великим военным инженером, но и старательно изучал проблемы, стоявшие перед его страной. Через несколько лет он открыто заявил, что эмигранты увезли из Франции огромные богатства, что многие ремесла и мануфактуры полностью уничтожены, что французская торговля упала почти до нуля, что от 8 до 10 тысяч лучших моряков короля перешли к его врагам, что вместе с ними ушли около 12 тысяч солдат и более 500 отличнейших офицеров. Достоверно известно, что в следующей войне одним из самых талантливых военачальников Вильгельма Оранского был Шомберг, изгнанник-гугенот, и несколько его самых доблестных полков состояли из французских изгнанников, которые отреклись от своей родины, хотя и по призыву совести.
Даже внутри Франции гонения на протестантов не были успешными. Гугеноты потеряли примерно половину своих рядов, но в южных землях их остатки продолжали стойко держаться за свою веру и совершали свои богослужения «в пустыне», то есть под открытым небом среди холмов, под охраной разведчиков, которые должны были предупредить их в случае нападения солдат. В 1703 г. в округе Севенны произошло крупное вооруженное восстание, участники которого получили прозвище камизары[94]. Пришлось послать целую королевскую армию против этих мятежников в то время, когда все регулярные войска были крайне необходимы в других местах.
Даже после этого правительство было вынуждено заключить соглашение с недовольными и простить тех из них, кто покорился. После этого все поняли, что французских гугенотов невозможно истребить. Почти до 1789 г. они продолжали терпеть презрение и плохое обращение и страдать от тяжелых законодательных ограничений и отсутствия официальной терпимости к их религии. Но само их существование было утверждением, что даже для Людовика Великого есть слишком трудная задача. Потом произошла Французская революция, вместе с ней наступила полная религиозная терпимость, и гугенотская церковь до сих пор остается мощной составной частью жизни Франции[95].
Пока Людовик совершал эту грубую ошибку, которая стала пятном на его сияющем ореоле и дорого стоила Франции, он постепенно приобретал и привычку к той расточительности, которая была большой дополнительной тяжестью для и так уже сильно нагруженной экономики его королевства. Средства, которые он не растрачивал на войны и на свой великолепнейший двор, он тратил на грандиозные стройки.
Король не любил Париж: он помнил, как парижане изменили ему, еще ребенку, во время Фронды. К тому же парижские дворцы напоминали людям о государях, которые правили до того, как засияла слава Людовика. Дворец Тюильри был расширен, и на уже гигантское скопление зданий Лувра Людовик нагромоздил новые постройки. Но король решил построить для себя новый город-резиденцию. Может быть, он бессознательно подражал другим великим и деспотичным правителям, например властителям Древнего Египта и Ассирии или Александру Македонскому, который строил в завоеванном им мире свои новые Александрии. Уже в 1664 г. Людовик поручил архитектору Мансару строить королевский дворец в Версале, где тогда был лишь маленький охотничий замок Людовика XIII, на расстоянии примерно 10 миль к юго-западу от Парижа[96]. На этом месте «король-солнце» создал огромный дворец и все необходимые меньшие здания, а также парки, площадки для отдыха и развлечений и все остальные постройки, необходимые самому тщеславному двору в Европе. 30 тысяч солдат были заняты на строительстве акведуков и других каналов, по которым в эту плоскую песчаную низину издалека поступала вода.
Строительство дворца и города-резиденции продолжалось непрерывно, несмотря на жалобы и протесты Кольбера. «Кто хочет получить точное представление, каким человеком был Людовик XIV, тому лучше всего пройтись по просторным, но безвкусным садам Версаля, где даже Природа перестает быть прекрасной, и взглянуть на длинный ряд чудовищных зданий, которые заслоняют вид. Дворец похож на своего хозяина – грандиозный, банальный и скучный. Для Людовика XIV он был самым любимым местом в мире»[97].
На эту массу построек и садов была израсходована сумма, равная примерно 20 миллионам тогдашних долларов или в два раза большему количеству долларов сегодняшних. Пока Кольбер был жив, он следил за тем, чтобы работы, по крайней мере, выполнялись честно и чтобы подрядчикам не позволяли жиреть за счет казны. «Король-солнце», желавший построить Версаль, не мог в это же время позволить себе еще одну роскошь – вести войны, которые можно предотвратить. Однако именно от них Людовик XIV не желал отказываться.
Конечно, ни один здравомыслящий человек XVII в. не просил Людовика быть примером высокой нравственности и бережливости. К своей супруге-королеве, урожденной испанской принцессе, он «относился по-дружески, хотя и не любил ее». Однако он выставлял напоказ свои любовные связи с другими женщинами. Великие прелаты, которые побуждали «христианнейшего короля» искоренить ересь, не осмеливались сказать ни слова по поводу любовных похождений того же благочестивого монарха. Луиза де Лавальер была первой, кто имел высокую честь быть признанной любовницей «первого джентльмена Европы». Вскоре ее сменила высокомерная мадам де Монтеспан, грубая и эгоистичная женщина, которая привлекала к себе короля лишь прелестями своего тела. Ее в свою очередь сменила соперница, которая была гораздо лучше ее, – знаменитая мадам де Ментенон, умная вдова, которая вскоре стала оказывать на короля огромное влияние, играла роль добродетельной женщины и побуждала Людовика быть набожным. В 1684 г. (после смерти королевы) госпожа де Ментенон без огласки была обвенчана с Людовиком. После этого она стала самой могущественной жен щиной Франции, но никогда не была открыто объявлена супругой короля и, поскольку была очень благоразумной, свое огромное влияние оказывала на него втайне. Благодаря ее тактичным стараниям Людовик, несомненно, стал менее расточительным и более нравственным, и в последние двадцать лет его правления при его дворе господствовали религиозные настроения, хотя и не было истинной порядочности и благопристойности. Однако для этих перемен в сторону покоя были и другие причины: Франция в эти годы вела две очень неудачных для нее войны.
Версальский замок до конца XVII в.
После Нимвегенского мира Людовик не сделал ничего, чтобы успокоить своих соперников. В 1681 г., когда международная обстановка была спокойной, он захватил «вольный город» Страсбург. Это не слишком встревожило горожан, зато привело в ярость императора Австрии, который считался сюзереном Страсбурга. В 1688 г. Людовик поссорился с папой Иннокентием XI по многим причинам, но в основном по поводу права папы «наделять полномочиями» князя-епископа Кельнского. Ссора была такой серьезной, что папа был готов пожелать удачи Вильгельму Оранскому, когда этот защитник протестантизма прибыл из Голландии в Англию, сбросил с престола католика Якова (иначе Джеймса) II (это был союзник Людовика, помогавший французскому королю в создании тирании) и стал королем Англии Вильгельмом III. В этом же году вспыхнула еще одна большая война. Казалось, что честолюбие Людовика не знает границ. Он привел в ярость все протестантские государства тем, как обошелся с гугенотами. Он почти так же сильно оскорбил католические государства тем, что запугивал Иннокентия XI. Австрия, большинство менее значительных немецких государств, Голландия, Испания, Англия (где теперь правил Вильгельм) и Савойя (на северо-западе Италии) – все объединились в мощную коалицию против общей опасности.
Война, которую эта Аугсбургская лига вела против Людовика, была еще менее интересной, чем предыдущая. Теперь Англия была определенно против Франции. Ее флот и флот Голландии обеспечивали коалиции господство на море, но Людовик попытался нанести ответный удар по своим соперникам: он дал своему невольному гостю, изгнанному Якову II, оружие и армию, чтобы тот привел к повиновению Ирландию. Подчинив ее, Яков затем смог бы вернуть себе Англию. Яков высадился в Ирландии и захватил бо́льшую часть этого многострадального острова. Но в 1690 г. все надежды свергнутого короля рухнули: Вильгельм нанес ему сокрушительное поражение в битве на реке Бойн. Вскоре Яков вернулся во Францию и опять навязал себя Людовику в качестве гостя.
В континентальной Европе война была кровопролитной, но ни один бой не имел решающего значения. Большинство сражений происходили в несчастной Бельгии, которая в течение столетий был полем битвы между французами и немцами. Как правило, полководец Людовика Люксембург оказывался более чем равным противником для Вильгельма, который командовал войсками коалиции. В 1693 г. король Франции присоединился к своей армии и около города Лувена повел ее против своего великого противника. У Вильгельма едва насчитывалось 50 тысяч солдат, а французов было около 100 тысяч. Французы были в состоянии навязать врагу решающее сражение. Говорили, что Люксембург на коленях умолял короля нанести мощный удар, но Людовик заявил, что доволен результатами кампании, и вернулся в Версаль. Можно предположить много разных причин для этого решения, но похоже, что в действительности великий монарх, хотя обстоятельства явно складывались в его пользу, боялся, что что-то не получится и его сияющая слава будет запятнана поражением. Кажется, больше он никогда не выступал в роли полководца, а перед его многочисленными военачальниками никогда не открывалась такая возможность для великой победы.
Мир наступил в 1697 г. У Людовика, вероятно, было преимущество в большинстве осад и сражений на континенте, хотя он потерпел поражение в Ирландии и на море[98]. Военный престиж Франции не пошатнулся, хотя стало очевидно, что король не может добиться такого большого успеха, как при Тюренне. Однако по двум причинам Людовик был очень склонен заключить мир. Во-первых, его министры не могли скрыть от него, что Франция теперь невыносимо страдала от налогов и от слабости торговли, а потому не должна была без конца сражаться. Во-вторых, с каждым днем увеличивалась вероятность того, что несчастный король Испании Карл II умрет, не оставив прямых наследников.
Людовику было крайне необходимо закончить все прежние споры и освободить себе руки для защиты того, что он считал интересами своей династии на случай, если огромная и громоздкая Испанская империя внезапно распадется. Поэтому он прекратил войну, заключив мирный договор в Рисвике[99]. Людовик XIV ради примирения согласился на многие уступки. Он признал Вильгельма III королем Англии, оставив без поддержки изгнанника Якова II. Он вернул прежним владельцам почти все бельгийские и немецкие города, которые захватил с 1678 г., однако сохранил за собой Страсбург. Он сделал много уступок Голландии. Короче говоря, это был далеко не тот договор, который великий монарх, вероятно, предполагал заключить. Но Людовик был сильно заинтересован судьбой Испанской империи и рассчитывал завоевать для своей семьи если не трон самого Филиппа II, то по меньшей мере несколько богатых провинций.
Таким образом, в 1697 г. наступил мир. Франции был крайне нужен долгий отдых и чтобы ее экономикой управлял человек, равный Сюлли или Кольберу. В действительности на ее долю выпали четыре года мира (в котором были перерывы), а потом двенадцать лет утомительной, изматывающей, катастрофической войны.
Очень легко объяснить коротко и ясно, откуда у Людовика XIV появилась спорная идея потребовать для своих сыновей трон того Испанского королевства, на войны против которого он сам потратил столько лет своего царствования. Одно из несчастий монархического строя в том, что при нем по законам о наследовании с государством могут поступить как с поместьем, состоящим из нескольких ферм, или с домовладением, в которое входят несколько жилых домов. Империя может быть передана от одного владельца другому или разделена и роздана по частям в наследство нескольким дальним родственникам, которые ссорятся между собой. За все время кровопролитного спора, от которого потом мучительно страдала Европа, кажется, ни разу не обсуждался очевидный вопрос: «Какой правитель способен сделать больше добра испанскому народу?» Похоже, что сами испанцы были настолько запуганы своими деспотами, что вначале едва осмеливались выразить свое желание в этом вопросе. По всей видимости, испанский народ желал, лишь чтобы огромные владения Карла V и Филиппа II остались едиными и неделимыми. И даже самых умных испанских вельмож мало почти не беспокоило, каким человеком окажется их будущий повелитель.
Из огромного клубка дипломатических нитей, которые прялись перед Войной за испанское наследство (так ее стали называть потом), можно выделить следующие факты:
1. Король Испании Карл II, слабый и телом и умом, не имел детей, поэтому его ближайшими наследниками были сыновья кастильских принцесс, в первую очередь Людовик XIV и император Австрии Леопольд, которые оба были к тому же женаты на испанских инфантах. Таким образом, каждый из этих честолюбивых монархов-соперников имел хорошую возможность сделать свое королевство вдвое больше, если другие государства не станут вмешиваться.
2. И австрийцы, и французы были уверены, что вся остальная Европа будет бороться не на жизнь, а на смерть, чтобы не дать их стране приобрести такую силу, которую ей дало бы обладание всеми испанскими владениями. Поэтому обсуждались планы разделения владений Карла. Например, предлагали, чтобы Испанию получил князь Баварии (еще один, менее грозный претендент на наследство), Миланская провинция в Италии отошла бы к Австрии, Неаполь и Сицилия достались бы дофину, сыну Людовика XIV, и т. д. Это был, по тогдашним представлениям, честный раздел наследства. К несчастью, в 1699 г. князь Баварский умер, и послам всех государей при дворах их соперников пришлось снова вести долгие беседы и срочно отправлять письма.
3. Людовик все еще не решался потребовать для своих сыновей все испанские владения (на основе предполагаемых прав их матери)[100]. У него было достаточно здравого смысла, чтобы понимать, что Франция с трудом могла позволить себе большую войну не на жизнь, а на смерть. Поэтому он вступил в переговоры со своим давним соперником Вильгельмом III, королем Англии. Было решено, что сама Испания достанется австрийскому эрцгерцогу, но французский дофин получит другие территории, немного больше по площади, чем было предусмотрено прежним договором, и в том числе Лотарингию.
4. Карл, каким он ни был глупым и слабым, страшно разгневался, услышав, что его владения делят на части, когда он еще жив. Его испанская гордость требовала, чтобы его обширные земли по-прежнему оставались в одних руках.
Карл поступил так, словно с империей, в которую входили Испания, Бельгия, значительная часть Италии, Филиппинские острова и почти вся Южная Америка, можно было обращаться как с деревенской усадьбой: он решил составить завещание. Это привело к сильному соперничеству между австрийским и французским послами в Мадриде. Они без конца интриговали один против другого, но французский посланник был намного умнее соперника. Он сумел понравиться духовнику умиравшего короля и другим могущественным служителям церкви, и те повлияли на своего суеверного повелителя. В 1700 г. Карл составил завещание, по которому наследником всех его владений становился второй внук короля Людовика Филипп, герцог Анжуйский[101]. Меньше чем через месяц совершенно неспособный править король Карл умер, оставив Европе в наследство много бед.
5. Людовик почувствовал непреодолимое искушение. Он боялся, что если Карл составит завещание, то оно будет в пользу Австрии, и потому охотно шел на компромиссы с противниками. Но вот что вышло: Испанская империя вся целиком обещана его собственному внуку. Король созвал в Версале торжественное заседание своего тайного совета. Соблюдать ли договор, только что заключенный с другими государствами? Конечно, было предложено много оправданий для Франции на случай, если ее обвинят в вероломстве. И вот 16 ноября 1700 г. король устроил в Версале большой утренний прием. Придворные нетерпеливо столпились у двери королевских покоев. Эта дверь широко распахнулась. Их монарх, теперь уже пожилой, появился перед ними, опираясь о плечо своего второго внука Филиппа. «Господа! – объявил Людовик. – Перед вами король Испании!»
Филиппа сразу же приняли его новые подданные, испанцы. Они с радостью услышали, как могущественный дед молодого монарха гарантировал внуку целость его владений. Конечно, из Австрии, Голландии и присоединившейся к ним вскоре Англии донесся единый общий крик ярости. Все твердо верили (но, как выяснилось позже, ошибались), что Испания вот-вот будет навсегда подчинена Франции, раз теперь монархами этих соседних стран будут близкие родственники. С самого начала стала неизбежна большая война.
Людовик, должно быть, думал только о своем величии, когда обошелся к торжественным договором как с «клочком бумаги». Нет сомнения, что он твердо и осознанно не желал принимать во внимание счастье Франции. Французскому народу и государству было совершенно безразлично, кто будет править в Мадриде, лишь бы Испания оставалась слабой и неагрессивной страной, а она, несомненно, осталась бы такой при любом правителе. Лишь ради славы семьи Людовика и в интересах одного из его внуков все французы получили повеление начать крайне утомительную войну. Испанцы, правда, считались теперь их союзниками, но эти союзники просили много, а давали мало. Основное бремя войны легло на Францию.
В 1701 г. началась война Великого альянса (в который входили Англия, Голландия, Австрия, немецкие государства и Португалия) против Франции и Испании. Курфюрст Баварии встал на сторону Людовика и был единственным крупным союзником короля Франции, не считая его собственного внука. Вильгельм III, давний и непримиримый враг французского короля, умер в 1702 г., но невестка Вильгельма, королева Анна, продолжила войну от имени Англии. И как раз теперь стали видны тяжелые последствия того оцепенения, которым сковал Францию деспотизм ее великого монарха. Финансы, которые уже находились в почти безнадежном положении, теперь были отданы на волю совершенно некомпетентных министров. Тюренн не оставил после себя настоящего преемника. А у врагов Франции впервые появились два действительно великих вождя. Одним был герцог Мальборо, достойный презрения как человек, но, возможно, самый талантливый британец, который когда-либо командовал армией[102], а вторым принц Евгений, очень даровитый командующий австрийскими войсками. В отличие от многих генералов альянса Мальборо и Евгений обычно действовали вместе, доверяли друг другу и прекрасно ладили друг с другом. Перед их совместной атакой Франции было суждено униженно отступить.
Незачем описывать в хронологическом порядке события этой долгой Войны за испанское наследство (1701–1713).
Были сражения в Италии и много сражений в Испании, но основные столкновения армий опять происходили в Германии и Бельгии. В 1704 г. Мальборо и Евгений, умело объединив свои силы, вступили в сражение с французами и баварцами, которыми командовали маршал Таллар и курфюрст Баварии. Это произошло возле Бленхейма в Южной Германии, недалеко от Аугсбурга. Французы сражались отважно, но конница Мальборо прорвала их ряды, и вскоре их дело было проиграно. Сам Таллар был взят в плен, и Людовик потерял всю Германию к востоку от Рейна. Такого полного разгрома Франция не терпела со времени битвы при Павии.
Боевые действия велись очень обдуманно, даже если не были невероятно медленными. Самый решительный удар был нанесен в 1706 г., когда Мальборо навязал ожесточенное сражение маршалу Виллеруа возле Рамильи (иначе Рамийи) около Намюра в Бельгии. Французы не были полностью разгромлены, но потерпели поражение. После этого они покинули почти всю Бельгию, и сама Франция лишь ценой огромных усилий была спасена от вторжения. Унижение Людовика XIV было огромным. Он не только был очень далек от победы в войне, он теперь оборонялся без всякой надежды перейти в наступление.
Однако король держался мужественно, хотя каждый день приносил ему новые беды. Он не упрекал своих неудачливых, но отважных полководцев. Когда Виллеруа, который был уже стар, появился при дворе после поражения возле Рамийи, Людовик сказал ему: «Господин маршал, в нашем возрасте человек уже не бывает удачливым!» В 1708 г. французы проиграли еще одно большое сражение возле Ауденарде, и враги вторглись в само Французское королевство. Людовик смирил свою гордость и попросил мира ради своего народа, несчастья которого наконец он начал осознавать. Если бы его враги повели себя разумно, война быстро бы прекратилась. Но Людовик, хотя и желал оставить Филиппа сражаться в Испании одного, отказался послать французскую армию, чтобы прогнать внука с трона, на котором испанцы очень хотели его оставить. «Если уж я должен воевать, лучше я буду сражаться против своих врагов, чем против своих детей», – заявил король Франции.
В первый раз за все годы своего правления Людовик снизошел до того, чтобы обратиться к народу: он призвал французов объединиться и защитить государя и родину от унижения и от вторжения врагов. Призыв не был напрасным: в армию широким потоком устремились добровольцы. В 1709 г. около Мальплаке произошло новое сражение. С технической точки зрения союзники выиграли его, но в сущности оно закончилось вничью. Исчезла опасность, что французские армии потерпят полный крах. И одновременно ход событий стал в какой-то мере благоприятным для Людовика. Становилось все яснее, что испанцы никогда не согласятся терпеть на престоле своих королей австрийского эрцгерцога, которого старались навязать им союзники. В Англии королева Анна поссорилась с партией вигов, которая поддерживала войну и была главной опорой герцога Мальборо, и постепенно переходила на сторону враждебной герцогу мирной партии тори. Кроме того, англичане поняли, что Филипп, если останется в Испании, вряд ли будет покорным прислужником Франции, и у них не было охоты воевать только ради того, чтобы увеличить Австрию.
Мирные переговоры начались в 1711 г., но главное соглашение было подписано лишь в 1713 г. в Утрехте, а договор о мире с Австрией был подписан только в 1714 г. в Раштадте. Потери Людовика оказались меньше, чем можно было ожидать после его крупных поражений. Он сохранил за собой Страсбург, который раньше едва не потерял в ходе войны, но должен был уступить Англии две колонии в Америке – Ньюфаундленд и Акадию (она же Новая Шотландия), а также заключить с англичанами благоприятное для них соглашение о торговле. Главным результатом войны был раздел на части испанских владений в Европе. Бельгия, Милан и Неаполь достались Австрии, а Сицилия князю Савойскому. Гибралтар, захваченный во время этой войны англичанами, остался у них, как ему и следовало. Так закончилась борьба, которой вполне можно было бы избежать, будь Людовик XIV немного добросовестнее и тактичнее в своей политике. Финансы Франции были в полнейшем беспорядке. В 1683 г. она получила от косвенных налогов 118 миллионов ливров, а в 1714 г. только 46 миллионов. Все это говорило об упадке торговли и промышленности и о том, что в значительной части страны низы общества терпят лишения и голод. Слава великого монарха сильно потускнела от этих долгих страданий его народа.
Нужно отметить, что Людовик XIV в дни беды проявил больше благородства, чем в дни процветания. Свои несчастья он встречал с достоинством и без жалоб. Последние годы жизни короля были очень печальными для него как человека. Все великие администраторы, которые создавали великолепное начало его правления, к этому времени уже умерли. Величие короля не позволяло ему иметь настоящих друзей. В 1711 г. умер дофин, а потом члены королевской семьи стали умирать один за другим, словно кто-то наложил жестокое проклятие на род французских королей. В 1715 г. король почувствовал, что его конец близок, а ближайшим наследником был его правнук-ребенок, герцог Анжуйский, которому было всего пять лет. Невозможно было обойтись без регентства, и регентом должен был стать племянник короля, герцог Орлеанский, которого Людовик очень не любил.
И вот 1 сентября 1715 г. «король-солнце», уже не ослеплявший, как когда-то, Европу своим блеском, навсегда покинул этот мир. Похоже, что в последние минуты жизни он понял многие свои ошибки, и слова, которые он произнес, умирая, не лишены величия. «Зачем плакать? Или вы думаете, что я бессмертен?» – сказал он своим домашним, которые проливали слезы. Затем он велел подвести к своей постели своего маленького правнука, который вскоре должен был стать королем Людовиком XV. «Ты скоро будешь королем великого королевства, – сказал умирающий монарх. – Я очень советую тебе никогда не забывать о твоих обязанностях перед Богом. Помни, что Ему ты обязан всем, что ты есть. Старайся жить в мире с соседями. Я слишком любил войну; не подражай мне в этом, и в моей слишком большой расточительности тоже».
Людовик XIV умер в возрасте семидесяти семи лет и правил семьдесят два года. Во Франции было много уже седых людей, у которых никогда не было другого короля. Когда он скончался, казалось, что исчезла часть вселенной, существовавшая с самого начала мира. «Братья мои, только один Бог велик», – должен был сказать знаменитый придворный проповедник Массильон в начале своей похоронной речи. На какое-то время Людовик поднял свое королевство на вершину славы, но в итоге за все потраченные деньги и всю пролитую ради него кровь Франция получила только часть Фландрии, Франш-Конте, Страсбург и несколько менее крупных городов. Его смерть стала концом целой эпохи в истории Европы.
Через полтора столетия Гизо написал: «Несмотря на свои недостатки и свои многочисленные преступные ошибки, Людовик XIV жил и умер как король. С его смертью началась медленная мучительная агония старой Франции».
Глава 11. Увядание старой монархии
Регент Филипп Орлеанский. Первый министр кардинал Флери. Любовницы короля. Неэффективные министры. Франция в Северной Америке. Французы в Индии. Канада утрачена. Пагубное спокойствие Парижа. Франция в критическом состоянии
Правление Людовика XIV было беспрецедентно долгим. Его преемник Людовик XV правил почти так же долго: он был на троне Франции с 1715 по 1774 г. Если сложить вместе годы власти этих двух монархов, получится действительно большой отрезок истории мира. Когда первый из двух был провозглашен королем, только начали укореняться в Новой Англии первые поселения пуритан. Когда второй пришел к своему позорному концу, британские колонии в Северной Америке совсем скоро должны были организовать то вооруженное сопротивление, которое привело к сражениям при Лексингтоне, Конкорде и Банкер-Хилл[103]. Это был период от эпохи Карла I и Кромвеля к эпохе Франклина, Джорджа Вашингтона и Декларации независимости. Много воды утекло за эти годы под мостами Франции!
За все долгое правление Людовика XV в системе управления Францией не было произведено никаких крупных изменений. Войны за это время были, но они очень мало изменяли границы Французского королевства в Европе, хотя лишили Францию большинства ее колоний и принесли ей не славу, а горе. Это была не эпоха мощных политических ударов королевства по другим странам, а период постепенных изменений в интеллектуальной и общественной жизни, которые, начинаясь во Франции, повлияли на философию и культуру всей Европы. Эти изменения, когда настало их время, перешли из области теории в область практики и вызвали величайший политический взрыв, равного которому по мощности мир еще не знал, – Французскую революцию, которая изменила не только Францию, но всю цивилизованную Европу.
При Людовике XV во Франции редко происходили крупные события. Казалось, что старая монархия была такой же, как раньше. По-прежнему в стране был король-полубог, были его торжественные утренние приемы и культ королевского величия; продолжал существовать Версаль со всем своим пышным великолепием и торжественными церемониями. Но не было больше хозяина, Людовика XIV, который, при всех своих недостатках, умел вести себя с истинным величием. Блестящее великолепие превратилось в безвкусную роскошь, церемониал лишился смысла. С каждым днем люди все яснее понимали, что они не поклоняются богу, а лишь склоняются перед идолом. Со временем они устали притворяться, и тогда старый режим стал приближаться к своей гибели.
Вероятно, затем ход событий в любом случае полностью уничтожил бы престиж короля как «наместника Бога» (Людовик XIV чувствовал себя таким наместником). Но то, что новый король был ничтожеством, несомненно, усилило и ускорило этот процесс. Великий монарх, несмотря на свои грехи, умел выглядеть по-королевски и играть свою роль. Его правнук делал все возможное, чтобы уничтожить «божественный ореол, окружающий короля», и делал это не только своей развратной личной жизнью, но и полным отсутствием достоинства, беззастенчивым легкомыслием и полным пренебрежением к государственным делам. Ни один человек не был более опасным, хотя и не осознававшим этого, врагом абсолютной монархии, чем этот абсолютнейший монарх Людовик XV.
Новому королю было только пять лет, когда в наводящей ужас тишине французские придворные услышали, что Людовик Великий скончался. Конечно, был необходим регент. Первым по порядку родства в королевской семье был Филипп Орлеанский. Покойный король оставил завещание и постарался составить его так, чтобы не допустить к регентству Филиппа, которого не любил. Но герцог быстро отбросил этот документ. Филиппу помог парижский парламент. Это собрание представителей было радо утвердить свою власть теперь, когда его великий хозяин ушел навсегда. Последние годы предыдущего царствования прошли в атмосфере благочестия и даже аскетизма: Людовик XIV перерос свои легкомысленные юношеские увлечения. Теперь его рука, крепко сжимавшая страну, мгновенно разжалась. Всей Франции стало легче дышать. Регент не претендовал на то, чтобы быть благочестивым католиком. Сохранились свидетельства, что он отмечал Страстную пятницу веселым празднеством со сложным церемониалом. Повсюду были сняты прежние преграды и запреты. Угнетенные протестанты немного приподняли головы. Было несколько попыток реформировать финансы. Несколько узников были выпущены из королевских темниц. Короче говоря, это было время отдыха и расслабления в умственной жизни, морали и политике. Франция училась жить без надзора, которым много лет давил ее деспотичный самодержец[104].
Филипп Орлеанский был развратником, но не дураком. Он был в плохих отношениях со своим родственником, королем Испании, и поэтому склонялся к дружбе с Англией. Франции было нужно отдохнуть от войн, и до 1733 г. ей были даны мир и процветание во всех практических делах. Главным доверенным лицом регента был его первый министр кардинал Дюбуа, человек низкого происхождения и с низкой душой, в котором не было ничего святого, кроме его красной одежды[105]. Но кардинал, как и его покровитель-король, был умен и в какой-то степени понимал, что необходимо Франции.
Поэтому эпоха Регентства оказалась не такой пагубной для страны, какой могла бы стать, учитывая личности ее правителей. В 1723 г. Людовик XV был объявлен совершеннолетним, хотя ему было только тринадцать лет. Герцог Орлеанский и Дюбуа рассчитывали, что таким образом почти полностью сохранят свою власть, потому что тринадцатилетний мальчик не может на самом деле править страной. Но оба этих человека с очень сомнительной репутацией умерли в том же году.
Вскоре молодой король доверил управление страной другому ловкому служителю церкви – кардиналу Флёри. Он был намного талантливее кардинала Дюбуа. К тому же ему необыкновенно везло: Флёри был одним из очень немногих людей, которых Людовик XV действительно любил. Кардинал сохранял свою должность при короле до конца жизни. Он постоянно старался сохранять мир и удерживал Францию от рискованных военных предприятий на чужой территории, но иногда дипломатические обстоятельства оказывались сильнее его. Два раза за время, когда он управлял страной, Франция втягивалась в серьезные военные конфликты[106], но, по крайней мере, в этих случаях он не был агрессором. В меру своих способностей и той власти, которую давал ему его повелитель, Флёри старался реорганизовать финансовую систему государства и устранить злоупотребления, которые казались неискоренимыми. В 1738 г. произошло событие, редкое для старого режима: королевские финансы пришли в равновесие. Впервые с 1672 г., то есть со времен Кольбера, финансовый год был закрыт без дефицита. Следующий такой год был во Франции только при Наполеоне Бонапарте. В 1743 г. престарелый Флёри умер. С тех пор Людовик XV правил сам – или, по крайней мере, назывался королем, который правит сам.
Французы по-прежнему были горячо привязаны к монархической системе правления. Им казалось, что короли сосредоточивают в себе всю славу страны. Французы дразнили англичан, что те когда-то убили своего короля Карла I, а на прошлом «великого французского народа» такого пятна нет. В первой половине своего царствования Людовик XV получал от своих подданных намного больше популярности и любви, чем мог бы заслужить своими личными качествами. Французы прозвали его Людовик Возлюбленный. В 1744 г., когда он заболел в Меце, едва ли не весь Париж бросился в церкви молиться о выздоровлении короля.
Только в часовне собора Нотр-Дам народ заказал 6 тысяч месс за его здравие. К концу своего правления король полностью утратил эту популярность, но перед ним продолжали непрерывно звучать льстивые похвалы в его адрес и лицемерные уверения в любви и преданности ему.
В сущности, у Людовика XV было очень несчастное детство и очень неудачное воспитание. Сначала он остался сиротой, потом стал монархом в пять лет. Наставники учили его изящно кланяться и танцевать, а также играть положенную ему роль в придворных церемониях, но оставили его полным невеждой во всем, что его прадед называл «ремеслом короля». Мальчику внушали преувеличенные представления о том, как много он значит и что он ни перед кем не отвечает. «Государь, все эти люди ваши!» – сказал ему наставник маршал де Виллеруа, простодушный старик, когда король увидел с балкона тысячи парижан, собравшихся, чтобы увидеть его. Король был красив и далеко не глуп (когда решал для развлечения подумать о чем-то), но все единогласно говорят о его себялюбии, чувственности и жестокости. Шуазёль (который был главным министром Людовика в конце его царствования) сказал: «Это был бездушный человек, неспособный к любви. Ему нравилось зло, как детям нравится мучить бессловесных животных, и среди его пороков были самые гнусные и мерзкие». Вероятно, он понимал, что в правительстве не все хорошо и что все государство движется к беде, но осознанно ничего не предпринимал: реформы потребовали бы от него неприятных усилий. «Эта машина [система управления] продержится, пока я жив!» – заявил он с неподражаемым цинизмом. Людовик XIV, по крайней мере, в часы усталости всегда занимался всеми подробностями государственной политики. А министры его преемника считали себя счастливыми, если их повелитель уделял им полчаса в день для серьезных дел. Охота, которую он очень любил, болтовня с любимцами и фаворитками, питье кофе в покоях дочерей, чтение доносов тайной полиции и просмотр частных писем, перехваченных его агентами, поглощали основную часть его времени, если он не предавался крайне чувственным удовольствиям. Этот король владел всем миром, но по-настоящему не мог насладиться ничем. «С юности до старости король скучал. Он устал от своего трона, от двора и от себя самого. Он был равнодушен ко всему, ему были безразличны счастье или горе его народа или любого живого человека».
В течение всего царствования этого самого недостойного из монархов привилегии и права короля, кажется, оставались неприкосновенными. Служители церкви, которым повезло быть приглашенными прочесть проповедь перед королем в Версальской часовне, истощали всю свою изобретательность при сочинении похвал, которые тогда назывались «комплиментами». Один проповедник сказал в 1742 г.: «Господь сделал ваше величество опорой королевств и империй, предметом всеобщего восхищения, любимцем вашего народа, восторгом для двора, ужасом для врагов. Но все это лишь возвышает вашу великую душу над тем, что пагубно, ведет вас к добродетели и стремится к счастью для всех». Сам Людовик имел о своей власти такое понятие, которое обрадовало бы его прадеда. В 1766 г., за десять лет до принятия американской Декларации независимости, он писал: «Во мне одном сосредоточена вся верховная власть. Законодательная власть принадлежит одному мне. Источник общественного порядка – я. Я его верховный хранитель».
Людовик был совершенно не прав, когда утверждал, что он – независимый самодержец. Очень часто самым могущественным человеком во Франции был не он, а женщина, которую он брал себе в главные любовницы. Король вел очень развратную жизнь, и любовниц у него было столько, сколько могло быть наложниц у восточного владыки. Но обычно одну из своих женщин он возвышал над всеми остальными и позволял ей свободно вмешиваться в судьбу Французского государства. С 1745 по 1764 г. такой женщиной была Жанна Пуассон, умная, веселая и артистичная буржуазка, которую Людовик XV сделал знаменитой под именем маркизы де Помпадур. Она жила в Версале, все признавали ее высокое положение и почитали ее соответственно. Она назначала и смещала министров и командующих армиями. Великие договоры между государствами обсуждались в ее будуаре. В значительной степени благодаря маркизе Франция разорвала свой давний союз с Пруссией, вступила в союз со своим давним врагом Австрией и втянулась в Семилетнюю войну, которая закончилась для нее полным разгромом. У маркизы был хороший вкус, она в некоторой степени покровительствовала Вольтеру и другим выдающимся литераторам. Она, конечно, была незаурядной женщиной, иначе бы не смогла бы так долго, до самой своей смерти, сохранять влияние на такого человека, как Людовик XV. Но бесполезно искать в поступках этой некоронованной королевы политическую мудрость и заботу о Франции. У нее была лишь одна цель – использовать государство, чтобы награждать своих любимцев, вымещать на обидчиках свои обиды, удовлетворять свои капризы и укреплять свое влияние на короля. Угождение маркизе было более надежным способом получить высокую должность, чем большие способности и долгие годы верного служения обществу. Казна для нее и ее любимчиков была не имуществом, которое им доверили в управление, а возможностью нажиться. Такова была женщина, которой Провидение доверило судьбу Франции в годы, когда руководителями враждебных этой стране государств были в Пруссии Фридрих Великий, а в Англии Питт-старший (Чэтем)[107]. Не напрасно французский народ называл маркизу винов ницей своих бед и проклинал ее имя еще при ее жизни.
Когда она скончалась, Людовик быстро (в 1769 г.) утешился с другой «первой» любовницей, женщиной, сделанной из гораздо более грубого теста, – широко известной графиней дю Барри. Она была лишь немного лучше, чем красивая проститутка. На эту эгоистичную и наглую женщину уже очень старый король растрачивал свои богатства и свою любовь. Когда на престол вступил следующий король, одним из первых действий новой власти было удаление этой женщины от двора, но память о зле, которое она причинила, не исчезла. В 1793 г., когда революция была в самом разгаре и у гильотины было очень много дела, якобинцы арестовали графиню, вспомнили старые скандалы и отправили ее на эшафот. Им случалось убивать и менее виновных жертв.
При таком короле и таких женщинах-диктаторах долго оставаться в своей должности могли лишь те министры, которые ставили себе целью в первую очередь служить удовольствиям короля, а во вторую, возможно, приносить пользу государству. Не все министры Людовика XV были полными посредственностями. Король мог сделать умный выбор, когда пытался. Помпадур тоже понимала все практические преимущества хорошего положения дел в стране перед плохим. Но ни один министр не мог рассчитывать, что они будут последовательно поддерживать ту или иную линию в политике. Еще меньше он мог рассчитывать на что-то, кроме противодействия, если бы начал какую-то радикальную реформу. В результате Франция была втянута в две крупных войны. Первая стоила дорого и не имела решающего значения, вторая тоже стоила дорого, но стала настоящим бедствием для страны, а обе вместе не позволили придать внутренней политике какое-либо постоянное направление. Что же касается экономии, то Людовик XV ненавидел само это слово. Разве казна с доходами государства не то же самое, что собственный кошелек абсолютного монарха этого государства? Д’Аржансон[108] печально писал: «Когда его величеству говорят об экономии и о необходимости сократить расходы его двора, он поворачивается спиной к министрам, которые заговаривают об этом!» Расходы на королевский двор поглощали такую большую долю доходов государства, что стали бедствием для страны. Кажется, одна маркиза Помпадур тратила за год сумму, эквивалентную миллиону долларов. Король очень любил фейерверки, и в 1751 г. на них была потрачена – в буквальном смысле слова «сожжена» – сумма, эквивалентная тоже примерно миллиону долларов. Даже в мирное время не хватало денег, чтобы платить жалованье солдатам, а жалованье офицеров постоянно задерживали. Платежи в казну всегда собирали досрочно. После Флёри бюджет постоянно был дефицитным. Всегда для получения дополнительных доходов государство применяло обычное средство – займы. Королю рассказывали обо всем этом, но он цинично не обращал внимания на то, что ему говорили. «Единственный способ заплатить эти долги – банкротство», – холодно отвечал он и продолжал по своему усмотрению посылать в казначейство счета и накладные для оплаты.
История французской внешней политики за годы этого долгого и плохого правления состоит в основном из двух войн. Ни одна из них не была начата без всякой причины, как Война за испанское наследство, но твердость и миролюбие дипломатов помогли бы избежать обеих.
В 1740 г. император Австрии Карл VI умер, не оставив сыновей. Возник вопрос, может ли его дочь Мария-Терезия получить в наследство все огромное даже в то время скопление не похожих один на другой народов, которыми управляли австрийские Габсбурги. Все остальные алчные государства сразу же начали составлять планы и плести интриги, чтобы разделить на части ее владения. Франция поддержала претензии короля Пруссии Фридриха II на большую провинцию Силезию. В то время Пруссия казалась очень молодым и слабым королевством, очень удобным орудием для Франции, чтобы унизить и разорвать на куски Австрию, давнюю соперницу Французского королевства. Людовик XV включился в эту войну, хотя Мария-Терезия ничем его не спровоцировала, а его хитрый старый министр Флёри советовал ему не воевать. Вскоре война приобрела широкий размах. Мария-Терезия стойко сопротивлялась. Англия пришла ей на помощь, атаковав Францию с моря и послав свои армии в континентальную Европу. Однако Людовику повезло: он нашел себе по-настоящему компетентного полководца, маршала Саксонского. В 1745 г. этот маршал выиграл в упорном и ожесточенном сражении знаменитую битву при Фонтенуа в Бельгии, победив заключивших между собой союз голландцев и англичан. В этой битве обе стороны проявили рыцарскую доблесть[109], и ее исход принес много славы победителям, но Людовик XV был недостаточно энергичным для того, чтобы развить такой успех. Фридрих завоевал Силезию и после этого хотел выйти из войны, а почти на всех остальных фронтах Мария-Терезия, императрица Австрии, удерживала то, чем владела. В 1748 г. в Ахене был заключен мир. Каждая из сторон отказалась от всех своих важных завоеваний, кроме одной Силезии, которую Пруссия удержала за собой. Французы за время войны захватили значительную часть Бельгии, но Людовик не сделал ни одной серьезной попытки использовать обладание этими землями, чтобы добиться для Франции лучших условий по договору. Тем временем английский флот почти уничтожил торговлю Франции, великой соперницы Англии, и изгнал французский флот из морей. Таким образом, эта война не принесла Людовику XV и его подданным ничего, кроме нескольких славных, но бесполезных побед, паралича экономики и увеличения государственного долга на сумму, равную примерно 600 миллионов долларов. Результаты следующей войны были еще хуже.
В 1750 г. Франция, несмотря на тупость и глупые ошибки своего правительства, казалось, вот-вот должна была стать хозяйкой большой колониальной империи. История попытки французов овладеть Канадой и превратить ее в центр для великой и рискованной борьбы с целью подчинить всю Северную Америку Версалю, а не Лондону достаточно знакома каждому американцу, изучавшему историю своей страны. Но они, разумеется, не так хорошо знают о том, как близко французы были к тому, чтобы стать хозяевами Индии в то самое время, когда их мореплаватели и торговцы строили блокгаузы на берегах Великих озер и Миссисипи. Ничто не говорит сильнее о прирожденной гениальности и больших способностях французского народа, чем события тех лет. В то время, когда правительство Франции будто приобрело вредную привычку к почти непоправимым грубейшим ошибкам, подданные этого правительства не благодаря, а вопреки ему, казалось, были готовы сделать своего короля владыкой сразу Северной Америки и Золотого Востока. Но вскоре эта попытка закончилась неудачей, и причиной этого была только неумелость Людовика XV, маркизы Помпадур и выбранного ими министра.
Можно, конечно, принять во внимание, что французы (если говорить обо всем народе) не так охотно рисковали собой на море, как их современники-англичане, и как военные на суше были более талантливы, чем как моряки. Можно также учесть, что французские крестьяне были сильнее привязаны к родному дому, чем английские, не так охотно эмигрировали и не так охотно верили в соблазны, которыми манят человека рискованные приключения на чужой земле. Но суть дела была не в этом. Настоящей причиной неудачи было то, что в XVII в. Людовик XIV сделал ставку на военное господство в Европе. Чтобы унизить и остановить Австрию, Испанию и Голландию в боях на суше, ему понадобились все его лучшие силы, но в итоге эта задача оказалась слишком велика даже для него. Кольбер своими трудами создал для великого монарха флот, способный конкурировать практически на равных с флотами Англии и Голландии. Французские корабли были отлично сконструированы, французские моряки были отважными, адмиралы умелыми. Но когда политика короля заставила англичан и голландцев объединиться в союз, его флот был побежден с помощью грубой силы. После крупнейшего поражения в морском сражении возле Ла-Хог (1692) Франция оказалась в неблагоприятных условиях без всякой надежды их улучшить. Французы имели бы надежду вернуть себе лидирующее положение на море, только если бы их правительство посчитало нужным отказаться от всех своих честолюбивых планов в континентальной Европе и направило основные силы народа на постройку и снабжение всем необходимым двух флотов – военного и большого торгового. Но ни Людовик XIV, ни Людовик XV не могли или не хотели это сделать.
Поэтому французский военный флот с тех пор был второразрядным. Голландия постепенно приходила в упадок, зато английский флот становился все более грозным. В результате французские колонии оставались рискованным предприятием. Как бы они ни процветали, нить, которая связывала их с родиной, могла быть перерезана, тогда каждая колония была бы изолирована, и они были бы обречены на уничтожение поодиночке, как только англичане укрепили бы свое господство на морях. И все же, несмотря на второклассный флот, попытка основать великую колониальную империю была очень близка к успеху.
В 1750 г. у Франции были, кроме Канады, Луизиана и большие права на остальную Северную Америку, богатая «сахарная» колония Гаити (западная часть острова Сан-Доминго), Мартиника и Гваделупа в Вест-Индии, несколько торговых факторий на Золотом Берегу в Африке, другие фактории на Мадагаскаре, процветающие острова Маврикий и Реюньон в Индийском океане и целая цепочка ценных торговых факторий на берегах самой Индии. Эти фактории могли бы стать стартовыми пунктами для фактического завоевания самой Индии. Набожный миссионер-иезуит, выносливый капканный охотник или торговец, неукротимый нормандский или бретонский моряк, умный и умеющий втираться к людям в доверие торговец из Бордо сотрудничали сначала с Ришелье, потом с Кольбером, после них с менее выдающимися министрами, чтобы белый флаг монархии Бурбонов развевался над северными лесами или над тропическими морями. Это было великое наследство, и в XVIII в. оно быстро росло. Французские торговцы, миссионеры и администраторы, как правило, проявляли больше гибкости и ловкости, чем их английские соперники, когда умиротворяли и располагали к себе различные туземные народы, с которыми имели дело и которыми управляли. Однако колониальное и торговое предприятие Англии росло стремительно, и англичане все больше обгоняли французов. Дело шло к столкновению, и избежать его было свыше человеческих сил. Если бы Людовик XV и его министры были государственными деятелями, они признали бы, что Франция может сделать лишь одно из двух: 1) не вступать ни в какие военные действия на суше возле своих границ и направить все свои богатства и силу на создание флота, способного конкурировать с английским; или 2) искренне отказаться от всех планов приобретения колоний, уступить море англичанам и рассчитывать, что Франция будет великой только как сухопутная держава. Но король и министры не сделали ни того ни другого. Они пренебрегали флотом и плохо обращались со своей армией. Вполне естественно, что это закончилось для них огромной катастрофой.
Годы с 1748 до 1756 были одним из периодов наибольшего экономического процветания Франции за всю ее историю. Из всех ее портовых городов приходили сообщения о росте экспорта и импорта, сахар и кофе с Французских Антильских островов вытесняли с рынка аналогичные товары, поступавшие из английских колоний. Французская торговля в Турецком Леванте тоже процветала. Но это было только затишье перед губительным ураганом. Огромные возможности, открывавшиеся в Индии, уже растрачивались по мелочам. В 1740 г. и англичане, и французы имели в этой стране большое число факторий, то есть торговых пунктов, в основном на восточном побережье Индостана. Главные центры англичан были в Мадрасе и Калькутте, центр французов в Пондишери[110]. Пока власть императоров из династии Великих Моголов была грозной, обе группы европейцев были только торговцами и этим ограничивались. Но теперь империя Моголов стала распадаться на части. Многочисленные навабы (наместники императора) и раджи (мелкие князья) охотно пошли бы под покровительство к тому из чужеземных захватчиков, который гарантировал бы им самую надежную защиту от их соперников. Местные войска (сипаи) были охотно готовы сражаться под командова нием европейцев, если западные командиры могли усилить свою армию небольшим числом солдат – своих соотечественников.
Губернатором Пондишери был Дюплеи, очень ловкий и энергичный человек, прекрасно умевший завоевывать верность туземцев. Он ни на секунду не переставал мечтать о великой Индийской империи, которой управляла бы Франция. В 1746 г. французы даже отняли Мадрас у англичан, но вернули его по мирному договору 1748 г. Если бы Людовик XV понял, что в лице Дюплеи он имеет слугу, который может завоевать для него великолепную корону Индии, и горячо поддержал бы его, сегодня официальным языком 300 миллионов индусов был бы французский, а не английский. Но губернатор не получил этой поддержки. К тому же он сделал много грубых ошибок, чем ослабил свою власть над туземцами. В 1754 г. он был отозван из Индии. Это было величайшей глупостью, потому что как раз в это время англичане нашли для себя, в лице молодого Роберта Клайва, завоевателя и проконсула – такого, каким мог бы при хорошей поддержке своего короля стать Дюплеи. Туземцы быстро увидели, какое из вторгшихся на их землю европейских государств более успешное и агрессивное. В 1757 г. Клайв выиграл битву при Плассей. Эта победа мгновенно обеспечила его стране контроль над огромной провинцией Бенгалией и в итоге определила судьбу могучей Индии. Новый французский губернатор – храбрый, но некомпетентный Лалли – прибыл слишком поздно: Клайв успел добиться полного господства над туземцами. В это время Франция и Англия снова открыто воевали между собой. Лалли потерпел поражение в ожесточенной битве при Вандеваше (1760). Пондишери был захвачен, и французы навсегда потеряли возможность создать Индийскую империю. Такие ряды грубых ошибок и катастроф как раз и определяют мировую историю.
В это же время другая похожая цепочка катастроф уничтожала Новую Францию в Северной Америке. Разногласия между двумя могучими колониальными державами в области Великих озер и в верхнем течении реки Огайо стали острыми еще до формального объявления войны. Французы прорывались в эти края из Канады и формально завладели по праву первенства большими территориями на северо-западе и в долине Миссисипи, окружив приморские колонии Британии своими фортами и торговыми факториями. Но уже было очевидно, что французская колониальная система слаба по своей природе. Версаль много раз бестактно вмешивался в канадские дела и неумно управлял ими. Но главная причина слабости была в другом. Французские крестьяне, как правило, совершенно не хотели покидать фермы своих предков в солнечной Турени или Шампани и ехать за тысячу верст в совершенно дикую холодную страну. В то время, когда Канада пыталась расширить свои границы и потеснить своих английских соседей, в ней самой едва насчитывалось 90 тысяч жителей, а ее британских соперников было 1 миллион 200 тысяч или даже больше[111]. Поэтому Канада, оставшись одна, неизбежно была бы блокирована и уничтожена. Спасало ее лишь то, что Франция постоянно поддерживала ее людьми и товарами.
В этих обстоятельствах Франции были нужны сильный флот и умная политика версальского двора, но в дни Людовика XV невозможно были ни то ни другое. Правда, французское правительство в самом начале направило во Францию выдающегося полководца, маркиза де Монкальма, принадлежавшего к самому лучшему типу французских лидеров, а также прислало небольшое количество надежных регулярных войск в дополнение к отрядам союзников-индейцев и канадскому ополчению. Но с 1756 г. новая Франция была практически оставлена без поддержки и вынуждена спасаться собственными силами. Из-за Атлантического океана ей не присылали действенной помощи. Более мощный британский флот так душил флот французов, что ни один корабль под флагом Бурбонов не осмеливался показаться на морях. В 1759 г. произошло сражение на равнине Авраама. В этом бою Монкальм был убит, доблестно сражаясь возле самого Квебека. Стало совершенно ясно, что Канада обречена, если Людовик XV не предпримет большую операцию по ее спасению силами флота, но в тех условиях такая операция была просто невозможна.
В 1756 г. опять была официально начата война между Англией и Францией. Это была знаменитая когда-то Семилетняя война, в которой союзники поменялись местами: Австрия и Россия объединились с королевством Бурбонов, давним врагом Габсбургов, и напали на Пруссию – быстро набиравшее силу государство Фридриха II. Фридриху пришлось сражаться сразу против трех великих стран, имея только одного сильного союзника – Англию. Не было никаких разумных причин для полного отказа от всех дипломатических традиций и поворота в противоположную сторону, который совершил Людовик XV. Он не давал Марии-Терезии Австрийской обязательства вернуть ей отнятую у нее Фридрихом провинцию Силезия. Все признаки указывали, что его страну ждет отчаянная борьба с Англией и для этой борьбы будут нужны все силы Франции. Но умный дипломат Кауниц, посол Австрии при версальском дворе, стал действовать на маркизу Помпадур и сумел настроить ее в пользу своей госпожи Марии-Терезии, а Фридрих сильно озлобил против себя королевскую фаворитку своими язвительными критическими замечаниями по поводу ее легкомыслия[112].
В этой войне французские войска иногда имели настолько хороших руководителей, что оказывались на уровне своих прежних традиций, но в общем и целом французы были некомпетентны и потому терпели поражения. Маркиза Помпадур часто устраивала на командные должности в армии своих любимцев. Эти жалкие «генералы» были совершенно не способны противостоять Фридриху Великому – одному из самых лучших современных полководцев и, вероятно, второму из них после Наполеона Бонапарта. Французская армия была скверно организована, скверно обеспечивалась снаряжением, ее солдат скверно кормили и скверно руководили ими в бою. Если бы королевство Фридриха II было больше и если бы его австрийские и русские противники были так же некомпетентны, как их французские союзники, он мог бы разгромить врага и одержать полную победу. Но и в сложившихся обстоятельствах он, не имея почти никакой помощи, кроме поддержки флотом и деньгами от Англии, сразился с тремя величайшими империями Европы и отстоял то, чем владел. В 1757 г. французы не просто были разбиты, а потерпели позорное поражение возле Росбаха в Саксонии: поразительно бездарный Субиз, назначенный маркизой Помпадур, имея под командованием 50 тысяч человек, был разгромлен Фридрихом, у которого было 20 тысяч солдат. 7 тысяч французских солдат попали в плен, и французы потеряли 63 артиллерийских орудия.
Это была такая же катастрофа, как при Бленхейме, но на этот раз французы заслужили гораздо меньше чести.
В борьбе против Англии на море французам сначала помогало то, что министр короля Георга II был бездарным человеком. Но в 1757 г. эта должность перешла к Питту-старшему, одному из величайших военных министров в истории. Против этого гениального лидера назначенцы версальского двора не имели почти никаких шансов. В 1759 г. французы потеряли Квебек. В том же году сражение в бухте Киберон[113] уничтожило остатки французского флота. Если бы Питт и дальше оставался на своей должности, он, вероятно, навязал бы Франции условия мира, которые полностью разорили эту страну, но в 1761 г. новый король Георг III заставил его уйти с должности. Однако основную часть своей работы Питт уже выполнил. В 1763 г., уже теряя последние возможности спасти свои колонии или осуществить план, который должен был уничтожить Фридриха Прусского, Людовик XV согласился подписать Парижский мир. Это был один из самых унизительных документов, которые когда-либо подписывал кто-то из наследников Филиппа Августа. Франция уступила Англии Канаду и часть своих земель на побережье Африки. Она, правда, получила обратно свои маленькие фактории в Индии, но на условиях, которые заставляли ее беспомощно смотреть, как ее соперники быстро распространяют свою власть на местные народы. И на суше, и на море война показала полную некомпетентность не одного Людовика XV, а всей системы, которую он возглавлял. Поражения и потери, подобных которым еще не было, больно ранили гордость французского народа. Когда Вулф[114] выиграл сражение возле Квебека (битву на равнине Авраама), он определил не только то, что Северная Америка стала говорить по-английски, а не по-французски. Он нанес смертельный удар престижу и самому существованию старого режима Франции.
Но, как шаловливо заметил Людовик XV (и это было плохое озорство), «на его век старого порядка хватило». После заключения мира торговля в значительной мере восстановилась и снова стала процветать. Министр Шуазёль – настоящий патриот, хотя и не великий человек – начал достаточно эффективно восстанавливать флот и добился в этом такого успеха, что в следующей войне французский флот смог практически полностью удержать то, что защищал. Еще одним успехом Шуазёля была покупка Корсики: в 1768 г. он приобрел ее у одряхлевшей Генуэзской республики. В результате мальчик, который родился на этом острове в 1769 г. и, по желанию родителей, получил при крещении имя Наполеон, явился в мир французским гражданином[115]. Было сделано много разнообразных попыток реформировать судебную систему, были и другие нерешительные старания улучшить положение дел в стране, но правительство продолжало идти прежним плохим путем. Помпадур умерла, но сменившая ее дю Барри была еще отвратительнее. Шуазёль отказался раболепствовать перед ней, и она, объединившись с другими его врагами, стала добиваться от короля, чтобы тот отправил его в отставку. В 1770 г. Шуазёль был отстранен от должности министра и сослан в свои поместья. С этого времени и до конца царствования Людовика XV Францией управляли беспринципные и послушные придворные, имевшие лишь одну цель – угождать старому королю, чтобы остаться на своей должности.
Людовик XV оставался развратником до конца жизни. Когда он опасно заболевал, то горячо каялся в грехах («потому что его религия состояла только из страха перед адом»), но, выздоровев, возвращался к старым привычкам. В мае 1774 г. он внезапно заболел оспой, и власть дю Барри мгновенно прекратилась 10 мая, когда толпа придворных «с мощным шумом, совершенно подобным грому» помчалась вниз по большой лестнице Версаля, чтобы объявить о смерти Людовика XV его внуку[116]. Новые правители страны, Людовик XVI и его жена Мария-Антуанетта, при этом известии упали на колени и стали громко молиться: «Боже, помоги нам и защити нас! Мы слишком молоды, чтобы править!»
Им действительно была нужна эта молитва. Ни одной великой нации не были так остро необходимы коренные реформы, как Франции в 1774 г.
Уже на протяжении примерно тридцати лет внутри этой страны действовали силы, наличие которых стало бы для любого дальновидного человека предупреждением, что если ее правители не проведут реформы, то сами станут первыми жертвами революции.
Глава 12. Франция – родина новых идей
Парижский парламент. Янсенисты. Ссора между королем и парламентом. Перемены в интеллектуальной жизни. Монтескье. Критика церкви Вольтером. Эпизоды жизни Вольтера. Литературный гений Руссо. Руссо защищает крайний демократизм. Новые идеи проникают в низы общества. Неудачный характер королевы. Тюрго уволен с должности. Франция и Америка против Англии. Требование созвать Генеральные штаты
Война за испанское наследство разбила мечту о Франции – повелительнице Европы. Семилетняя война почти лишила Францию права называться первой страной Европы. И все же (в высшей степени странный парадокс!) влияние Франции на цивилизованный мир никогда не было сильнее, чем в эти годы правления Людовика XV – в период бед и упадка. Едва ли в истории был подобный пример с тех далеких дней, когда Афины, потерпев военное поражение от Филиппа и Александра с их неучами македонцами, завоевали весь мир в области интеллекта, распространив во всех странах свой язык, литературу и философию.
В XVIII в. языком дипломатов и государственных деятелей был только французский. Фридрих Великий как правитель тратил много сил на борьбу против короля Франции, но как человек он тратил много сил на сочинение несомненно посредственных стихов на французском языке. Париж диктовал миру моду на парики, шелковые штаны и дамские платья. Французские танцмейстеры управляли всеми балами. Французские романы лежали на столе каждой знатной дамы. Знатные «бояре» и княгини при блестящем и порочном дворе царицы Екатерины II в Санкт-Петербурге беседовали по-французски, а не по-русски. Все маленькие «высочества», «милости» и «светлости», которые управляли сотней крошечных немецких государств и причиняли им страдания, рабски копировали обычаи и церемонии версальского двора. Примерно так же обстояли дела при незначительных итальянских дворах. Каждый молодой английский дворянин старался провести год в Париже и Версале, чтобы научиться французскому языку и трудноопределимому понятию «лоск» у народа, который был признан «самым вежливым» в мире.
Французы лидировали не только среди танцмейстеров и портных, и не только среди сочинителей откровенных романов и жизнерадостных комедий. Они внесли огромный интеллектуальный вклад в развитие человеческой цивилизации. Во Франции появился целый ряд авторов, писавших на самые серьезные темы. Они стали властителями дум многих народов, но в художественном отношении не были выдающимися литераторами. Среди них не было Софокла, Цицерона или Шекспира. Сегодня за пределами Франции их работы не читает почти никто, кроме людей, изучающих историю. Но в свою эпоху эти авторы оказали огромное воздействие сначала на все естественные науки, на этику, политическую науку и теорию управления, а затем на практическое применение этих теорий. Великая доктрина Французской революции «свобода, равенство, братство» была прямым следствием идей, предложенных писателями, которые в дни Людовика XV бывали в светских салонах и, может быть, иногда на короткое, но неприятное время попадали в Бастилию.
Сказать, что при этом грешном монархе ничего не менялось в политической жизни Франции, тоже было бы не совсем верно. Напротив: в стране возникло то, что на современном языке можно было бы назвать постоянно существующей и официальной «оппозиционной партией». Центром этой партии стал уже часто упоминавшийся в этой книге парижский парламент. После того как Фронда проиграла свои войны, этот Верховный суд французской столицы поневоле был вынужден заниматься почти лишь одними юридическими делами и не вмешиваться в политику. Людовику XIV было всего шестнадцать лет, когда он – вероятно, с подсказки Мазарини – пришел в этот гордый суд «в сапогах со шпорами и с плетью в руке и сказал членам парламента резко и прямо, что требует от них беспрекословного повиновения»[117]. При более слабом правлении регента Орлеанского и Людовика XV это собрание наследственных «благородных» судей стало жадно вырывать из рук правителей свою прежнюю власть. В первую очередь парламентарии требовали для себя права по собственному желанию отказываться «регистрировать» (то есть заносить в списки, обнародовать и вводить в действие) королевские указы.
Это, в сущности, означало, что они смогут накладывать вето на применение королем его законодательной власти. Преодолеть это вето он мог лишь одним способом – созвать официальное заседание, которое называлось «ложе правосудия», где король должен был присутствовать лично и своей монаршей властью приказать, чтобы закон был зарегистирирован.
Парижский парламент вовсе не был собранием лишенных эгоизма бескорыстных людей. Его члены были вполне готовы защищать все виды старинных злоупотреблений, если эти злоупотребления были выгодны им и их классу. Среди указов, которым они отказали в регистрации, были столько же достойных применения, сколько чудовищно несправедливых. Но все же это было единственное учреждение, которое не полностью зависело от милости короля и его фавориток. Только парламент мог противопоставить самодержавной власти короля очень скромную конституционную оппозицию. И только он мог быть чем-то вроде средоточия настоящей политической жизни. По этой причине парламент часто привлекал к себе внимание народа и приобретал у него популярность, которой не всегда заслуживал.
Скрытые разногласия между королем и парламентом ярче всего выражались в борьбе, центральной причиной которой официально была религия. Еще в 1638 г., когда религией во Франции руководил Ришелье, во Фландрии умер католический епископ Янсениус. Этот прелат написал богословский труд, получивший широкое признание, где рассматривал некоторые мнения о благодати и предопределении. В эпоху Людовика XIV этих мнений придерживались многие выдающиеся французы, но их гневно критиковал могущественный орден иезуитов. Взгляды янсенистов были сначала осуждены Людовиком XIV, а затем, в 1712 г. более официально осуждены папой римским, как еретические и граничащие с протестантизмом. Казалось, что на этом вопрос исчерпан. Но иезуиты из-за своего высокомерия, вмешательства в мирские дела и большого влияния при дворе стали крайне непопулярны у судейского сословия Франции и верхов французской буржуазии.
Стали распространяться слухи (достаточно правдоподобные), что папа осудил янсенистов лишь потому, что на него оказали сильное давление иезуиты. В результате дружественное отношение к этой очень мягкой форме религиозного раскола стало одним из способов проявить свое недовольство всем вырождающимся политическим режимом страны.
Приверженцы янсенизма приобрели всю ту популярность, которую беспорядочные и очень непопулярные репрессии могут создать своим жертвам. В 1732 г. начали утверждать, что у могилы одного видного янсениста на парижском кладбище Сен-Медар происходят чудеса. Архиепископ Парижский серьезно заявил, что чудеса творит дьявол, и убедил правительство закрыть кладбище для прекращения скандала. Вскоре по всей Франции распространилась сатирическая эпиграмма: «По приказу короля Богу запрещается творить чудеса на этом месте!»
Служители официальной церкви получили от своих епископов указания не давать последнего причастия умирающим, которые не приняли папскую буллу Unigenitus, осуждающую янсенизм. В ответ парламент заявил, что эта горячо обсуждаемая булла юридически не стала частью французского законодательства. Наконец в 1752 г. он приказал, чтобы указ архиепископа Парижского об отлучении раскольников от церкви был сожжен палачом, наложил арест на церковные владения и доходы архиепископа и издал постановление (американские адвокаты назвали бы его судебным ордером), предписывающее священникам причащать даже тех больных, которых подозревают в янсенизме.
Теперь все богословские суждения окончательно потонули в прискорбном и полностью мирском политическом споре. Король открыто встал на защиту архиепископа и буллы Unigenitus. Ни на секунду невозможно усомниться в том, как бы решил этот вопрос Людовик XIV. Однако Людовик XV унаследовал лишь формальные прерогативы великого монарха, но не его грозную и властную энергию. Он, правда, приказал парламенту перестать вмешиваться в дела духовенства, но потом, в 1753 г., когда непокорные парламентарии стали подавать в отставку в знак протеста, король приказал отправить их в изгнание, выдав для этого леттр-де-каше, и говорил, что намерен вообще упразднить этот судебный орган и заменить его более послушным трибуналом. Но на стороне парижского парламента были все меньшие провинциальные парламенты и вся судебная система Франции. Было очевидно, что страна поддерживает инакомыслящих парламентариев, и король отступил. Столичный парламент был восстановлен, но лишь после того, как согласился зарегистрировать указ, предписывавший молчание по поводу всех религиозных вопросов, а в 1756 г. Ватикан тактично вмешался и подал примиряющие советы. В итоге, хотя теоретически постановления против янсенистов оставались в силе, этот спор повредил также королю, духовенству и стоявшим за ними иезуитам.
В том же (1756) году парламент снова выступил с протестом, и на этот раз по политическому вопросу первостепенной важности: он протестовал против права короля вводить новые налоги для покрытия расходов на войну. Понадобилось очень торжественное «ложе правосудия», чтобы заставить отступить упрямых адвокатов. На самом деле они беспокоились лишь о себе, опасаясь, что им самим придется платить эти налоги, но их поведение выглядело как патриотизм. В своем протесте они заявили: «Мы требуем свои права только потому, что это права народа». Эти слова были словно рассчитаны на то, чтобы вызвать из могилы испуганный призрак самого Людовика XIV.
Немного позже парламенту было суждено одержать не имевшую себе равных победу. Его давние враги иезуиты теряли свою популярность, свое благочестие и, что было хуже всего, свою ловкость. Они по-прежнему были уверены в дружбе к ним короля, но в решающий момент всемогущая Помпадур повернула против них и позволила им разориться[118]. Иезуиты вели большую торговлю с Вест-Индией. Это явно мирское занятие привело их к банкротству, а процедура банкротства превра тилась в крупный судебный процесс, который слушался в парижском парламенте (1760). У иезуитов не было причины стыдиться вражды к ним этой женщины. Усердно заботясь о нравственности (что они делали не всегда), они попытались убедить короля расстаться с его главной наложницей. Парламентарии были рады этой возможности исследовать всю природу и организационную структуру ордена иезуитов. Под предлогом судебного решения они заявили, что, по их мнению, организация иезуитов должна быть запрещена во Франции, поскольку она опасна для блага королевства, иезуитские школы должны быть закрыты, а огромное имущество ордена должно быть конфисковано в пользу государства (1764). Папа Климент XIII заступался за орден, но безуспешно. Просьбы королевы тоже не имели успеха, и просьбы дофина тоже. Все эти высокие особы значили для короля (который должен был принять окончательное решение) меньше, чем влияние и вражда маркизы Помпадур. Кроме того, Людовик XV всерьез боялся парламента и не хотел ссориться с ним по причине, которая не была для него первостепенной. В ноябре 1764 г. когда-то могущественный орден иезуитов, преследовавший повсюду еретиков и передовые взгляды, сам был запрещен во Франции. А в 1774 г. папа Климент XIV, в значительной степени по настоянию французов, временно запретил его во всех католических странах.
Однако в борьбе между правительством и парламентом это было лишь перемирием. В 1770 г. между ними опять начался ожесточенный спор по поводу попытки короля вмешаться в важный судебный процесс, который слушался тогда в парламенте – Верховном суде. Парламентарии надменно заявили, что «осуществление абсолютной власти, когда оно противоречит духу и букве конституционных законов Франции, свидетельствует о намерении изменить существующий государственный строй». Людовик XV был слаб душой, но некоторые из его министров оказались достаточно смелыми. Когда в начале 1771 г. большинство верховных судей подали в отставку и закрыли сессию своего суда, желая принудить короля, тот нанес ответный удар.
Ночью 19 января 1771 г. королевские мушкетеры подняли с теплых постелей всех парламентариев и приказали им ответить «да» или «нет» на вопрос: «Вернетесь ли вы на службу к королю?» Рассказывают, что это дю Барри подтолкнула Людовика к решению нанести удар, указав на портрет Карла I, короля Англии и сказав: «Ваш парламент тоже отрубит вам голову!»
Большинство верховных судей отказались написать «да» и сразу же были отправлены в изгнание по разным адресам. Провинциальные парламенты поддержали главный парламент. Парламент Дижона предупредил Людовика: «Вы король в силу закона и без закона не имеете права царствовать». Говорили даже о созыве Генеральных штатов. Но в этот единственный раз Людовик XV нашел в себе достаточно мужества. Он объявил упраздненной всю систему парламентов, больших и малых, и создал вместо них различные верховные советы, которые должны были спокойно заниматься юридическими делами, не вмешиваясь в политику. К концу 1771 г. не меньше семисот французских должностных лиц были в изгнании, и казалось, что по главному источнику оппозиции был нанесен мощный удар.
Но эта перемена продолжалась лишь, пока Людовик XV был жив. Когда он умер, дю Барри была изгнана от двора и стала беспомощной. Новые судебные органы были совершенно непопулярны, а их члены – посредственными людьми. Общественное мнение громко требовало возвращения парламентов, а неопытный новый король Людовик XVI очень хотел иметь как можно меньше врагов. Все прежние верховные судьи были вызваны обратно, и прежние суды восстановлены. Им было приказано «воздерживаться от бессмысленного противостояния указам королевской власти», но будущее показало, что кратковременное наказание не научило их смирению. На самом деле они были защитниками привилегий, а не свободы, но их ссоры с монархией были смертельными ударами по старому режиму.
* * *
Парижский парламент смог бросить вызов «абсолютной» власти короля благодаря глубокому изменению в умах почти всех образованных людей Европы и особенно Франции. В нескольких словах это изменение лучше всего формулируется так: в XVIII в. образованные люди начали признавать (по меньшей мере на словах) руководящую роль разума, то есть утверждать истину, очевидную или доказанную. Разум не мог не быть революционным, потому что он отрицал традиции и начинал свою работу с чистого листа. Сначала он парил высоко над миром и казался совершенно бескорыстным и невозмутимым. Но вскоре разум наклонился над землей и стал рассматривать жизнь, обычаи и политику. Обнаружив, что все это «неразумно», он стал воевать против этого неразумия и стал философией XVIII в.[119]
С 1517 г. примерно до 1700 г. усилия человеческой мысли были направлены в основном на то, чтобы атаковать или оборонять католическую церковь во время протестантской реформации и всех столкновений, происходивших после нее. К 1700 г. большинство европейских стран успокоились и стали навсегда протестантскими или навсегда католическими. Ни одна сторона не смогла уничтожить другую ни ударами, ни аргументами, и потому у обеих пропала охота сражаться. Люди стали терять интерес к вопросу о том, попадут они в рай или в ад, и (как в эпоху итальянского Возрождения) повернулись лицом к проблемам этого, земного мира. Возник сильный интерес к естественным наукам, средневековые представления о мире были сброшены, как старая кожа, и были заложены основы почти всех великих достижений XIX и XX вв. Но изобретения и прикладные открытия часто создавались англосаксами, а не французами. Британец Джеймс Уатт изобрел паровой двигатель. Американец Бенджамен Франклин доказал существование связи между электричеством и молнией. Однако не стоит преуменьшать значение французских достижений. Лавуазье (1743–1794) заложил многие основы современной химии, а Бюффон, обладавший огромными познаниями и большой любознательностью, внес значительный вклад в естествознание и даже начал одну из тех перемен в науке, которые привели к учению об эволюции.
Но наивысшего мастерства французские писатели XVIII в. достигли в политической литературе. Впервые за много столетий отношения человека к его правительству, природа этого правительства, его права требовать от человека подчинения и вообще существовать, различные виды его ошибок и средства сделать его лучше были изучены подробно, интенсивно, проницательно и очень умело, и результаты этого изучения были изложены в такой потрясающей литературной форме, что мгновенно привлекли к себе внимание[120]. Эти писатели «устроили смотр всем ранее признанным идеям, подвергли их критике и вместо тех, которые посчитали порочными или неверными, предложили новые, которые должны были стать основой всеобщего переустройства» человечества.
Ясно и без слов, что в XVIII в. после того, как был брошен критический взгляд на систему правления и общественный строй Франции, у отважного и зоркого наблюдателя мог возникнуть лишь один вопрос: «На какое зло я нападу в первую очередь?» В системе правления был абсурдный элемент – «божественное право». В обществе существовало оскорбительное «неравенство», в религии – омерзительная «нетерпимость». Во всех остальных, менее значительных областях жизни тоже сохранялись остатки феодального варварства, излишние и вредные указания и ограничения экономической свободы – в общем, на умах и на телах были оковы, ненавистные каждому умному и свободолюбивому человеку. О конкретных пороках старого режима пойдет речь немного позже. Здесь достаточно сказать, что защитная броня этого режима была очень непрочной.
У критиков было одно бесценное преимущество: они писали самым ясным и живым языком в Европе. Великие писатели эпохи Людовика XIV вовсе не были защитниками свободы, но они, по крайней мере, превратили французский язык в великолепное орудие литературы – в язык, на котором было легко, даже обсуждая очень серьезные темы, говорить блестяще и было почти невозможно говорить скучно. Более того, французский язык, кажется, был на пути к тому, чтобы стать языком общения для всего христианского мира. Книгу Вольтера мог без переводчика и без словаря прочесть почти каждый образованный англичанин, немец, итальянец и русский.
Таким образом, эта литература быстро завоевала весь мир, хотя первоначально была написана для французов.
Причины и итоги войны описать в нескольких словах гораздо легче, чем причины и результаты великого движения в области интеллекта. С 1730 по 1789 г. литературная деятельность во Франции была очень интенсивной и Париж был «мозгом Европы». Тем не менее дух этого времени можно выразить в четырех словах – Монтескье, Вольтер, Руссо, энциклопедисты. В этих словах заключены почти все законы и пророки революции.
Монтескье (1689–1755) был дворянином с французского юга и стал президентом парламента Бордо. В этом вполне достойном и ответственном высоком должностном лице не было ничего от революционера. Он был наименее радикальным по взглядам из тех, кого мы здесь упомянем, но не последним по значению творцом идей, которые несли в себе зародыш революции. В 1721 г. он написал блестящую сатиру «Персидские письма», где в форме писем, которые якобы посылали на родину два путешествовавших по Франции иностранца с Востока, была дана умная, очень едкая критика недостатков и пороков его эпохи. Позже он побывал в Англии, познакомился с ее руководителями и учреждениями и в 1748 г., после двадцати лет размышлений и писательского труда, издал свою великую работу «О духе законов», возможно самую значительную книгу о политической науке с тех пор, как Аристотель написал свою «Политику». Монтескье не был яростным иконоборцем. Он определял основы различных видов законов и политических учреждений, анализировал различные виды правительств, известные в его время, и устанавливал, в чем они слабы, а в чем сильны. Он очень резко осуждает «деспотизм» и, хотя наиболее известным и ярче всего проявлявшимся для него был восточный тип деспотизма, например турецкий, Монтескье почти не скрывал своего мнения, что Франция тоже была деспотической страной. Еще меньше он скрывал свое восхищение уже сильно развитыми в то время конституционными свободами Англии и открыто советовал французам брать пример с этой страны. Кроме того, он очень спокойно и осознанно атаковал другие пороки своего времени – религиозную нетерпимость (в его дни во Франции еще иногда казнили протестантов) и рабство. Его книга произвела сильнейшее воздействие «на общество, которое иногда описывают только как легкомысленное». За восемнадцать месяцев она была издана двадцать два раза.
Но Монтескье был лишь предтечей более знаменитого и более громогласного пророка нового либерализма – Франсуа Вольтера[121]. Не многие сегодня могут понять, как велики были влияние и престиж Вольтера во второй половине его жизни. Нет сомнения, что ни один другой писатель в современную эпоху не получил даже половины тех почестей, которыми современники осыпали этого «князя философов». Короли вскоре начали переписываться с ним, сделались его защитниками и дрожали от его язвительных насмешек. Папа в Ватикане боялся его, как второго Мохаммеда. Если говорить честно, Вольтер был самым грозным личным врагом, которого когда-либо имела католическая церковь (сильнее был лишь совершенно не похожий на него Мартин Лютер), а в политике был самым опасным врагом, которого когда-либо имел старый режим, и тут сильнее его не был никто. Сегодня лишь небольшая горсть американцев и, вероятно, не очень многие французы читают даже двадцатую часть его многотомных сочинений, но во времена Вольтера каждая его новая книга и каждый новый памфлет лежали на столиках во всех гостиных Европы. Говоря коротко, он был человеком своего времени, и, когда это время закончилось, его влияние тоже угасло, потому что, говоря откровенно, он был пропагандистом, а не литератором-художником, и самые худшие пороки из тех, которые он атаковал, теперь, как правило, похоронены вместе с прошлым.
Вольтер (1694–1778) был (на это стоит обратить внимание) родом из хорошей буржуазной семьи. Как полагалось, мальчика отдали учиться в иезуитскую семинарию, чтобы подготовить к обучению профессии адвоката. Он же почувствовал отвращение и к жизни адвоката, и к своим лицемерным святошам-преподавателям. К 1717 г. он пошел по плохой дорожке: поссорился со своей семьей и был посажен в Бастилию за злую и дерзкую сатиру против регента. В заключении он пробыл недолго, но несколько лет ему пришлось с трудом зарабатывать себе на жизнь сочинением пьес, имевших лишь слабый успех.
Затем он поссорился по личным причинам с одним из членов могущественной семьи Роган, снова был брошен в Бастилию и после нового освобождения изгнан в Англию (1726). Это изгнание очень дорого обошлось защитникам старого режима. Вольтер познакомился со многими английскими рационалистами и передовыми мыслителями, с головой погрузился в изучение разрушительных элементов философии Локка[122]. Когда в 1729 г. он вернулся во Францию, он был вооружен полным набором радикальных идей относительно политики, философии и религии, которые его разносторонний гениальный ум скоро развил, а потом применил, – и результаты ужаснули его врагов.
Вольтер с самого начала проявил желание критиковать церковь и государство и бороться с преследованиями за веру, которые считал крайне несправедливыми и неразумными. Теперь он стал гораздо более открыто защищать «разум» и «философию», истинных руководителей умного человека, от «суеверия». Было достаточно ясно, что под «суеверием» он имеет в виду конкретно католическую церковь. Для Вольтера христианство было то же, что католицизм[123], и притом мирской и бездуховный католицизм французской церкви. Как легко осмеять епископа, который громогласно требовал, чтобы в домах гугенотов снова стали размещать на постой солдат, если этот святой человек сам имеет столько же дворцов, лакеев и любовных похождений, как роскошно живущий маркиз!
Церковь была опорой всего старого: традиционализма, пережитков Средневековья, нетерпимости и абсолютизма в политике тогдашней Франции. Она защищала злоупотребления монархии потому, что монархия предоставляла ей тюрьмы, оковы и виселицы для подавления ереси и обеспечивала доходами ее высших иерархов, любивших роскошную жизнь. Поэтому Вольтер обстреливал церковь из всех орудий своего ума насмешками, сарказмами и критическими замечаниями. Сам он, по его словам, был не атеистом, а деистом. Сегодня его, вероятно, причислили бы к какой-нибудь неопределенной разновидности унитаризма. В конце жизни он разошелся с экстремистами, которые после атак против церкви стали сомневаться, что людям вообще нужно божество.
Почти всеми возможными литературными средствами Вольтер наносил удары по старому порядку – церковному и политическому. Он прожил долго и был поразительно плодовитым писателем. Из-под его пера непрерывно и без конца выходили сатиры, романы, эпические поэмы, драмы. Он написал трактат о метафизике, исторический очерк об эпохе Людовика XIV, одноактные эротические комедии и высокопарные трагедии. Вскоре после его смерти в 1778 г. было издано полное собрание его сочинений. Чтобы их напечатать, понадобилось семьдесят томов. В художественном отношении Вольтер не был первоклассным писателем, но он был непревзойденным мастером самых острых литературных колкостей. Его фразы хлестали как плети по спинам лицемерных служителей церкви и мракобесов, защищавших старинные злоупотребления. Многие его книги и памфлеты в его дни вызывали восторг у читателей. Даже те, кто раздражался и громко возмущался, когда Вольтер нападал на них самих, восхищались его гением, как только он отворачивался от них и нападал на их соперника. Если бы Вольтер жил сегодня, он, несомненно, был бы знаменитым редактором невероятно дерзкой газеты с большим кругом читателей, вызывающей ненависть, но популярной.
Здесь невозможно пройти мимо личной жизни этого человека. Он не был образцом морали. После возвращения из английского изгнания он жил в очень близких отношениях с умной и распущенной замужней знатной дамой, мадам дю Шатле. Примерно в 1745 г. он на короткое время помирился с королевским двором и был назначен королевским историографом по настоянию не кого иного, как самой маркизы Помпадур. Но прошло немногим больше года, как он уже перестал быть желанным гостем при дворе и был рад покинуть Версаль. В 1749 г. мадам дю Шатле умерла, и смерть стала концом одной ее весьма отвратительной и постыдной любовной связи[124]. В 1751 г. Вольтер приехал в Берлин, откликнувшись на настойчивое приглашение другого величайшего европейца XVIII в. – Фридриха Великого, короля Пруссии. Фридрих хвалился, что он сам философ и управляет своим государством по правилам просвещенного разума. Почему бы ему и не стать покровителем Вольтера – второго Платона? Но король вел себя слишком властно, а Вольтер оказался недостаточно благовоспитанным, сдержанным и покорным гостем. В 1753 г. великий француз утратил всю благосклонность Фридриха, опубликовав сатиру на него самого, и после этого, обидевшись до глубины души, покинул Потсдам. В 1758 г. он поселился в красивом поместье возле Женевы и в нем провел свою старость. Он продолжал писать до самого конца своей жизни и с наслаждением вмешивался во множество споров, в основном защищая угнетенных гугенотов. В 1778 г. он наконец снова побывал в Париже после двадцати восьми лет отсутствия. Двор встретил его холодно, но академия, выдающиеся иностранцы, а также все ученые и литераторы приветствовали его как главного в мире борца за «просвещение». На представлении своей пьесы «Ирен» он сидел в своей ложе, увенчанный лавровым венком, и многочисленные зрители приветствовали его аплодисментами. Но волнения во время этих празднеств оказались слишком тяжелыми для него. 30 мая Вольтер внезапно заболел и умер. Рассказывают, что священники примчались к его постели, но он рассердился и сделал им знак уйти, и католическая церковь не получила предсмертной капитуляции одного из своих самых заклятых врагов.
От такого разностороннего писателя невозможно ожидать четкой и ясной программы или философии. Вольтер ставил себе цель сбросить с трона «суеверие» и заменить его «разумом» и гордо заявлял об этой цели. Он творил в XVIII в., когда современная наука была еще в детском возрасте. Решения многих вопросов естествознания, опровергнутые позже, тогда еще казались восхитительно разумными и правдоподобными. Главное влияние на жизнь его современников оказывали его колкие замечания в адрес притворщиков и шарлатанов, его постоянные безжалостные удары по старым злоупотреблениям, продолжавшим существовать лишь потому, что к ним относились почтительно, и то, что он (часто с большим риском для себя) горячо защищал никому не известных угнетенных людей. Хотя он и мечтал о будущем, он верил, что мир скоро будет преобразован без сильной борьбы и кровопролития. Он ожидал, что короли научатся править в соответствии с духом философии и что эти «просвещенные деспоты» сделают ненужными права народа. Он не верил в демократию. «Мы никогда не претендовали на то, чтобы просвещать сапожников и слуг, – писал он. – Чернь хочет руководства, а не обучения». Хотя он и поссорился с Фридрихом Великим, он признавал, что этот выдающийся пруссак имеет все полезные качества, которыми старательный и эффективно правящий король может наделить своей народ. Идеалом Вольтера был просто другой Фридрих, с которым лично он мог бы жить в ладу! Но современники Вольтера научились у великого философа не покоряться королям лучшей разновидности, а подвергать сомнению или даже отрицать все существующие авторитеты.
Роль конструктивного философа новой эпохи выпала гениальному человеку совершенно иного типа, чем Вольтер, – Жан-Жаку Руссо (1712–1778). Руссо был сыном женевского часовщика, то есть родился в маленьком швейцарском протестантском городе, который не был подвластен Франции. Однако свое влияние он оказывал на эту, более великую страну и в ней провел значительную часть своей жизни. В его лице мы тоже встречаемся с человеком, склонным к скитаниям и не строгим в вопросах морали. Его жизнь явно противоречила очень многим из его знаменитых догм и поучений. По его собственным словам, живя в Париже, имел пять детей от любовницы, имя которой он не назвал, и все эти дети почти сразу после рождения были отданы в сиротский приют. Позже он стал знаменитым писателем, которому покровительствовали знатные особы, побывал в Англии и, хотя провел последние годы жизни не совсем безупречно, умер в 1778 г. сравнительно респектабельным человеком. В последние десять лет жизни он, несомненно, страдал каким-то психическим отклонением и, вполне возможно, был не совсем в здравом уме. Вообще, во всех его сочинениях есть небольшая примесь психической ненормальности, которая в определенной степени усиливала их действие.
Сочинения Руссо почти невозможно отнести к какому-то определенному жанру. Их трудно назвать романами: хотя некоторые из них написаны прозой, они почти лишены содержания. Это и не поэмы, даже не претенциозные «поэмы в прозе». По формальным признакам их трудно отнести и к жанру эссе. Он чрезвычайно сентиментален, с точки зрения современного человека – сентиментален до нелепости. Но в XVIII в. такая чувствительность вызывала гораздо больше симпатии и восторга, чем в XX. Он в первую очередь «тот, кто описывает; а описывает он страсти человеческого сердца и красоты природы». К этому нужно добавить, что он применял этот интерес к человеческим страстям к проблемам экономики, законодательства и политической науки. Другими словами, у Руссо политическая философия стала очень человечной и потому удобной для понимания людьми, которые беспомощно отложили бы в сторону любой ученый трактат со строгими формулировками.
Вольтер
Жан-Жак Руссо
Мирабо
Людовик XVI
Самая знаменитая книга Руссо – «Общественный договор». В ней он прекрасным языком изложил свое учение о государстве. Он не только обличает злоупотребления своего века сильнее, чем любой его современник, он утверждает, что человечество уже давно вырождается из-за чудовищных несправедливостей, создаваемых гражданским законодательством, властью церкви и обычаями общества. Руссо прочел записки многих путешественников и торжественно заявлял, что нагие жители острова Таити (почти самого далекого места, которое он мог себе представить) – это неиспорченные, добродетельные и счастливые люди и что нам было бы совсем не плохо вернуться к их невинности. «Человек рождается свободным, но повсюду находится в цепях», – заявил Руссо, и это было в высшей степени замечательное изречение[125]. После этого он изучает основы всех видов власти и пишет, что общество возникло «из идеального первоначального состояния индивидуальной независимости посредством общественного договора, по которому все люди согласились передать свою индивидуальную свободу не какому-либо королю или наместнику, а обществу». Вывод из этого учения был очень простой: монархи незаконно захватили власть, которая когда-то принадлежала суверенному народу. Но никакой срок давности не мог сделать эту узурпацию законной. Право общества определять собственную судьбу неотъемлемо и неприкосновенно, поэтому «все правители на земле – всего лишь представители народа, который, если недоволен своим правительством, имеет право заменить или упразднить его».
Не нужно быть очень проницательным, чтобы понять, где в такой теории было место власти Людовика XV. Разумеется, «Общественный договор» стал неприятным чтением для королевских цензоров. Он был благоразумно издан за пределами Франции – в Амстердаме, в 1762 г.[126], и его появление было одной из причин, заставивших Руссо внезапно уехать в том же году из Франции в Швейцарию. Но положение в королевстве складывалось так, что ни король, ни цензор, ни парижский парламент были не в состоянии помешать широкому распространению этой книги. Недовольство правительства только усиливало жажду читателя, и аргументы автора попадали точно в цель. Руссо не ограничился критикой монархии. Он не просто нападал на католическую церковь (это делал и Вольтер): Руссо предложил своеобразную «гражданскую религию» – религиозный культ, лишенный своих природных свойств: религию, из которой исключены все догмы о сверхъестественном и в которой главными становятся только существование божества и моральные принципы.
Он объявил все формы религиозной нетерпимости великими грехами против государства, потому что, как только священники начали заставлять гражданских должностных лиц наказывать еретиков им в угоду, «суверен перестает быть сувереном даже в мирских делах. С этого момента настоящие хозяева – священники, а короли только их чиновники».
Кроме того, Руссо с явным недоверием относился к таким политическим учреждениям, которые мы сейчас назвали бы «представительными». Для него лучшим правительством было такое, в котором все граждане участвуют непосредственно. Таким образом, он защищал крайнюю разновидность демократии. Он очень мало знал об истории своей эпохи. Свои примеры он часто брал из жизни Древних Афин и Древнего Рима, каким он представлял их себе по сочинениям Плутарха. В таком же отношении к прошлому признался позже один из тех, кто принял французский политический деятель, прославленный своим красноречием, глава партии жирондистов, в 1793 г. вместе с единомышленниками был казнен на гильотине. Кстати, знаменитую фразу «Отечество в опасности!» произнес именно он, сказавший, что он сам «видел сон, будто они находились в Риме, но проснулся и увидел, что они находятся во Франции!». Все это просто означает, что догмы и теории Руссо плохо выдержали проверку разъедающей кислотой времени. Но в эпоху их появления, когда критика была слаба, их влияние и эффект электризовали общество. Когда «Общественный договор» и связанные с ним другие, почти столь же знаменитые книги Руссо предоставлялись читателям в библиотеках, срок предоставления определяли не в днях, а в часах. Полуобразованным молодым адвокатам, таким как Робеспьер, и девушкам с благородным сердцем[127] вроде той, кто позже стала мадам Ролан[128], эти книги казались новым Евангелием, безошибочным толкованием жизни и ясным объяснением того, как надо исправить многие плохие явления этой жизни. «Они не просто стали руководством для многих умов. Они порождали фанатизм, равный и близко родственный религиозному пылу. «Общественный договор» стал библией рево люции»[129].
Эти три писателя были душой движения, но дух новой эпохи отразился также в огромном литературном труде – «Энциклопедии».
И раньше существовали сборники, в которых были кратко изложены все известные человечеству знания, и создателей этого знаменитого труда вдохновляла составленная в Англии «Энциклопедия Чемберса». Но поразительные восемнадцать томов, опубликованные во Франции с 1751 по 1772 год, были больше чем собрание всей информации, которая считалась тогда разумной. Душой предприятия и редактором был Дидро (1713–1784), очень дерзкий философ, борец против традиций, который в своем скептицизме мог значительно превзойти Вольтера. Ему помогал брат по духу, прославленный математик д’Аламбер (1717–1783).
Их знаменитая «Энциклопедия» была попыткой не только сообщать информацию, но и управлять мнениями. В проспекте она была представлена как «перечень всех усилий человеческого ума во всех его разновидностях и во все времена». Она была открыто направлена против церкви, и религиозные догмы рассматривались в ней с исторической точки зрения, что казалось непростительным преступлением. По мере выхода из печати новых томов «Энциклопедии» усилилось противодействие ей и возросло количество безуспешных попыток запретить ее. В ответ она превратилась в настоящую «боевую машину», которая вела атаку против церкви, против все более деспотичного правительства и против всей христианской религии. Из-за всего этого история ее издания была очень сложной и трудной. Много раз ее выпуск приостанавливали, беспокоили ее редакторов, торжественно налагали арест на оттиснутые листы и печатные формы и прямо от печатных станков отвозили их в Бастилию, а потом возвращали после тревожной задержки. Но лучшие умы Франции поставляли содержания для этой «запрещенной» книги. Статьи, не вызывавшие споров (конечно, они составляли очень большую часть книги), содержали достоверную информацию и были прекрасно написаны. Вольтер поощрял это предприятие и внес с него значительный вклад. Среди тех, кто подписался на «Энциклопедию», были короли и императоры, несмотря на часто повторявшиеся (и так же часто отменявшиеся) запреты цензора. Было невозможно окончательно запретить сочинение, которое издавал Дидро, человек настолько знаменитый, что, когда у него были денежные затруднения, ему помогла уплатить долги Екатерина Великая, царица России. А многие его коллеги и сотрудники имели почти столько же влияния и престижа в Европе, как он.
«Энциклопедия» популяризировала и делала доступной широкому кругу читателей новую науку и новую философию. Она поставляла любому критику старых учреждений прекрасный набор подходящих фактов. Статьи были ясными по форме и умными по содержанию и притом хорошо читались, что очень редко бывает в справочниках. В них везде выступала на поверхность точка зрения новой философии. На каждой странице были доводы в пользу свободы личности, свободы мысли, свободы для прессы, свободы для торговли и промышленности и постоянная война против всех религиозных учреждений как препятствий для свободы.
Здесь недостаточно места, чтобы рассказать о других вождях умственной жизни той эпохи, в частности об «экономистах», остро критиковавших тогдашний экономический строй. Кенэ, придворный врач Людовика XV, был достаточно изворотлив, чтобы сохранить свою важную должность, в то же время постоянно проповедуя учение о том, что власти не должны вмешиваться в повседневную жизнь людей (Кольберу такие взгляды показались бы полной ересью). «Не нужно слишком много управления, не нужно слишком много регулировать!» – постоянно повторял придворный медик.
Итак, все эти пылкие «философы» писали свои книги, плели свои теории или вели беседы в салонах герцогинь. О гостеприимстве одного из них, Гольбаха, было написано так: в его доме «собирались десять или двенадцать гостей, чтобы насладиться хорошей едой, прекрасным вином, отличнейшим кофе и лучшим разговором в Европе. Религия, философия и правительство, литература и наука обсуждались по очереди, и не было теории слишком смелой для того, чтобы ее предложили и чтобы она нашла сторонников».
Лишь медленно, и очень медленно все эти утонченные прекрасные беседы «просвещенных» людей вышли за пределы круга париков и серебристых локонов в круг низшего дворянства и низшей буржуазии, а затем в огромную массу простого непросвещенного народа, к которому элегантные господа, начавшие движение, чувствовали такой огромный теоретический интерес. И все же за время примерно с 1750 г. (когда впервые проявила себя власть Вольтера над умами) и до 1789 г., когда стали полностью видны ошеломляющие результаты, к которым привела проповедь нового Евангелия, значительная часть французского народа или, по крайней мере, больша́я часть жителей Парижа сильно пропиталась новой философией. Это утверждение имеет под собой основания, хотя проникновение новых идей в народ было почти бесшумным. Тем временем добрые философы радостно шли своим путем и верили, что общество само безболезненно перестроится, стоит только разъяснить ему правильные теории. Выдающийся историк Лависс написал об этой эпохе так: «Когда страна из-за ошибок своих королей отделила себя от королевской власти, она мгновенно возвысилась до идеи человечества. Французские писатели XVIII в. заново открыли эту идею, которая со времен Платона, Сенеки и Марка Аврелия была утрачена или, по меньшей мере, заменена в Средние века церковной идеей христианства, а позже политической идеей [единой] Европы». Остается лишь взглянуть на события, которые предшествовали часу, когда новые теории стали претворяться в жизнь.
Людовик XVI (1774–1792) был внуком Людовика XV. Если бы он пошел по плохому пути своих предшественников, не многие смогли бы упрекнуть его за это. Но благодаря своей мудрой и набожной матери он был гораздо лучше их как человек. Он был прав, когда говорил, что для него было несчастьем взойти на трон таким молодым. Его воспитали в правилах личной честности, но не обучали его всерьез «ремеслу короля». Мало было правителей, которые имели лучшие намерения, чем он, и мало правителей встречали большие трудности при осуществлении своих честных желаний. Когда он, в возрасте двадцати лет, был провозглашен королем, его описали так: «крупный, тяжеловесный и сильный юноша, с большим аппетитом, большой любитель физических упражнений, любит охотиться и заниматься слесарным и кузнечным ремеслом». Такой человек никогда не стал бы хорошим «королем-солнце» или «первым джентльменом Европы».
Но конечно, главный вопрос был: станет ли он хотя бы сносным правителем? Молодой король был честен и великодушен, но скоро показал, что не отличается острым умом. Он очень сильно не доверял себе, и на него постоянно давила мысль о том, что «каждый его поступок влияет на судьбу 25 миллионов человек».
Однако сознание своей огромной ответственности не побуждало короля к решительным действиям. Оно делало его неповоротливым и застенчивым человеком, очень склонным искать поддержки у других. Этими «другими» обычно становились не самые мудрые люди Франции, а те, кто имел право доступа к нему, то есть члены его семьи и его близкие. Он часто бывал болезненно нетвердым в своих решениях. Его родной брат говорил, что ум короля состоит из двух частей, похожих на два бильярдных шара, которые смазаны маслом: их невозможно удержать одновременно на одном месте. Большой бедой для Людовика было то, что им управляла в первую очередь его жена, знаменитая и несчастная Мария-Антуанетта.
Эта королева была дочерью могущественной Марии-Терезии Австрийской. Мудрая мать написала молодой правительнице много писем, наполненных прекрасными советами, которые дочь редко исполняла. Мария-Антуанетта была на год моложе своего мужа. Вначале их брак был не очень счастливым: молодая королева была весела и полна жизни, она любила развлечения, а король был неуклюжим, застенчивым, тяжеловесным и скучным. По мере того как молодые супруги взрослели вместе, их отношения улучшались, и брак короля и королевы стал по-настоящему счастливым; но возраставшее влияние жены не принесло пользы Людовику.
У Марии-Антуанетты было несколько прекрасных качеств: она, в сущности, была чистой и мужественной женщиной с хорошими намерениями. Она плохо знала, как надо жить, но под конец знала, как надо умереть. Однако ей было суждено стать злым гением старой французской монархии[130]. Она больше всех была виновна в том, что была отвергнута последняя возможность преобразовать Францию мирным путем. Она была невежественной, легкомысленной, не желала признавать для себя никаких ограничений. Она позволяла другим вмешивать ее в дела, которые ее компрометировали, и имела среди аристократии компрометировавших ее друзей. Эти знатные друзья, которые были ее доверенными лицами, сослужили себе дурную славу: они отличались алчностью, защищали все виды злоупотреблений и старались помешать любым реформам, которые могли бы стать опасны для их доходов и развлечений.
Эта королева, любившая кружиться в танце на маскарадах в опере, была способна видеть политическую ситуацию в стране только со своей собственной точки зрения, и ни с какой другой. Она могла быть изящной и любезной хозяйкой на расточительно пышном придворном празднестве в Версале, но так и не смогла понять, чем государственная казна отличается от личного кошелька короля. Нет никаких доказательств того, что она видела в бедствиях значительной части низших слоев французского общества что-то, кроме повода для благотворительности, или осознавала, что корона Франции была дана ее мужу не для того, чтобы он наслаждался королевскими удовольствиями. Поэтому, когда эта красивая и переменчивая и энергичная женщина приобрела власть над более слабым умом Людовика XVI, это стало бедой для государства.
Вредоносное влияние королевы усиливали два брата короля – граф Прованский и граф д’Артуа. Оба этих принца в политике были практически так же близоруки, как их невестка. Оба постоянно выступали против любых реформ и интриговали против любого министра, который мог оказаться реформатором.
В те годы правления Людовика XVI, с 1774 по 1789 г., когда старый режим перестал держать в своих руках судьбу Франции, ее жизнь вращалась главным образом вокруг двух центров – двух рядов событий, которые теоретически имели совершенно разную природу, но оба толкали старую монархию к падению. Одним центром была отчаянная борьба за то, чтобы осуществить некоторые реформы и не дать государству обанкротиться; другим центром стала война против Англии на стороне Америки.
Людовик XVI начал свое правление прекрасно: он взял себе в министры финансов одного из самых талантливых и просвещенных государственных деятелей Франции – Тюрго, который участвовал в создании «Энциклопедии», а в должности интенданта большой области Лимож проявил себя как реформатор и первоклассный администратор-практик. Тюрго предпринял поистине героическую попытку положить конец почти вечному дефициту, отменить наиболее крупные статьи расходов на расточительное домашнее хозяйство короля, поглощавшее значительную часть доходов, и, что было важнее всего, повысить экономическое процветание Франции, отменив нелепые ограничения, которые мешали свободной торговле зерном в пределах всего королевства и приводили к голоду. Ради этой же благой цели он хотел уничтожить безнадежно устаревшие цеховые братства, которые душили торговлю и промышленность Франции. И наконец, он отменил для крестьян натуральную дорожную повинность, то есть обязанность бесплатно работать какое-то время на дорожных и других общественных работах. Вместо этих принудительных работ, выполнявшихся только крестьянами, был введен «территориальный налог». Он расходовался на эти же цели, но его платили все, кто владел собственностью в получавшем от него выгоду округе, – дворяне и не дворяне.
Эти реформы не были коренными или революционными, но могли бы открыть путь более крупным преобразованиям. Тюрго не был демократом. Свое дело он пытался совершить только средствами, находившимися в распоряжении у королевской власти, то есть, как любили говорить в ту эпоху, путем «просвещенного деспотизма». Но все обладатели привилегий, все мелкие получатели украденных денег, все знатные вельможи, жиревшие за счет старых злоупотреблений, сразу же яростно ополчились против министра финансов. Парижский парламент (только что восстановленный из-за протеста Тюрго) поспешил опротестовать указы министра. В конце концов король, который ввел Тюрго во власть и какое-то время честно старался его поддерживать, покинул своего министра, когда того стала критиковать Мария-Антуанетта. «Только мы – господин Тюрго и я – действительно любим народ», – с горечью заметил Людовик, но 12 мая 1776 г. отправил своего министра в отставку, не приняв во внимание пророческие слова, которые Тюрго написал ему немного раньше: «Не забывайте, государь, что именно слабость привела Карла I на плаху».
С отставкой Тюрго старая французская монархия утратила (хотя люди этого и не знали) последнюю реальную возможность реформировать страну и себя без катастрофы. Другие королевские министры с 1776 по 1789 г. могли лишь попытаться отсрочить неизбежный конец.
Преемником Тюрго стал Неккер, человек действительно талантливый, хотя и в более узкой области.
Он был протестантом и гражданином Женевы и потому получил лишь титул «директора» королевских финансов, но на деле был очень грозным министром. Неккер был только и исключительно финансистом. Его цель была не реформировать прогнившие общественные учреждения, а осуществлять деловое управление теми ресурсами, которыми обладал король, в их тогдашнем состоянии. Богатые люди доверяли ему и давали деньги взаймы правительству на выгодных условиях. Но постоянные займы – неудовлетворительный способ наполнения казны. Положение к тому же ухудшилось, когда в 1778 г. Франция вступила в войну с Англией, чтобы обеспечить независимость Америки. Это было правое дело, но современная война никогда не стоит дешево. Требования предоставить большие денежные средства на войну увеличили затруднения Неккера. Министру поневоле пришлось, теряя популярность при дворе, постоянно поучать короля, королеву и их окружение, что они должны жить экономно, хотя его уроки звучали не так сурово и резко, как наставления Тюрго. В 1781 г. Неккер наконец опубликовал официальный отчет о состоянии финансов Франции. Казалось, что впервые стало можно сказать, на что именно шли государственные деньги. Любимцы из числа придворных и те, кто получал пенсионы от двора, были возмущены тем, что огромные доходы, которые они получали из казны, были описаны во всех подробностях и выставлены на обозрение перед всей Францией. Их ярость против Неккера не поддается описанию. В мае 1781 г. король отправил его вслед за Тюрго. Старый режим был решительно настроен не только против реформ, но и против всего лишь достойного управления хозяйством страны.
В 1783 г., после короткого перерыва, у Франции появился новый министр финансов, Калонн, из придворных, сговорчивый и послушный. Он понимал, что будет оставаться в должности, пока находится в милости у жадной клики, и имел по поводу денег взгляды, которые завели его далеко. Он открыто признавал, что его философия такова: единственный способ добыть деньги – взять их взаймы; «но человек, которому нужно занять деньги, обязан выглядеть богатым, а чтобы выглядеть богатым, нужно ослеплять людей своей расточительностью!». В течение трех следующих лет казалось, что жизнь в Версале никогда еще не была такой веселой, королевский двор таким роскошным, а деньги такими доступными. Калонн словно давал дамам и господам королевского и благородного происхождения последнюю возможность весело пожить перед изгнанием или смертью на эшафоте. Калонн находил деньги для всех и на все – на пенсионы, дворцы, дорогостоящие экстравагантные праздники, все возможные виды мотовства. Когда был заключен мир с Англией, Калонн не сократил расходы. За три года он занял сумму равную 280 миллионам долларов – больше, чем Неккер занял на поддержку войны за Америку. На короткое время его политика принесла ему успех: богатые банкиры буржуазного происхождения дали ему взаймы огромные суммы. А потом, в августе 1786 г. королевский двор внезапно обнаружил, что казна пуста, получить еще хотя бы один заем невозможно и нужны какие-то отчаянные меры.
После этого власти лишь затыкали одну дыру за другой. Было созвано собрание нотаблей (избранных дворян), чтобы обсудить с королем тяжелое состояние государства. Калонн был отправлен в отставку (1787). Министром финансов стал практичный и любящий земную жизнь священнослужитель, архиепископ де Бриен. Из-за нескольких законопроектов он сильно поссорился с парламентом. А после этого (1788) парламент принял дерзкое постановление, в котором заявил, что «Франция – монархия, которой король управляет согласно законам» и что только Генеральные штаты могут изменять основные законы страны. Дело явно шло к социальному взрыву.
Однако банкротство было не единственной силой, увлекавшей монархию в пропасть. Мы, американцы, конечно, все знаем о том, как Франция встала на нашу сторону во время Войны за независимость. Но Людовик XVI и его министры подняли оружие против Англии в 1778 г. не из-за одного сочувствия к сражающимся заморским демократам, как бы ни был велик энтузиазм молодого маркиза де Лафайета. Французский министр иностранных дел Верженн был хитрым и осторожным государственным деятелем и уже стариком. Он хотел только посылать Америке деньги и военное снаряжение и оказывать ей другие виды косвенной помощи, пока капитуляция Бергойна[131] не показала совершенно ясно, что у колонистов больше шансов на победу, чем у британцев. После этого французы были не в силах устоять перед возможностью сильно унизить своих давних врагов-британцев и отомстить за потерю Канады и Индии. Однако нельзя отрицать, что Франция никогда не вступила бы в дорогостоящую войну далеко от своей территории, если бы ее лучшие умы не прониклись сочувствием к идеалам простых колонистов, грубоватых людей, живших за 3 тысячи миль от них. Когда Джефферсон, вдохновленный философией Локка[132], написал, что «все люди созданы свободными и равными», ему откликнулись сердца огромного числа французских интеллектуалов – тех, кто приветствовал Вольтера как мудреца и изучал книги Руссо как изречения пророка.
В этой войне французы сражались гораздо лучше, чем за двадцать лет до нее. Боев на суше за пределами Америки было мало, однако в Америке Рошамбо оказал колонистам неоценимую услугу: укрепил армию Вашингтона своим корпусом стойких французских ветеранов и привел союзников в восторг доблестью и дисциплиной своих солдат. Зато на море французы показали, что тяжелые уроки Семилетней войны не прошли для них напрасно. Их флот в значительной степени восстановил свое доброе имя. Англичанам пришлось пережить то, чего они не хотели, – несколько морских сражений с ничейным исходом. И наконец, главная победа американцев возле Йорктауна была бы невозможна, если бы большой флот под командованием графа де Грасса не блокировал с моря войска английского командующего Корнуоллиса, когда Вашингтон сжимал кольцо окружения на суше. Правда, в следующем году де Грасс проиграл крупное морское сражение в Вест-Индии, но весь ход войны ясно показал, что раньше французскому флоту мешала сражаться на равных с английскими эскадрами не бездарность народа, а лишь плохая работа правительства.
Война закончилась в 1783 г. Поражение англичан было не настолько тяжелым, чтобы победители могли поставить им суровые условия (кроме, конечно, предоставления независимости Америке). Но Франция вернула себе несколько своих мелких колоний, которые были захвачены раньше. Такая победа должна была бы увеличить престиж Людовика XVI, но этого не произошло. Одной из причин этого была новая нагрузка на казну, а другой и главной причиной стали неизбежные последствия контакта с Америкой. Тысячи молодых французов, вернувшись домой, рассказали землякам о не испорченной цивилизацией стране, в которой нет привилегированных классов, искусственных обычаев и высоких налогов и где, кажется, самым удачным образом претворяются в жизнь пригодные для практического применения элементы теории Руссо. В самом Париже д-р Бенджамен Франклин, практичный бостонец, который был американским посланником во Франции с 1776 по 1785 г., имел огромное влияние, которое применял на пользу не только своей стране, но и вообще демократическим идеям.
Надменные высокородные господа и украшенные драгоценностями графини приходили в восторг от этого будто бы бесхитростного янки, «который, с мягким выражением лица, без пудры на волосах, в серой одежде и с патриархальной простотой во всем облике, казался воплощением „естественного человека“»[133]. Старый хитрый посланник принимал эти почести, ни разу не улыбнувшись, и, несомненно, был рад всему, что могло пойти на пользу его стране. Он, вероятно, неосознанно подрывал власть того самого короля, у которого просил солдат, денег и кораблей, но в этом не было его вины.
В 1783 г. был заключен мир с Англией. Через пять лет Бриен потерпел поражение от парламента, когда попытался убедить парламентариев зарегистрировать новые законы, чтобы дать королю больше денег. После этого события развивались быстро. В провинциях местные парламенты и штаты (собрания представителей трех сословий) стали требовать созыва Генеральных штатов – собрания представителей всего французского народа, считая их единственной властью, которая имеет право лечить политическую систему тяжело больной страны. Генеральных штатов не было с 1614 г., но память о них не угасла. Их созыв казался единственным возможным и необходимым выходом. Казна была пуста. Новые налоги могли привести к восстанию.
И вот 8 августа 1788 г. Бриен объявил, что 1 мая 1789 г. король созовет Генеральные штаты Франции. За оставшееся до них время король, чтобы удержать на плаву финансы, вскоре отправил в отставку самого Бриена из-за его некомпетентности и вернул обратно Неккера. Под волшебным влиянием имени нового министра доверявшие Неккеру капиталисты согласились предоставить новый заем.
Осень, зима и весна 1788/89 гг. прошли в политической суете и ожиданиях[134]. Великий народ, невежественный как младенец в том, что касалось свободной политической жизни, пытался провести всеобщие выборы народных представителей, дисциплинированно и согласно правилам обсуждать государственные дела, составить программу разумных реформ и повернуться лицом к изменившемуся будущему.
Вся Европа смотрела на Францию, ее признавали лидером континентальной Европы в области интеллекта и культуры, но короли и императоры граничивших с ней стран не слишком волновались из-за событий, происходивших вокруг Парижа. Они, конечно, успокаивали себя тем, что их «брат»
Людовик XVI явно идет опасным путем в отношениях с подданными, а значит, не сможет напасть на соседей. Никому даже не приходило на ум, что идеи, проникавшие тогда в народные массы Франции, потом пропитают собой и начнут возбуждать народы Германии, Италии и России. Европейские правительства вздохнули с облегчением, когда увидели, что государство Людовика XVI увязло, как им казалось, в своих чисто внутренних проблемах. Где был пророк, который смог бы предсказать им будущее? Через восемь лет после 1789 г. молодой человек, родившийся под властью Франции на Корсике, будет диктовать в Кампо-Формио мирный договор дрожащим от ужаса принцам из рода Габсбургов, и мир окажется на пороге еще одной, очень умелой и почти успешной попытки основать новую Римскую империю.
Глава 13. Старая Франция накануне революции
Леттр-де-каше. Пенсии и подарки. Неодинаковые системы законодательства. Жестокие наказания и пытки. Другие прямые налоги. Пошлины и налог на соль. Высшее духовенство. Дворянство. Дворянство мантии. Буржуазия. Бремя, лежавшее на крестьянах. Чего хотели крестьяне
Что такое Французская революция, можно понять, только внимательно изучив политические, экономические и социальные условия, которые ее породили. Она сначала стала терзать Францию, а потом возбудила смуту во всем мире не потому, что Франция больше страдала от социальных болезней, чем другие, более спокойные государства. Это случилось как раз потому, что французы были, вероятно, самым прогрессивным, просвещенным и в общем удачливым народом континентальной Европы. Потому, что они первые осмелились отбросить в сторону огромные препятствия, которые пережитки Средневековья еще создавали на пути развития человечества. Если мы посмотрим на условия в средних по показателям частях Германии, Австрии, Италии или Испании и сравним их с тем, что было во Франции, эти условия окажутся явно хуже. Старые злоупотребления, веками существующие тирании были гораздо отвратительнее, чем во Франции. Правящие классы общества еще более сурово эксплуатировали тех, кем они управляли. Следы народной свободы были еще слабее. Но итальянцы, испанцы, немцы и другие народы были слишком беспомощны и невежественны. Они могли лишь в отчаянии ворчать вполголоса на свои власти. Самое большее, на что они были способны надеяться, – «добрый король» и небольшое смягчение самых худших злоупотреблений. А во Франции значительная часть народа остро осознала два важнейших факта: 1) что очень многое в политике их страны совершенно неправильно и 2) что они, как энергичные и умные люди, имеют право и обязанность сами взяться за лечение страны. Конкретная природа ее бед и осознание необходимости и своей способности исправить эти беды вели французов к решительным, но совершенно не проверенным на опыте реформам. Нужно также отметить, что такие реформы подсказывал им и весь дух тогдашней философии, которая настраивала людей на оптимистическую веру в разум и в возможность усовершенствовать человеческую природу, просто изменив среду, в которой живет человечество. В результате произошла Французская революция – самый серьезный по своим последствиям политический и социальный взрыв за всю историю Европы.
В 1789 г. Франция выглядела в высшей степени ненормально. Она была великим королевством, где жили примерно 25 миллионов человек. Она была впереди всего мира в большинстве утонченных удовольствий и предметов роскоши. В ее населении была большая доля отважных и образованных людей с добрыми намерениями. Но при всем этом она страдала от обветшавших политических и экономических учреждений, которые сохранились еще со времен Людовика XI. Власть королей из рода Капетингов в эпоху своего расцвета была огромным преимуществом для Франции. Именно короли спасли страну от феодального хаоса. В те давние дни король и низшие слои общества в большей или меньшей степени были союзниками и вместе выступали против своих общих врагов и угнетателей – баронов. Только верность и непритворное согласие низших классов позволило французским королям получить власть. Король часто сражался против подвластных ему герцогов, графов и сеньоров, но очень редко воевал против жителей своих «добрых городов» или против крестьян, населявших его деревни. Но, одержав победу над феодалами, монархи сразу же отшвырнули от себя своих скромных помощников. Людовик XIV имел так же мало желания просить у третьего сословия помощи в управлении страной, как делить свой трон с Конде или Буйоном.
В 1661 г. французская монархия казалась абсолютной. Король не был обязан ни одному французу ничем, кроме обязанности управлять всем народом, который ему, как государю, доверили Небеса, и отвечал «только перед Богом» за то, как он правит. О взглядах Людовика XVI на монархию мы уже говорили[135]. Мы рассмотрели также и обстоятельства, в особенности катастрофические унизительные войны, которые подорвали престиж французской монархии как во всем мире, так и среди ее подданных. Тем не менее с юридической точки зрения Людовик XVI теоретически обладал ничуть не менее абсолютной властью, чем его пращур Людовик XIV.
Тот, более ранний монарх сказал: «Все государство доверено мне; воля всего народа заключена во мне». Людовик XVI однажды сказал: «Это законно, потому что я этого желаю!», а в другой раз: «Я отвечаю лишь перед Богом за то, как использую верховную власть». Генеральные штаты – слабое подобие законодательной власти, возникшее в конце Средних веков, – не созывались с 1614 г. И до последних лет перед 1789 г. было очень мало людей, утверждавших, что этот полузабытый орган был более чем совещательным. Король мог объявлять войну, заключать мир, тратить общественные деньги так, как пожелает, и вводить в действие новые законы – все это по своему произволу. В теории, а отчасти и на деле он имел власть даже над жизнью и мыслями своих подданных. Ни одна книга, ни один номер газеты не могли быть напечатаны без согласия королевского цензора. Король мог конфисковать все имущество человека и не был обязан заплатить ему возмещение.
Еще хуже было то, что он мог лишить человека свободы без судебного процесса. В дни Людовика XVI так же, как в дни Ришелье и Людовика XIV, продолжали выдаваться знаменитые леттр-де-каше (буквально «письма с печатью»). Это были королевские приказы арестовать человека, имя которого названо в этом документе, и отправить арестованного в указанную там же крепость, например в парижскую Бастилию, крепость Пьер-Ансиз в Лионе или крепость Пиньероль в Альпах. Не обязательно было упоминать о каком-то преступлении, которое совершил этот человек, не указывался и срок заключения. Все это определялось желанием короля. Людовик XIV таким образом держал несчастного герцога де Лозена в заключении десять лет. При Людовике XV о выдаче этих знаменитых документов, кажется, иногда просили знатные семьи, чтобы упрятать в тюрьму и заставить раскаяться непокорного сына, готового неосторожно вступить в неподходящий брак. При Людовике XVI такие приказы, вероятно, в большинстве случаев служили для ареста очень недостойных людей, которые почти не заслуживают сочувствия, но все же их выдавали, и примерно тысяча леттр-де-каше была выдана с 1774 по 1788 г. Уже одно то, что король мог их применять, доказывает, что «первый джентльмен Европы» по своей сути был деспотом, только чуть больше приукрашивал свой деспотизм и чуть больше сдерживал себя, чем константинопольский султан[136]. Однако существовала большая разница: в Турции, как тогда писали, «деспотизм ограничен убийством», а во Франции «деспотизм ограничен неэффективностью». Власть короля была похожа на кусок ткани, который местами протерся от старости. Приказы короля исполнялись очень плохо. Чтобы осуществить непопулярную перемену, монарху пришлось бы преодолеть невероятно мощную инерцию. Какова бы ни была теоретически его власть, на практике уже задолго до 1789 г. король Франции был вынужден серьезно считаться с двумя силами – во-первых, с желаниями окружавших его придворных, своей семьи и своих знатных друзей и, во-вторых, с общественным мнением Франции. Редко случалось, чтобы эти две силы не сталкивались одна с другой, и в итоге их столкновения разрушили французскую монархию. «Абсолютный» король в конечном счете погиб в значительной степени потому, что практически его власть была слаба.
Версаль по-прежнему был центром французского двора и главной резиденцией своего хозяина-короля. Здесь находились примерно 18 тысяч человек, состоявших на службе непосредственно у королевской семьи или, по меньшей мере, питавшихся от щедрот короля. Примерно половина из них служили в его «военном хозяйстве» – гвардейском корпусе, который, возможно, стал немного меньше со времени Людовика XIV. Остальные состояли в «гражданском хозяйстве», которое не уменьшилось, а, наоборот, стало больше. Кроме целой армии служителей короля, были еще хозяйства королевы (примерно пятьсот человек), хозяйства его детей, его братьев, сестер, невесток, теток и двоюродных братьев – каждый из которых имел штат, достойный второстепенного независимого правителя.
Двор был роскошным, и это была совершенно неупорядоченная роскошь. В королевских конюшнях стояли 1900 лошадей и 200 карет. На содержание этих конюшен каждый год уходила сумма, равная 4 миллионам долларов. Столовая служба короля (после нескольких очень непопулярных постановлений об экономии) стоила примерно 1 миллион 400 тысяч долларов в год.
Растраты и просто хищения при таком дворе были так велики, что их невозможно даже подсчитать. Каждый (каждая) из получавших большое жалованье и редко исполнявших свои обязанности служителей (или служительниц) имел (имела) свои четко определенные привилегии. К примеру, несколько «первых служанок», объединившись, увеличивали свои доходы на сумму, равную целым 30 тысячам долларов в год, продавая огарки свечей, использованных для освещения дворца. Королева Мария-Антуанетта (согласно бухгалтерским книгам) каждую неделю требовала для себя четыре новые пары обуви, но, вероятно, не все эти пары хотя бы раз касались королевских ног. Кроме того, было широко известно, что королю все товары продавались по гораздо более высокой цене, чем остальным, более простым смертным. Из-за полного отсутствия хозяйственного управления, взяток и откровенных мелких краж в 1789 г. суммарная стоимость королевских хозяйств, гражданского и военного, как утверждали, была равна эквиваленту примерно 17 миллионов долларов.
Но расходы короля не ограничивались этим. От его величества постоянно ожидали «королевских даров», и размер их должен был равняться величию короля. Кроме того, он выплачивал пенсионы своим любимцам из числа придворных, а также друзьям и подругам королевы – например, семье Полиньяк – алчным знатным хищникам, к чьим советам с особой охотой прислушивалась королева[137]. Талантливый министр финансов Неккер подсчитал, что с 1774 по 1789 г. король таким образом раздарил членам своей семьи и своим придворным сумму, равную 114 миллионов долларов. Уже при Людовике XV было сказано: «Двор – могила нации». При его преемнике, имевшем хорошие намерения, эти слова были еще более верными.
Правительственная система, центральным стержнем которой был королевский двор, по форме была такой же, как при Людовике XIV. Виднейшие министры и советники короля жили в Версале. Франция была разделена на тридцать шесть округов, называвшихся женералите, и во главе каждого из них стоял всемогущий интендант буржуазного происхождения, который был на подчиненной ему территории маленьким королем во всех правительственных делах, пока его господин и повелитель держал его на этой должности.
Один королевский министр, а именно генеральный контролер финансов, был выше всех остальных.
Он все больше становился главным слугой монархии. Его жалованье было эквивалентно более чем 112 тысячам долларов в год. Он приобретал все большую власть, потому что в тогдашней Франции успешным считался тот администратор, который мог удовлетворить потребности ненасытного казначейства. Без денег «христианнейший король» был беспомощен.
Провинциальные женералите делились на меньшие по размеру округа, которые назывались «выборными». Во главе каждого из них стоял субделегат – представитель интенданта, которого интендант назначал сам. Эти мелкие чиновники обладали большой властью и могли не принимать во внимание все остальные местные власти, зато должны были почти по любому вопросу обращаться к своему интенданту, а тот часто обращался за указаниями в Версаль. Если нужно было починить мост, заменить черепицу на крыше общественного здания, сделать тюрьму надежной или пригодной для жилья, документы обычно проделывали утомительный путь до королевского двора и обратно. Это приводило к огромным задержкам в работе, и все правительственные агентства задыхались от волокиты. Таким образом, Франция была очень централизованной монархией, но без быстроты и эффективности, которые могут быть свойственны менее чудовищным формам деспотизма.
Кроме того, Франция была централизованной, но вовсе не единой монархией. Внутри Французского королевства существовали все экономические преграды и расхождения, которые сейчас человек мог бы увидеть, проехав через десяток государств. Например, меры веса и длины резко отличались в разных округах. Перч в Париже был равен 34 квадратным метрам, в некоторых провинциях пятидесяти одному, а в других провинциях сорока двум. Франция делилась по меньшей мере на семь таможенных округов, в каждом из которых были свои заставы и тарифы, словно на границе между двумя недружественными королевствами. Существовало семь групп территорий для взимания широко известного в истории, опротивевшего народу налога на соль, и в каждой из них были свои ставки этого налога. В одной малочисленной группе, pays d’E’tats (то есть «местностях со Штатами»), существовали местные органы, которые частично представляли народ и могли что-то сказать по поводу взимания налогов. В остальных провинциях, называвшихся pays d’E’lection, налогами занимались непосредственно королевские чиновники.
Единой судебной системы во Франции тоже не было. Практически во всей южной половине королевства действовало так называемое «писаное право», то есть законодательство, основанное непосредственно на древних римских кодексах. В северной половине страны применялось «обычное право», «путаница, в которой были перемешаны 293 различных кодекса», основанные на старых феодальных обычаях и теоретически восходившие к законам эпохи франков[138]. По словам Вольтера, человек, проезжавший по Франции, «менял законы, как меняют почтовых лошадей». Граница между различными законодательствами была проведена по Франции совершенно случайным образом. Например, большая провинция Овернь была разделена этой чертой пополам, и город Орильяк (иначе Орийяк) жил по гражданскому праву юга, а ближайший к нему город Клермон – по обычному праву, хотя оба города подчинялись парижскому парламенту как Верховному суду.
Когда-то эти различия возникли потому, что Капетинги, подчиняя соседние земли, проявляли мудрость и не ломали местные обычаи, когда их собственная власть еще только набирала силу. Но и через много лет после того, как исчезли все причины для такой мягкости, правительство сохраняло старые системы по инерции, а вельможи, которым эти системы были выгодны, поддерживали их своим влиянием. Жители многих округов гордились таможенными заставами, которые отделяли их от соседей, хотя таможни и причиняли им вред. Даже в 1789 г. эти люди старались сохранить свою провинциальную изолированность. Мирабо сказал об этом с изумительной точностью: Франция до революции была «скоплением отделенных один от другого народов, из которого не складывалось единое целое».
Законы не только были сложными и запутанными, их применение также было далеко не идеальным. Еще сохранялось много остатков старого средневекового «правосудия сеньора».
В большинстве деревень дела о мелких преступлениях и мелкие жалобы рассматривал судья, назначенный владельцем этих мест, их бывшим феодальным властителем. Однако во всех важных случаях этот судья был обязан обращаться в королевские суды. Поэтому на практике единственным результатом работы феодальных судов были задержки при вынесении окончательного приговора и дополнительные поборы для ничего не значащего помещичьего судьи. Когда же дело оказывалось в королевских судах, оно попадало в целую сеть судебных инстанций. Обычные верховные судьи назывались «президентами». Их было около ста, и люди жаловались, что их слишком мало, а потому президенты не успевают заниматься всеми судебными делами в королевстве, отчего во всех судебных разбирательствах происходят мучительные задержки. Над президентами стояли парламенты. Самым почитаемым и уважаемым из них был парижский парламент, но на самом деле он был Верховным судом лишь примерно для одной трети Франции. Существовало еще двенадцать парламентов, каждый для одной провинции, нескольких провинций или какой-то части королевства. Их уважали меньше, чем парижский, но они ему не подчинялись. Если была более высокая юрисдикция, ее могли иметь только непосредственно Королевские советы.
Все высшие судебные чиновники занимали свои должности на основании, которое современному человеку покажется невероятным или даже дьявольским. Должность либо передавалась по наследству (например, от отца-судьи сыну), либо просто покупалась, то есть тот, кто занимал должность, продавал ее другому желающему. Правда, в то время выставлялись на продажу очень многие высокие правительственные должности[139]. Но и соблюдались некоторые необходимые предосторожности, чтобы совершенно неподходящие люди не оказались на должностях, исполняя которые они привели бы короля к катастрофе. Но все же остается фактом, что при «абсолютной королевской власти» король не мог помешать, чтобы высокая судебная должность переходила от одного владельца к другому, как деревенский дом. Был еще один ряд причудливых обычаев, согласно которым стороны судебного разбирательства должны были подносить подарки своим судьям. Полагалось только, чтобы эти дары были одинаковыми по стоимости у обеих сторон.
Как и можно было ожидать, метолы ведения дел в таких судах часто бывали просто омерзительными. Уголовное право было ужасно суровым. Палач вешал виновных за многие «преступления», которые сегодня были бы наказаны небольшим штрафом. Кара за нарушение права охоты была почти такой же, как наказание за поджог или убийство. В 1789 г. прозвучала жалоба, что «жизнь кролика приравнивают к жизни человека». Пытка при допросах была нормой. В 1780 г. в результате крупной реформы были прекращены «приготовительные» пытки подозреваемых до осуждения, но до 1789 г. заботливо сохранялся «предварительный допрос», то есть пытка на дыбе уже осужденных преступников перед их казнью с целью вырвать у этих несчастных сведения о сообщниках. Закованные в цепи трупы на виселице и клюющие их вороны-падальщицы были привычным ужасным зрелищем во всех частях Франции. Приговор к каторге (которая была настоящей смертью заживо) был лишь притворной видимостью милосердия[140]. За самые тяжелые преступления виновных колесовали, волочили по земле, привязав к конскому хвосту, четвертовали и карали всеми остальными утонченно жестокими наказаниями, которые сохранились после воистину «темных» Средних веков.
Слабым местом всего этого странного и дурного государственного устройства была финансовая система. Нельзя забывать, что непосредственной причиной гибели абсолютной монархии было то, что наместник Бога не мог заплатить свои собственные, самые обязательные для уплаты долги. Если бы король Франции остался платежеспособным, возможно, его старая система правления просуществовала бы еще несколько лет.
Если говорить коротко, в 1789 г. финансовое положение Франции было таким: расходы за год достигли эквивалента примерно 265 миллионов долларов, доходы были равны эквиваленту 238 миллионов долларов, а проценты по государственному долгу достигали эквивалента 105 миллионов долларов (почти половины всех доходов!). Только за время правления Людовика XVI государственный долг вырос на сумму, равную 570 миллионам долларов (2 миллиарда 830 миллионов франков в нынешних французских деньгах)[141]. Причиной такого плачевного положения финансов были не только грубые ошибки Людовика XVI и его министров. Оно было создано политикой почти всех французских королей, начиная с Франциска I; исключениями были только Генрих IV и Людовик XIV в золотые дни Кольбера. Дух этой политики был коротко сформулирован братом Людовика XVI графом д’Артуа, который позже был несчастным королем Карлом X. «Доходы короля должны соответствовать его расходам, а не расходы – доходам!» – заявил граф.
Дефицит был постоянным. Единственным способом исправить эту ситуацию были такие сомнительные средства, как создание и продажа новых должностей или привилегий или новые займы, которые увеличивали долг. В области налогов положение было таким тяжелым, что почти любое предложение увеличить их привело бы к потрясению в государстве. «Абсолютный монарх» не мог произвольно увеличить подушный налог: последствия такого решения уничтожили бы его трон, поэтому он продолжал «плыть по течению», то есть двигаться к банкротству.
Налогов было много, и большинство из них существовали уже давно. Главным прямым налогом была талья. Она существовала со времен Столетней войны с Англией, а возможно, и раньше. В южных землях ее обычно взимали с земли и домов, в остальной Франции – со всех предполагаемых доходов плательщика, каково бы ни было их происхождение. В любом случае сумма тальи определялась совершенно произвольно и без всяких логических оснований. Иногда сборщикам налогов было достаточно увидеть перед дверью крестьянина-бедняка несколько куриных перьев, чтобы увеличить талью этого несчастного: перья были признаком того, что он живет уже не впроголодь. Конечно, такими действиями власти сознательно отучали народ от бережливости.
Талья была налогом для недворян: ее брали с крестьян, ремесленников и буржуа. Земли и доходы дворян и церкви (двух самых богатых классов) власть гордо освободила от нее. Дворяне платили королю «своей кровью», то есть военной службой, а священнослужители платили ему своими молитвами. Они не подлежали этому мучительному налогу, который сам уже был знаком низкого происхождения.
Однако были еще два налога, которые дворяне и духовенство должны были платить вместе с крестьянами, хотя и много жаловались по этому поводу. Это были подушный налог и двадцатина. Первый из них представлял собой пропорциональный налог, взимавшийся с плательщика по тарифу для одного из двадцати трех классов, на которые были разделены все подданные короля. Первым в первом классе был дофин, теоретически плативший налог, равный примерно 1000 долларов. Бедняки, попавшие в двадцать третий класс, не платили ничего. Двадцатина считалась налогом для всех, составлявшим 5 процентов дохода. Но такой была только буква закона, а на практике почти все представители привилегированных классов были освобождены от ее уплаты. Плательщикам из верхов буржуазии не всегда удавалось получить это освобождение: одним везло больше, другим меньше. Духовенство «выкупало» свои налоги, выплачивая королю вместо них «добровольный дар», который был гораздо меньше положенной по закону суммы. А доли дворян в общей сумме налога всегда рассчитывались с большим снисхождением к плательщикам. «Принцы крови», которые все вместе были бы должны платить в качестве «двадцатой части» около 1 миллиона 200 тысяч долларов, фактически платили лишь около 90 тысяч долларов. В окрестностях Парижа с маркиза брали в качестве налога 200 долларов вместо примерно 1250, а с буржуа 380 долларов вместо примерно 35[142].
С тех, на кого падали эти налоги, их собирали очень сурово, а богатые и привилегированные французы были почти полностью свободны от них. В результате, по некоторым подсчетам, только талья, подушный налог и «двадцатая часть» поглощали 50 процентов заработка непривилегированных классов. И это было еще не все, к чему тянул свои руки налоговый сборщик!
Кроме прямых налогов существовали сложно устроенные косвенные налоги. Они становились тяжелее оттого, что их регулярно «отдавали на откуп», то есть продавали право их собирать откупщикам – спекулянтам, которые за это платили большую сумму королю, а потом, толкуя закон в свою пользу, собирали с налогоплательщиков максимум денег, который могли потребовать с них, и получали большую прибыль. Так во Франции возродились зловещие сборщики налогов, которые были позором Древнего Рима и которых справедливо проклинали в новозаветной Палестине.
Государственная монополия на соль была источником, возможно, самых крупных злоупотреблений. По закону каждый подданный старше семи лет был обязан покупать минимум 7 фунтов соли в год. Не купить ее было почти таким же серьезным преступлением, как дача ложного показания или кража со взломом. Эту соль можно было использовать только для приготовления пищи и во время еды. Те, что использовал ее для засолки продуктов, должны были платить штраф в размере самое меньшее 150 долларов. Агенты государственных торговцев солью часто обыскивали дома от чердака до погреба, проверяя, не спрятаны ли там незаконные запасы соли. Они легко могли отличить правительственную соль от других сортов: она была очень низкого качества! Разумеется, в широких масштабах шла торговля контрабандной солью. Риск при этом был очень велик, но законная цена соли была так велика, что риск оправдывался. В 1787 г. высокопоставленный чиновник (Калонн) утверждал, что каждый год 30 тысяч человек оказывались под арестом за нарушение законов о соли и 500 человек попадали на каторгу или виселицу за контрабанду соли. Конечно, чтобы заставить людей платить даже один этот налог на соль, не говоря о других, постоянно работала целая армия сыщиков и таможенных инспекторов. Все это нисколько не повышало уважение низов общества к законам, направленным против подлинных преступлений.
Почти такими же невыносимыми, как налог на соль, для народа были подати – налоги, которыми облагались многие продукты и изделия, но в первую очередь вино. Во Франции это один из основных пищевых продуктов; американцам даже трудно понять, как велика его роль. Вино облагали маленьким налогом при изготовлении, вторым налогом при продаже первому торговцу, а потом при перевозке брали налоги на любой возможной остановке (их было от тридцати пяти до сорока на пути из Лангедока в Париж). Еще на вино брали еще один налог, когда его ввозили в какой-либо город и когда оно переходило в руки розничного торговца. В результате бочонок вина, который в южном городе Монпелье стоил 150 франков (30 долларов), становился дороже на 122 франка из-за этих мелких налогов прежде, чем это вино выпивали в Париже. Больше всего раздражало французов ограничение на продажу вина. Каждая семья, независимо от ее размера, имела право приобрести четыре большие бочки вина в год без дополнительного налога; но если ей было нужно больше, она должна была заплатить дополнительный налог. Считалось, что он не позволяет покупателям тайно перепродавать лишнее вино, обманывая правительство.
И подати, и соляной налог распределялись по Франции очень неравномерно. В некоторых местностях налог на соль был так мал, что не создавал людям больших трудностей, а в других он был едва ли не главным бременем для народа. Что касается податей, были случаи, когда в одном приходе население платило большую подать на вино, а в другом приходе, отделенном от этого только рекой, такой подати не было.
Пороки этой системы налогообложения были так очевидны, что никто не пытался ее защищать. Даже привилегированные классы признавали, что несправедливости в налоговой системе стали причиной значительной части тех сильных народных волнений, которые терзали страну и угрожали всему ее общественному строю. Ни один министр финансов не осмеливался предложить увеличить налоги, пока не будет разработана более совершенная налоговая система. Однако существовавшую налоговую систему нельзя было изменить, не затронув все здание социальных и финансовых привилегий, к которым пылали такой слепой любовью верхние слои французского общества. В результате возникла нелепая ситуация: «абсолютный монарх» имел в своей власти королевство, вполне способное заплатить гораздо больше налогов, чем оно платило теперь; нужно было только, чтобы налоги распределялись равномерно. Но он не осмеливался ничего добавить к тем налогам и пошлинам, которые уже лежали на его народе, и потому сам катился к банкротству. Это было бы смешно, если бы не привело к трагическим результатам. В тени дефицита уже возникал призрак гильотины.
Злоупотребления в налоговой системе были неразрывно связаны со злоупотреблениями в области личных привилегий. Короли отняли у дворянства политическую власть, но вовсе не сделали всех французов одинаковыми подданными одного общего для них господина. Неравенство было принципом французского общества, и весь народ по закону был официально разделен на три больших сословия – духовенство, дворянство и третье сословие. Первые два сословия назывались «привилегированными». Их драгоценные права были различными – от предпочтений при допуске ко двору короля до освобождения от тальи, тяжелым грузом давившей все низшие слои общества. По численности привилегированные сословия были в явном и значительном меньшинстве. Все население Франции составляло тогда около 25 миллионов человек. Два благородных сословия насчитывали каждое от 130 до 140 тысяч человек, то есть всего «благородных» французов было около 275 человек. По справедливости к ним следует добавить примерно 300 тысяч буржуа, занимавших официальные должности и имевших гораздо больше льгот и престижа, чем большинство их современников. Таким образом, не больше 600 тысяч французов по закону и обычаю имели положение, очень завидное по сравнению с судьбой 24 миллионов их менее удачливых собратьев.
Духовенство формально считалось выше дворянства, поскольку дела Бога ставились важнее человеческих почестей. Немногим меньше половины этого сословия составляло черное духовенство, то есть монахи и монахини, жившие по монастырскому уставу. Остальное большинство принадлежало к белому духовенству, в которое входили епископы и приходские священники, жившие среди мирян и «заботившиеся об их душах». Эти две ветви духовенства были строго организованы и посылали своих депутатов на ассамблею, которая собиралась раз в пять лет для обсуждения вопросов, затрагивавших интересы духовного сословия, и для голосования по поводу «добровольных даров» королю. Духовные лица имели еще одно право: если их нужно было судить, это делали их собственные церковные суды. Конечно, теоретически они подчинялись папе. Но продолжал действовать конкордат Франциска I, и при Людовике XIV прозвучало много решительных заявлений о «галльских свободах». А потому в действительности любой мудрый понтифик почти не вмешивался в дела французской церкви, и король имел больше влияния на церковные дела, чем его святейшество.
Королевская власть имела основания для того, чтобы так сильно интересоваться делами религии. Было подсчитано, что пятая часть всех земель Франции на тех или иных основаниях принадлежала церкви. В провинции Артуа духовенство контролировало три четверти всей недвижимости. Кроме обычных доходов с этих земель, церковь везде получала десятину со всех сельскохозяйственных продуктов[143]. Она также имела доход от многих «феодальных прав», то есть собирала налоги с обитателей своих поместий. В 1789 г. суммарный доход французской католической церкви был равен более чем 100 миллионам долларов.
Часть этого огромного дохода, правда, шла на больницы, сиротские приюты, содержание церквей и законную милостыню для бедняков. «Добровольные дары» церкви королю и другие налоги, которые духовенство соглашалось терпеть, доходили примерно до 6 миллионов долларов (30 миллионов франков) в год. Остальные доходы распределялись совсем иначе.
Французское духовенство было расколото пополам, и этот раскол уничтожал все духовное благо, которое творили служители церкви. Речь идет об огромной разнице между высшим и низшим духовенством. Высшее духовенство почти целиком состояло из дворян. Младший сын герцогского семейства добивался епископского сана, а его старший брат получал семейный замок. Архиепископов, епископов, аббатов, каноников и тому подобных духовных лиц было общим счетом от 5 до 6 тысяч человек. Они монополизировали подавляющее большинство церковных доходов. Несколько епископов жили в «апостольской бедности» – меньше 50 тысяч долларов (250 тысяч франков) в год. Многие были гораздо удачливее. Кардинал-епископ Страсбурга имел 300 тысяч долларов в год. В своем дворце в Саверне он мог принять 200 гостей одновременно. В его конюшне стояли 180 отличных лошадей. Крупнейшие аббаты иногда были богаче беднейших епископов. Настоятель аббатства Клерво получал 190 тысяч долларов в год: такова была его «монашеская бедность». Среди этого «высшего духовенства» было очень мало людей не из дворянских семей. Монаху или священнику низкого происхождения, каким бы он ни был ученым, одаренным в практических делах или набожным, было почти невозможно перейти волшебную черту и оказаться среди тех, кто был допущен к высшим должностям церкви.
В подчинении у высшего духовенства было минимум 60 тысяч бедных кюре и викариев, набранных из третьего сословия. Правда, часто приходским священником числился какой-нибудь не живший в приходе знатный служитель церкви, который, возможно, добивался удачи при дворе. В этом случае его повседневные обязанности в приходе исполнял какой-нибудь скромный помощник, получавший за это лишь часть дохода, выжатого из брошенных своим духовным отцом плательщиков десятины. Законное жалованье этих приходских священников было крошечным – 350 долларов (1750 франков) у кюре и 175 долларов (875 франков) у стоявших ниже их викариев. Но даже эти маленькие жалованья не всегда выплачивались полностью. Высшие духовные лица при каждой возможности обращались с низшими служителями церкви как с вьючным скотом и перекладывали на их плечи основную часть «добровольных даров» и других сборов, которые духовенство платило королю. Поэтому кюре на слишком любили епископов. Когда произошла революция и церкви потребовалась поддержка всех ее сыновей, приходские священники отказались поддержать своих прежних начальников, когда те пытались сохранить свои привилегии, и еще хорошо было, если кюре не подстрекал крестьян своего прихода к бунту.
В этой французской церкви было много истинно верующих и набожных людей, в душах которых горело пламя истинного христианства, но они не были у власти. А любившие роскошь епископы и аббаты, суетливо крутившиеся вокруг королевского двора, как правило, жили словно миряне и были если не полностью неверующими, то не религиозными людьми. Казалось, что они отличались от знатных мирян только покроем своих цветастых нарядов и невозможностью иметь законных жен. Гугеноты были ослаблены и сокращены численно и превратились в гонимое меньшинство, но самодовольным французским священнослужителям не приходило на ум, что, прогоняя демона ереси, они впустили в свой дом семь других, более могучих бесов – демонов открытой вражды ко всем вообще видам религии. Французское христианство до сих пор расплачивается за то, что было совершенно бездуховным в XVIII в. Людовик XVI однажды, когда его попросили назначить кого-то епископом, слабо запротестовал, сказав, что «считает, что епископ должен по-настоящему верить в Бога». Когда все сообщество епископов стало настаивать на возрождении законов против гугенотов, одному хорошо информированному парижскому служителю церкви задали вопрос: верят ли по-настоящему эти епископы в догмы, которые так настойчиво защищают? Он, не раздумывая, ответил: «Может быть, верят четверо или пятеро» [из 131 епископа].
Такая церковь – богатая, разделенная по социальному принципу и сознательно не уделяющая внимания делу, для которого предназначил ее Бог, – скоро загорелась, как сухие дрова, в огне революции.
Дворянство было менее лицемерным, но не менее уязвимым, чем высшее духовенство. Во-первых, оно делилось на две большие части – «дворянство шпаги» и «дворянство мантии».
Все дворяне были освобождены от низкого налога тальи – главного из прямых налогов. Как уже было сказано, они были частично освобождены и от других прямых налогов. Кроме того, они, потеряв всю политическую власть, которую имели их предки – феодальные правители, все же сохранили право брать некоторые налоги с крестьян в своих бывших владениях. Например, они могли взимать с крестьян сборы за пользование мостами и дорогами, которые феодалы построили в прошлом, как предполагалось, на благо местного населения, а также за пользование местной мельницей (когда-то каждый феодал построил на своих землях мельницу, чтобы молоть на муку зерно своих крестьян). Часто феодалы имели «право на голубятню» и «право охоты», то есть право иметь целые полчища голубей, в которых крестьяне не могли стрелять, сколько бы те ни пожирали их урожай, и скакать по широкому полю за лисой на конях в сопровождении своры гончих, губя при этом на корню огромное количество зерна[144]. Таким образом, у всех дворян были некоторые общие права.
Но над обычным «дворянством шпаги» возвышалось «высшее дворянство» – не более тысячи человек, которые имели гораздо больше почестей.
«Высшее дворянство» состояло из потомков когда-то могущественных феодальных властителей, которые мерились силой с королями. Со времени Людовика XIV эти потомки почти все время жили при дворе «в разорительной роскоши и праздности». Правда, несколько носителей великих имен жили в замках своих предков и честно пытались заботиться о своих обширных земельных владениях, но таких аристократов было очень мало. Как правило, только бедность или немилость короля заставляла высокородного аристократа покинуть Версаль. Высшие из дворян были товарищами короля и должны были жить на соответствующем этому положению уровне. По этой причине многие из них были в больших долгах, несмотря на то что получали от своего повелителя дары и постоянные пенсионы. Известно, что один принц крови имел состояние, равное 28 миллионам долларов, но на деле был должен более половины этой суммы. Поэтому аристократ мог обеспечить себе преуспеяние лишь одним средством – постоянными интригами ради того, чтобы добиться милости короля. Щедрые королевские дары спасут его заложенные имения! Поэтому представители высшего дворянства, как правило, стояли за сохранение навечно всех существующих издавна злоупотреблений правительства.
Это высшее дворянство не пользовалось большой любовью у менее счастливого низшего дворянства, не говоря уж о буржуазии и крестьянстве. Жизнь в Версале постоянно требовала денег, и эти неутолимые требования заставляли аристократов безжалостно требовать арендные платежи, феодальные сборы и т. д. с сельских имений, в которых они редко бывали. А если аристократ отдавал свои права на откуп спекулянту, то, разумеется, становился еще более непопулярным. Правда, среди аристократов были несколько очень просвещенных людей, которые покровительствовали «философам» и соглашались с предложениями ввести «новый порядок». Сам маркиз де Лафайет принадлежал к этой позолоченной знати. Однако в целом, как класс, высшее дворянство было одним из самых уязвимых защитников старого режима.
Ниже аристократов находились примерно 100 тысяч «провинциальных дворян». Это были деревенские помещики, часто с малыми доходами до 600–800 долларов в год. У них были большие семьи, а поскольку во Франции все сыновья и дочери дворянина считались дворянами (младшие дети не становились простолюдинами, как было в Англии), родителям часто было очень трудно обеспечить их жизнь так, чтобы они могли не унижать себя занятием простолюдина – торговлей. В некоторых областях, прежде всего на западе Франции, эти низшие дворяне хорошо обращались с крестьянами и пытались улучшить состояние своего края. Поэтому они были достаточно популярны. В остальных частях страны они были просто алчными, недовольными жизнью владельцами усадеб, которые старались накопить достаточно денег, чтобы уехать из поместья и поискать удачи в Версале. Таких дворян крестьяне ненавидели, и это была заслуженная ненависть. Однако провинциальные дворяне, теснее соприкасавшиеся с низшими классами, были, в своем большинстве, не такими бесчеловечными землевладельцами, как аристократы, и охотнее прислушивались к предложениям либералов. Провинциальное дворянство завидовало высшему дворянству, как бедный родственник завидует богатому. Когда старый режим рухнул, герцоги и маркизы напрасно ждали настоящей помощи от большинства деревенских баронов и «сиров», хотя провинциальные дворяне как класс были очень верны церкви и королю.
Кроме этих двух больших частей «дворянства меча» было еще «дворянство мантии», числом примерно 40 тысяч человек. Они считались такими же дворянами, как остальные, но те смотрели на них свысока, потому что многие «дворяне мантии» пробились наверх из рядов буржуазии и почти все дворяне этого разряда первоначально получили свой статус благодаря богатству, а не родовитости. Это были люди, которые сами (или их предки) добились различных государственных должностей, дававших право на дворянство, – мест в советах короля, должностей президентов в судах и других правительственных должностей, которые (как мы уже видели) часто были наследственными. Кроме того, очень богатый и очень успешный буржуа часто мог приобрести такое влияние в Версале, что получал ту или иную разновидность патента на дворянство. Многие из этих «дворян мантии» были высокомерны, эгоистичны и совершенно некомпетентны в государственных делах, которые крепко держали в своих руках. Но как класс они были гораздо более просвещенными, чем старинное родовое дворянство. Они охотнее проявляли любительский интерес к «философии», были больше склонны хвалить дерзкую отвагу Вольтера и неистовые теории Руссо. Однако, когда им стало нужно действительно отказаться от некоторых из своих любимых привилегий, эти дворяне из судов и «парламентов» были почти так же упрямы и неуступчивы, как князья и герцоги, относившиеся к ним с пренебрежением. В итоге французские реформаторы были очень мало обязаны этой части дворянства.
Подводя итог, нужно сказать, что типичный французский дворянин XVIII в. имел прекрасные манеры в обществе равных себе, был очень умен, постоянно был в долгах и был очень нестрог в вопросах морали, хотя отличался большим чувством «чести» в некоторых случаях, например когда речь шла об обмане в карточной игре. Он умел презирать опасность и на поле боя, и позже перед гильотиной. Но в целом, как класс, эти люди не предложили ни одной конструктивной идеи, как спасти Францию, и проявили очень мало желания пожертвовать своими привилегиями для блага общества. Дворянин украшал собой двор своего господина – короля, но великую нацию нельзя спасти безупречными поклонами и изящными комплиментами в адрес высокородных дам. А дворянство, кроме этого, почти ничего не делало, чтобы оправдать свое существование, и быстро потерпело крах вместе со своим ослабевшим королем и своей выродившейся церковью.
Основная масса народа была включена в третье сословие. Но, разумеется, это огромное множество людей очень четко делилось на несколько групп. Мы сразу можем вычленить в нем буржуазию, класс ремесленников и крестьянство. У каждой группы были свои собственные трудности и беды.
Буржуазия в XVIII в., несомненно, возвысилась и обогатилась. Несмотря на плохое управление страной и катастрофические войны при Людовике XV, торговля и другие виды коммерческой деятельности часто процветали благодаря огромному природному таланту французских купцов[145]. И буржуазия одна получала всю выгоду от этого процветания. Король начал зависеть от крупнейших капиталистов, которые брали на откуп сбор его доходов и предоставляли большие займы, когда этих доходов ему не хватало. Без этих людей он был бы беспомощным и потому должен был платить им хотя бы косвенным образом – почестями и льготами, пусть родовитые дворяне и ворчали по этому поводу. И все же эти богатые и умные буржуа ненавидели действовавший в стране общественный строй, при котором им по-прежнему приходилось платить талью, подчиняться многим нечестным законам и терпеть холодное обращение от дворян. Они постоянно боялись, что король полностью обанкротится и они разорятся вместе с ним. Поэтому они энергично защищали сложные политические реформы.
Эти богачи также были лучшими учениками новых философов Монтескье, Руссо, Вольтера, а работы «экономистов» нигде не читали так охотно, как в гостиных крупнейших банкиров и купцов. Новое учение о равенстве никому не нравилось больше, чем людям, которые по богатству, воспитанию и представлениям о жизни были настоящими благородными дамами и господами, но какой-нибудь граф, распутник и банкрот, унижал их, сажал за «второй стол» или специально обращался с ними грубо.
Большие социальные притязания крупных буржуа, требовавших уважения к себе, отбрасывали свой отблеск вниз – на «средний» и «нижний средний» классы (как их называют в Англии). В эти классы входили торговцы, лавочники и хозяева маленьких мануфактур – достойные, хорошие люди, социальные притязания которых шли не дальше того, чтобы их называли «месье» и «мадам». Отблеск достигал и городских ремесленников. Кроме Парижа во Франции было мало крупных городов, и основную массу населения по-прежнему составляли сельские жители; однако ремесленников было около 2 миллионов 500 тысяч человек – примерно десятая часть всего французского народа. Они были объединены в гильдии и торговые корпорации средневекового типа, а эти учреждения давно изжили себя и перестали быть полезными. Например, если человек не был сыном или зятем члена гильдии, скажем, изготовителей париков в каком-нибудь городе, ему было крайне трудно получить разрешение изготавливать в этом городе парики.
По закону только члены гильдии ремесленников какой-нибудь специальности имели право заниматься соответствующим ремеслом. Но при этом им было строго запрещено заниматься чем-либо, кроме очень узкой отрасли своего ремесла. Если бы кто-то из «дамских башмачников» Парижа посмел делать и продавать детскую или мужскую обувь, это вызвало бы гневный протест и судебный процесс против нарушителя, который разорил бы его. Просвещенные люди понимали, как сильно тормозили подлинное развитие промышленности и как вредили ему эти правила, душившие конкуренцию и все виды инициативы; но казалось, что систему гильдий невозможно отменить. Тюрго, великий министр финансов Людовика XVI, попытался упразднить гильдии, и по этому поводу поднялся такой шум, что планы министра были разрушены, а сам он изгнан с должности. А ведь Тюрго заявлял, что сражается «за первое и самое неоспоримое из всех прав – право на работу».
Таким образом, перед промышленниками и тружениками промышленности во Франции стояли большие преграды, и их трудности добавлялись к проблемам, общим для всего народа.
И вот наконец мы приступаем к рассказу о настоящей основе французского народа – о тех, кто занимался сельским хозяйством. Их было девять десятых всего населения, то есть больше 21 миллиона человек. Примерно миллион из них по закону еще были крепостными[146], но основная масса уже была признана лично свободной. Главной честолюбивой мечтой каждого французского крестьянина было полностью владеть своей землей, но этого счастливого состояния в то время достигли лишь около 500 тысяч из них. Из остальных некоторые были колонами, то есть нанимались в качестве работников в большое поместье на год за одежду, еду, жилье и очень маленькую плату. Другие были поденщиками и трудились за нищенскую ежедневную плату, иногда всего за 25 центов в день. Были крестьяне-издольщики: они обрабатывали землю, полученную в аренду от крупного землевладельца, и за это отдавали ему в виде платы часть урожая, но также платили и часть налогов, а те, вероятно, были огромными. Остальные, вероятно, владели маленькими фермами, которые называли своими собственными, но с которых были обязаны пожизненно платить местному сеньору очень большую ренту, которая называлась ценз, а также выплачивать многочисленные феодальные сборы. Эти плательщики ценза входили в число самых несчастных крестьян.
Полностью свободные, уважающие себя фермеры, платившие только государственные налоги, составляли, как уже было сказано, лишь незначительное меньшинство крестьян.
Кардинал Ришелье однажды сказал, что крестьянин – это «мул государства»! Это было верно в 1630 г. и, к сожалению, оставалось верным в 1789 г. Любое бремя, которое несла на себе страна, в итоге ложилось на многострадальные крестьянские спины. Даже буржуа и ремесленники обычно могли сбросить с себя основную тяжесть суровых налогов, повысив цену на свои товары, крестьяне же были беспомощны. Согласно подсчетам Тюрго, крестьянин должен был платить королю больше 55 процентов своих доходов. Он должен был платить десятину своему кюре, а точнее, церковному сборщику налогов, который, вероятно, был служащим жившего далеко и любившего роскошь епископа. Он должен был платить все перечисленные ранее феодальные сборы, на пример особые налоги за пользование мельницей, давильней для оливок и т. д. Причем платить за такие услуги надо было, даже если крестьянин на самом деле их не получал – например, если мельница была в нерабочем состоянии или ее вообще не было. Он, разумеется, должен был платить еще и налог на соль, а также много косвенных налогов на то вары первой необходимости. Ученые, которые отвечают за свои слова, подсчитали, что король, священник и сеньор вместе отбирали у среднего крестьянина 80 процентов его дохода. Неудивительно, что народ во всей стране был нищим и озлобленным. Даже небольшое несчастье – плохой урожай или болезнь или не самая строгая бережливость означали для крестьянской семьи мгновенное разорение, ведь у крестьян не было ни сбережений, ни защиты. Только из-за своего тяжеловесного консерватизма и своей врожденной законопослушности многие поколения крестьян, как правило, страдали молча. К сожалению, большинство из них, разумеется, были полными невеждами. Системы бесплатных школ во Франции не было. Во многих бедных деревнях кюре был единственным грамотным человеком. Эти невежественные крестьяне могли молча соблюдать внешние правила религии и чтить имя своего короля, но в их души глубоко проникло чувство, что они несчастны и что их несправедливо угнетают.
В 1789 г. возникли особенно подходящие условия для социального взрыва среди низших слоев французского общества. Урожай 1788 г. был очень скудным. Зима 1788/89 г. была необыкновенно суровой. Реки замерзли; в городах никогда не было так много льда. Архиепископ Парижский писал, что «крестьяне дошли до самых низших пределов нищеты». На всех дорогах появилось много крепких телом нищих, бродяг и разбойников. В Париже тогда было примерно 700 тысяч человек, и 120 тысяч из них были признаны нуждающимися. Конечно, значительная часть этой нищеты не могла быть уничтожена одним вводом новых законов; для этого нужно было заботливо поднимать экономику и провести реформы. Но когда крестьян в 1789 г. вызвали на Генеральные штаты и велели им рассказать об их жела ниях и бедах, они, разумеется, жаловались очень громко. Крестьяне Шампани писали в одной своей «тетради» (так назывался перечень жалоб): «Если бы вы могли увидеть бедные хижины, в которых мы живем, и жалкую еду, которую мы едим, это зрелище сказало бы обо всем лучше, чем наши слова, которых мы не можем сказать больше, чем уже произнесли, и которых нам бы следовало сказать меньше»[147].
У крестьян не было сложных политических теорий. Непосредственно у них было два желания – отмена феодальных сборов и значительное облегчение налогов. Но за ними стояло сильное желание получить под свой полный контроль больше земли, в особенности той, что теперь принадлежала сеньору и епископу. Как только им дали возможность осуществить это желание, они нанесли удар.
Это было очень приблизительное описание лишь некоторых из сложных бед французского старого режима. Совершенно ясно, что такое огромное количество пороха должно было взорваться, как только к нему поднесут спичку, и потрясти весь мир. И все же почти никто или вообще никто не замечал неотвратимой опасности.
Все верили, что реформы будут, но произойдут очень мягко и безболезненно. После тех поразительных событий, которые произошли потом, один французский дворянин написал: «Не жалея о прошлом и не опасаясь будущего, мы весело танцевали на расписанном цветами ковре, который был протянут над пропастью».
Так духовенство, дворянство и третье сословие вступили в 1789 г.
Глава 14. В огне рождается новый режим: 1789—1792
Главные течения революции. Организационные трудности. Волнение в Париже. Трехцветный флаг. Мятежи в Париже. Крупномасштабные реформы. Король и революция. Духовенство сопротивляется конституции. Законодательное собрание прерывает работу. Гора и жирондисты. Робеспьер. Две партии войны. Движение к новой революции. «Марсельеза». Новая ситуация
«Ни одна страна никогда не влияла на Европу так, как влияла на нее Франция с 1789 по 1815 г. Увлекаемые двумя мечтами – мечтой о войне против королей ради народа и мечтой об основании империи, подобной империям Цезаря и Каролингов, французские армии опустошили континентальную Европу и на своем пути растоптали много пышной растительности, которая больше уже не поднялась», – написал авторитетный историк, и его слова полностью соответствуют истине. Они даже слишком слабы. Сегодня на земле нет ни одного человека, на чью жизнь, мысли и судьбу не оказало глубокого влияния то, что произошло во Франции или возле Франции в эти двадцать пять лет бурных событий, ярости и огня.
В кратком обзоре истории Франции крайне трудно дать достаточно подробное описание событий тех бурных лет, которые получили название Французская революция. Эти события нужно было бы описывать не по годам, а по месяцам или даже по дням. Надо бы описать бесчисленное множество людей и проанализировать их действия. Надо бы попытаться распутать клубок необыкновенно сложных сил, говорить и о Париже, и о французских провинциях, и об иностранных врагах французского народа. Но и такой рассказ был бы очень неадекватным. В таких обстоятельствах лучше всего ограничиться одним лишь сухим перечислением самых важных фактов, чтобы связать историю старой монархии с историей Франции XIX в. Того, кто желает прочесть яркое и по-настоящему содержательное повествование об этих годах, я, конечно, должен отослать к многочисленным прекрасным исследованиям, специально посвященным революции.
В 1789 г. практически весь французский народ, за исключением нескольких эгоистичных получателей пенсионов, близоруких дворян и живших как миряне священнослужителей, был убежден, что страна в плохом состоянии и готова к применению радикальных мер и сильнодействующих лекарств. Прежние реформы осуществлялись с полного согласия всех умных людей страны. Но трудности усиливались, становилось все тяжелее претворять в жизнь политические теории Руссо, а непосредственными результатами первых реформ почти везде стали путаница в делах, бедность и несчастья. Поэтому теперь положение быстро ухудшилось: партии начали бороться одна против другой, и при этом радикалы постоянно призывали применить более сильнодействующие лекарства для лечения болезней общества. Вскоре началась война с другими странами и возникла угроза вторжения немецких войск. От этого внутренние разногласия обострились, хотя уже одна угроза из-за границы должна была бы приумножить патриотизм. Это еще больше усилило радикализм, и в итоге власть перешла к постепенно уменьшавшейся группе фанатиков, готовых отнять жизнь у любого человека, вставшего на пути их диктаторского режима, который должен был «обеспечить народу счастье». Потом наконец слишком туго натянутый канат лопнул: фанатиков свергли более здравомыслящие французы, к которым вернулось мужество. Нападение иностранных врагов удалось отразить, и в 1795 г. Франция была вся в ушибах, ранах и крови, но без своего средневекового короля и средневековых учреждений и с целым набором новых учреждений, общественных и политических. Правда, тогда они не принесли ей «свободу, равенство и братство», которых требовали ее патриоты: для этого понадобилось еще около ста лет утомительной борьбы и отсрочек. Но все же эти новые учреждения были гораздо больше, чем прогнивший старый режим, рассчитаны на то, чтобы способствовать процветанию и счастью. Вот, в нескольких словах, описание того, что произошло во Франции. Все эти бурные события в целом и были знаменитой Французской революцией.
Первую часть 1789 г. французы провели в волнении: они участвовали в новом для них событии, которое американцы назвали бы большой политической кампанией. Выдвижение кандидатов и выборы в нашем смысле этих слов были почти неизвестны в стране, которая претендовала на первенство в Европе. Таких случаев почти не было. Чтобы найти предыдущий, надо было рыться в заплесневевших документах 1614 г. Правительство, которое приказало созвать Генеральные штаты, к сожалению, не смогло организовать очень многие подробности, необходимые, чтобы процедура выборов проходила без осложнений. Голосование должно было проходить по непрямому методу, то есть рядовые участники голосования выбирали «выборщиков», а те, в свою очередь, называли депутатов, которые должны были поехать в Версаль. Можно было бы обойтись без такой сложной системы. Дворяне, духовенство и третье сословие должны были собраться раздельно в каждом округе, выбрать своих депутатов и подготовить свои «тетради» (списки жалоб, которые будут поданы королю). То, что эта непривычная процедура прошла спокойно и успешно, свидетельствует, что французы в среднем люди солидные и практичные. Когда были составлены списки, депутатов оказалось 1214: 285 от дворянства, 308 от духовенства и 621 от третьего сословия. Среди дворян было много крайних консерваторов, однако была и небольшая, но все же не крошечная группа восприимчивых к новым идеям либералов, таких как Лафайет. Духовенство четко разделилось на две части: высшие иерархи церкви с их реакционными взглядами и значительное число (205) деревенских священников, которые были тесно связаны со своими приходами и очень не хотели получить законы из рук своих богатых начальников. Среди депутатов от третьего сословия две трети были адвокатами различных специальностей. Именно адвокаты из всех непривилегированных французов были самыми начитанными и имели больше свободного времени, чем остальные. Настоящих крестьян было очень мало, и они пока еще плохо понимали, для чего нужны все эти разговоры и голосования. В общем, Генеральные штаты были в высшей степени солидным и респектабельным собранием.
Людовик XVI и Неккер позволили этому многочисленному обществу собраться в Версале 5 мая 1789 г. для великолепного шествия и открытия сессии. Первое заседание происходило в большом зале дворца. К величайшему изумлению многих, вскоре стало ясно, что ни у короля, ни у его министра нет определенной программы для Генеральных штатов. Ни тот ни другой не знали, как организовать Штаты и каким должно быть следующее действие собрания. Речи Людовика XVI и Неккера были полны общих слов о благосклонности оратора к депутатам, а о дефиците оба говорили так, словно это была единственная важная проблема. Генеральные штаты (так казалось слушателям) были созваны в основном для того, чтобы внести в налоговую систему некоторые изменения и этим помочь королю избежать банкротства, – больше ни для чего. Слушатели были глубоко разочарованы.
За этим разочарованием последовало еще большее разочарование и смятение. Будут ли депутаты голосовать по сословиям или поголовно? «По сословиям» означало, что представители каждого сословия будут заседать в своей палате, а закон, чтобы вступить в силу, должен быть принят всеми тремя сословиями. В этом случае большинство представителей одной палаты – например, большинство дворян – могли заблокировать решение, которое очень желала бы принять основная масса представителей двух других сословий. Если бы голосование было «поголовным», представители всех трех сословий заседали бы вместе. Тогда третье сословие имело бы явное большинство и еще могло бы рассчитывать на поддержку деревенских кюре. Разумеется, все либеральные депутаты хотели второго решения, но король и Неккер, как ни странно, не разработали безукоризненную в формальном смысле процедуру принятия решения по этому важнейшему вопросу. Дворяне сразу же начали организовывать свою отдельную палату. Духовенство колебалось. А представители третьего сословия решительно отказались собираться для работы, заявив, что «это будет просто собрание граждан», пока остальные депутаты не присоединятся к ним. Возникла крайне неудобная тупиковая ситуация. Но вскоре некоторые кюре стали переходить на сторону третьего сословия. Его представители наконец набрались мужества и объявили себя истинными «представителями нации», заявили, что станут работать, не дожидаясь остальных депутатов, и провозгласили себя законным Национальным собранием Франции.
Дворяне-реакционеры были в отчаянии. Они получили доступ к королю и убедили его оказать давление на Генеральные штаты, чтобы те заседали тремя палатами. И вот 20 июня представители третьего сословия обнаружили, что их зал заперт. Им сказали, что очень скоро начнется «королевское заседание». Разгневанные депутаты перебрались на одну из глухих улочек Версаля, в общественный зал для игры в мяч, там, во главе со своим президентом Байи, дали торжественную клятву, которая оказалась судьбоносной, – что они не разойдутся, пока не дадут Франции конституцию. В этом возвышенном настроении они 23-го числа пришли на «королевское заседание». Людовик XVI собрал все свое мужество и прочел депутатам суровое наставление. Он сказал, что они должны собираться тремя отдельными палатами и не вмешиваться в вопросы, которые касаются феодальных сборов и десятин. «Если вы покинете меня, я один разработаю план, как моему народу достичь блага!» – предупредил он.
Дворяне и бо́льшая часть духовенства ушли из зала вслед за королем. Представители третьего сословия невозмутимо остались сидеть. Появился раздувшийся от важности придворный – церемониймейстер Брезе. «Господа, – сурово произнес он, – вы все слышали приказ короля!» В ответ со своего места поднялся Мирабо[148] – депутат, который уже стал главным среди своих собратьев. «Да, месье, мы все слышали то, что сказал король», – прозвучал его голос. А потом он произнес слова, эхо которых услышала и на которые отозвалась аплодисментами вся Франция: «А вы скажите тем, кто вас послал, что мы находимся здесь по воле народа и покинем наши места только на остриях штыков!» Брезе шаркающей походкой вышел из зала, представители третьего сословия удержали свои позиции. Они решили не расходиться. Они проголосовали за свою «неприкосновенность», то есть объявили, что их нельзя подвергать аресту. Они начали решать дела всего королевства.
Что было делать Людовику XVI? Разогнать депутатов с помощью солдат? Возможно, солдаты и подчинились бы такому приказу, но что сказал бы народ, который встревожен и ждет, что будет дальше? Как быть тогда с новыми налогами, которые могли бы отсрочить банкротство? Король был слишком гуманным для того, чтобы с радостью обнажить оружие против собственного народа.
В конце четвертого дня противостояния он капитулировал и попросил представителей двух других сословий присоединиться к депутатам третьего сословия и работать всем как единый орган. Духовенство и большинство дворян сразу же подчинились, и Национальное собрание стало полным. Разумеется, у третьего сословия было большинство. Депутаты сразу же начали объединяться в комитеты для составления проектов тех законов, которые должны были спасти Францию.
Король сдался, но королева и придворные не сдавались. Для Марии-Антуанетты и ее легкомысленного, жадного до денег окружения все действия упрямцев, которых они считали непокорным сбродом, были величайшим оскорблением. Нужно было срочно переходить к действиям, иначе королевство погибнет. И они стали оказывать давление на Людовика. Маршал де Брольи начал собирать войска, и в Версаль стали входить странные полки, состоявшие из надежных иностранных наемников. А 11 июля внезапно появился королевский указ о немедленном изгнании из Франции Неккера (которого по-прежнему считали защитником реформ). Собрание теперь должны были разогнать или подчинить власти те солдаты, которым Мирабо бросил вызов. И в этот момент словно раздался гром среди ясного неба: парижане взялись за оружие. Парижская чернь стала военной силой, спасла Собрание, устрашила короля и продолжила революцию.
Жители огромной столицы пред восстанием несколько дней были в сильнейшем волнении. Из Версаля, до которого было немногим больше 10 миль, в Париж прилетали всевозможные слухи. Сады огромного здания, которое называется Пале-Рояль, стали местом сбора для многих тысяч шумной, жестикулирующей молодежи и сильно обеспокоенных людей постарше. И вот 12 июля в городе стало известно, что Неккер отстранен от должности. Это был явный признак возвращения назад, к самодержавию. Молодой журналист Камилл Демулен вскочил на стол, держа по пистолету в каждой руке, и крикнул вздымавшейся как волна толпе: «Граждане! (Это слово было тогда новым во Франции.) Нельзя терять время! Отставка Неккера – это удар в колокол Варфоломеевской ночи для патриотов! К оружию!»
Париж вздрогнул и очнулся. Все неупорядоченные силы этого города – большого, порочного, роскошного, но при этом полного людей, преданных новым идеям свободы и братства, – объединились и вспыхнули ярким огнем. Слабая полиция была оттеснена в сторону. Французская гвардия (что-то вроде гарнизона из ополченцев) побраталась с мятежниками. Арсеналы были открыты, и народ взял из них оружие. Выборщики[149] наскоро создали правительство для города и начали набирать солдат в Национальную гвардию[150]. После дня полной неразберихи началось что-то похожее на упорядоченные действия. И 14 июля вооруженная толпа бросилась на замок короля, на старую тюрьму, где узники сидели «по желанию короля», – на Бастилию. Ее тюремные башни уже не были заполнены арестантами, но она была символом власти аристократов. У Делоне, коменданта Бастилии, были пушка и крепкие стены, так что он смог бы отбить атаку, но солдаты его малочисленного гарнизона пришли в ужас, увидев перед своими воротами тысячи разъяренных людей. Комендант вступил в переговоры с восставшими и сдался. Потом толпа позорно убила его, когда те, кто захватил его в плен, вели его в мэрию.
Гонцы срочно помчались с этим известием в Версаль, а там герцог де Лианкур без всякой подготовки сообщил новости Людовику XVI. «Это бунт!» – воскликнул король. «Нет, государь, это революция», – ответил рассудительный герцог. Весь план придворной партии рухнул как карточный домик. Покорить бушующий Париж – совсем не то, что разогнать безоружных депутатов. Неккер был возвращен, а положение Собрания стало прочным как никогда.
В одном отношении Франция, несмотря на таможенные заставы на границах провинций и на многие другие разделительные линии, была очень централизованной страной: Париж господствовал над остальной страной и в политической, и в интеллектуальной жизни. Казалось, что за пределами великой столицы почти невозможны какие-либо организованные усилия народа. Во многих сельских округах невежество и политическая апатия населения были огромными. Один умный путешественник-англичанин[151] 4 июля 1789 г. оказался в процветающем городе Шато-Тьерри. Он не смог там найти ни одной газеты (а в Париже их тогда было множество), чтобы узнать о великих событиях, произошедших во Франции.
«Какая глупость, бедность и отсутствие информации! – написал он. – Вряд ли этот народ заслуживает свободы. Даже самая слабая, но решительная попытка остановить их силой, если бы произошла, вряд ли потерпела бы неудачу». Но вот новость о том, что мрачный замок короля взят штурмом, долетела до всех маленьких деревень и ферм. Среди крестьян сразу же начался ропот, а от слов они быстро перешли к энергичным и жестоким действиям. Долой ненавистные «феодальные пошлины», грабительские налоги, тиранические барщины! Если слова «права народа» что-то означают, то они значат именно это! И скоро во многих округах вечернее небо стало красным от пожаров: горели замки беспомощных дворян. В других местностях крестьяне совершали меньше насилия: они только сжигали книги, где были записаны их феодальные пошлины, думая, что, уничтожая запись, отменяют этим пошлину.
Повсюду был беспорядок, и положение могло стать еще хуже. Армия была ненадежна. После 14 июля король капитулировал. Он приехал в Париж, и у ворот его встретил только что выбранный новым городским правительством мэр столицы. Этот выскочка-чиновник сказал его величеству: «Когда-то Генрих IV снова завоевал свою столицу. Теперь столица снова завоевала своего короля!» Повсюду сияли новые трехцветные флаги и кокарды. Этим цветам революции потом было суждено реять над полями множества сражений в войне за свободу[152]. Всюду возникали отряды Национальной гвардии – ополчения патриотов. Они должны были защитить то, что люди теперь радостно называли революцией.
Собрание какое-то время пыталось продолжать свои сложные споры о «правах человека» и основных принципах просвещенного правления. Но 4 августа один из комитетов представил более близкий к жизни отчет о беспорядках во Франции: повсюду происходят мятежи и поджоги, очень часто чернь убивает людей (американцы сказали бы «линчует»), сбор налогов прекратился, и в итоге стране угрожает анархия. Внезапно либерально настроенный дворянин, виконт де Ноайль, заявил, что нужно вырвать корень зла, то есть отменить все феодальные права.
Вскоре депутаты в горячем порыве самопожертвования объявили упраздненными все старые средневековые злоупотребления и непомерные поборы. Духовенство отказалось от части самых дорогих для него налоговых льгот. Депутатов охватила какая-то неистовая страсть к великодушному самоотречению. Людовик XVI, который не был среди них и ничего не знал об этих дебатах, большинством голосов был объявлен «восстановителем французской свободы»! Целая масса освященных веками несправедливостей исчезла из сводов законов (точнее, казалось, что исчезла). Второй такой ночи, как эта, никогда не было во французской истории.
Голосовать за все это было легко и чудесно. Гораздо труднее было заново строить страну на старом расшатанном фундаменте и претворить красивые слова в жизнь. Трудности еще усиливались тем, что все, кто утратил старинные феодальные привилегии, должны были получить компенсацию. Откуда взять на это деньги теперь, когда налоги почти перестали поступать и Неккер уже не мог придумать, как предотвратить банкротство? День 4 августа 1789 г. – славная дата в истории, но он стал не концом, а началом борьбы и неописуемого беспорядка.
Теперь революция набрала полную скорость. Власть почти сама упала в руки тех солидных буржуазных слоев, которые были умом страны и очень хотели разумных и долговечных реформ, но так же сильно хотели не допустить анархии в стране. Однако низшие слои общества уже стали почти неуправляемыми. Королевский двор и дворянство не оказали революции честную поддержку, буржуазия не смогла взять ситуацию под контроль, и все шансы оказались у экстремистов. Король, может быть, искренне желал принять новый порядок. Но королева и суетившиеся вокруг нее пустоголовые принцы и принцессы не желали этого делать. Им вся эта ситуация казалась чудовищной и невыносимой. Чтобы сохранить ускользавшие от них привилегии, они решили рискнуть покоем и безопасностью Франции. В сентябре они возобновили июльские интриги. Опять в Версаль были введены войска (они надеялись, что теперь это будут надежные части). В ночь 1 октября был устроен большой банкет для новоприбывших офицеров. На нем было выпито много вина и сказано много общих слов. Королева присутствовала на банкете во всем блеске своей красоты, офицеры приветствовали ее и громко выкрикивали клятвы верности и пили здоровье королевской семьи при блеске обнаженных шпаг и под гром оркестра, игравшего роялистскую песню: «О Ричард, мой король! Весь мир тебя покидает, но я – нет». Рассказывали, что потом участники празднества злобно растоптали трехцветные кокарды и им были розданы белые кокарды – цвета королевского семейства Бурбон, а после этого к офицерам присоединились очаровательные дамы, которые укрепили их верность и прикололи им к одежде белые ленты.
Это была глупая демонстрация, достойная глупого старого режима. Придворной партии надо было привлечь на свою сторону не офицеров, а солдат их полков. Разумеется, рассказ об этой выходке, с соответствующими случаю преувеличениями, достиг Парижа. Столица снова забурлила. От новой свободы хлеб не стал дешевым, и очень многие парижане голодали. И вот 4 октября народ устроил бурную демонстрацию перед мэрией. Во главе демонстрантов шли рыночные торговки – крупные женщины с сильными руками. Похоже, что вместе с ними были мужчины в женских платьях. Молодая Национальная гвардия вышла им навстречу, но вряд ли можно было надеяться, что она примет какие-то суровые меры. «Вы не станете стрелять в женщин!» – раздался чей-то голос. Потом кто-то, вероятно желая, чтобы демонстранты не устроили бунт в Париже, начал бить в барабан и кричать: «В Версаль!» И вся толпа, во главе с женщинами, кричавшими: «Хлеба!», пошла прочь от мэрии. Лафайет, командир Национальной гвардии, последовал за ними с большинством своих людей. Он не был уверен в своих подчиненных и был очень встревожен всем, что произошло.
Король вел с делегацией Собрания переговоры о признании недавно разработанных «Прав человека», когда в Версаль ворвалась пестрая толпа, пришедшая из Парижа. Сначала ворота королевского замка были закрыты, и, когда к нему подошел Лафайет со своими людьми, показалось, что опасность прошла. Но на рассвете следующего дня охрана ослабила бдительность. Несколько человек из толпы (те, кто сильнее остальных жаждал выпивки) прорвались внутрь резиденции и убили нескольких королевских телохранителей, защищавших покои королевы. Лафайет в конце концов собрал вокруг себя достаточное число надежных людей и остановил мятеж, но настроение толпы (в том числе и национальных гвардейцев) было таким, что безопасности быть не могло, пока король не согласится уехать в Париж со всей своей семьей. Король согласился и отправился туда. В пути его сопровождал Лафайет, но вокруг королевской кареты шла буйная толпа разъяренных женщин, которые вскидывали вверх руки и, ликуя, кричали во все горло: «У нас есть булочник, булочница и мальчишка-подручный! Теперь у нас будет хлеб!» (5 октября).
Короля поселили в старом дворце Тюильри. Депутаты Собрания (вероятно, без сожаления смотревшие на то, как унижают королевский двор) поспешили вернуться в Париж вслед за королем и возобновили свои дебаты в большом здании школы верховой езды, поблизости от дворца. Революция снова была спасена от реакционеров-роялистов, но это спасение дорого ей стоило. Не решение суда в результате проведенного по правилам процесса заставило двор вернуться, это сделала грубая сила черни. Теперь и король, и Собрание находились в Париже, городе тысячи страстей. Они знали, что, если будут сопротивляться капризам пылкого, часто меняющего свое мнение народа, косматые мятежники применят против них физическую силу. В результате с этих пор экстремисты из парижских предместий все больше принимали волю своего узкого круга людей за волю всей Франции, привыкали говорить от имени всего народа и, если им сопротивлялись, оправдывать именем народа любое кровавое дело.
Однако вначале эти зловещие люди не были преобладающей силой. У депутатов Собрания было много доброй воли и патриотизма, и теперь оно наконец принялось за великое дело реорганизации страны. Следующие два года были сравнительно спокойными, и уже достаточно близким к правде казалось утверждение, что революция в общем и целом произошла без большого кровопролития. До сих пор существует большое различие в мнениях о том, насколько хороши были новые учреждения, которые Собрание дало Франции в это время. В целом можно сказать, что ошибки французов были грубыми, но, учитывая полное отсутствие у них политического опыта (который им раньше не позволяли приобрести), ошибки были не больше, чем можно ожидать[153]. Многие постановления, принятые в 1789–1791 гг., до сих пор остаются законами Франции, и, возможно, многие другие постановления того периода не заслуживали гибели.
Тем не менее картина была печальная: огромное здание конституционного законодательства было старательно и трудолюбиво построено, затем объявлено практически вечным, а после этого исчезло в дыму и крови меньше чем через год после того, как из предложений стало действительностью.
Лучше просто перечислить главные указы, принятые Собранием в те годы, чем вскользь упоминать о причинах каждого изменения. Во Франции еще не было серьезного движения за установление республики, однако те, кто составлял проект конституции 1789 г., находились под сильным влиянием догматов Руссо и Монтескье. Они желали отдать всю власть народу, но не упраздняли наследственный сан короля. Они желали иметь эффективную исполнительную власть, но сильнее этого желания был страх, что эта исполнительная власть станет нарушать права народа. Кроме того, они очень боялись, что король каким-то образом уничтожит новые свободы, развратив или обманув законодательные учреждения государства. В результате получилась конституция, в которой было очень много хорошего, но, когда ее применили на практике, она с первой же минуты не работала нормально. Разумеется, она не могла избежать критики и неприятия.
Если бы одни намерения сделать государство либеральным могли сделать великую страну процветающей, то Собрание, конечно, легко вывело бы Францию на широкую дорогу к счастью. Все старые ограничения на торговлю и занятие ремеслами были отменены. Гугеноты и евреи получили полную терпимость к их верованиям. Право старшего сына на наследство и другие подобные ему права наследования, направленные на то, чтобы продлить существование аристократического общества, были отменены. Были уничтожены все дворянские титулы, а священники стали считаться всего лишь чиновниками. Собрание отменило смертную казнь за многие преступления. Было провозглашено, что все французы равны перед законом, все обязаны платить налоги в меру своих возможностей и все имеют равные права на получение работы от государства. Прежние провинции были мощной опорой изоляции, партикуляризма и мелочных местных интересов. Теперь они были упразднены. Франция была разделена на 83 департамента, примерно одинаковые по размеру. Им дали названия по находившимся на их территории рекам, горам и т. д. Департаменты делились на округа, округа – на кантоны, а те – на еще более мелкие коммуны, которые стали наименьшими территориальными единицами страны. Всего было 44 828 коммун. Франция стала государством, организованным очень четко и по единому плану. В этой новой нервной системе страны все команды исходили из центров – из правительственных органов, расположенных в Париже.
Были отменены и неэффективные суды. Был создан один для всей страны высший судебный орган – Кассационный суд, а ниже его – система местных судов различного уровня. Самым низшим уровнем были мировые суды в кантонах. Судей должны были выбирать их земляки-сограждане сроком на десять лет, а для рассмотрения серьезных преступлений были созданы суды присяжных – очень сильная мера безопасности. Собрание также проголосовало за составление единообразного кодекса законов, но эту великую задачу смог решить только Наполеон. В свою очередь были отменены старые налоговые злоупотребления. Провинциальные таможни перестали существовать, когда исчезли провинции. Другие налоги были упрощены, их размер стали определять на научной основе. Началось осуществление проекта по созданию системы всеобщего образования. Короче говоря, Собрание заслуживает большой похвалы за выдающиеся успехи или принятие многообещающих законов в социальной, экономической и юридической области. Значительной части его дел была суждена долгая жизнь именно потому, что они были достойны долгой жизни.
Вероятно, члены Собрания очень гордились (и это была вполне заслуженная гордость) своей торжественной Декларацией прав человека, семнадцать статей которой стали настоящим символом веры Революции. Хотя термины, использованные в ней, сразу же напоминают о Руссо и Монтескье, мало кто из истинных американцев мог бы оспорить ее главные принципы. «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах, – было сказано в статье I. – Социальные различия могут быть основаны только на всеобщем благе»[154].
Но при разработке политического механизма, который должен был обеспечить бесперебойную работу всех этих желанных законов и теорий, Собрание совершило грубейшие ошибки. Правду говоря, обстоятельства сложились бы гораздо лучше, если бы законодатели имели дело с королем другого типа. Людовик XVI не отверг революцию открыто и не рискнул начать гражданскую войну, но и не отрекся достойно от престола. Но он и не принял ясно и непритворно тот новый порядок, который отнял у него все права творца законов и оставил ему только почетную роль главного чиновника государства. Он делал одну уступку за другой, но ни разу не уступил так, чтобы современники поверили, что он рад сменить головокружительные почести самодержца на более безопасную жизнь наследственного президента. Это был просто полный добрых намерений и совершенно сбитый с толку человек, которого волна непреодолимых обстоятельств несла от одного события к другому. Хуже всего было то, что он не нашел в себе мужества, чтобы заставить замолчать свою жену и ее открыто реакционных советчиков. Он сделал своими врагами многих могущественных вождей, которых ему следовало расположить к себе, и не мог скрыть своего отвращения ко многим нововведениям, которые был бессилен предотвратить. От своих знатнейших дворян и даже от собственных братьев он получал очень мало поддержки и мало мудрых советов. Они открыто сердились на него за нежелание сопротивляться требованиям народа с помощью силы. Для Людовика наилучшим выходом было бы открыто возглавить защитников Нового порядка и сделаться настоящим «королем-гражданином», защитником и трибуном народа. Тогда все сторонники революции, вероятно, объединились бы вокруг него, и он был бы в безопасности. Но на такое дерзкое и отважное предприятие не был способен этот неповоротливый, с вялым умом добряк, который унаследовал титулы Людовика XIV.
В любом случае Собрание подготовило для Франции конституцию, согласно которой работа короля-президента была бы трудной даже для очень одаренного человека. Законодательный орган должен был состоять из всего одной палаты. Возможно, это решение было принято отчасти потому, что французские депутаты ненавидели палату лордов, а отчасти, вероятно, потому, что они не желали выглядеть подражателями Англии. Члены этого единого собрания должны были избираться на два года голосованием всех граждан, достигших двадцати пяти лет и плативших прямой местный налог, равный их трехдневному заработку[155]. Король никаким образом не мог распустить этот орган или принудить его к чему-то. Первоначально предлагали, чтобы у короля не было права вето на решения законодателей. Но предполагалось, что он будет выбирать министров, которые станут исполнять все законы и будут отвечать за бесперебойную работу правительства. Королю прямо запретили брать своих министров из числа членов нового Законодательного собрания. Поражает, что большинство составителей конституции не видели, как порочна такая структура. Она даже при этих условиях должна была порождать бесконечные разногласия между исполнительной и законодательной властями. Разрешить противоречие между ними могла только новая революция. Мирабо ясно осознавал эту угрозу и предупреждал о ней, но радикалы посчитали его «слишком умеренным» и продолжили свой путь к катастрофе.
Но самое большое препятствие для укрепления нового порядка создало неуместное постановление Собрания, поссорившее их с церковью. Дефицит бюджета сохранялся. Неккер был в отчаянии и меньше, чем когда-либо, мог придумать, где найти деньги. И в 1790 г. Собрание, не подсчитав все возможные убытки, вынесло постановление о национализации (то есть фактически конфискации) обширных земель церкви. Правда, духовенству была обещана компенсация за потерянные при этом доходы, но ближайшим результатом постановления было то, что собрание смогло начать выпуск ассигнаций (бумажных денег, обеспеченных ожидаемой выручкой от продажи церковных земель). Сначала тиражи были небольшими, но потом стали печатать все больше таких денег, и в итоге Франция испытала на себе все затруднения и горести, которые создает обращение сильно обесценившихся бумажных денег.
Этот закон, разумеется, встревожил всех служителей церкви. А вскоре был принят документ, который был для них еще хуже, – Гражданская конституция духовенства, следовать ему были обязаны все священники. Собрание принялось реорганизовывать французскую церковь, как будто получило на это разрешение непосредственно от самого папы. Вместо 135 епископов теперь было только 83 (по одному для каждого департамента). Этих высоких иерархов и сельских кюре должны были избирать те же выборщики, которые выбирали чиновников мирской власти. Количество монастырей было сокращено, принятие монашества сделалось трудным. Не было никаких попыток провести богословские различия между французским и римским католицизмом. Но в целом действие нового закона привело к тому, что «католицизм во Франции стал отличаться от римского католицизма, по меньшей мере в области дисциплины, канонических учреждений и духовной юрисдикции».
Вскоре стал очевиден результат этого неудачного закона. У Собрания было вполне достаточно и даже слишком много мирских проблем, которые оно могло бы решить, не затевая ссору с католической церковью. До этого времени большинство сельских кюре и некоторые наиболее достойные епископы были на стороне нового порядка. Теперь же почти все служители церкви, кроме приспособленцев, живших как миряне, подчинились папе, когда тот запретил им приносить присягу, которую потребовали от них власти (1791). Тем, кто не присягнул, пришлось покинуть свои епархии или приходы: их вытеснили с мест остальные, менее достойные собратья, которые незаконно захватили их должности и церкви на том основании, что были «присягнувшими» или, иначе говоря, «конституционными» священниками. Изгнанники сразу же стали центром опасного раскола во французском обществе, очень почитаемыми людьми для набожных мирян и большой постоянной опасностью для всего дела революции. Но главным было то, что король (очень набожный католик) был оскорблен и разъярен настолько, что его примирение с законодателями было почти невозможным. Гражданская конституция духовенства была самой грубой из грубых ошибок Собрания.
В апреле 1791 г. умер Мирабо, самый здравомыслящий из лидеров революции, который в 1790 г. напрасно пытался сдержать экстремистов и добился неплохого взаимопонимания с королем. Скончался единственный выдающийся человек, который понимал, к чему идет Франция. Людовик XVI был в отчаянии. Он дал согласие на новые законы о церкви лишь потому, что считал, что его принуждают согласиться, а он не может сопротивляться. Его брат, граф д’Артуа, и многие дворяне уже стали эмигрантами, то есть бежали из Франции. Теперь они поднимали на войну правителей Австрии, Пруссии, Испании и Савойи, умоляя их заступиться за собрата-монарха, чьи подданные каждый день дают всем народам Европы уроки неповиновения. Людовик и Мария-Антуанетта тоже были склонны к тому, чтобы позвать на помощь иностранные армии для поддержки шатавшегося трона когда-то высокомерных Бурбонов. Чего стоил бы трон, сохраненный таким унизительным способом? Ни король, ни королева не были в настроении задуматься над ответом на этот вопрос.
И вот 21 июня 1791 г. Людовик XVI и королева бежали из Парижа. Мария-Антуанетта переоделась знатной русской дамой, а ее муж оделся лакеем дамы. Супруги направлялись в Лотарингию, где, как они предполагали, находился со своей армией верный им генерал и откуда они в любом случае легко могли бежать за границу. Но все это бегство было одним длинным рядом грубых ошибок. Сторонники короля настояли на том, чтобы супруги ехали как путешествующие знатные особы – в громоздкой карете и с множеством вещей, среди которых была, например, ванна королевы, и этим замедлили движение беглецов. Если бы король и королева спешили, то, несомненно, смогли бы благополучно скрыться. Но в этих обстоятельствах была поднята тревога, возле города Варенна их арестовали, держали в позорном плену в комнатах над бакалейной лавкой, а потом вернули в Париж, подвергая в пути всевозможным унижениям. Побег не удался, но этой попыткой король раскрыл свои подлинные чувства и опозорил себя перед всем миром, показав, что не солидарен со своим народом и не дружествен к нему. Когда он возвратился, столица встретила его «молчанием, полным укора». Эта тишина была зловещей, как открытая угроза. Собрание временно отстранило его от должности.
В этой ситуации Людовику XVI оставалось лишь отречься или ждать, пока его свергнут. Но депутаты Собрания очень не хотели отдать власть над Францией брату короля, графу Прованскому, реакционеру и эмигранту. А если рассуждать логически, именно он стал бы регентом при малолетнем дофине. Депутаты еще были очень далеки и от желания провозгласить Францию республикой[156]. Умные люди понимали, что Людовик в его положении заслуживает не только упрека, но и сочувствия. Со своей стороны, король, который был в очень смиренном настроении, был готов утвердить новую конституцию. В конце концов было заключено торжественное перемирие. И 14 сентября 1791 г. Людовик XVI написал Собранию: «Я принимаю конституцию и обязуюсь поддерживать ее внутри страны, защищать ее от всех нападений извне и всеми средствами, предоставленными в мое распоряжение, добиваться ее исполнения». На этих условиях королю вернули власть. И 29 сентября, когда он закрывал Собрание, из зала в его адрес летели аплодисменты, его поздравления и добрые слова. Перед этим он произнес полную дружелюбия речь, и кто-то в зале крикнул, что она «достойна Генриха IV». Однако дальнейший ход событий показал, что этот пылкий восторг был напрасным.
Робеспьер, о котором вскоре весь мир услышал очень много, тогда заявил: «Революция окончена!» Он произнес эти слова 29 сентября 1791 г. На следующий день Учредительное собрание закончило свою работу и прекратило свое существование. Настроение у его членов было очень радостное: они сдержали клятву в зале для игры в мяч – дали Франции конституцию. Некоторые их дела достойны восхищения, в других оказалось много ошибок. Многое из того, что они создали, сразу же развалилось. У них были самые лучшие намерения, но дальнейшие события доказали правоту здраво и ясно мыслившего француза: «Лучше бы Учредительное собрание сразу отменило королевскую власть и написало республиканскую конституцию. К несчастью, это Собрание, несмотря на свое недоверие к Людовику XVI, во многих отношениях было весьма монархическим. Законодатели 1791 г. думали, что создают монархическую конституцию, а создали такую, которая не была ни монархической, ни республиканской. Она даже не была парламентской»[157].
Итак, Учредительное собрание было распущено. Но сразу же начало работать его создание и дитя, Законодательное собрание, которое должно было дать Франции обычные законы для практического применения. Предыдущее Собрание совершило свою самую главную ошибку, когда определяло состав нового. Несмотря на многочисленные ошибки Учредительного собрания и на большое число бездарных людей в его составе, в конце его работы многие его члены уже имели большой опыт ведения государственных дел. Эти люди должны были бы управлять страной и дальше, но по неудачному предложению Робеспьера Учредительное собрание постановило, что ни один из его членов не мог быть избран в новое, Законодательное собрание. Поэтому, когда 1 октября 1791 г. новый орган собрался на заседание, он полностью состоял из неопытных людей, мало знавших о законодательном документе, который они должны были разработать. Эта ошибка была равнозначна проигранной битве в войне за свободу Франции.
Но в октябре 1791 г. казалось, что люди 1789 г. добились того, за что сражались. Обиды, которые наносил людям старый режим, исчезли. Стране была дана конституция, которая, как тогда казалось, соответствовала требованиям народа. Средний француз устал от непривычных экспериментов и политической неразберихи и желал лишь одного – вернуться к своим мирным занятиям. Большинство французов по-прежнему желали оставить Людовика XVI на троне, несмотря на его бегство в Варенн, и уж точно не хотели крови и риска большой войны с другими странами. Но в апреле началась война с другими странами, в августе король уже был беспомощным узником, а в сентябре Франция была формально объявлена республикой. Редко важнейшие события следовали одно за другим с такой быстротой.
Законодательное собрание собралось сразу же после того, как разошлось породившее его Учредительное собрание. Новый орган был громоздким и слишком большим: в нем заседали 745 человек. И как уже было сказано, это были очень неопытные люди. Во время выборов многие умеренные и солидные граждане, которые могли бы стать лидерами законодателей, устали от политической борьбы, отошли в сторону и этим способствовали избранию других, худших людей. Радикалов же обвиняли в том, что они во многих округах различными способами принуждали местных жителей избирать кандидатов с крайними взглядами. В любом случае в Законодательном собрании было немало честных патриотов, но рядом с ними заседало много мелких авантюристов, которые охотно голосовали за перемены, только чтобы привлечь к себе внимание общества.
Вскоре внутри Собрания образовалось несколько партий с ясно определенными признаками. В нем была респектабельная партия конституционалистов, которые были за новый порядок, но не желали идти дальше. Они могли бы удержать свои позиции, если бы их искренне поддержали законодатели из числа придворных короля. Роялисты были бессильны защитить себя, но были вполне способны мечтать о реванше и разрушать влияние любой партии, стоявшей за ненавистный им компромисс 1791 г. Многие депутаты приехали в Париж без какой-либо определенной программы. Это были добродушные оппортунисты, не желавшие ни во что вмешиваться. Но существовала еще более грозная группа радикалов, и они (из-за одного лишь бездействия и вежливой безучастности своих противников) вскоре стали господствовать в Законодательном собрании. Эти радикалы, грубо говоря, делились на две группы – Жиронди и Гору.
Монтаньяры (то есть горцы) были истинными ультрарадикалами, и вскоре их вожди стали господствовать над Францией. Жирондисты, получившие свое имя от департамента Жиронда, из которого приехали их самые выдающиеся вожди, были хладнокровными, умными и великодушными молодыми адвокатами, начитавшимися Плутарха и Руссо и готовыми считать, что, если что-то было хорошо для Афин, оно обязательно будет хорошо и для Франции. Они искренне стремились заменить умеренной республикой даже ту лишенную своих естественных свойств монархию, которая продолжала существовать. Некоторые члены этой партии, например Верньо, Бриссо и др., были выдающимися ораторами и имели высокие идеалы. Но один человек из тех, кто руководил жирондистами и направлял их, не мог заседать в Законодательном собрании. Речь идет о мадам Ролан, «энергичной честолюбивой женщине, отмеченной печатью гения, имевшей склонность посещать клубы и очень любившей помогать своему пожилому мужу в его делах».
Эти люди были находчивы и остроумны, но не были великими мастерами действия. А в это время уже стало заметно влияние знаменитого Якобинского клуба[158].
Он возник в Париже в 1780 г. как законное дискуссионное общество, в котором было очень много консерваторов, но в 1791 г. стал центром всех радикальных элементов столицы и имел очень сильное влияние на массы городской черни великой столицы. С трибуны Якобинского клуба можно было публично высказать множество дерзких теорий, которые оказались бы под запретом в Учредительном или Законодательном собрании. При таком безответственном теоретизировании логика становилась суровой и фанатической, и одно предложение легко приводило к другому. Поэтому Якобинский клуб со временем стал центром пропаганды крайних разновидностей учения Руссо, и ораторы клуба, как истинные пропагандисты, в своих речах делали вывод, что, поскольку эти учения истинны, все средства хороши для того, чтобы претворить их в жизнь. Душой якобинского движения были три человека, знаменитые в истории, – Марат, Дантон и Робеспьер.
Марат был врачом и ученым, имевшим некоторые научные достижения. В 1789 г. он начал очень злобную агитацию не только против короля, но и против всех умеренных либералов вроде Лафайета. Он провозгласил себя защитником низов общества – «пролетариата», как сказали бы позже. Его газета «Друг народа» стала оракулом и вдохновительницей для всех развращенных и не имеющих твердых устоев душ в Париже. Он был прекрасным мастером грубых обвинений и, видимо, испытывал восторг, когда призывал на помощь самые мрачные человеческие страсти. На любую официальную власть он набрасывался с яростью тигра. Но было бы несправедливо называть его анархистом. Он, кажется, мечтал о рае, где царит порядок, но рай этот должен был наступить лишь после того, как будет безжалостно уничтожено все, что люди до сих пор почитали или считали законным.
Мария-Антуанетта
Робеспьер
Марат
Дантон
Дантон был гораздо менее отвратительным. Он был молодым парижским адвокатом, очень красноречивым и довольно умелым в своей профессии. Сначала он приветствовал революцию 1789 г., но перемены, которые она совершила, были недостаточно радикальными, чтобы понравиться ему. Вскоре стены Якобинского клуба стали часто дрожать от могучего голоса этого рослого и мускулистого человека, чье лицо выражало суровость и дерзкую отвагу, а черные брови нависали над глазами, когда он громил с трибуны «аристократов». Дантон имел огромную власть над теми, кого можно назвать более респектабельной частью парижской черни, так же как Марат был любимцем ее худшей части. Дантон желал установить во Франции республику и был готов применить для этого очень суровые средства, но дальнейшие события показали, что он не был сторонником ни ненужного кровопролития, ни анархии. Он во всех отношениях был самым достойным из якобинских вождей.
Робеспьер был тоже адвокатом, но не из Парижа, а из Артуа. Он был в Учредительном собрании, а когда оно закончило работу, разделил с Дантоном честь быть главным оратором Якобинского клуба. Это был «педантичный, аскетичный, упорный человек маленького роста, который провел свою жизнь в бедности и учении». Ни один вождь революции не верил в учение Руссо так безоговорочно, как он. Возможно, он вполне искренне называл себя «добродетельным и неподкупным» и хвалился этим. Толпа верила ему, и он полностью приобрел почет и круг последователей, которые всегда достаются лидеру, если широкие массы признают его бескорыстным и хорошим человеком. Однако Робеспьер больше говорил, чем делал. Вполне вероятно, что его с самого начала толкали вперед другие, которые действовали и нуждались в ораторе – выразителе своих мнений. Однако ему было предназначено стать самым знаменитым деятелем второго, огненного этапа революции.
Короче говоря, жирондисты были добродушными теоретиками, которые желали, чтобы король был свергнут с престола и была установлена республика, но были не способны на энергичные жестокие действия и в какой-то степени готовы были отдаться на волю событий. Якобинцы тоже были теоретиками, но не такими добродушными. Они желали действовать и были готовы к этому. Они не собирались отдаваться на волю событий. Не нужен был пророк, чтобы предсказать, за какой партией будущее.
При таких депутатах Законодательное собрание скоро начало нападать на короля. Сначала это были мелкие уколы, а через какое-то время депутаты уже были с ним на ножах. Они отменили обращения «государь» и «ваше величество». Были и другие мелкие разногласия между ними и королем, но первое серьезное противоречие возникло, когда Законодательное собрание стало обсуждать опасности, которые теперь угрожали стране из-за границы. С 1789 г. французские аристократы то по одному, то сотнями паковали свои драгоценности и спасались бегством из Франции. Оба брата Людовика уже были за границей. В немецких городах Трире и Майнце собралась небольшая армия этих высокородных эмигрантов. Знатные изгнанники громко грозили и хвалились, что вернутся, и обещали своим врагам кровавую месть. Они использовали все свое личное влияние, чтобы убедить императора Австрии и короля Пруссии начать военное вторжение. В августе 1791 г. эти два монарха приняли Пильницкую конвенцию[159].
В этой ни к чему не обязывавшей декларации было сказано, что они считают дело Людовика XVI делом всех коронованных особ Европы. После ее подписания ничего не произошло, но разве иностранная армия не могла нанести удар в любой момент? И, учитывая бегство королевской семьи в Варенн, насколько можно было верить, что король и королева Франции не скажут «добро пожаловать» захватчику? Для всех привилегированных классов управляемой деспотами Европы революция становилась возмутительным оскорблением, угрозой для каждого богатого человека, имеющего герб. Народ, который играл роль духовного вождя цивилизации, мог понизить своего короля до уровня всего лишь наследственного «главного шерифа» страны, мог уничтожить все права дворян, мог в политическом отношении сделать матроса с баржи равным принцу королевской крови. Как подействует этот пример на крестьян Пруссии, Богемии, Тосканы и еще десятка местностей? Крайние меры, к которым прибегали некоторые из революционеров (эти случаи невозможно отрицать), разумеется, еще сильнее разжигали пламя гнева. Красавица королева, которую держали в плену в Тюильри, вызывала искреннее сочувствие. В Германии вызвала гнев отмена феодальных налогов в некоторых частях Эльзаса: многие немецкие правители, хотя и ослабили свое политическое господство над этими землями, предъявляли финансовые претензии на доходы с них.
Положение было угрожающим, в особенности потому, что, как было хорошо известно, недавние события сильно расшатали дисциплину в армии и флоте Франции. Кульминация наступила весной 1792 г. Поведение австрийского правительства показалось Законодательному собранию таким двусмысленным, что законодатели направили австрийцам официальное требование: пусть те откроют свои намерения. Молодой император Франциск II (племянник Марии-Антуанетты)[160] в ответ откровенно потребовал возмещения убытков для обиженных немецких правителей (претендовавших на некоторые феодальные права в Эльзасе) и восстановления старого режима на той основе, которую предложил Людовик XVI перед падением Бастилии. На это Франция могла дать только один ответ, если не желала признаться, что из-за внутренних неурядиц выпала из списка великих стран Европы. И 20 апреля 1792 г. Людовик XVI, появившись перед депутатами, попросил их объявить войну Австрии. Его просьбу сразу же поставили на голосование, и против нее были только семь депутатов. Так началась борьба, которая продолжалась – с небольшими интервалами, больше похожими на перемирие, чем на мир, – двадцать три года, до битвы при Ватерлоо.
Во Франции были две партии, желавшие войны, но причины для этого у них были совершенно разные. Мария – Антуанетта и придворная партия, видимо, рассчитывали, что или враги страны пойдут походом на Париж и революция потерпит крах, или, по меньшей мере, военные победы французов принесут королю такую славу, что его положение станет прочнее. Жирондисты тоже были за войну. Они справедливо считали, что борьба с иностранным врагом создаст внутри страны такое движение, которое поможет им устранить монархию. Мира желали только крайние якобинцы. Им казалось, что война сделает короля диктатором и вся тяжесть этой диктатуры ляжет на низшие слои населения. «Кто страдает на войне? – писал Марат. – Не богач, а бедняк, не знатный офицер, а бедный крестьянин».
Уже было очень много признаков полного разрыва между королем и его законодателями. Законодательное собрание приняло постановление об изгнании из страны священников, которые отказались принять присягу на верность новому порядку. Король наложил на этот документ вето, и согласно конституции он имел право так поступить. Предложенный закон был, несомненно, суров, а возможно, жесток, но народ считал, что все неприсягнувшие священники – агенты мятежников. Королеву обвинили в том, что это она остановила принятие закона, и парижане стали громко ругать за это Австриячку и Мадам Вето, как они прозвали Марию-Антуанетту. Кроме того, Людовик безуспешно старался найти министров, которые были бы приемлемы для господствующих фракций Законодательного собрания и в то же время могли последовательно и твердо управлять Францией. Найти таких людей было невозможно. Если кандидат нравился большинству депутатов, он не мог всерьез поддерживать конституцию. Если он не поддерживал конституцию, он, конечно, был неприемлем для короля и позволил бы стране катиться к хаосу. Казна была в худшем состоянии, чем когда-либо. Неккер уже давно ушел в отставку, безнадежно утратив доверие. Вероятно, социальный взрыв произошел бы в любом случае, но война с другими странами ускорила его.
Пруссия быстро и своевременно заключила союз со своим старым врагом Австрией. В Вене и Берлине сильно проклинали Французскую революцию и очень беспокоились о Марии-Антуанетте. Но, правду говоря, в обеих столицах также прекрасно понимали, что Франция покончит с ней, как с угрозой для соперников. Французская армия была в самом жалком состоянии. На бумаге в ней числились 300 тысяч человек, но дисциплина ослабла. Многие офицеры были уволены или бежали из страны. Солдаты совершенно отбились от рук. Численность маневренных и боеспособных войск была не больше 82 тысяч человек. Против них герцог Брауншвейгский (известный своим военным талантом полководец Фридриха Великого) готовился двинуть намного превосходившие их числом отборные войска. К счастью для французов, союзники двигались очень медленно и, вместо того чтобы смело нанести удар по Парижу, старательно уничтожали крепости на границе. Однако французы про игрывали практически все сражения. В некоторых случаях они не просто потерпели поражение, а бежали в постыдной панике. Везде – в армиях, в провинциях, в Париже – раздался крик отчаяния: «Нас предали!» Якобинцы немедленно заявили, что придворные в Тюильри молятся, чтобы союзники вошли в Париж и привели с собой всех дворян-эмигрантов с их планами мести. Легко возникали предположения, что эти вероломные монархисты не ограничиваются в своих предательских действиях только желаниями и молитвами. Эта военная неудача уничтожила последнюю реальную возможность сохранить монархию и конституцию 1791 г.
Рассказ о последних днях французской монархии не будет долгим. По мере того как положение на фронтах ухудшалось, положение Людовика XVI становилось все более безвыходным. Если не он, то его королева была предательницей. В марте 1792 г. она послала австрийскому двору письмо, в котором кратко пересказала план боевых действий французской армии. Когда известие о катастрофе достигло Парижа, волнение в городе усилилось, и 20 июня горожане устроили бурную демонстрацию перед дворцом. Она кончилась тем, что толпа самого отвратительного сброда ворвалась в королевские покои, натянула Людовику на голову красный «колпак свободы» и очень грубо и фамильярно повела себя с королевой и дофином. Король и королева своим мужественным и достойным поведением не дали совершиться погрому, в конце которого их могли бы линчевать. Лучшие из французов сразу же заступились за короля. Почтенные и умеренные люди поняли, что всей стране угрожает анархия, если ее правителей можно так оскорблять. Лафайет вернулся из армии и потребовал наказать якобинских агитаторов. Но Мария-Антуанетта и придворные явно старались ускорить свой путь на эшафот: они не могли простить Лафайету и его собратьям-либералам участие в первой революции – в событиях 1789 г. Они высокомерно отказались от помощи, которую он предложил. Лафайет стал почти бессильным человеком с плохой репутацией, которого ненавидели якобинцы и отвергли роялисты. С печалью в душе он вернулся к своей армии и больше не вмешивался в ход событий[161].
Теперь жирондисты громогласно заявляли в Законодательном собрании, что королю следует отречься от престола. Почему австрийцы с пруссаками идут вперед? «Потому, – кричал с трибуны Бриссо, – что всего один человек, тот человек, которого конституция сделала своим главой и которого коварные советники сделали ее врагом [парализовал ее]!.. Вам говорят, чтобы вы боялись королей Венгрии и Пруссии. А я говорю, что главное войско этих королей – при его дворе и сначала мы должны подчинить этот двор!.. В этом разгадка нашей точки зрения. Источник болезни – там, и именно к нему надо применить лекарство».
После таких подсказок Законодательное собрание 11 июля проголосовало за декларацию, в которой было сказано: «Граждане! Отечество в опасности!», и сделало несколько попыток массового набора солдат, чтобы остановить захватчиков. Появились также явные признаки подготовки в Париже военных операций против врагов, находившихся гораздо ближе, чем иностранные армии. Однако самый губительный удар монархии нанес тот, кто называл себя ее другом. Прусская армия 28 июля выступила из Кобленца. Ее командующий, герцог Брауншвейгский, в минуту полнейшего безумия или безрассудства опубликовал от имени Австрии и Пруссии манифест[162], в котором объявил, что вступает на землю Франции, чтобы спасти короля из плена. Дальше было сказано, что жители городов, которые «посмеют обороняться», сразу же будут наказаны как мятежники, а их дома будут сожжены; что военный трибунал покарает всех солдат Национальной гвардии, если город Париж не вернет королю полную свободу, и, наконец, в случае нападения на королевский дворец государи вторгшихся стран примерно покарают французскую столицу: «подвергнут население Парижа военной казни, а Париж полностью уничтожат».
Такого манифеста было достаточно, чтобы все французы пришли в отчаяние. Историк, чьи родители пережили эти дни гнева, написал: «Во всей Франции, от одного ее конца до другого, было лишь одно желание и один крик: сопротивляться! И любого, кто не присоединился бы к этому крику, посчитали бы виновным в непочтении к родине и святому делу независимости»[163]. С той минуты, как несколько экземпляров этого ужасного документа достигли столицы, неясным оставался лишь один вопрос: каким образом падет монархия?
Некоторые из жирондистов, вероятно, еще были готовы верить, что «нравоучения и уговоры» заставят Людовика отречься, но так не думали более пылкие члены их фракции и так не думали сильные якобинцы. А 20 июля в Париж вошла колонна из 113 смуглых от природы и черных от грязи людей, которые «знали, как надо умирать»; они волокли за собой две пушки. Это были марсельцы – добровольцы Национальной гвардии Марселя, которые четыре недели с трудом добирались из своего южного портового города у моря до столицы, чтобы спасти народ и покончить с правлением Австриячки. Они пели гимн, который был сочинен в Страсбурге Руже де Лилем как «Песня Рейнской армии», но теперь сильные и решительные марсельцы сделали его своей боевой песней. Вскоре весь Париж запел, а потом и вся Франция запела эту «Марсельезу» – самый страстный и воодушевляющий из всех государственных гимнов, а из всех боевых песен наиболее способную заставить сильных людей идти вперед, чтобы победить или умереть. Перед приходом марсельцев Законодательное собрание обсуждало вопрос, как мирным путем положить конец монархии. Теперь радикалы ускорили развязку.
Марсельские добровольцы стали ядром их боевых отрядов. Дантон и его друзья неутомимо вели агитацию в бедных кварталах Парижа. Значительная часть Национальной гвардии перешла на сторону радикалов. Петион, мэр столицы, тоже был на стороне мятежников. Многие респектабельные люди по-прежнему желали королю добра и, в сущности, предпочли бы оставить его у власти; но очень немногие из этих достойных людей горячо желали умереть ради сильно опорочившей себя монархии. К тому же их останавливали слухи (не совсем лишенные основания), что во дворце есть изменники, и ясное понимание того, что скоро иностранные враги могут пойти на Париж. Против этих людей были радикалы, точно знавшие свою цель, лишенные страха и сомнений, не страдавшие от угрызений совести.
Их замысел был осуществлен 10 августа. Коммуна (городское правительство) Парижа была в руках революционеров. Комендант дворца, по фамилии Манда, был верным защитником короля, но, кроме королевских телохранителей-швейцарцев (примерно 800 человек), было очень мало войск, на которые он мог бы положиться. Когда стал приближаться решающий момент, мятежники похитили коменданта, а потом жестоко убили его. Так слабые защитники короля остались без командира. На рассвете грозная толпа собралась перед дворцом Тюильри. Опасаясь за себя, король и его семья укрылись в зале Законодательного собрания и провели этот несчастнейший день в маленькой комнате для репортеров. Уже в отсутствие короля во двор ворвался марсельский батальон, а вслед за марсельцами – остальные участники восстания. Швейцарские гвардейцы были иностранцами; их не интересовали споры одних французов с другими, но они честно хранили верность хорошо платившему им королю. Вскоре прозвучал первый залп. Швейцарцы были хорошо обученными пехотинцами; они отступили из двора, а потом начали вести смертоносный огонь из окон дворца. Молодой офицер, наблюдавший за этим боем, считал, что, если бы швейцарцы имели хорошего командира и если бы им было разрешено продолжать сопротивление, они полностью подавили бы восстание, по крайней мере в тот момент. К его мнению стоит прислушаться, потому что его звали Наполеон Бонапарт. Но звуки выстрелов приводили Людовика в ужас. Он не был уверен, что швейцарцы смогут сопротивляться; его сердце разрывалось при мысли, что он убивает своих соотечественников. И король приказал своим телохранителям прекратить стрельбу. Некоторым швейцарцам удалось отступить и спастись. Некоторых отделила от их товарищей и убила толпа возбужденных революционеров, возвращавшаяся во дворец. Так пала монархия Бурбонов. Она даже не боролась героически до конца.
Все время, пока шла стрельба, королевская семья и Законодательное собрание вместе дрожали от страха. Разве разгулявшиеся мятежники не могли зарезать и короля, и королеву, и депутатов? Когда стрельба закончилась, в двери большого зала стали протискиваться группы рассерженных и властных людей. Это были делегации восставших. Они приходили не с просьбами, а с требованиями. Парижская коммуна потребовала немедленно низложить короля. Сначала депутаты не решались взять на себя такую огромную ответственность, но Верньо, вождь жирондистов, поднялся на трибуну и сказал: «Я собираюсь предложить вам очень сильное средство. Я призываю наши скорбящие сердца решить, необходимо ли применить его немедленно» – и предложил отправить в отставку всех королевских министров, временно отстранить короля от должности и созвать новое собрание представителей всего народа – Конвент, который даст Франции новую конституцию. Так закончился памятный в истории день 10 августа 1792 г. Людовика XVI (которого уже стали называть Людовик Капет) перевели в Люксембургский дворец, где с ним вначале обращались достойно и уважительно[164].
Феодализм, как тогда казалось, умер в 1789 г. Монархия умерла в 1792 г. Теперь решалось, не утонут ли респектабельные буржуа – образованные, честные и умеренные люди, которые свергли старый режим, – в поднимавшейся волне страстей низших слоев народа. Там, в низах общества, люди не одевались как благородные господа (за что получили прозвище санкюлоты – «без коротких штанов»)[165]. Руки у них были грязные и мозолистые, а головы были полны буйных страстей и таких же буйных мечтаний о счастье, которые внушили им Дантон и Марат.
Американцам ХХ в., видевшим, что стало с Россией после того, как рухнула власть царей, знаком и современный эквивалент якобинства – большевизм, который передал всю политическую и экономическую власть неотесанным пролетариям, даже не попытавшись перед этим дать новому хозяину хорошее образование, которое сделает его достойным этой роли. Позже жизнь показала, что перед лицом тевтонской опасности последователи Ленина проявили гораздо меньше героизма, чем последователи Дантона.
В любом случае свержение монархии разорвало последние связи Франции с ее историческим прошлым. «Народ-суверен», чью природную простоту и невинность так превозносил Руссо, наконец добился своего. В те дни 1792 г. на узких улицах Парижа и в парижских винных магазинах происходили дикие сцены. Возбужденные мужчины и мускулистые женщины устраивали безудержные пляски.
В их песне были слова: «Станцуем карманьолу! Ура грому пушек!»
Пушки гремели во Франции весь тот год, и следующий год, и еще год. Мы переходим к рассказу о втором, более мрачном, зловещем этапе революции.
Глава 15. Годы крови и гнева: 1792—1795
Дюмурье. Отступление пруссаков. Суд над королем. Призыв Дантона к действию. Падение жирондистов. Сформированы великие армии. Положение внутри Франции. Атака на христианство. Казнь королевы. Дантон атакован. Кульминация террора. Противостояние диктатору. Возвращение к достоинству. Роялисты атакуют Конвент. Франция возвращается к монархии
Франция, как уже сказано, была очень централизованным государством. 700 тысяч парижан, утверждавших, что они говорят от имени всего народа, совершили новую революцию, даже не сделав вид, что спросили перед этим, чего желают 24 миллиона их сограждан в департаментах. Когда за пределами столицы стало известно о свержении короля, остальная Франция встретила эту новость молчанием. Многие провинциальные радикалы, конечно, были рады, что Людовик сброшен с престола, просто потому, что ненавидели монархию. Большинство крестьян, несомненно, были рады, что все успокоилось, и думали, что теперь смогут мирно жить на своих маленьких фермах. Но иностранный враг приближался. Если пруссаки возьмут Париж, не восстановят ли они феодальные сборы и ненавистные налоги? Уцелеет ли тогда хоть что-то из недавно завоеванных личных свобод?
В стране смута, враг наступает, все, что было дорого этим людям, личное и общественное, поставлено на кон. Что им оставалось? Только одно – принять республику и вооружиться для великой отчаянной борьбы. Таким было настроение французского народа в августе и сентябре 1792 г. Было практически невозможно не быть радикалом, потому что только у радикалов была программа, обещавшая народу безопасность.
Пока шли выборы членов нового Конвента, прежнее Законодательное собрание формально продолжало управлять Францией посредством Исполнительного совета из пяти членов. Но вскоре стало ясно, что настоящая власть находится в руках Парижской коммуны[166]. Ее члены, крайние якобинцы, скоро стали смотреть ревниво и завистливо на более умеренных жирондистов, считая их представителями департаментов, а не волновавшейся столицы. Однако время было неподходящее для мелких перебранок. Набожные крестьяне округа Вандея в устье Луары подняли вооруженное восстание, в основном из-за законов против неприсягнувших священников. Пруссаки продолжали идти вперед. Сначала они захватили Лонгви в Лотарингии. Затем пришла ужасная и мучительная новость: врагу сдался Верден, который уже тогда был одним из ключей к Парижу. Революционные власти стали поспешно набирать солдат и готовиться к войне. Но якобинцы боялись удара сзади не меньше, чем атаки спереди. Король и королева были беспомощны, но тысячи роялистов и представителей крупной буржуазии, возможно, молились о победе реакции, и они не были бессильны. В конце августа ворота Парижа были закрыты, и отряды Национальной гвардии обшарили весь город, ища подозрительных субъектов и тех, кто сочувствовал павшему режиму. Вскоре число арестованных достигло 3 тысяч человек, и тюрьмы были переполнены. Но Дантону этого было мало, и он с грубой прямотой заявил: «Чтобы остановить врага, мы должны вселить страх в роялистов!»
На самом деле Дантон этими словами поднимал свой дух и дух своих сторонников, настраивая себя и их на тот героизм, который ведет к великим победам или полному поражению. Даже через сто лет до нас доносятся как звук трубы его слова, произнесенные 9 сентября в Законодательном собрании: «Гремит сигнальный выстрел! Это знак к наступлению на врагов Франции! Побеждайте их! Храбрость, снова храбрость и еще раз храбрость – и Франция будет спасена!» От этого призыва у соотечественников Дантона кровь забурлила в жилах, и Законодательное собрание постановило, что каждый человек, который не может участвовать в военном походе к границе, должен дать оружие тому, кто может это сделать, а если не даст, будет навечно заклеймен позором.
Но Дантон и Марат (который тогда был его помощником) хорошо знали, как «вселить страх в роялистов». Возможно, Дантон не подстрекал будущих убийц к кровавым расправам. Марат, несомненно, был более способен стать их руководителем, но мы не знаем в точности, как были организованы последующие события. Известно только, что со 2 по 7 сентября шайка из трехсот убийц, отбросов человечества, которыми управляла Коммуна, платившая им по 6 франков в день, переходила из тюрьмы в тюрьму. Они вытаскивали их камер политических заключенных, устраивали над ними упрощенную комедию короткого суда или вообще обходились без суда, а потом хладнокровно убивали их. Некоторых заключенных спас каприз палачей или минутный порыв милосердия, но 1100 человек погибли в парижских тюрьмах.
Ярость убийц была в первую очередь направлена против священников, которых погибло 250 человек. Умеренные депутаты Законодательного собрания ломали руки, но были бессильны: солдаты не желали защищать тюрьмы, к которым приближалась банда убийц. Так якобинцы покончили с опасностью роялистского мятежа в Париже.
Резня закончилась 7 сентября. А 20 сентября произошло сражение, которое лишило дрожащих от страха уцелевших сторонников старого режима последней надежды на возвращение и месть. Оно не было крупным даже по меркам XVIII в., но имело такое значение, что память о нем живет, когда забыто множество других, более масштабных боев.
Новые республиканские правители Франции нашли себе очень талантливого полководца Дюмурье. Он поспешил прибыть на фронт и собрал на совет офицеров почти деморализованной армии, которая пыталась остановить наступавших от Вердена пруссаков. Многие участники совета предлагали быстро отступить к Реймсу, на север от Марны. Этот маневр спас бы армию, но оставил бы открытой дорогу на Париж. Дюмурье решил рискнуть и сразиться с врагом. Он видел, что Аргонский лес дает большие возможности остановить атаку со стороны Вердена. Во главе 13 тысяч солдат он занял позиции у Гранпре, где через двадцать шесть лет другие республиканцы вступили в схватку с другими пруссаками. Письмо, которое Дюмурье послал в столицу военному министру, было написано высоким стилем: «Верден захвачен. Я жду пруссаков. Наш лагерь у Гранпре – Фермопилы Франции, но я буду удачливей, чем Леонид!»
Однако герцог Брауншвейгский вскоре выдвинул вперед свой фланг и развернул его. Дюмурье почти бесславно отступил от Гранпре без боя, однако этот отход не означал полного поражения. Пруссаки решили, что им осталось только дойти до Парижа, и думали, что вступят в него, не встретив сопротивления. Они привезли с собой очень мало продовольствия. Постоянно шел дождь, и на плохих местных дорогах грязи было по колено. Наступавших стала косить дизентерия. Кроме того, Пруссия не вполне ладила со своей «дорогой союзницей» Австрией. Между ними были серьезные разногласия по поводу раздела примыкавших к их восточным границам земель несчастной Польши[167]. Герцог и его повелитель, король Фридрих-Вильгельм II, совершенно не желали, чтобы, пока они будут по-рыцарски спасать Марию-Антуанетту, Франциск II прочно взял в свои руки Варшаву. Могущественная царица России Екатерина тоже всеми способами показывала, что охотно использует преимущества, которые получит, если Пруссия свяжет себе руки серьезной войной против Франции. Поэтому каждый день, когда французы преграждали путь пруссакам, уменьшал шансы наступавших попасть в Париж. Кончилось все это тем, что 20 сентября Брауншвейг нанес проверочный удар по боевым порядкам французов, чтобы узнать, будет ли их сопротивление серьезным, и получил исчерпывающий ответ на свой вопрос.
Примерно в 6 милях к востоку от города Сент-Мену, через который теперь проходит железная дорога из Реймса в Верден, стоит маленькая деревня Вальми. Брауншвейг обнаружил, что на высотах возле нее выстроились французские войска. Это были батальоны Келлермана, самого эффективного из помощников Дюмурье. Сражение началось с интенсивного артиллерийского огня. Обстрел вели шести– и девятифунтовыми ядрами старого типа. Затем прусская пехота двинулась вперед ритмично и дисциплинированно, тем шагом, который Фридрих Великий сделал знаменитым. Солдаты Келлермана терпеливо ждали приближающегося противника, не отвечая на его мушкетный огонь. Когда пруссаки подошли близко, французы пошли в штыковую атаку и, возможно впервые, над полем боя прозвучал боевой клич революционной, воюющей Франции – «Да здравствует нация!». Прусская армия откатилась назад. Орудия гремели до наступления темноты, но пехота больше не сражалась. Казалось, что была всего одна не имевшая решающего значения контратака французов – и ничего больше.
Но на самом деле герцог узнал ответ на свой вопрос: французы не побежали. Чтобы попасть в Париж, ему будет нужно большое решающее сражение. А если оно будет проиграно, поражение станет для прусской армии таким тяжелым ударом, что австрийцы смогут задушить свою ненавистную соперницу Пруссию[168]. Брауншвейг остановился и начал переговоры. Французские эмигранты безуспешно побуждали его снова идти вперед: герцог уже знал, что эти люди могут обманывать его, лживо уверяя, что он может дойти до Парижа без тяжелых усилий. Брауншвейг безуспешно пообещал французам, что отступит, если они вернут Людовику престол на основе потерпевшей крушение конституции. Из Парижа он получил суровый ответ: «Французская республика [только что провозглашенная официально] не может выслушать никакие предложения, пока все прусские войска не покинут территорию Франции». И прусский полководец тут же подчинился этому приказу! Правду говоря, у него было только одно желание – выйти из игры, которую он проигрывал. И 30 сентября грозная армия, которая должна была «восстановить Бурбонов на престоле», уже вовсю отступала из Франции. Пруссаки даже не попытались удержать Лонгви и Верден. Территория Франции до самой границы была очищена от врага, и это стало первым великим торжеством республики.
Как и можно предположить, учитывая, в какое время происходили выборы, избиратели (а это были практически все французские мужчины старше двадцати пяти лет) послали в Конвент еще больше радикалов, чем раньше в Законодательное собрание[169].
Новый представительный орган, который должен был «дать Франции счастье», состоял из 782 членов. Из них 75 были раньше в Учредительном собрании и 183 в Законодательном. Среди депутатов, несомненно, было много людей с умеренными взглядами, которые не следовали в своих действиях какой-либо несгибаемой теории. Но они не были организованы и потому находились во власти компактного агрессивного меньшинства. К тому же многие депутаты-провинциалы часто слабели и робели в столице, вожди которой жаждали власти «истинных республиканцев и патриотов» и были готовы добиться своей цели очень жестокими физическими средствами.
Жирондистов в Конвенте было около 120. Они были горячими сторонниками республики, но уравновешенной и разумной республики, где не будет социальных и экономических причуд. Якобинцы могли рассчитывать только на 50 надежных депутатов, но 24 из них были парижанами. Они желали пойти в переворачивании мира и «разбивании оков» дальше, чем жирондисты. Если бы страсти были не такими сильными, а кровь депутатов не такой горячей, жирондисты и якобинцы увидели бы, что в теории различия между ними не так уж велики и что они могут прийти к честному компромиссу. Пропасть между ними была в их личных характерах и темпераментах. Жирондисты были прекраснодушными идеалистами. Якобинцы же, несмотря на все свои грехи, никогда не улетали от земли в облака. Пока Верньо говорил «Я завоюю мир любовью», Робеспьер разрабатывал планы применения более быстрого и точного оружия – гильотины[170]. Но жирондисты намного превосходили якобинцев числом. Кроме того, к их призывам охотнее прислушивалось беспартийное умеренное большинство. Но Конвент, на свою беду, заседал в Париже. Коммуна и парижская чернь, заявлявшие, что говорят от имени широких масс французского народа, могли поддержать якобинцев убедительными доводами – мушкетами и пиками, когда было нужно добиться большинства голосов для якобинских проектов. Этим объясняется многое в последующих событиях.
Конвент собрался на заседание 21 сентября 1792 г. и сразу же утвердил провозглашение Франции республикой. Затем он отдал все свои силы большому плану перестройки Франции на основах полной демократии. «Делать народ» – так назвал эту работу Камилл Демулен, умный друг Дантона. Но когда недостаточно разработанные теории Руссо стали строго и безжалостно применяться неопытными людьми, что могло из этого получиться, кроме ужасного деспотизма?
Вначале казалось, что жирондисты сильнее. Они имели джентльменские привычки, предпочитали чистое белье и невысоко ценили грязные лохмотья Марата или непристойности Эбера, который благодаря бесстыдной ругани стал любимцем подонков парижской черни. Скоро они стали враждовать с якобинцами и в результате яростных атак своих радикальных противников утратили силу, хотя какое-то время еще контролировали министерства.
«Гора (якобинцы и их союзники) теперь твердо решили добиться суда над королем. Жирондисты понимали, что Людовик в значительной степени был жертвой своего звания и обстоятельств и что республика выиграет, если проявит к нему милосердие. Но Сен-Жюст, самый большой поклонник Робеспьера, очень пылкий якобинец, сказал от имени своей партии: «Смерть тирана необходима, чтобы успокоить тех, кто боится, что однажды будет наказан за свою отвагу, и вселить ужас в тех, кто еще не отверг монархию». А сам Робеспьер дал этому требованию философское обоснование: «Если нация была вынуждена поднять восстание, она возвращается в природное состояние по отношению к ее тирану. Больше нет никакого закона, кроме безопасности народа».
Несчастного короля судили перед всем Конвентом. Его обвинили в том, что он «организовал заговор против свободы народа и покушался на безопасность страны». Другими словами, его считали виновным в том, что он не принял по-настоящему конституцию 1791 г. и не сделал все возможное для сопротивления австрийцам. Вероятно, обвинения соответствовали действительности, но мудрый государственный деятель сказал бы, что в 1792 г. наказать Людовика XVI за уклонение от его формального долга было жестокостью, которой только придали форму правосудия. Якобинцы твердо решили пролить кровь Людовика потому, что ненавидели его, и еще больше потому, что хотели унизить жирондистов. А жирондисты знали, что короля следует оправдать, но делали только слабые попытки спасти его. Якобинские крикуны и сброд, заполнивший галерею Конвента, радостными криками встретили судебное преследование короля и начинали громко вопить и выкрикивать угрозы, если кто-то начинал говорить в защиту подсудимого. И все же Людовика судили с соблюдением положенных формальностей[171]. У него был умелый защитник – его бывший министр Малерб. Почти нет сомнений в том, что по букве закона Конвент поступил справедливо, когда единогласно вынес Людовику приговор – «виновен». Но главным вопросом было, какое наказание ему присудить. Якобинцы во весь голос требовали крови. Жирондисты отчаянно призывали к умеренности, но не могли противостоять крикам и принуждению. И 20 января 1793 г. Людовика приговорили к немедленной казни большинством всего в один голос. Исход дела решили вопли в верхних рядах зала, которые подействовали на нервы достаточному числу жирондистов.
А 21 января король был публично казнен на гильотине. Он умер отважно, а свои последние часы провел так, как достойно монарха и христианина. Своей смертью он уничтожил значительную часть того плохого мнения, которое сложилось о нем в мире за последние годы его царствования. Якобинцы открыто радовались этой трагедии. «Вашей партии пришел конец!» – сказал Дантон жирондистам. А европейским странам, врагам Франции, он послал еще более открытый вызов: «Бросим королям голову короля как залог битвы!» Марат ликовал: «Мы сожгли за собой корабли!»
Еще до этой трагедии старые европейские монархии были в бешенстве от действий Франции. Конвент открыто выступал за то, чтобы Франция принесла благословенные республиканские свободы всем другим народам.
Дантон 19 ноября 1792 г. убедил депутатов Конвента постановить, что Франция будет оказывать «братскую помощь» всем народам, которые пожелают вернуть себе свободу. Что это было, если не призыв к подданным всех королей: «Восстаньте»? И это приглашение к мятежу появилось как раз в тот момент, когда на войне монархам изменило счастье и доблестные молодые армии республики изгоняли австрийцев из Бельгии, одержав перед этим изумительную победу возле селения Жемап, недалеко от города Монс. Захват французами Антверпена заставил вступить в войну Великобританию, которая не могла стерпеть того, что этот город оказался в руках Франции, ее мощной соперницы на морях (1 февраля 1793 г.). Любящие порядок англичане и их министры и до этого были в ужасе от того направления, которое приняли и в котором продолжали развиваться события по ту сторону Ла-Манша. Испания, Голландия и все малые государства Германской империи теперь спешили последовать примеру крупных государств и своим враждебным поведением вынудили Конвент объявить им войну.
К середине марта 1793 г. Франция была в состоянии войны практически со всеми что-то значившими государствами Западной Европы. И в это время, когда республика была окружена врагами, крестьяне Вандеи тоже подняли против нее опасное восстание. А сразу за этими тревожными известиями пришло сообщение об уже совершившейся катастрофе. Французская армия, вошедшая в Бельгию, была изгнана оттуда и понесла большие потери. Немцы вернули себе Майнц, тоже оказавшийся в руках французов. Дюмурье, лучший полководец республики, оказался предателем и перешел к австрийцам. В некоторых отношениях ситуация была тяжелее, чем перед Вальми.
И снова именно Дантон оказался на высоте положения. Ни один демагог никогда не проявил такого бесстрашия перед лицом множества опасностей, как он в те дни. Его противники позволили себе несколько злобных замечаний по поводу его репутации. Он презрительно отмахнулся от их обвинений. «Что значит моя репутация? – сказал он 10 марта. – Пусть мое имя будет запятнано навсегда, лишь бы Франция была свободна!.. Мы должны огромным напряжением сил переломить ситуацию. Захватим Голландию! Возродим Республиканскую партию в Англии! Заставим Францию идти вперед и заслужим славу у будущих поколений! Совершайте свою великую судьбу! Больше никаких дебатов! Никаких ссор – и нация будет спасена!»
Для сражения в этой чрезвычайной ситуации Дантон и его собратья-якобинцы сковали себе ужасное оружие – коллективного диктатора, знаменитый Комитет общественного спасения. В нем было сначала девять, потом двенадцать членов, которым была дана почти самодержавная власть для уничтожения всех внешних и внутренних врагов республики. Марат теоретически обосновал деятельность Комитета одной фразой: «Мы должны установить деспотизм свободы, чтобы сокрушить деспотизм королей»[172].
Формально жирондисты по-прежнему были у власти, назначали министров и вели другие дела правительства. Теперь над министрами стоял Комитет. Ему было разрешено направлять своих комиссаров во все армии, чтобы надзирать за генералами и заставлять их действовать энергично. Но главной задачей этих комиссаров было отстранять от должностей и наказывать плохих работников и предателей. Раз в неделю Комитет был должен отчитываться перед Конвентом, но его собственные совещания были секретными. Остановить его было очень трудно. «Конвент скоро сделался рабом Комитета, а министерству была оставлена лишь тень власти».
Вместе с этим всемогущим Комитетом работал его двойник – Комитет общественной безопасности, такой же секретный орган, который контролировал полицию, составлял списки подозрительных лиц и отправлял обвиняемых на суд грозного Революционного трибунала. Этот Трибунал был постоянным военным судом, в котором судьи и присяжные заседатели приговаривали к смерти всех без разбора несчастных, представших перед ними, – и аристократов-роялистов, и реакционеров, и даже умеренных. Вскоре палач стал работать часто, и чем дальше, чем чаще у него была работа. Появилась поговорка: «Франция становится республиканской под удары гильотины».
Комитет общественного спасения и его собрат-помощник совершили преступления, описание которых навечно сохранится в истории, но у этого ужасного Комитета есть по крайней мере одна огромная заслуга – он спас Францию. Новые диктаторы взялись за свое дело с потрясающей энергией. Дантон сделал много для организации Комитета, но отказался войти в него: он был прекрасным агитатором, но не великим исполнителем. Якобинцы заставили Конвент выбрать в Комитет хороших практиков, а не умелых говорунов. Робеспьер был выбран, но он и его верный последователь Сен-Жюст были единственными членами Комитета, которые постоянно произносили речи в Конвенте (возможно, третьим был увертливый и ненадежный Барер). Только у одного из двенадцати были способности близкие к гениальным, и своим талантом он компенсировал посредственность многих бездарных патриотов. Это был Карно, который взял на себя работу с армией и стал «организатором победы» и подлинным спасителем Франции.
Но пока Комитет призывал народ взяться за оружие, а каждого француза – напрячь все силы для отражения грозящей стране беды, якобинцы безжалостно сводили счеты с жирондистами. Эти умные идеалисты по-прежнему много говорили, но мало делали. Они осудили сентябрьскую резню и ответственных за нее политиков, но позволили казнить короля, хотя знали, что эта казнь – жестокая расправа. Они не смогли принять никаких мер, которые сделали бы невозможными новые массовые убийства. Большинство депутатов Конвента еще находилось под обаянием их красноречия, но, поскольку они почти все были из южных департаментов, то мало влияли на парижскую коммуну. 2 июня 1793 г. якобинцы и члены коммуны оцепили зал Конвеции и арестовали всех видных жирондистов. «Вы видите, господа, – иронически заявил представитель радикалов, – что народ вас уважает и подчиняется вам и что вы можете голосовать по вопросу, который предложен вам на рассмотрение. Поэтому, не тратя времени, исполните желания народа!» Конвент был беспомощен: у него не было вооруженных отрядов, которые могли бы спасти его от толпы. Депутаты проголосовали за временное отстранение тридцати одного своего собрата от должностей. Так якобинцы одним ударом довершили свою победу. Теперь и все остальные депутаты поняли, кто хозяин положения.
Так было в Париже, но не в остальной Франции. В определенном смысле началась война департаментов против столицы. Уже не только в Вандее, а повсюду роялисты подняли головы. Провинции были очень недовольны тем, что произошло в Париже. Многие депутаты-жирондисты бежали из столицы в свои родные округа и теперь старались поднять там восстание против столицы и деспотов из столичной Коммуны. Если бы у восставших было единое руководство и общее место сбора, они вполне могли бы добиться успеха: под их командой, вероятно, находилось гораздо больше половины населения, и Франция была доброжелательно настроена к ним. Но они были раздроблены, плохо организованы и не имели первоклассных вождей. Якобинцы обвиняли жирондистов в том, что те заигрывают с роялистами или планируют объединить регионы Франции в федерацию со слабой центральной властью и противопоставить эту федерацию «единой и неделимой республике». Перед лицом опасности, надвигавшейся из-за границы, многие патриоты, по природе своей милосердные и рассудительные, видели лишь один выход – поддержать парижских диктаторов.
Якобинский комитет подавил восстания, которые хаотически вспыхивали во многих округах, и сделал это с той безжалостной жестокостью, на которую толкают людей страх и гнев. Лион, который восстал в основном по призыву жирондистов, был захвачен Республиканской армией, и Конвент торжественно объявил словами Барера: «Лион воевал против свободы, Лион больше не существует». Был отдан приказ об уничтожении города. На самом деле было уничтожено всего около сорока домов, но очень много несчастных жителей Лиона было казнено. Им не отрубили головы на гильотине, их расстреляли крупной картечью. В Нанте, где некоторые жители сочувствовали вандейским роялистам, знаменитый Каррье с радостью устраивал массовые казни дворян и буржуазии, а также менее благородных жертв. Несколько сотен арестованных были отправлены в Париж, чтобы их судил Революционный трибунал, но не меньше 1800 узников были казнены расстрельными командами без суда. Затем, чтобы завершить свою работу, Каррье приказал устроить массовые «потопления» заключенных в Луаре. Иногда это были «республиканские браки»: мужчину и женщину связывали вместе и топили в реке. Это были крайности. Но отвратительные расправы происходили также в Марселе, Бордо, Тулоне и других городах, которые посмели проявить благосклонность к жирондистам. Попытка провинций бросить вызов парижскому правительству была потоплена в крови.
Комитет, исправляя таким образом отчаянное положение внутри страны, одновременно выполнял еще больше работы на границе. Война почти превратилась в смертельную схватку между всеми старыми монархиями Европы и молодой республиканской Францией. До этого времени армии почти полностью состояли из профессиональных солдат, которых медленно набирали, а затем медленно обучали. Их было ровно столько, сколько мог без труда оплатить, снарядить и прокормить король, которому они служили. Среднестатистический монарх с отвращением отказался бы от массового набора солдат в войска: крестьяне научились бы в армии пользоваться оружием и вскоре могли бы повернуть это оружие против властей. Такие соображения не могли сдерживать якобинцев, и они издали постановление о массовом призыве новобранцев в войска. Сначала призвали 300 тысяч человек, потом больше, и к концу 1793 г. у Франции были под ружьем не меньше 750 тысяч человек – на удивление много, если учесть, какими трудными тогда были транспортировка, продовольственное снабжение и вооружение армии. Из церковных колоколов были отлиты пушки, все мастерские были превращены в оружейные фабрики. Военный министр Карно благодаря своему изумительному дарованию преодолевал все практические трудности, которые создавало содержание такой большой армии.
Новобранцы часто были очень плохо обучены, но у них были несгибаемое мужество и готовность умереть за Францию и права человека под любимым трехцветным знаменем, превращавшие их в грозных врагов для механически обученных наемников, которых послали воевать против них. В те дни, когда еще не было пулеметов и колючей проволоки, мало было таких позиций, которые защитники могли бы удержать, если на них шли в штыковую атаку отчаянные энтузиасты, которым было все равно, жить или погибнуть, лишь бы товарищи, идущие сзади, смогли донести их знамя до победы. Именно эта пылкая отвага народа, который только учился быть свободным, решила исход многих сражений. Еще одним мощным фактором, решавшим очень многое, была поразительная физическая выносливость французских крестьян и их способность к долгой непрерывной ходьбе. Вероятно, поодиночке они были намного лучшими бойцами, чем по крайней мере часть более крупных и широких в кости северных солдат, которых направили против них. Этому же французские пуалю научили весь мир в 1914 г.
Но храбрость, энтузиазм и физическая сила не могли совершить всё. Прежде всего, они не могли научить французских генералов технике ведения боя. Сначала именно это было главной слабостью Республиканской армии. Новые офицеры – торговцы, кабатчики и, возможно, сыновья пахарей – еще должны были многому научиться. Но под давлением обстоятельств эти очень молодые офицеры-новички быстро набирались опыта. Центральный комитет безжалостно отсеивал бездарных и наказывал неумелых. При каждой армии находились минимум два депутата Конвента, которые должны были видеть все, докладывать обо всем и, что самое главное, были должны временно отстранить командующего армией от должности при любых признаках того, что он не справляется со своими обязанностями. «Генералы необученных новобранцев знали, что должны побеждать, если хотят жить. Депутаты и Революционный трибунал считали неудачу предательством, и немало военных, например Вестерман и Гюстин, искупили свои поражения смертью на эшафоте».
Эта армия освобожденной Франции была самой умной и верной своей стране государственной армией, которую видел до сих пор современный мир, и ее усилия не могли не дать огромных результатов. Короли и удобно устроившиеся на своих местах военные чиновники Европы были в смятении: перед ними была новая сила, материальная и моральная, которая снова и снова вступала в бой с хорошо обученными, но равнодушными солдатами их регулярных армий. Большую часть 1793 г. французы удерживали свои границы лишь с помощью самого отчаянного напряжения всех сил, но осенью ход войны явно изменился в их пользу. Англичане и ганноверцы были вынуждены снять осаду Дюнкерка, австрийцы потерпели поражение возле Ваттиньи (около Мобежа) от Журдана, одного из самых компетентных военачальников, которых нашел Карно[173], а возле Вайсенбурга в Эльзасе австрийцы были отброшены за границу Франции. В декабре того же года Тулон, крупный морской порт на юге, который отдался в руки англичан, чтобы не покориться якобинцам, был снова захвачен французской армией благодаря мастерству молодого артиллерийского офицера, фамилия которого была Бонапарт. «Пусть лучше погибнут 25 миллионов человеческих существ, чем единая и неделимая республика!» – говорили французы в эти критические дни, и республика не погибла.
Пока великий идеал – мечта о мире, свободном от рабства, где будут царить свобода, равенство и счастье для людей, – побуждал молодежь Франции сражаться и страдать на границе, якобинцы – повелители этой молодежи – более зловещим образом удерживали свои позиции в Париже и пытались осуществить там свою программу. Революция, разумеется, сопровождалась параличом экономики на значительной части территории страны. Фабрики не имели ни потребителей для своей продукции, ни сырья, ни рабочих. Крестьяне не решались обрабатывать свою землю и везти зерно на рынок. В Париже усиливался голод, а голодная столица становилась опасной. Ассигнации обесценились почти до того же уровня, что валюта Конфедерации в Америке 1865 г. Конвент и Комитет боролись с этим кризисом мерами, которые осуждают все современные экономисты. Но применение этих мер было не совсем безуспешным. Те, кто спекулировал зерном и ассигнациями, часто и внезапно оказывались перед страшным Революционным трибуналом. Суровый Закон о максимуме регулировал цены на зерно и муку и угрожал смертной казнью тем, кто продавал их по более высокой цене. Всех фермеров и перекупщиков, которые отказывались продавать свои запасы по установленной законом цене, арестовывали. Благодаря судьбе, которая послала Франции в 1793 г. очень большой урожай, и природной изобретательности низов французского общества, которая помогала им справляться с тяжелыми условиями жизни и с драконовскими законами, этот год прошел без невыносимых страданий.
Ситуация в экономике после 1793 г. еще долго оставалась тяжелой, но положение было далеко не таким невыносимым, как в России в 1917–1918 гг. Французская буржуазия и французские крестьяне (даже самые большие доктринеры среди их вождей) оказались гораздо практичнее и умнее, чем русские советы, большевики и мужики в первые два года преобразования и тяжелых мук своей страны.
Итак, Париж жил своей собственной жизнью: Конвент слушал бесконечные речи ораторов, Комитет и Трибунал собирались на заседания для своей мрачной работы, Карно организовывал свои четырнадцать армий. Работали театры, издавалось бесчисленное множество газет, большинство которых были полны грубых нападок на личности политиков. Во всех винных погребках и винных магазинчиках жизнь бурлила, а иногда грохотала, как гром. Но каждого человека ни на секунду не отпускал страх перед «республиканской бритвой» (так прозвали гильотину). Когда это время закончилось, кто-то спросил у Сийеса, видного депутата Конвента, что тот делал в эти годы. «Я жил», – ответил тот. Этого короткого ответа было достаточно, ведь годы, о которых идет речь, были временем террора.
* * *
Несмотря на звон оружия, долетавший из-за границы, и на напряженную ситуацию внутри страны, Конвент находил время, чтобы серьезно заниматься вопросами преобразования страны, которые требовали его постоянного внимания. Далеко не все принятые тогда законодательные акты были плохи. Введенная тогда новая система мер и весов – знаменитая метрическая система – оказалась такой хорошей, что вскоре на нее перешли почти все цивилизованные страны, кроме тех, где говорят по-английски. Специальный комитет отважно разрабатывал разумную систему народного образования, в которой были начальные школы, средние школы и педагогическое училище для подготовки компетентных учителей. Другой комитет пытался создать кодекс гражданских законов, но эта трудная задача была решена только при Наполеоне. Меньше достойно похвалы то, что революционеры пошли в атаку на прежний календарь, который назвали «рабским», потому что названия дней и периодов в нем напоминали о римском деспотизме (июль, август) и о христианских праздниках. Этот календарь они заменили новым, «природным», составленным поистине в духе Руссо. Первым днем новой эры стал день провозглашения республики – 21 сентября 1792 г. С него начался «первый год». Согласно реформированному календарю, год состоял из двенадцати месяцев, которые носили новые имена[174] и делились не на недели, а на декады, состоявшие из десяти дней. Первый день каждой декады был праздником в честь «республиканских добродетелей», а воскресенье, напоминавшее о «суеверии», было полностью упразднено.
Казалось, что все остальное, что было связано со старым режимом, тоже вот-вот будет выброшено на свалку. Стало непатриотично (а значит, небезопасно) обращаться к человеку иначе, чем «гражданин» или «гражданка». Королевские гробницы в Сен-Дени были осквернены, и прах королей, которые сделали Францию великой, был выброшен в ров. Христианская религия формально не была запрещена, но служить разрешалось только тем приспособленцам и раскольникам из числа священников, которые дали клятву следовать «гражданской конституции», разработанной для церкви, то есть честные и набожные служители церкви оказались под запретом. О благочестии «конституционных» священников можно судить по тому, что в ноябре 1793 г. Гобель, епископ Парижа, и другие видные служители церкви пришли в Конвент и, кажется, открыто отреклись от христианства. Если не во всей Франции, то, по меньшей мере, в большинстве ее областей церкви были превращены в «гражданские храмы», их алтари были разграблены, их великолепные витражи разбиты[175], как следы суеверия и рабства, отмененных просвещенными республиканцами.
Когда речь зашла о том, чем заменить церковь, которая теперь стала почти такой же ненавистной, как монархия, мнения республиканцев разделились. Робеспьер и более последовательные приверженцы теорий Руссо были совершенно уверены, что ее место должен занять «чистый» культ Верховного существа. Более грубые якобинцы из Парижской коммуны во главе со своим духовным вождем Эбером хотели только атеистического поклонения Разуму. В итоге 10 ноября 1793 г. Конвент объявил культ Разума официальной религией страны, для чего депутаты в полном составе, с красными колпаками свободы на головах пришли в собор Нотр-Дам. Во время церемонии не слишком благонравная актриса восседала на алтаре в роли Богини разума, а еще более грубые женщины танцевали карманьолу под серыми сводами нефа. В других местах Франции происходили еще менее поучительные зрелища. В Лионе на осла надели митру, привязали к его хвосту распятие и Библию и напоили его из святой чаши. Все это вызывало отвращение у Робеспьера, который хотел быть врагом христианства, но не атеистом, и некоторые, самые гнусные из этих оскорблений были быстро прекращены и запрещены. Но лишь после 1795 г. стало можно публично отправлять католические обряды, не опасаясь хулиганских выходок.
Однако все это были мелочи по сравнению с великой задачей – преобразованием Франции на новых началах, определенных учением Руссо. Якобинцы, управлявшие страной, поневоле распределили между собой обязанности по решению насущных задач. Карно главным образом был занят отражением иностранной агрессии, частично этим же занимался Дантон. Своим менее заметным собратьям они предоставили обеспечивать безопасность внутреннего фронта и приближать долгожданную утопию. Настал счастливый час для Робеспьера. Опасность из-за границы, опасность внутри страны, страх перед роялистами, которые могут вернуться к власти (при таких обстоятельствах их возвращение не могло произойти без мести и кровопролития), – все эти причины вели к ужасным делам. Нужно было заставить навсегда замолчать под ножом гильотины всех, кто мог оказаться неблагонадежным. Робеспьер обладал всеми качествами фанатика – глубокой убежденностью в том, что его философия справедлива, и столь же глубокой убежденностью в том, что любой человек, несогласный с его логикой и его суждениями, – преступник. Поэтому в такое время он мог делать что хотел, пока люди, которые на самом деле были талантливее и могущественнее, чем он, не стали бояться за свою жизнь. И тогда кровавый террор вдруг прекратился – мгновенно и полностью.
Первые месяцы существования республики не были запятнаны большим числом казней, несмотря на трагическую смерть короля. Но теперь, в 1793 г., Революционный трибунал был разделен на две секции, чтобы работать в два раза быстрее, и количество его жертв увеличилось. Государство конфисковало имущество осужденных, и это помогало ему бороться с дефицитом. «Мы чеканим деньги гильотиной», – цинично сказал Барер в Конвенте. В сентябре депутаты проголосовали за ужасный Закон о подозрительных, по которому полагалось арестовывать не только придворных старого режима и других людей, у которых, возможно, были причины остановить революцию. Аресту подлежали все, кого заметили «говорящими о несчастьях республики и недостатках властей».
Эта зловещая перемена сразу же дала результаты. Уже полные тюрьмы вскоре были переполнены. В октябре 1793 г. двадцать два несчастных жирондиста были отправлены на эшафот. Мадам Ролан героически встретила смерть и, стоя перед гильотиной, произнесла свои знаменитые слова: «О свобода, сколько преступлений совершается во имя твое!» Ее товарищи-мужчины тоже шли навстречу своей судьбе спокойно и мужественно. Один из них, Ласурс, сказал своим судьям: «Я умираю в то время, когда народ потерял разум. Вы умрете, когда разум к нему вернется». И все осужденные, проявляя великолепное самообладание, пели «Марсельезу», когда стояли перед палачом, ожидая своей очереди.
Погибла и еще одна, более заметная жертва – сама вдовствующая королева. Если бы Марию-Антуанетту судили за предательство сразу после падения монархии, приговорить ее к смерти было бы справедливее, чем сделать это с ее несчастным мужем. Но теперь только жажда крови заставила якобинцев послать ее на смерть. Возможно, обвинение в помощи австрийцам было предъявлено ей по правилам закона, но суд над ней был просто фарсом. Как и король, Мария-Антуанетта умерла отважно и благородно, как и следовало дочери великой Марии-Терезии. Своим мужеством в качестве приговоренной узницы она стерла из памяти людей многие грубые ошибки и еще худшие поступки, в которых ее обвиняли, когда она была королевой.
С ноября 1793 г. (Барер радостно заявил, что уже с сентября) «террор оказался в центре внимания». У Революционного трибунала было все больше работы. Если заключенный представал перед ужасным судьей, прокурором и присяжными, ему редко удавалось избежать гильотины. Для человека, который попал в число «подозрительных», практически единственным спасением был удовлетворительный ответ на вопрос: «Что вы сделали, чем заслужили бы смерть, если бы роялисты вернулись к власти?» После того как французы вернули себе Тулон, все его жители, не показавшие радости по этому поводу, попали под подозрение. Было достаточно просто доказать, что обвиняемый недостаточно горячо поддерживал новейший указ Якобинского клуба. Некоторых жертв посылали под нож даже за то, что они придерживались умеренных взглядов. Сухая статистика казней в Париже за 1793–1894 гг. говорит о том, что безжалостность и фанатизм становились все сильнее. В декабре погибли 69 человек, в январе 1794 г. их было 71, в феврале 73, в марте 127, в апреле 257, в мае 353, в июне и июле вместе казненных было 1376[176]. «Этот внезапный рост количества казней, – правильно написал один автор, – был вызван старанием Робеспьера создать и укрепить свою утопию».
У современных историков существуют разные мнения о том, насколько Робеспьер лично нес ответственность за дела, которые сделали его имя отвратительным для каждого честного человека и священным для каждого анархиста. Несомненно, другие члены Комитета общественного спасения, например Бийо-Варенн и Колло д’Эрбуа, пролили не меньше крови, чем Робеспьер. Но в любом случае он часто выражал их идеи, выступая на их собраниях, и прикрывал их самые жуткие предложения изящными фразами об обеспечении «счастья» народа и «свободы». Вероятно, под конец он действительно почти был некоронованным диктатором и был одержим ужасной идеей, что он знает единственный способ обеспечить Франции свободу и процветание и потому любой, кто не одобряет его крайние взгляды, достоин смерти. И эту свою теорию он проводил в жизнь с поистине несгибаемой твердостью.
Робеспьер быстро избавился от возможных соперников. Поспорить с ним за влияние на народ мог бы его помощник Марат, но того уже не было в живых. Марат, «друг народа», был убит в июле 1793 г. героической Шарлоттой Корде, которая заколола его кинжалом ради объявленных вне закона жирондистов. Оставались два предполагаемых противника – Эбер, грубый и любивший непристойности глава Парижской коммуны, сторонник самого последовательного атеизма, и грозный Дантон. Робеспьер ненавидел Эбера за то, что тот позорил революцию своими «праздниками в честь Разума» и искажал натурализм Руссо, превращая его в грубое бесстыдство. Эбер был силен в Парижской коммуне и среди отбросов общества, поэтому Робеспьеру пришлось применить все свое влияние, чтобы отдать его под суд Революционного трибунала. Но 24 марта 1794 г. шумный богохульник Эбер всё же погиб[177]. Если бы Робеспьер остановился на этом, то, возможно, заслужил бы прощение за некоторые свои поступки.
Но диктатор пошел дальше и напал на самого Дантона. Для Трибунала Дантон должен был быть самым неприкосновенным из всех неприкосновенных людей. Дантон сделал больше, чем любой другой человек, для свержения монархии, сентябрьской резни, казни короля, принятия суровых мер, которые позволили отразить удар иностранных армий, для того, чтобы бросить вызов Европе, даже для создания Комитета общественного спасения и самого Революционного трибунала. Но несмотря на все это, Дантон совершал тяжелейшее преступление против «благотворных и хороших» теорий якобинцев: он становился «умеренным».
Вероятно, Дантон смог бы разогнать всех нападающих одним решительным ударом, если бы захотел это сделать, но он – что странно – бездействовал. Он был создан для кратковременных героических дел, а не для длительного непрерывного труда.
Он отказался участвовать в секретных комитетах и на время ушел – правда, не полностью – в личную жизнь. В конце концов он и его друзья стали делать очень ясные намеки на то, что, поскольку кризис, созданный иностранными врагами и отечественными мятежниками, почти закончился, массовые казни больше не нужны. Эти слова могли значить только одно: Робеспьер не сможет немедленно создать свой рай, в который он, разумеется, хотел загнать всех французов силой оружия. Этого хватило, чтобы решить судьбу величайшего из якобинцев.
Когда Дантону сказали, что он в опасности, он отказался разрушить планы своих врагов революционными методами (которые мог бы применить). «Я скорее умру на гильотине, чем пошлю других на гильотину. К тому же моя жизнь не стоит таких усилий и мне надоел этот мир», – презрительно ответил он. Тем не менее, когда его арестовали и привели в Трибунал, обвинители не осмелились дать ему даже те ограниченные возможности для защиты, которые предоставляли другим жертвам. Его заставили замолчать под предлогом «неуважения к правосудию» и приговорили, не выслушав почти ничего из обвинений, которые были таким смешными и мелкими, что смертный приговор, вынесенный Дантону, был ничем не лучше простого убийства. Вместе с Дантоном был приговорен к смерти его друг Камилл Демулен, который первым призвал парижан к оружию перед взятием Бастилии. «Покажи мою голову народу: он не каждый день видит такую», – высокомерно сказал Дантон палачу. Так он ушел из жизни (5 апреля 1794 г.).
Очень точно сказано, что Французская революция, как бог Сатурн в древней мифологии, «пожирала своих детей».
Марата не стало, Эбера не стало, теперь не стало и Дантона. Кто остался из великих идеалистов, для которых Общественный договор был библией и которые мечтали построить новый мир согласно евангелию от Руссо? Только Робеспьер и его ближайшие приспешники. Диктатор (теперь будет справедливо называть так Робеспьера) уничтожил эбертистов как «грязных фракционеров», а дантонистов как «снисходительных и аморальных людей». Теперь уже точно ничто не могло стать помехой для режима «настоящих» революционеров. Вероятно, в это время лишь очень малая часть парижан и еще меньшая часть всех французов чувствовали к террористам что-то, кроме отвращения. Но любая попытка сопротивления подавлялась полностью, наказание даже за «отсутствие патриотизма» (то есть за малейший признак недостатка энтузиазма) было таким быстрым, что целый народ оказался словно загипнотизирован и был беспомощен перед агрессивным, хорошо организованным и полностью лишенным угрызений совести меньшинством. Настоящее «царствование» Робеспьера продолжалось с 5 апреля до 27 июля 1794 г. В это время он, видимо, имел власть над жизнью и смертью французов, неизмеримо бо́льшую, чем власть Людовика XIV. Он мог бы обладать этой властью дольше, если бы не заставил тех, кто был трусливыми орудиями в его руках или его кровавыми сообщниками, испугаться за их собственную жизнь.
В апреле, мае и июне Робеспьер и становившийся все меньше кружок его ближайших советников мчались напрямик к своей цели. Одно за другим появлялись постановления, предназначенные для того, чтобы закрыть рты отступникам от Учения и сосредоточить всю власть в Париже, где «чистые» могли контролировать всю общественную жизнь. Все парижские клубы, кроме Якобинского, были закрыты, чтобы они не смогли стать центром восстания. Всем чрезвычайным трибуналам в провинциях было приказано прекратить работу и отправить находившиеся у них на рассмотрении дела в Париж, в более крупный и более безжалостный Центральный суд. Когда Робеспьер на заседании Конвента вставал со своего места, чтобы провести через Конвент новый декрет, оппозиционеры, кажется, соблюдали полную тишину. Никто не знал лучше Робеспьера, как надо провозглашать политику беспощадности, прикрывая ее словами, полными любви к людям и идеалистического благодушия. Он вежливо и мягко защищал террор как единственный способ установить царство «добродетели», а гильотину называл средством «для улучшения душ». Его помощники были откровеннее. «Только мертвые не возвращаются», – сказал Барер, а Колло д’Эрбуа цинично заявил: «Чем свободней дышит тело общества, тем здоровей оно становится».
Самому Робеспьеру теперь, конечно, льстили самым грубым образом. «Великого неподкупного» везде восхваляли за его добродетели, гениальность и красноречие. Вершиной его жизни и деятельности стал день 8 июня 1794 г., когда по его побуждению был устроен огромный праздник в честь Верховного Существа. В этот день депутаты Конвента торжественной процессией прошли в сад Тюильри, а Робеспьер шел на 15 футов впереди своих ничтожных коллег, нарядившись по последней моде того времени, и нес в дар божеству цветы и колосья. Затем этот первосвященник новой религии деизма сжег три больших чучела, которые символизировали атеизм, разлад и себялюбие, после чего произнес речь в высокопарном стиле. В ней были зловещие слова: «Люди! Отдадимся сегодня восторгам чистого наслаждения. Завтра мы возобновим нашу борьбу против пороков и тиранов!»
Через два дня Кутон (один из тех, кто говорил от имени диктатора) сообщил Конвенту, что имел в виду Робеспьер на празднике. Революционный трибунал работал слишком медленно, и у обвиняемых еще оставалась маленькая лазейка, позволявшая защищаться. Теперь Трибунал должен был заседать ежедневно, и процесс вынесения приговоров был значи тельно упрощен. Обвиняемому не разрешалось пользоваться ничьими советами, и для осуждения было достаточно «моральных доказательств». Все «враги народа» (определение, пугавшее своей неясностью) подлежали судебному преследованию, и присяжные, голосуя, не были обязаны следовать закону, а должны были только слушаться своей совести. Вероятно, Конвент утвердил бы все это, даже не пикнув. Но раньше, если обвиняемый был депутатом, для его ареста было необходимо согласие большинства его собратьев-депутатов, и это было достаточно мощной защитой. Теперь же самих депутатов можно было отдать под суд по одному лишь приказу грозного Комитета. В сущности, диктатор дал понять каждому члену Конвента, чтобы тот берег свою голову. В таком положении и самые слабые животные начинают защищаться. Это требование было грубейшей ошибкой.
Еще одну очень грубую ошибку Робеспьер совершил, когда отказался (в ответ на вызов, брошенный ему в Конвенте) назвать имена депутатов, которых предполагал обвинить. «Я назову их, когда будет необходимо», – надменно заявил он. Эти слова заставили задрожать каждого депутата, который когда-либо вставал у него на пути. Новый декрет был утвержден в «глубоком молчании». С этого момента «террор внутри террора» стал ужаснее, чем когда-либо. Осужденных казнили большими группами. Часто судьи посылали под нож пятьдесят несчастных обвиняемых за один день. Но конец террора становился все ближе.
Диктатор-фанатик всей душой ненавидел коррупцию, безнравственность и те виды жестокости, на которые не дал разрешения он сам. Могущественные и порочные люди, которые, занимая высокие должности в правительстве, злоупотребляли приобретенными благодаря этому возможностями, стали бояться Робеспьера. По меньшей мере три члена великого Комитета, в том числе могущественный Карно, начали противоречить ему. Его попытка сконструировать новую религию вызвала смех у тех, кто, казалось, должен был бы ее поддержать. «Ваше Верховное существо начинает мне надоедать!» – ворчал Бийо-Варенн. У Робеспьера по-прежнему было много сторонников в низших слоях парижан, и реорганизованная Коммуна столицы была верна ему, но ситуация явно становилась напряженной. В конце июля давно натянутая струна разорвалась.
Когда развязка стала приближаться, диктатор сделался угрюмым и недоверчивым. Его стала сопровождать охрана из верных якобинцев с дубинками, а его заявления звучали все более зловеще[178]. «Все развращенные люди должны быть изгнаны из Конвента», – заявил он. Кого он имел в виду? Те депутаты, которые чувствовали, что находятся под угрозой и отчаянно боялись за свою жизнь, были готовы свергнуть тирана. Робеспьер знал про их ропот и интриги против него, но 26 июля обратился к Конвенту со страстной речью в обычном для него духе:
«Существует заговор против народной свободы. Силу ему дает преступная интрига в самом сердце Конвента…
Накажите предателей! Очистите Комитет! Раздавите все фракции и установите на их развалинах власть справедливости и свободы!» Вместо аплодисментов его встретило молчание: депутаты явно были против него. Камбон[179] (храбрый человек) открыто заявил: «Настало время сказать всю правду. Один человек парализовал решимость всего собрания. Этот человек – Робеспьер».
Обсуждение закона окончилось полным поражением диктатора. На следующий день каждая из сторон пересчитала и организовала своих сторонников, и Робеспьер попытался противостоять надвигавшейся буре. Но его криками прогнали с трибуны, причем кричали не только умеренные, но и большинство его старых соратников-якобинцев. «Отбросим до конца занавес [сдержанности]!» – громогласно призвал Тальен. «Долой тирана!» – отозвались ему депутаты. Робеспьер пытался добиться, чтобы его услышали, но безуспешно. «Чистые и добродетельные люди!» – взмолился он, протягивая руки к тем, кто когда-то его восхвалял. В ответ он увидел каменные лица и услышал визгливые вопли. Кто-то крикнул ему с верхней скамьи: «Негодяй! Кровь Дантона душит тебя!» Депутаты Конвента встретили одобрительным криком предложение отдать под арест Робеспьера, его брата и трех сторонников диктатора, в том числе молодого, необузданного и красноречивого Сен-Жюста. «Республика погибла, разбойники торжествуют!» – крикнул свергнутый вождь, когда его волокли прочь из зала.
Но борьба еще не закончилась. Коммуна еще была на стороне Робеспьера, и она контролировала парижские тюрьмы. Ни один тюремный надзиратель не пожелал принять арестованного диктатора. Отряд муниципальных служащих отнял Робеспьера у конвоиров и торжественно привел в ратушу. На улицах раздались крики: «Да здравствует Робеспьер!» Отряд вооруженных горожан, которых возглавлял широко известный отчаянный авантюрист, агитатор Анрио, отдал себя в распоряжение свергнутого диктатора. Депутаты Конвента провели несколько мучительных часов в страхе, что на них вот-вот нападет толпа и перережет их всех. Однако Национальная гвардия после недолгих колебаний решила поддержать Конвент, а не Коммуну. Правительственные войска окружили ратушу и захватили мятежников, которые уже были объявлены вне закона. Робеспьер пытался застрелиться, но неудачно: пуля только разбила ему челюсть. Он был еще жив, когда в знаменитый день 10 термидора (28 июля 1794 г.) в 5 часов вечера его везли в телеге для смертников по улицам Парижа сквозь толпу, которая ликовала и громко требовала его крови. Двадцать два его друга поднялись на эшафот, а потом этот путь проделал и сам ужасный «диктатор». Когда его голова упала, воздух задрожал от аплодисментов[180]. Террор окончился.
* * *
Многие из тех, кто сверг Робеспьера, были так же безжалостны и неразборчивы в средствах, как их враг. Но они приобрели огромную популярность как люди, которые (так казалось французам) остановили террор, и не могли поставить под угрозу свое новое положение, возобновив казни. Конвент, который так долго был запуган, снова обеспечил себе свободу действий. Выжившие депутаты-жирондисты вернулись из изгнания. Якобинский клуб был закрыт. Те члены Революционного трибунала, которые особенно сильно злоупотребляли своей судейской властью, сами были казнены. Очень многие политические заключенные были выпущены на свободу, а остальные могли уже не опасаться смерти без честного суда. Франция, и особенно Париж, очнулась от тяготевшего над ней кошмара. Это было не просто возвращение к умеренности в политике республики. Французы даже были не против монархии, в особенности потому, что верили в возможность вернуть королей назад на таких условиях, которые обеспечат сохранение великих свобод, завоеванных в 1789 г. Правда, роялистов ослабило известие о том, что в 1795 г. несчастный дофин, сын Людовика XVI (хрупкий мальчик, которого лишили родителей и не дали ему достойных опекунов), умер в тюрьме, очевидно из-за небрежности или чего-то худшего со стороны его грубых тюремщиков[181]. Наследником престола Бурбонов теперь был брат покойного короля, граф Прованский, известный реакционер, находившийся в изгнании. Однако роялистские настроения усиливались. Парижские буржуа снова почувствовали себя уверенно и теперь поддерживали реакцию.
В 1795 г. даже было восстание роялистов, и оно было близко к успеху.
В 1793 г. Конвент принял ультрадемократическую конституцию, в которой сильно ощущалось влияние якобинских взглядов. Однако она не вступила в силу, а как только Робеспьер был свергнут, она была вообще отвергнута. В 1795 г. депутаты написали другую конституцию, которая была честной, но не вполне успешной попыткой избежать ошибок 1791 г. и создать республиканскую власть, которая будет далека и от крайнего радикализма, и от монархии. В этом документе был очень нужный французам список обязанностей и прав граждан, но в нем было и одно спорное положение: депутаты попытались лишить низы общества избирательного права и допустили до голосования только мужчин, которые прожили год на одном месте и платили налоги. Граждане, отвечавшие этим признакам, избирали выборщиков, а те избирали членов Законодательного собрания, которое состояло из двух палат. Одна палата называлась Совет пятисот и предлагала законы на рассмотрение, а другая палата, Совет старейшин (в нее входили двести пятьдесят депутатов, дольше работавших в собрании), проверяла и утверждала эти проекты. Исполнительную власть Конвент отдал в руки не президенту и не королю, а комиссии из пяти «директоров». Они контролировали министров, дипломатию, армию и гражданских чиновников. Советы должны были выбирать этих директоров сроком на пять лет, и каждый год один директор уходил в отставку[182]. Три директора могли говорить от имени всей комиссии. Творцы новой конституции надеялись, что такая исполнительная власть будет прочной и позволит не опасаться диктатуры.
В действительности эта система была слишком искусственной, чтобы хорошо работать даже в мирное время и с дружественным послушным народом. Но Конвент к тому же принял постановление, которое обязательно должно было сделать новую схему непопулярной. Депутаты Конвента, в особенности те, кто голосовал за смерть Людовика XVI, до ужаса боялись, что выборы дадут роялистам большинство в новых законодательных палатах. А это было весьма вероятно: так сильны были отвращение французов к террору и желание начать жить мирно после смуты предыдущих лет.
Поэтому Конвент, защищая себя, постановил, что две трети новых законодателей должны быть выбраны из числа членов уходящего Конвента. Так депутаты могли быть уверены, что роялисты по крайней мере еще несколько лет будут не более чем меньшинством.
Респектабельные парижане, к этому времени уже полностью взявшие верх над якобинскими низами, пришли в ярость из-за этой явной попытки ненавистных радикалов продлить свою власть, сменив ее облик. Национальная гвардия была реорганизована и теперь подчинялась реакционерам. Но 5 октября 1795 г. (13 вандемьера) примерно 40 тысяч вооруженных роялистов пошли маршем на здание Конвента, чтобы попытаться силой сменить правительство способом, которому их хорошо научили Дантон и Марат.
Положение Конвента было опасным. Теперь у него было очень мало друзей в Париже, но регулярная армия (преданная республике) была на стороне Конвента. Небольшой военный гарнизон столицы пришел в ярость при одной мысли, что ненавистные Бурбоны могут вернуться. Депутаты назначили своим главой энергичного Барраса, а он выбрал своим главным заместителем некоего Наполеона Бонапарта, молодого офицера-артиллериста, который отличился во время осады Тулона, а теперь сидел без дела в Париже, ожидая нового назначения. Бонапарт быстро завладел всей артиллерией, которая была в лагере Саблон. Эти орудия, а также 6 или 7 тысяч своих солдат он расставил на выгодных позициях вокруг дворца Тюильри, в котором заседал Конвент. Роялисты бодро и смело шли к старинному дворцу, рассчитывая, что одержат победу, как дантонисты в 1792 г. Но Бонапарт и его артиллеристы были не такими, как Людовик XVI и его швейцарские гвардейцы. Роялистов встретил смертоносный огонь артиллерии: орудия молодого офицера обстреляли продольным огнем набережные Сены, и «вихрь картечи» скосил наступавшие колонны как траву. После безуспешной попытки собраться вместе восставшие побежали, и на этом сражение закончилось.
Формально победителем был Конвент, на самом же деле победила армия. Бонапарт силой своих пушек решил спор между законодателями и гражданами. С этого времени и до 1815 г. судьбой Франции фактически распоряжалась армия. Она хранила верность республике так долго, как могла; а когда перешла на сторону другой власти, то не к старой монархии, а к новому цезаризму.
В октябре 1795 г. началось правление новых директоров. Этот режим – Директория – просуществовал до ноября 1799 г. Здесь нет необходимости предлагать читателям его историю. С 1796 г. подлинную историю Франции творил великими сражениями в Италии, а потом в Египте тот молодой офицер, который помог Баррасу. Что касается директоров, то, как бы часто они ни менялись, почти все они были посредственностями. Они могли много и ожесточенно спорить, но делали сравнительно мало. В 1795 г. во Францию более или менее вернулись закон и порядок, хотя старинное дворянство и католическое духовенство еще подвергались сильным преследованиям. Изумительные практические способности французского народа в немалой степени вернули в страну экономической процветание. Уже в апреле 1795 г. Пруссия прекратила войну против Франции из-за ссоры со своей союзницей Австрией, и прусский король из рода Гогенцоллернов заключил с радикальной республикой мирный договор в Базеле. В том же году заключила с Францией мир и увядающая деспотическая Испания. Англия, Австрия и Сардиния продолжали войну, но не могли стать реальной угрозой для целостности Франции и для завоеваний революции.
Как и можно было ожидать, пять директоров (при их избрании не делалось ни малейшей попытки выбрать тех, кто сможет работать вместе) вскоре перессорились между собой. Помимо этого они ожесточенно спорили с Законодательным собранием, отношения которого к исполнительной Директории были очень слабо урегулированы новой конституцией. В 1797 г. три директора объединились против двух остальных, обвинили их в реакционности и с помощью армии отстранили это меньшинство от власти. В 1798 и 1799 гг. Бонапарт, который уже полностью затмевал пятерых маленьких правителей, сидевших в Париже, сражался в Египте. В его отсутствие директора поразительно плохо управляли делами страны. Благодаря доблести Бонапарта Франция победоносно заключила мир с Австрией в 1797 г. (в Кампо-Формио), а теперь директора втянули республику в новую войну с австрийским императором. Когда Бонапарт в 1799 г. вернулся из Египта, директорам почти не о чем было доложить ему, кроме поражений в Италии и Швейцарии и того, что даже границы Франции опять оказались в опасности. В таких обстоятельствах «маленькому капралу», который был честолюбив, умел плести интригу и уже был любимцем армии, было легче легкого избавиться от неудачной конституции 1795 г. И 9 ноября 1799 г. (18 брюмера) Бонапарт совершил дерзкий государственный переворот: при помощи солдат и трех из директоров он отстранил от должности двух остальных директоров и разогнал Совет пятисот. Под звуки барабана его гренадеры вошли в задние Законодательного собрания и «медленно прошли через весь обширный зал, выставив штыки».
То, что не осмелился сделать Людовик XVI, когда Мирабо бросил свой вызов после «королевского заседания» в 1789 г., посмел сделать и сделал корсиканец Бонапарт. У Франции снова появился монарх, но совсем не такой, каким был Людовик XVI. Бонапарт предложил реорганизовать правительство – создать новый, прочный исполнительный орган из трех консулов. Его условными коллегами по консульству стали сговорчивый политик Сийес и еще один бывший директор, Дюко. Когда затем эти трое собрались на свое первое заседание, Сийес мягким тоном спросил: «Кто будет председателем?» – «Разве вы не видите? – ответил Дюко. – Генерал уже сидит в своем кресле». Больше говорить было нечего.
С этого времени история Франции и биография Наполеона Бонапарта, которые переплелись между собой с 1796 г., сплелись еще теснее и были едины, пока величайший из всех авантюристов не потерпел крах у Ватерлоо.
Глава 16. Наполеон Бонапарт – повелитель Европы
Юность Бонапарта. Доблесть новых французских войск. Прекрасные помощники Бонапарта. Бонапарт в Египте. Борьба против Англии. Ульм и Аустерлиц. Континентальная блокада. Сопротивление испанцев. Империя на вершине своего могущества
Эта книга посвящена истории Франции. Она – не биография Наполеона. Она не рассказывает об истории войн и дипломатии в Европе с 1796 по 1815 г. Но очень трудно писать на первую из этих трех тем, не затрагивая две остальные. Разумнее всего будет перечислить несколько избитых фактов о жизни и личности великого корсиканца, потом в самых общих чертах рассказать о его главнейших войнах и его международной политике. После этого можно будет подробнее объяснить, что он сделал для Франции, и показать, что его неутомимый гений проявлял себя не только в военных успехах. И наконец, мы сможем проследить историю последних лет его власти и его падения, когда Франция, в результате его личного краха, была вынуждена переработать свою конституцию и на время вернуть к власти отверженных изгнанников – Бурбонов.
Бесполезно пытаться написать что-то новое о Наполеоне Бонапарте. Кроме того, автор неизбежно должен отказаться от повторения фактов, которые можно найти даже в самом тонком справочнике.
Тот, кто позже привел в замешательство всю Европу, родился в городе Аяччо на Корсике в 1769 г., в типичной «бедной, но благородной семье». Его отец Шарль был итальянского происхождения, а по профессии юридическим советником при местном Королевском суде. Так что Наполеона надо считать итальянцем по рождению и раннему воспитанию. Его гениальные способности, добродетели и пороки почти все имеют южную природу. Если он и стал французом, то был лишь приемным сыном этого народа, хотя на какое-то время сосредоточил на себе симпатию и энтузиазм всех французов. В 1779 г. он был отправлен на материк – в военную школу в Бриене, в 1784 г. перешел в Парижскую военную академию, а в 1785 г. был назначен младшим лейтенантом в артиллерию. Застенчивый, плохо одетый, не идеально говоривший по-французски, он не был особенно популярен ни у товарищей, ни у учителей. Правда, один из парижских преподавателей заметил, что «он пойдет далеко, если ему будут благоприятствовать обстоятельства». При выпуске он был только сорок вторым в классе. Вскоре после начала революции он то ли действительно стал, то ли сделал вид, что стал горячим сторонником якобинских теорий и в 1793 г. был произведен в капитаны. Первую славу он заслужил во время осады Тулона тем, что умело выбрал место для батареи, которая своим огнем прогнала из гавани британский флот. Талантливый офицер был произведен в бригадные генералы, но отказался командовать пехотной бригадой, воевавшей против мятежников в Вандее, и в результате был почти уволен из армии.
Потом колесо Фортуны снова повернулось, и в 1795 г. Баррас внезапно поручил ему защищать Конвент от роялистов. Выстрелы точно нацеленных орудий молодого генерала разбили надежды реакционных сил на успех, а его начальники оказались в большом долгу перед ним. Его назначили командующим Итальянской армией – самой большой армией Директории, конечно, после огромных армий, стоявших на Рейне. Бонапарта сразу же начали восторженно приветствовать как влиятельного человека, набирающего силу. Перед отъездом из Парижа он смог жениться на Жозефине Богарне, красивой вдове-креолке, которая была одной из центральных фигур в светской жизни столицы. Через десять дней после свадьбы (11 марта 1796 г.) генерал покинул свою молодую жену и отправился на юг страны, чтобы приступить к исполнению обязанностей на своей новой должности. Через месяц после своего прибытия к Итальянской армии он уже смог сообщить в столицу об очень важных победах. Началась новая эпоха в жизни не только Франции, но и всей Европы.
Внешность молодого человека, который вскоре заставил пробежать холодок ужаса по спинам всех высочеств, светлостей и величеств христианского мира, конечно, хорошо знакома нам по сотням его точных портретов. Можно сказать, что в начале своей карьеры он выглядел как настоящий южанин и был похож больше на итальянца, чем на француза. Тогда он был «мал ростом, худощав, имел длинные черные волосы, висевшие редкими прядями, глубоко посаженные глаза и бледное выразительное лицо; мундир на нем был поношенный». Позже худоба исчезла, и лакей иногда подавал ему одежду, которая соответствовала его положению, но представительную внешность он так никогда и не приобрел.
Когда он прибыл к Итальянской армии, его встретили там без особого восторга. Многие из генералов, его подчиненных, служили в армии дольше и были намного старше, чем их новый командующий. На его приказы они отвечали плохо скрытыми усмешками и выполняли их так неохотно, что это граничило со скрытым неповиновением. Удивительно, как мало времени ему понадобилось, чтобы подчинить их всех своему колдовскому обаянию. Ожеро, один из его главных помощников, признавался: «Я его боюсь. Не понимаю, в чем его власть надо мной, но его взгляд сражает меня как удар молнии!» Если говорить коротко, то Бонапарт в 1796 г. взял под свое начало лишенную мужества, плохо дисциплинированную, очень плохо снаряженную и голодную армию, одним рывком перевел ее за Альпы и через несколько недель начал докладывать в Париж про такие победы, о каких ни один генерал не сообщал Людовику XIV. Эта Первая Итальянская кампания, даже если бы Бонапарт не провел никакой другой, уже позволила бы причислить его к великим полководцам нашего мира. Когда после отчаянной атаки на мост возле города Лоди (10 мая 1796 г.) делегация сержантов гренадерских частей ожидала своего генерала в его палатке, чтобы сообщить, что он избран «капралом» их корпорации, эти делегаты только предвосхитили мнение каждого, кто изучает военную историю. «Маленький капрал» создал себе имя, равное именам Александра и Юлия Цезаря.
И все же Бонапарт не был волшебником, который одним ударом своего жезла создал для себя послушную непобедимую армию. Напротив, он не смог бы пойти далеко, если бы революция не предоставила в его распоряжение одну из самых грозных боевых машин в мире. Эта машина уже была почти готова, ей нужен был только умелый инженер, чтобы усовершенствовать и направить ее. Армия, которая отбросила назад пруссаков и австрийцев после Вальми, ответила действием на призыв Дантона к отваге, уже вырвала весь западный берег Рейна у шатавшейся тогда Германской империи и отняла Бельгию у Австрии, была одним из прекраснейших созданий революции. В армии республики особенно горячими были непритворный патриотизм и любовь к недавно обретенной свободе, а также страстное желание умереть за Францию или покорить другие страны и принести благословенные «права человека» менее счастливым народам. В армии, как правило, было мало удобных случаев для кровопролитной борьбы между жирондистами и якобинцами, дантонистами и сторонниками Робеспьера. Армия твердо решила лишь одно: Бурбоны не должны вернуться; поэтому она стала опорой Директории в дни роялистского мятежа. Позже, в 1799 г., она покинула и затем свергла Директорию из-за возникшего у многих чувства, что эта исполнительная власть из пяти человек своей неэффективностью губит Францию и поэтому готовит путь для возвращения ненавистных королей. В том году солдаты искренне верили, что их обожаемый генерал восстановит в какой-то лучшей форме их любимую республику. Они были как воск в ловких руках южанина-корсиканца.
Но Республиканская армия была не только очень антироялистской. Она была великолепной боевой силой. Те, кто в ней служил, – по крайней мере, те из них, чье влияние преобладало, – не были профессиональными наемниками, которые зарабатывают деньги на службе у короля. Это были верные своей стране патриоты, которые сражались за идеал. До этого времени в обычном сражении два длинных ряда старательно построенной в боевой порядок пехоты медленно сближались, пока не оказывались один от другого на расстоянии мушкетного выстрела, а затем каждый строй начинал стрелять по противнику. Перестрелка иногда длилась много часов подряд и кончалась, когда одна из сторон не выдерживала обстрела и отступала, позволяя своим врагам решительно идти вперед. Новые армии Франции отбросили этот порядок. Французские солдаты-добровольцы превосходили своих врагов мужеством; это позволяло французским генералам строить их в стремительные колонны и наносить своим полком, как крепким тараном, удар по врагу. Авангард колонны мог погибнуть, но остальные прорывались сквозь ряды врагов к победе. Кроме того, новые французские армии в общем и целом были свободны от помех в виде традиций и приблизительных добытых опытом правил, которыми так восхищались солдафоны старой школы[183]. Нам известно, что солдаты французских батальонов часто были одеты в лохмотья, что их шаги были длинными и неуклюжими, в отличие от изящных движений австрийцев; что у французских офицеров иногда даже не было сапог, а французские генералы не имели горделивых и полных достоинства манер. Но это не умаляет величия того факта, что эти французы много раз победили в решающих сражениях механически действовавших австрийцев, и современники отмечали, что их свирепая энергия, готовность нагнать страх на любого врага и патриотизм вполне объясняют их успехи.
Революция под ударами обстоятельств в короткий срок воспитала нескольких очень компетентных генералов. В их числе были, например, Гош (ранняя смерть которого в 1797 г. избавила Бонапарта от опасного соперника) и Моро, который в 1800 г. выиграл битву против австрийцев при Гогенлиндене возле Мюнхена, а позже вызвал у Бонапарта губительную зависть. Но теперь великолепная боевая машина попала в руки не имевшего себе равных военного гения. Неудивительно, что он пошел далеко!
Военные методы Бонапарта сами по себе были крайне просты, великим полководцем его сделало их применение. Он использовал преимущества, которые ему давали поразительные физические качества французских крестьян и их изумительная способность к долгой ходьбе, и выжимал из своих солдат все силы. Как правило, его колонны двигались неизмеримо быстрее, чем его противник. Его войска жили за счет того, что реквизировали там, где они проходили, а потому ненадежные обозы не привязывали его к далекой базе. Когда наступало время сражаться, он всегда поступал одинаково: оставлял небольшие отряды сдерживать или замедлять продвижение менее крупных воинских частей врага, а потом быстро концентрировал все свои силы и внезапно наносил ими удар по той части вражеской армии, которую выбрал как добычу. Он без конца изучал карты, и они подсказывали, когда нанести удар и где силы врага будут наиболее разделены, а силы французов наиболее сконцентрированы, а также где будущую победу можно использовать с наибольшей выгодой.
Этот принцип быстро сосредоточиваться, быстро атаковать и все подчинить одной цели – ловить войска противника по частям характерен для всех его кампаний с 1796 по 1814 г.
Конечно, Бонапарту оказывали огромную помощь его заместители – военачальники высочайшей квалификации. Он, как Юлий Цезарь, был таким властным и вездесущим, что даже самые талантливые его генералы немного утратили способность проявлять инициативу и могли растеряться, если им поручали командовать войсками независимо, вдали от глаз великого человека, который ставил им задачи. Но если Корсиканец находился на расстоянии доступном для быстрого курьера, многие его подчиненные могли проявить себя как тактики очень высокого уровня. Ожеро, сын парижского торговца фруктами; Даву, учившийся вместе с Бонапартом в Бриене; Ланн, доблестный сын провинциала, владельца конюшни; Ней, сын бедного бондаря из города Саарлуи; Сульт, сын нотариуса с Юга; и, наконец, Мюрат, сын хозяина гостиницы из Кагора, – вот кто были эти вожди, которых их глава позже, в дни своего процветания, сделал маршалами, герцогами или князьями и даже королями[184]. Своим путем к славе они оправдали поговорку о том, что в новой армии «каждый солдат носит в своем вещевом мешке маршальский жезл». Почти все они были великими военачальниками и с честью вписали свои имена в военную историю. Кроме того, Бонапарту очень повезло: почти до самого его падения у него был очень компетентный начальник штаба – Бертье, чей острый ум и большая точность при составлении приказов избавили его начальника от огромного множества раздражающих подробностей.
Наполеон со своей армией стоит лагерем в долине перевала Большой Сен-Бернар
Но в конечном счете славу Корсиканцу принесли его солдаты. В 1914 г. Европа снова узнала, как могут сражаться французские солдаты. Французы, сражавшиеся на Марне, были в конце концов правнуками солдат, сражавшихся при Лоди, Риволи и Аустерлице. Даже менее одаренный главнокомандующий смог бы одержать великие победы с такими дивизиями, как та, которой командовал Массена в кампании 1797 г.
Его солдаты 13 января выдержали ожесточенное сражение возле Вероны, всю следующую ночь шли по заснеженным дорогам и, пройдя целых 20 миль, к утру были на плато Риволи; в этот же день (14-го) они выиграли еще одно сражение, ночью снова выступили в поход, шли весь следующий день (15-го) и 16-го числа, прошагав примерно 43 мили за тридцать часов, успели прибыть на место вовремя и решили судьбу сражения при Ла-Фаворите. Марш длиной 68 миль и три сражения за четыре дня! Пока существовала армия республики с ее традициями, можно ли было удивляться, что любимый генерал этой армии шел вперед, чтобы завоевывать другие страны, и завоевывал их.
Чтобы читатель не забыл хронологию тех событий, автор должен очень коротко дать здесь хронологию побед Наполеона Бонапарта. Когда он в 1796 г. принял в Ницце командование армией, французы уже владели Бельгией и западным берегом Рейна, но продолжали воевать на море с Англией и вести войну на суше с Австрией и со всеми малыми государствами Италии. Война между Францией и Австрией на германском фронте практически зашла в тупик. Но в Северной Италии французы получили бы безграничные возможности для атаки и маневрирования, если бы им удалось уже в самом начале добиться преимущества, и в апреле Бонапарт начал атаку на войска австрийцев и их союзников сардинцев. Почти сразу же он одержал свою первую победу возле деревни Миллезимо. Через две недели после нее напуганный до ужаса король Сардинии захотел перемирия. Затем Бонапарт вторгся в миланскую провинцию Австрии. В мае Корсиканец выиграл знаменитое сражение при Лоди и вошел в Милан, а вскоре после этого начал осаду Мантуи – крепости, которая была ключом ко всей Северной Италии. Четыре раза австрийцы старались прорвать кольцо этой осады, четыре раза они были полностью разгромлены и отброшены назад. Последнее сражение, битва при Риволи (14 января 1797 г.), стало решающим. Мантуя сдалась, и возникла угроза, что Бонапарт перейдет через Альпы и войдет в Вену. Правительство империи Габсбургов поспешило начать переговоры о мире. В апреле 1797 г. оно подписало в Кампо-Формио унизительный мирный договор, по которому Бельгия и западный берег Рейна оставались за Францией, а в Северной Италии создавалась (под защитой Франции) Цизальпинская республика. Австрии было позволено аннексировать одряхлевшую и нейтральную Венецианскую республику. Это был откровенный дележ военной добычи, при котором старая монархия Габсбургов и молодая Французская республика поступали с одинаково чудовищной несправедливостью.
После этого Бонапарт стал любимцем французского народа. Директоры оказывали ему высочайшие почести, но его популярность и влияние в Париже угнетающе действовали на этих мелких людей. Поэтому они вздохнули с облегчением, когда Бонапарт решил нанести поражение англичанам, захватив Египет – заднюю дверь в Индию. В 1798 г. Бонапарт отправился в путь во главе флота, который вез 35 тысяч испытанных в боях французских солдат. Он плыл в Александрию – на Восток, навстречу удивительным приключениям. По пути французский полководец мимоходом захватил Мальту. Он благополучно высадился в Египте, разгромил армии мамелюков и стал править в Каире как мусульманский эмир. Но английский адмирал Нельсон уничтожил его флот в заливе Абукир[185] и этим почти разрушил его планы. Однако Бонапарт отважно вторгся в Палестину и там нанес туркам поражение, правда не полное. Но в любом случае без флота его положение стало очень непрочным. Бонапарт боялся, что в Европе произойдут великие события, а он в это время будет отрезан от нее на Востоке. Узнав, что Австрия, Россия и многие другие, менее крупные государства снова вступили в союз с Англией и опять атакуют Францию, он поступил не очень благородно – бросил свою армию в Египте, посадил на один из оставшихся у него фрегатов своих самых лучших офицеров и отплыл вместе с ними во Францию, успешно проскользнув мимо английских крейсеров[186]. Политическая обстановка во Франции в это время сложилась так, что все многочисленные критики Директории не только не стали винить его в том, что он покинул своих людей, но даже обрадовались его приезду. Как уже было сказано, он быстро сверг директоров и стал первым консулом всего через тридцать два дня после своего возвращения[187].
Бонапарт фактически стал диктатором. О новой французской конституции Восьмого года рассказано в другом месте этой книги. Она была лишь хорошо продуманным способом скрыть возвращение монархии. Корсиканец всегда утверждал, что французский народ на самом деле больше верен идее «равенства», чем республике и «свободе». Главное, чего хотят французы, – чтобы ими управляла крепкая и эффективная власть, чтобы экономика их страны процветала, чтобы талантливые люди смогли возвыситься благодаря своим достоинствам, чтобы отважные и честолюбивые люди имели пространство для действия; но больше всего они хотят «славы», которая льстит их национальной гордости. Бонапарт чувствовал, что сможет дать им все это.
Директоры оставили ему в наследство новую войну с Австрией и Россией, и в 1800 г. он снова появился в Северной Италии и выиграл там битву при Маренго. Чуть позже его генерал Моро выиграл решающую битву при Гогенлиндене в Баварии[188]. Австрия снова заключила с Францией мирный договор[189], который в основном подтвердил соглашение, принятое в Кампо-Формио, усилил господство Франции над малыми итальянскими государствами и официально упразднил старую Священную Римскую империю (то есть слабо централизованную федерацию германских государств во главе с Австрией). Распад средневековой Германии был в основном завершен в 1803 г., а в 1806 г. монарх из рода Габсбургов был вынужден отказаться от претензий на то, чтобы считаться преемником Цезаря и Карла Великого, и стал называться просто императором Австрии. Если бы Бонапарт погиб в это время, вероятно, позднейшие историки благословляли бы его. Он уничтожил много того, что прогнило, и сделал неизбежным улучшение устройства Европы. Он еще не начал нарушать права народов (по крайней мере, серьезно нарушать) и не стал ненасытным агрессором. Но с этих пор «слава» уводила его все дальше.
Англия упорно не желала заключать мир. Ее блокада сковывала экономику Франции и отрезала французские колонии от метрополии. Но союзники покинули упрямую Британию, и в 1802 г. она заключила с Францией в Амьене мирный договор на условиях, которые позволяли Франции фактически господствовать в континентальной Европе, а ее сопернице Англии сохранить свое могущество на морях. Однако на самом деле это был не мир, а перемирие между двумя непримиримыми противниками – свободной Британией и беспокойным деспотом-южанином. В 1803 г. между ними произошли новые ссоры, предлогами для которых стали захваченная англичанами Мальта и Ганновер, который захватили французы. «Мир», продолжавшийся меньше года, закончился, и обе стороны опять начали между собой полномасштабную войну.
Английский флот мог подорвать экономику Франции, и казалось, что Великая армия первого консула была бессильна против этой опасности. В 1803 г. Бонапарт даже собрал в Булони значительно число опытных солдат, которые были должны переправиться через Ла-Манш на плоскодонных лодках, когда английские флоты на несколько дней будут прогнаны от своих берегов. Но этот великий замысел не был осуществлен. «Деревянные стены» Англии были такими грозными, что завоеватель, много раз побеждавший в сражениях, не рискнул их штурмовать.
В 1804 г. произошла политическая перемена, которую с 1799 г. любой зоркий наблюдатель мог бы предсказать и назвать неизбежной: Наполеон Бонапарт, сын бедного адвоката из Аяччо, стал Наполеоном I, императором французов. Старые генералы, еще не забывшие 1793 г., заворчали по этому поводу, но самых пылких император заставил замолчать с помощью наказаний, а их более благоразумным собратьям закрыл рот почестями. Разумеется, было очевидно, что Наполеон основал деспотический режим, но этот режим был устроен неизмеримо эффективнее и гораздо умнее, чем, например, деспотизм Людовика XV, и потому терпеть его было гораздо легче. Официальная идеология этого деспотизма выглядела так: Франция избрала лучшего из своих граждан великим защитником прав своего народа, и этот избранник теперь защитник ее чести и творец ее процветания. Племянник императора, позже сам сидевший на его шатком троне как император Наполеон III, дал дяде в своей книге такую характеристику: «исполнитель заветов революции», который ускорил приход царства Свободы. Затем он заявил: «Теперь сущность демократии воплотилась в одном человеке». Наполеон I, несомненно, желал, чтобы французы именно так думали о его власти. Но он был реалистом и понимал, что в этом мире лучшее средство добиться желаемого – успех. Если он сможет дать Франции процветание, славу и почет, множество его подданных будут готовы объяснять, что они «свободны», хотя и живут под деспотической властью нового Цезаря.
О том, что представляла собой эта новая империя, о ее блестящих чиновниках и роскошном дворе автор рассказал в другой главе этой книги. Сейчас же нужно лишь отметить, что 2 декабря 1804 г. «новый Карл Великий» был коронован в Париже самим папой римским, Пием VII, и церемония коронации была впечатляющей. Однако Наполеон, желая показать, что получает власть не благодаря авторитету церкви, надел корону себе на голову собственными руками.
Как только закончилась эта церемония, император снова занялся делом, которое было ему по душе: он стал готовить свои легионы к войне. То, что он надел на себя корону, добытую одной лишь силой оружия, вызвало новый приступ страха у всех европейских наследственных монархов из старинных родов. Что за человек этот новый император, который был никем, а теперь так возвысился, что затмил их собой? Англия уже давно держала наготове свои субсидии. Россия, Австрия и Швеция объединились в новую крупную коалицию. Из крупных государств только Пруссия вела себя уклончиво и держалась настороженно. Император Наполеон поторопился показать миру, что с короной на голове бывший генерал Бонапарт не утратил своего профессионального мастерства. Из большого военного лагеря возле Булони его армия мощным потоком двинулась к Южной Германии.
Из всех своих кампаний Наполеон, возможно, был больше всего доволен этой, проведенной в 1805 г.
Его Великая армия теперь достигла полного развития как боевая машина. Потери среди ее ветеранов были еще не так велики, и она пока не стала хуже воевать из-за того, что ее ряды разбавлены неопытными новобранцами. Огромная масса французских солдат несколькими сходящимися колоннами вошла в Южную Германию. В октябре австрийский генерал Мак, человек очень средних способностей, обыкновенный солдафон, которого послали воевать против великого полководца, сдался французам в Ульме со своей армией из 30 тысяч человек. Наполеон продолжил идти прямо вперед, преодолел горы и торжественно провел свои войска по Вене. 2 декабря 1805 г. он одержал свою самую знаменитую победу возле Аустерлица в Моравии. Имея 65 тысяч солдат, он сражался против примерно 85 тысяч австрийцев и русских и обратил в бегство тех из них, кто уцелел. Через двадцать четыре дня напуганный Франц II Габсбург подписал в Пресбурге[190] мирный договор, по которому Австрия практически отказалась от всех своих претензий в Италии и позволила французам преобразовывать этот полуостров, как те пожелают. Кроме того, она уступила французам Истрию и Далматию – бывшие владения Венеции на Адриатике; отдала Баварии, союзнице Наполеона, Тироль и многие соседние с ним области; и признала Баварию и Вюртемберг независимыми королевствами. С этих пор Австрия была обязана убрать руки прочь и от Германии, и от Италии и позволить ужасному корсиканцу лепить из них, как из глины, то, что он хотел. Знаменитая Третья коалиция противников Франции была полностью разгромлена. Россия официально еще была в состоянии войны с Францией, но молодой царь Александр I был слишком далеко от Центральной Европы и вряд ли мог послать свою армию против Наполеона: все возможные для нее пути проходили через территорию нейтральных стран. Неудивительно, что духовенству Франции было дано распоряжение пропеть в соборах Te Deum![191]
Однако в этой бочке меда была ложка дегтя. Через четыре дня после капитуляции Мака в Ульме английский адмирал Нельсон застал врасплох флоты Франции и ее союзницы Испании[192] у мыса Трафальгар, возле побережья Испании. Двадцать семь британских линейных кораблей вступили в бой с тридцатью тремя кораблями противника. Однако испанские суда были плохо оснащены. Французы были отважны, но в это время лучшие силы и лучшие умы Франции находились в армии, а не во флоте.
Нельсон пал в этой битве, но, умирая, успел услышать радостные крики победивших англичан. Франко-испанский флот был практически полностью уничтожен. После этого трехцветный флаг Франции можно было увидеть на море лишь у легких крейсеров и наемных кораблей, которые в основном уничтожали торговые суда противника. Кольцо британской блокады теснее, чем когда-либо, сжалось вокруг французских гаваней и портов союзников Франции. Наполеон мог диктовать условия мира Габсбургу, но не имел никакой надежды осуществить свои грандиозные планы по завоеванию мирового господства. Разве он мог это сделать, пока был почти беспомощным на море? Корсиканец боролся почти непостижимого морского могущества Британии так же яростно и безуспешно, как Гогенцоллерн в 1914–1918 гг.
Едва успели высохнуть чернила на Пресбургском договоре, как Пруссия едва не уничтожила себя сама. Это королевство с 1795 г. бесславно соблюдало нейтралитет. Наполеон уговорил правителя Пруссии, короля Фридриха-Вильгельма III, не присоединяться к Третьей коалиции. В то время, когда Австрия, приобретя еще одного сильного союзника, могла раздавить Францию, Корсиканец подавал королю Пруссии неясные надежды на огромное вознаграждение за то, что тот будет сидеть спокойно. Теперь, когда Австрия была побеждена и стала бессильной, Фридрих повел себя глупо и в высшей степени безрассудно: обидевшись на многочисленные дипломатические оскорбления, он объявил Франции войну, не имея практически ни одного союзника кроме далекой и неспособной помочь России. У Пруссии были серьезные причины поддаться на французские провокации: как только отпала необходимость льстить, Наполеон сбросил маску и показал, что готов не считаться даже с важнейшими интересами Гогенцоллерна. Теперь Пруссия была настолько слабее в военном отношении, что ее поступок казался полным безумием. Но слишком мало было тех, кто понимал, как слаба она будет в бою и насколько знаменитая армия Фридриха Великого потеряла боеспособность из-за устаревших традиционных методов ведения войны и из-за неэффективности своих стариков генералов[193]. В двойном сражении под Йеной и Ауэрштадтом 14 октября 1804 г. прусская военная машина не просто потерпела поражение – она была разбита вдребезги. Крупнейшие прусские крепости сдались французам по первому требованию, проявив недостойную торопливость. В начале 1807 г. Фридрих-Вильгельм уже укрывался от врагов в Мемеле[194], городе на крайнем северо-востоке своих владений.
Правда, царь Александр I пытался прийти ему на помощь. Русские сразились с французами при Эйлау. Исход боя был ничейным, и этот ничейный исход в битве против Наполеона его враги приравняли к победе. Однако чуть позже (14 июня 1807 г.) французы нанесли русским несомненное поражение возле Фридланда. У Александра почти не осталось войск. Он согласился на встречу с Наполеоном, которая состоялась на плоту посередине Немана. В разговоре Корсиканец с его сильным характером легко подчинил своему влиянию впечатлительного и не слишком твердого духом царя. Было решено, что Россия и Франция заключат тесный союз и разделят мир между собой. Александр должен был согласиться с существовавшим у Наполеона планом «континентальной блокады» Англии и позволить императору Франции свести Пруссию на положение третьестепенной страны. В обмен на это царь получил большие, но неясные перспективы завоеваний на Востоке. Наполеону же теперь ничто не мешало отнять у Пруссии почти половину ее территории, наложить на эту страну непосильную контрибуцию и вырвать у ее властей обязательство иметь армию численностью всего 42 тысячи человек. Итак, Австрия казалась уже бессильной, Пруссия стала бессильной, Россия стала союзницей – у Наполеона больше не было ни одного соперника в континентальной Европе. Этот мирный договор, заключенный в Тильзите в июле 1807 г., во многом стал вершиной жизненного пути и славы Наполеона.
Только упрямая и цепкая, как бульдог, Англия по-прежнему бросала вызов императору французов. Эта война была большой экономической нагрузкой для британцев: из-за нее они платили большие налоги, а надежда добиться мира, при котором Наполеон не будет хозяином всей континентальной Европы, казалась очень слабой. Но островитяне с суровым упорством продолжали борьбу. Не имея возможности разогнать их эскадры, которые блокировали его порты, Корсиканец нанес ответный удар – организовал знаменитую «континентальную блокаду». В своем Берлинском декрете, который он обнародовал в завоеванном им Берлине в ноябре 1806 г., он объявил, что устанавливает блокаду Британских островов, и запретил все без исключения коммерческие сделки между британцами и Францией, а также всеми союзниками Франции. Отказаться от участия в этой блокаде, поддерживать какие бы то ни было отношения с Британией, не объявить британские товары подлежащими конфискации и уничтожению практически означало навлечь на себя войну с Наполеоном. Какой из континентальных правителей рискнул бы на это? «Я желаю покорить моря благодаря могуществу на суше», – заявил император[195].
Однако добиться соблюдения такого сурового декрета оказалось непосильной задачей даже для победителя под Аустерлицем и Йеной. Значительная часть восточных товаров и промышленных изделий поступала в Европу через Англию или прямо из английских ткацких и кузнечных мастерских. Контрабандный ввоз этих товаров приносил огромную прибыль. Даже высокопоставленные чиновники самого Наполеона иногда вступали в сговор с контрабандистами и брали взятки за то, что смотрели сквозь пальцы на их дела[196]. Доки крупных торговых городов опустели. Могущественные слои торгового сословия отвернулись от французского императора. Фабрики стояли без дела из-за отсутствия сырья. Несмотря на непопулярность декрета, Наполеон не только оставил его в силе, но даже ужесточил. Россия, Австрия, Пруссия и Дания дали обязательство соблюдать его и присоединились к «блокаде» Британии. Когда родной брат Наполеона Луи Бонапарт (которого он сделал королем Голландии) отказался строго применять систему блокады, поскольку это разорило бы его подданных, император сбросил его с кукольного трона и присоединил Голландию к уже сильно разбухшей Французской империи (1810). Еще раньше он так же поступил с Италией, а в 1807 г. захватил Португалию потому, что это слабое королевство вело напрасные разговоры о нейтралитете.
Однако к началу 1808 г. появились признаки того, что ясный и крепкий ум, который привел младшего лейтенанта артиллерии на трон и сделал новым Цезарем, начал портиться из-за непрерывных удач.
Испания теперь была совершенно одряхлевшей и выжившей из ума монархией, которая уже несколько лет была бессильной союзницей Франции. Она казалась легкой добычей. Ее огромные американские колонии еще не стали независимыми и, оказавшись под властью Франции, могли бы послужить благородной цели! Не испытывая никаких угрызений совести, Наполеон без какого-либо серьезного предлога воспользовался ссорой в испанской королевской семье и, запугав старого испанского короля Карла IV, отвратительного мерзавца, заставил его отречься от престола, затем вынудил отречься наследника престола, принца Фердинанда. После этого он открыто послал в Испанию французские войска, чтобы сделать своего брата, Жозефа Бонапарта, коронованным преемником давних Фердинанда и Изабеллы.
Раньше Наполеон сражался только против королей, и они оказались для него очень легкой добычей. Теперь, к своему изумлению, он столкнулся с противодействием народов, и результаты оказались не такими, как он ожидал. Гордый испанский народ почти весь как один человек поднялся против захватчика. Хорошо обученным французским солдатам было нетрудно победить поспешно набранные отряды испанских патриотов, но вскоре Наполеон узнал, что поговорка «Испанию легко завоевать, но трудно покорить» верна. Испанцы были большими мастерами партизанской войны – засад, налетов, нападений на обозы, мелких осад. Для того чтобы удержать Пиренейский полуостров, императору пришлось постоянно держать там большое количество французских войск, но все равно у «короля Жозефа» не было ни одной спокойной минуты, пока он сидел на троне. Испанцам пришла на помощь английская армия под командованием сэра Артура Уэлсли (позже виконта, а затем герцога Веллингтона). Вначале она едва не была сброшена в море превосходящими силами французов и едва смогла спасти себя, но, несмотря на это, неудачная испанская авантюра продолжала истощать ресурсы Наполеона. Он не мог покорить всю страну. Уйти из Испании он тоже не мог: это было бы слишком большим уроном для его престижа. И вдобавок ко всему этому ему пришлось снова воевать с Австрией.
Габсбурги реформировали свою армию. Теперь (в 1809 г.) они призвали всех немцев последовать примеру испанского народа и восстать против угнетателя. Призыв оказался преждевременным. Пруссия была бессильна; в ней начались волнения, но они не дали никаких результатов. Князьки Южной Германии охотно следовали за своим французским повелителем. Только в Тироле произошло отважное, но неудачное восстание, которое возглавлял Андреас Хофер, владелец гостиницы. Наполеон быстро вторгся в Австрию, во второй раз захватил Вену, но в Асперне, на Дунае возле австрийской столицы, он, к своему изумлению, проиграл бой. Это, несомненно, было поражение, но это не было полной катастрофой. Великолепная французская военная машина продолжала работать. Император не пожелал отступить из Вены, удержал свои позиции и 6 июля 1809 г. возле Ваграма смыл пятно со своей славы победой в своем прежнем стиле. Австрия не получила серьезного удара, но ни один союзник не присоединился к ней, а одна она уже больше не могла выдержать тяжесть войны. В том же 1809 г. Франц II опять согласился заключить мир. По новому Венскому мирному договору Австрия уступила по меньшей мере 32 тысячи квадратных миль своей территории, основная часть которых досталась союзнице Наполеона Баварии, и отдала последние округа, которые связывали ее с морем. Она покорно вернулась в континентальную систему. Казалось, авторитет Корсиканца еще никогда не был так высок.
В 1809 г. Наполеон развелся с Жозефиной[197]. Она не родила ему детей, а положение императора было бы прочнее, будь у него сын, наследник его власти. После безуспешных переговоров о браке с русской принцессой дипломаты сосватали ему Марию-Луизу, дочь самого Франца II Габсбурга. Невесту-эрцгерцогиню с надлежащими церемониями отправили в Париж, и 1 апреля 1810 г. император вступил с ней в брак в соборе Нотр-Дам. Шлейф платья новой императрицы несли пять королев! В марте 1811 г. Наполеону, казалось, повезло еще больше: он стал отцом сына – злополучного Наполеона II, которому не было суждено царствовать, но который уже в колыбели получил величавый титул «римского короля».
Казалось, в 1811 г. Наполеон по-прежнему был на вершине успеха. Правда, французы стали ворчать по поводу его деспотизма, благодарственные гимны в церквях уже начали казаться утомительными и скучными, и было похоже, что континентальная блокада подрывает торговлю Франции, но не заставляет англичан заключить с ней мир. Да и весь французский народ начинал всерьез возмущаться тем, что молодых мужчин безжалостно забирали в армию. Но все же Корсиканец выглядел более могущественным, чем когда-либо. Один из его братьев, Жером, был королем Вестфалии – области на северо-западе Германии. Другой брат, Жозеф, был благодаря французским штыкам королем Испании. Правда, третий брат, Луи, отказался быть марионеткой в Голландии и только что отказался от королевского титула, но это лишь значило, что его брат-император присоединил бывшую Голландскую республику к Франции. В Неаполе Мюрат, зять Наполеона (муж одной из его сестер), самый энергичный и стремительный генерал его кавалерии, царствовал во дворце изгнанных местных Бурбонов. Малые германские государства были объединены в Рейнскую конфедерацию, бессильную и находившуюся под «защитой» императора Франции. Пруссия выглядела раздавленной и послушной. Россия, казалось, по-прежнему была союзницей Франции. Император Австрии теперь был тестем Корсиканца. А границы самой Франции постоянно расширялись: каждый месяц появлялись постановления о присоединении к ней новых территорий. Кроме Голландии, западной части Рейнского края и Бельгии[198], новые «департаменты» теперь создавались вдоль северного побережья Германии, включая Бремен и Гамбург, до реки Траве. Часть северо-восточных областей Италии была объединена в новое Королевство Италия; Наполеон сам был его королем, но правил через наместника. На ее юге Мюрат, разумеется, по-прежнему владел своим Неаполитанским королевством. Но Пьемонт, Генуя, почти вся Тоскана и отрезок западного побережья были присоединены к самой империи; ими управляли французские префекты по законам, поступавшим напрямую из Парижа. Папа римский был политическим узником во Франции.
Армия по-прежнему выглядела той идеальной военной машиной, которой она была десять лет назад; но, к сожалению, битва при Фридланде лишила Наполеона слишком многих ветеранов, и непрерывные боевые действия в Испании постоянно опустошали армейские резервы и военный бюджет. Несмотря на все церемонии своего парижского двора, Наполеон, находясь в войсках, часто снова выглядел «маленьким капралом». Он по-прежнему мог покорить воображение своих солдат пылкой речью и добиться от них слепой верности тем, что сидел с гренадерами на привалах, пробовал их суп, называл отважных рядовых по имени и лично их награждал, звал солдат своими товарищами и проявлял большой интерес к их благополучию. Короче говоря, каждый солдат считал, что император доверяет ему и лично видит все, что он делает. Для ветеранов, которые следовали за Наполеоном во всех его войнах, верность императору из долга стала религией. Один маршал писал в 1813 г.: «Я не могу найти слов, чтобы рассказать Вашему величеству, как мои солдаты любят Вас. Никогда ни один муж не был так предан своей жене, как они преданы Вам». А вот что чувствовала Старая гвардия императора, окружавшая его во время всех кампаний: в 1815 г., после битвы при Ватерлоо, когда все было кончено, один из офицеров откровенно пожаловался: «Вы видите: нам не выпало счастья умереть на вашей службе».
Таким казалось положение Наполеона и его империи в дни ее расцвета. После таких успехов вполне разумно было бы предположить, что этот император мог бы не только сплотить в одно целое свои обширные владения, но и прибавить к ним новые и даже создать новую Римскую империю – если бы он в час своего величайшего триумфа научился умеренности. Но, к его несчастью, уже в 1811 г. его безжалостные нападения на другие страны вызвали столько гнева у оскорбленных им народов – испанцев, пруссаков и других, что, вероятно, положение императора было не таким прочным, как выглядело.
Однако перед рассказом о том, как «слава и безумие» привели его к полному краху, нужно немного пристальнее взглянуть на менее драматичные, но более долговечные дела Наполеона – государственные реформы, которые он осуществил во Франции.
Глава 17. Наполеоновский режим во Франции: консульство и империя
Анархия и убожество. Скрытый абсолютизм. Успех новой системы. Назначение епископов. Бонапарт укрепляет свою власть. Казнь герцога Энгиенского. Имперский режим. Мечты и честолюбивые планы Наполеона. Огромная переписка Наполеона. Высшие сановники. Контроль над прессой. Государственная монополия на образование. Заключение папы в тюрьму. Призыв новобранцев в армию. Большие улучшения в жизни общества
Наполеона Бонапарта обычно считают только неутомимым «всадником», который девятнадцать лет гипнотизировал Францию и пугал весь мир своими военными успехами, которые, вероятно, превосходят то, что совершили Александр, Ганнибал и Юлий Цезарь. Если его изучают не как полководца, то как правителя, который распоряжался тронами всей Европы, устанавливал и переделывал все границы, как волшебника, по слову которого возникали и исчезали королевства. Иногда считают, что его роль в истории – только роль разрушителя, который разбил средневековых кумиров континентальной Европы на такие мелкие осколки, что даже вся злая сила Меттерниха и его собратьев-реакционеров, наблюдавших за падением Корсиканца, не смогла остановить движение человечества к сравнительно высокой производительности труда, счастью и свободе.
Все то, что сейчас было сказано о внешней политике Наполеона, верно. Но поскольку мы рассматриваем только Францию, нам важно осознать, что гений Наполеона был разносторонним и позволил ему стать не только завоевателем других стран, но и реформатором своей страны. Наполеону Франция обязана многими мирными учреждениями, которые продолжали существовать и спустя век после того, как его победы и его кровавая слава стали историей. Вестфальское королевство и Рейнская конфедерация исчезли навсегда. Но Кодекс Наполеона и теперь остается законом для многих миллионов просвещенных французов. Поэтому мы посвящаем эту главу не подробностям военных успехов императора, а наполеоновскому режиму во Франции в годы консульства и империи. Для выбора этой темы есть и еще одно оправдание: лишь в очень малом числе сочинений по истории народов есть подробный рассказ о достижениях Корсиканца в качестве гражданского правителя.
Консульство, установленное после переворота 9 ноября 1799 г., существовало до 18 мая 1804 г. В это время Бонапарт, носивший тогда титул первого консула, дал Франции ее четвертую конституцию – конституцию Восьмого года, а затем полностью реорганизовал административную систему, органы правосудия и финансы страны. Принятая тогда конституция (в которую были внесены изменения в 1802 и затем в 1804 г.) действовала только до падения империи в 1814 г. Но административная, судебная и финансовая система Франции, созданная тогда, существует и сейчас – по крайней мере, основные характеристики остались те же. Поэтому ее подробности будут интересны читателям не только как памятники старины. Эти достижения и творения Наполеона имеют гораздо большее значение, чем многие знаменитые битвы Корсиканца.
Ко времени государственного переворота 1799 г. Франция еще не залечила раны, которые нанесли ей сначала революционеры своей жестокостью, а потом члены Директории своей неумелостью, и потому опять, хотя и не полностью, погрузилась в анархию. По словам заслуживающих доверия свидетелей, она «выглядела как страна, опустошенная долгой войной или покинутая своими обитателями, которые до этого жили в ней много лет». На юге вода снова залила земли, с трудом отвоеванные у болот. На востоке порт Рошфор был заблокирован песчаными наносами. На севере, возле Остенде, была готова рухнуть дамба, которая защищала от моря часть Фландрии (присоединенной тогда к Франции). Дороги везде были практически непроходимы из-за того, что их не ремонтировали. В окрестностях городов и деревень местные жители даже разбирали покрытие дорог, чтобы употребить камни из него на починку своих стен. В открытой местности преградами на дорогах стали болота, в которых кареты вязли, а порой подвергались опасности утонуть. Везде рушились мосты.
Отсутствие общественной безопасности и повсеместное беззаконие были еще хуже, чем бездорожье. Шайки разбойников, в особенности на юге, в центре и на юго-востоке страны (где они состояли из дезертиров), сделали путешествие по дорогам почти невозможным. Они грабили правительственные сейфы и останавливали почтовые кареты. Однажды государственный дилижанс, ходивший по маршруту Нант – Анжер, был остановлен и ограблен пять раз на пути из Нанта на протяжении 40 миль. Разбойники грабили путников, похищали зажиточных крестьян и держали их в плену, требуя выкуп, даже пытались штурмовать дома, стоявшие далеко от соседних. На востоке действовали такие же бандиты; их прозвали шоффёры – «подогреватели» за то, что они жгли ступни ног своим пленникам, чтобы дознаться, где те прячут свою серебряную посуду. В некоторых местностях, например в районе реки Дордонь[199], путешественники, как позже в Албании и Македонии, платили предводителям банд за проезд. В департаментах Вар, Нижние Альпы, Устье Роны и других Директория, как турецкий султан, была вынуждена предоставлять важным путешественникам вооруженный эскорт, чтобы гарантировать им безопасность.
Промышленность и торговля, казалось, были практически уничтожены, хотя какая-то малая их часть уже начала восстанавливаться. В парижских мастерских количество рабочих составляло меньше одной восьмой того, которое было до 1789 г. В Лионе численность шелкоткачей сократилась с 8 тысяч до 1500. В Марселе теперь за целый год заключалось меньше торговых сделок, чем перед революцией за шесть недель.
Не было никакого уважения к государственной власти. Налоги народ не платил или платил очень медленно. В тот день, когда Наполеон захватил власть, в казне было всего 187 тысяч франков (37 тысяч долларов). Государство задолжало держателям своих облигаций и пенсионерам выплаты за два года. В некоторых больницах пациенты умирали от голода; в Тулузе в городской больнице на восемьдесят пациентов было всего 7 фунтов еды в день. Солдаты не получали ни хорошей еды и одежды, ни платы за службу. Тысячи из них дезертировали, а остальные вели себя во Франции как в завоеванной стране. В новых департаментах, созданных в Бельгии и на границе вдоль Рейна, они, как сказано в официальном докладе, обращались с местными жителями «не как со своими согражданами, а как с разоруженными или взятыми в плен врагами». А жители этих областей тоже не оставались в долгу: во всех молитвах они призывали на помощь своих «освободителей», имея в виду австрийцев. Призывники из многих округов отказывались являться в полки, куда их направили на службу. Роялисты снова пытались поднять Вандею и Бретань на восстание ради Людовика XVIII; а повстанцы из центральных областей (получившие прозвище шуаны) объединились в настоящие маленькие армии под командованием умелых профессионалов и почти взяли под свой контроль Центральную Францию.
Но большинство населения во всех частях страны устало. Французы чувствовали отвращение к политике и бурям, которые она порождает, и были равнодушны даже к потрясающим новостям из-за границы. «Когда мы читаем о наших собственных сражениях, кажется, что мы читаем историю другого народа, – сказано в официальном докладе. – Перемены во внешнем положении нашей страны не вызывают у нас сильных чувств». После десяти лет потрясений французы прежде всего хотели порядка, безопасности и покоя. И эти настроения в обществе неизбежно затрудняли трем временным консулам – Бонапарту, Сийесу и Роже Дюко – выполнение задачи, которую они взяли на себя. При решении этой задачи Бонапарт, гений на войне, проявил себя как великий государственный деятель и могущественный организатор государства.
Консулы немедленно приступили к работе по составлению новой конституции, в этом деле им помогала парламентская комиссия, назначенная вечером того самого дня, когда был совершен последний переворот. Составители размышляли чуть больше месяца. Новая конституция в конечном счете была создана лично Бонапартом. В начале работы он думал, что у Сийеса уже был полностью готовый проект. Но Сийес смог представить только два наброска, содержание которых было крайне расплывчатым. По словам Бонапарта, Сийес предложил «только тени законодательной, судебной и исполнительной властей». Бонапарт отверг эти черновики. Так же он поступил с двумя другими проектами, которые подготовила помогавшая консулам комиссия: они казались ему помехами для его честолюбивых замыслов. В конце концов он сам продиктовал основные статьи проекта конституции и заставил членов комиссии принять этот вариант. Этот проект и стал конституцией Восьмого года. Она была опубликована в 24 декабря 1799 г. и немедленно вступила в силу, хотя по прежней конституции для этого нужно было дождаться результатов плебисцита, то есть народного голосования. Плебисцит был проведен только 7 февраля 1800 г. Меньше 16 тысяч человек сказали «нет» новой конституции, а за нее было подано (как объявили официально) более 3 миллионов голосов. На тот момент она, несомненно, имела успех.
Эта Конституция вся была написана так, как было удобно грядущему самодержцу. Разница между явной монархией и «свободой» стала почти незаметной, но еще не настало время кричать «Да здравствует император!», и Бонапарт благоразумно ждал. В новой республике исполнительную власть осуществляли три консула, но лишь один из них, первый консул, действительно имел власть. Он фактически контролировал все правительство, он назначал и смещал всех важных должностных лиц. Второй и третий консулы только консультировали его по важным вопросам, но окончательное решение принимал он один. Все трое избирались на десять лет, а потом могли быть снова избраны народным голосованием.
Ниже некоронованного самодержца на следующей ступени находилась законодательная власть из трех частей – Государственного совета, Трибуната и Законодательного собрания. Названия у всех трех органов были громкие, но их права и привилегии сильно противоречили друг другу, и на самом деле эти законодатели не могли рассмотреть ни один вопрос кроме тех, которые представлял им на рассмотрение первый консул. Был предусмотрен еще сенат – помпезный «страж конституции». Французский народ не имел даже права выбирать тех, кто войдет в эти слабые и громоздкие законодательные учреждения. Избиратели могли только косвенным образом, посредством неудобных процедур выбрать иерархически организованных «нотаблей». Из этого, несомненно, большого числа нотаблей различных степеней и разновидностей первый консул, фактически руководствуясь только своими желаниями, выбирал тех, кто будет работать в законодательных органах, сенате и на многочисленных должностях в правительстве. Таким образом, Бонапарт, в сущности, сам выбирал себе законодателей. А ведь со дня смерти Робеспьера едва минуло шесть лет! «Конституционная власть» первого консула почти ни в чем не уступала «божественной власти» Людовика XIV.
Это сходство с временами королевской власти стало еще заметнее в 1800 г. после того, как была реорганизована административная система на местах. Избираемых народом местных чиновников образца 1790 г. сменили чиновники, назначаемые центральным правительством. Департаментом теперь управлял вездесущий префект со своими подчиненными – супрефектами и мэрами коммун. Даже муниципальных (местных) советников назначала центральная власть. Так была создана армия чиновников – агентов и созданий парижского правительства, которых оно могло в одно мгновение уволить с должности и которые были полностью ему послушны. Префекты и супрефекты заменили послушных интендантов старого режима и их уполномоченных и унаследовали их могущество, верность и услужливость. Таким образом, при консулах была восстановлена та сильно централизованная система управления страной, для уничтожения которой трудились реформаторы 1789 г. Эта бюрократическая, управляемая министрами система продолжала существовать при всех правительствах, пришедших на смену консульству. С некоторыми усовершенствованиями, добавленными после 1870 г. и при Третьей республике, она существует и в наше время[200]. Поэтому у нас есть серьезные причины для подробного рассмотрения великой административной реформы Наполеона Бонапарта.
За административной реформой почти сразу последовала реорганизация судебной системы (18 марта 1800 г.). В этом случае тоже был почти полностью отменен принцип выборности. Выборными остались только мировые судьи, а всех остальных судей стал назначать первый консул или сенат. Однако вначале было установлено одно справедливое правило, которое обеспечивало этим вершителям правосудия независимость и позволяло им сохранять достоинство перед лицом правительства: судьи были практически несменяемыми: их можно было отстранить от должности только за преступление. Как и административный механизм, судебная система в основном существует и сегодня. Корсиканец и в этом случае построил нечто более прочное, чем многие его королевства-однодневки.
В этом случае быстрый ум Бонапарта дал результаты еще до того, как был написан проект новой конституции. Он знал, в каком плачевном состоянии находились финансы страны при Конвенте и Директории, и понимал, что их бедственное положение вызвано не только огромными военными расходами и обесценением бумажных ассигнаций, но и плохой системой сбора налогов. Законодательное собрание когда-то возложило обязанность определять размер налогов и собирать их на администрации коммун и департаментов, а они полностью пренебрегали этой обязанностью. В этой области так же, как везде, Бонапарт на место слабых, выбираемых гражданами, административных органов поставил агентов, которых назначал сам. От этого его власть стала сильнее, а жизнь всех честных французов удобнее.
Благодаря реформам эпохи Консульства государственная финансовая система была поставлена на прочную основу, а сбор налогов стал осуществляться способами, которые не угрожали процветанию страны.
Конституция, реформа административной системы, судебная и финансовая реформы – вся эта работа была проделана за первые четыре месяца Консульства. Все эти меры позволили быстро восстановить порядок во всей стране и этим способствовали быстрому возрождению Франции. И все нововведения осуществлялись под постоянным и активным руководством Бонапарта и избранных им чиновников. Первый консул, набирая людей на государственную службу, не интересовался их политическими прежними или нынешними взглядами и даже не узнавал, были они в прошлом роялистами или республиканцами. Его интересовало лишь то, какие услуги они могут оказать государству. Гораздо позже он признался, что желал лишь одного – привлечь на службу Франции всех ее талантливых людей.
Конец истории Консульства был отмечен еще двумя событиями, имевшими большие последствия: подписанием конкордата с папой и составлением Гражданского кодекса.
Желая восстановить спокойствие внутри страны, Наполеон не мог не заняться завершением религиозного кризиса, который, к большому несчастью, спровоцировала Гражданская конституция духовенства. Несмотря на то что Директория после 1796 г. возобновила жестокие преследования верующих, большинство французов, вероятно, оставались верны «неприсягнувшему» духовенству и римско-католической вере. Поэтому одним из своих первых распоряжений консул отменил постановления об изгнании священников и обеспечил им полную свободу служения.
Но Бонапарт пошел дальше этого. Он был убежден, что религия является ценнейшей составной частью порядка в государстве. Вряд ли у него самого были какие-то определенные религиозные убеждения, кроме слепой веры в свою судьбу. было бы неправильно называть Бонапарта атеистом: утверждают, что иногда он с уважением говорил об Иисусе Христе. Но, как правитель Франции, он при решении религиозных проблем руководствовался только пользой. Церковь, если ею правильно руководить, могла послужить укреплению новой самодержавной власти, которую он создавал. Поэтому он должен был стать ее покровителем и руководителем. «Общество без религии – как сосуд без дна, – сказал он однажды. – Только она дает государству надежную и долговременную поддержку». Духовенство проповедует любовь ко всему хорошему и ненависть ко всему плохому во имя вечного и справедливого Бога, казалось ему самым надежным хранителем общественного спокойствия. Поэтому он попытался командовать священниками так же, как командовал жандармами.
Чтобы добиться этой цели, ему нужно было договориться с папой, поскольку предпринятая революционерами попытка организовать национальную церковь полностью провалилась. Папа Пий VII был по натуре миротворцем, сторонником политического сближения с новой властью Франции. Переговоры с ним были начаты сразу же после заключения Люневильского мира (в феврале 1801 г.). Посредником между сторонами был аббат Бернье, священник из Вандеи, который ранее, в начале Консульства (в январе 1800 г.), уже вел переговоры с повстанцами Вандеи и Бретани и добился от них подчинения новой власти. Эти переговоры были продолжены в Париже и после больших трудов закончились 15 июля 1801 г. подписанием конкордата – договора, согласно которому «правительство республики признало, что католичество является религией большинства французского народа» и обещало обеспечить католической церкви свободное и публичное исполнение ее обрядов. Церковь, со своей стороны, согласилась с уменьшением количества епархий, которое Законодательное собрание когда-то осуществило собственной властью, объявив, что имеет на это право. Было установлено, что их останется шестьдесят, из которых десять будут архиепископскими. Папа также согласился «ради поддержания мира» утвердить «переход в собственность государства» того имущества, которое оно конфисковало у церкви в 1789 г. В обмен на это правительство Франции подтвердило торжественное обязательство, которое оно в прошлом торжественно дало через посредство Законодательного собрания, – обеспечить епископам и приходским священникам жалованье, соответствующее их положению, и разрешить верующим делать пожертвования в пользу церкви.
Назначать епископов должны были совместно правительство Франции и папа. Решили, что правительство будет назначать их на должность, а папа станет «наделять» их духовной властью, без которой они не имели бы авторитета для церкви. Эти епископы будут обязаны присягать на верность главе государства. Они смогут, в свою очередь, назначать священников в подчиненные им приходы, не спрашивая согласия у правительства. Назначение государством, жалованье от государства и присяга превращали епископов в государственных чиновников, которые находились практически в полной власти правительства. Пока Францией правил такой человек, как Наполеон Бонапарт, папа почти не контролировал французскую церковь, что бы ни было написано в договоре.
Конкордат вступил в действие в апреле 1802 г. и оставался руководством в отношениях между церковью и Французским государством более ста лет, до 1905 г. Большинство французов восприняли его с удовлетворением. Недовольны были только старые политики времен революции и часть армии, в которой еще были сильны предрассудки и страсти 1793 г.
Реорганизовав таким образом государство, первый консул сразу же стал доделывать и укреплять социальные достижения революции, сводя их в единый большой кодекс, то есть сборник законов, регулирующих отношения людей в новом обществе. Правда, Законодательное собрание и Конвент еще в 1790 г. вынесли постановление о создании кодекса, а в дни Директории Совет пятисот подготовил несколько планов такого свода законов, но ни один план не был реализован. А Бонапарт в августе 1800 г. назначил для решения этой задачи комиссию из шести человек во главе с Тронше, председателем Кассационного суда, и за четыре месяца эта комиссия составила новый проект. Этот проект был передан для изучения в юридические органы, а затем с ним ознакомился Государственный совет. По словам Камбасереса[201], первый консул очень активно участвовал в дискуссии при этом втором обсуждении кодекса и часто поражал юристов свей строго юридической точкой зрения и глубоким пониманием законов. Затем различные части Кодекса были предоставлены на рассмотрение Трибунату, а после этого отправлены для голосования в Законодательную палату. Гражданский Кодекс, создателей которого вдохновляли, с одной стороны, законы Древнего Рима и королевские указы, а с другой – постанов ления французских революционеров, был завершен 21 марта 1804 г. Позже этот свод законов получил название, которое постоянно применяли за границей – «Кодекс Наполеона». Он действует во Франции и сейчас. Законодательство большинства европейских государств создано по его образцу или, по меньшей мере, под его сильным влиянием.
Политические и административные учреждения, конкордат и Кодекс были лишь частью работы в 1800–1804 гг. Фактически ни одно правительство не занималось таким множеством дел, как консульское, и ни один период во Франции не оставил после себя так много долговечных достижений, как Консульство. Для подготовки будущих гражданских чиновников первый консул реорганизовал среднее образование в лицеях, создав множество фондов для содержания учеников из бедных семей. Он учредил (в 1802 г.) награду за услуги обществу – орден Почетного легиона. Этот «легион» был организован по-военному: он делился на когорты, где существовала иерархия: рыцари, офицеры, командоры и «великие офицеры». Чтобы способствовать преобразованию промышленности и торговли, группа банкиров, тоже по инициативе первого консула, основала (в 1800 г.) Банк Франции, банкноты которого вскоре стали приниматься наравне с золотыми и серебряными монетами. Позже этот банк стал самым могущественным финансовым учреждением в мире – или, возможно, вторым в мире после Банка Англии. Это были не все замыслы и проекты первого консула: он обдумывал большие планы общественных работ и меры для поощрения промышленной деятельности и торговли. Но в это время возобновившиеся войны отвлекли внимание Франции от мирных дел.
Когда Наполеон захватил власть, роялисты наивно думали, что он станет добиваться восстановления монархии и будет рад сыграть роль генерала Монка, который вернул Карла II на английский престол. Людовик XVIII, который в это время укрывался в Польше, сам написал первому консулу письмо, в котором просил его о поддержке и предлагал, чтобы тот сам назначил награду за нее (1800). Однако Бонапарт вовсе не мечтал о том, чтобы восстановить Бурбонов на их престоле. Он уже поставил себе цель увековечить собственную власть и создать собственную династию. Этой цели он достиг за два этапа: в августе 1802 г. добился, что его назначили пожизненным консулом, а в мае 1804 г. был провозглашен императором Франции.
После того как он был избран пожизненным консулом путем всенародного голосования (согласно официальному сообщению, было подано 3 миллиона 600 тысяч голосов за и только 9 тысяч против), в конституцию немедленно внесли изменения. К прежним полномочиям первого консула было добавлено право подписывать договоры, и отменить его подпись мог лишь Тайный совет, членов которого назначал он сам. Списки «нотаблей» были отменены; на смену им пришли столь же зависимые «избирательные коллегии»; предполагалось, что их членов будут избирать граждане путем громоздкой непрямой процедуры. Законодательные органы (в особенности трибунат) потеряли часть своих и раньше очень ограниченных полномочий. Численность и влияние сенаторов, напротив, были увеличены. Сенат теперь имел право «толковать» конституцию и управлять страной с помощью постановлений, которые назывались как в Древнем Риме – Senatus consultum. Это увеличение власти сенаторов, конечно, должно было принести пользу первому консулу, в особенности потому, что он получил право непосредственно назначать треть членов сената и мог в любом случае рассчитывать, что верные ему члены этого претенциозного собрания будут в большинстве.
Провозглашение пожизненного консульства разрушило надежды роялистов. После того как Наполеон Бонапарт отказался помочь им вернуться к власти, кто-то из эмигрантов уже пытался убить узурпатора. Однажды вечером, в декабре 1800 г., когда первый консул ехал в Комеди Франсез, заговорщики вытолкнули на улицу, по которой катилась его карета, бочку с порохом, спрятанную под тачкой. Память об этом покушении, однако, не удержала первого консула от попытки победить тех аристократов из старой знати, которые жили в Париже. Он пошел дальше: он отменил принятые во время революции законы против эмигрантов и разрешил им вернуться во Францию, но при условии, что они присягнут на верность республике. В этом случае консул возвращал им то их имущество, которое еще не было продано (26 апреля 1802 г.).
Однако все эти меры не удовлетворили экстремистов. В августе 1803 г. группа французских живших в Англии эмигрантов, в числе которых был широко известный Полиньяк, разработала сложный заговор. Английское правительство предоставило им деньги для его осуществления. Было решено, что Жорж Кадудаль, бывший предводитель повстанцев-роялистов (шуанов), с отрядом решительных бойцов нападет на первого консула и убьет его посреди его телохранителей. Затем начал бы действовать генерал Пишегрю, который перешел на сторону роялистов в дни Директории. Воспользовавшись суматохой, вызванной смертью консула, он совершил бы военный переворот, который вернул бы власть Бурбонам. Чтобы осуществить свой замысел, Пишегрю решил взять в соучастники генерала Моро, тоже известного военачальника, у которого были личные счеты с первым консулом. Моро ответил, что готов помочь заговорщикам при свержении Наполеона, но отказался восстанавливать на престоле Людовика XVIII: этот генерал предпочел вести какую-то свою игру.
В январе 1804 г. заговор был раскрыт. Моро, Пишегрю, а позже и Кадудаль, в течение нескольких месяцев скрывавшиеся в Париже, были арестованы (с 15 февраля по 7 марта 1804 г.). Кадудаль признался, что ждал приезда во Францию принца из королевской семьи и лишь после его прибытия должен был совершить покушение: принц должен был находиться у заговорщиков под рукой сразу после того, как они устранят первого консула.
И тут произошло роковое стечение обстоятельств: из полиции поступило сообщение о таинственных поездках герцога Энгиенского. Оно попало к Бонапарту одновременно с признаниями Кадудаля, и консул решил, что герцог Энгиенский, сын принца Конде, и есть тот принц, которого ждал Кадудаль. Этот аристократ жил в изгнании в герцогстве Баденском, в городе Эттенхайм, который только Рейн отделяет от Страсбурга. Корсиканец был вне себя от гнева. «Я что, собака, которую можно забить до смерти на улице?! – кричал он. – Я не дам убить себя без сопротивления! Я заставлю этих людей дрожать от страха и научу их сидеть спокойно!»
Несмотря на недовольство Камбасереса и Лебрена, второго и третьего консулов, он приказал отряду драгун похитить герцога Энгиенского с территории Баденского государства. Пленника отвезли в один из фортов Венсенского замка и сразу же судили военным судом за участие в войне против Франции (чем герцог открыто гордился), приговорили к смерти и в полночь расстреляли в крепостном рву. Эта казнь, разумеется, ужаснула роялистов и полностью погасила заговор. Немного позже был казнен на гильотине Кадудаль; Пишегрю был задушен в тюрьме, а Моро изгнан из Франции. Но смерть герцога Энгиенского, который был просто убит, навсегда осталась пятном на имени великого завоевателя.
Заговор Кадудаля ускорил превращение консульства в наследственную монархию. Через несколько дней после ареста заговорщиков сенат по предложению Фуше, в прошлом якобинца и террориста, а теперь послушного орудия нового Цезаря, потребовал, чтобы Наполеон, «великий человек», «довел свой труд до конца и сделал таким же бессмертным, как свою славу!». Один из «трибунов» перевел эту просьбу на более понятный язык: он потребовал, чтобы Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором французов и чтобы этот императорский титул был объявлен наследственным. Один лишь Карно, бывший военный вождь террористов, нашел в себе мужество сопротивляться этому предложению. Сенат дал согласие и 18 мая 1804 г. принял постановление Senatus consultum о том, что «управление Республикой поручается императору Наполеону». Титул императора был наследственным и должен был переходить в семье Бонапарт от отца к сыну в порядке старшинства. Если не будет прямых потомков, наследниками Наполеона должны были стать его братья Жозеф и Луи. Эти новые изменения в конституции Восьмого года были выставлены на всенародное голосование и утверждены более чем 3,5 миллиона голосов. Против проголосовали, согласно официальным подсчетам, меньше 3 тысяч человек. Франция действительно была полностью загипнотизирована авантюристом с Корсики и была готова проголосовать ради него за что угодно.
Колесо Фортуны совершило полный оборот. На смену старой монархии в 1791 г. пришла ограниченная монархия, потом в 1793 г. – республика, в 1795 г. консервативная республика под управлением директоров, в 1799 г. – диктатура (Консульство было именно диктатурой), и вот снова возникла монархия с правителем более умелым и могущественным, чем Людовик XIV. Тени монархов из семейства Бурбон в загробном мире, конечно, рассмеялись призрачным смехом. Но та монархия, которую основывал Наполеон I, сильно отличалась от монархии «короля-солнце».
Империя просуществовала десять лет – с 18 мая 1804 по 6 апреля 1814 г. В области международных отношений это было десятилетие непрерывных войн. В начале этих лет французская армия занимала большинство европейских столиц, в конце десятилетия Франция потерпела поражение и Наполеон, побежденный Европой, отрекся от престола в замке Фонтенбло. В своей стране Наполеон сохранил учреждения, существовавшие при Консульстве, и завершил централизацию своей абсолютистской системы управления. Но он также создал несколько новых учреждений, самым важным и типичным из которых был основанный в 1808 г. университет.
Полностью уничтожив политические свободы и все виды народного контроля над властью, вернув в управление страной произвол и деспотизм, существовавшие при старом режиме, Наполеон утратил поддержку богатых и образованных буржуа. Применив из-за внешнеполитических причин насилие против папы, он усилил религиозные конфликты внутри Франции и лишил имперское правительство поддержки духовенства и католиков. И наконец, постоянный призыв новобранцев в войска лишил его даже симпатии народных масс. Однако народ, то есть ремесленники и крестьяне, несмотря на свое недовольство, еще долго оставался верен Наполеону: император сохранял гражданскую свободу и равенство и давал им возможность спокойно владеть их фермами – с их точки зрения, главными завоеваниями революции. После того как эта смена общественного мнения внутри страны завершилась, разумеется, оставалось недолго ждать катастрофы, и она разразилась в 1814 г. Наполеон в конечном счете потерпел поражение потому, что Франция больше не желала приносить жертвы ради него.
Превращение Консульства в наследственную монархию потребовало внесения изменений и правок в конституцию Восьмого года. У этих перемен было две цели: было окружить новое самодержавие всем внешним блеском и церемониалом старой монархии и еще больше увеличить могущество суверена. Конституция продолжала называться конституцией Восьмого года, хотя из нее почти исчезли все следы республиканства.
Император, как Людовик XVI, получал цивильный лист[202] в 25 миллионов франков (5 миллионов долларов). Теперь в конституции упоминалась императорская семья; братья Наполеона стали принцами, а его сестры принцессами. Императора так же, как исчезнувших королей, окружали внушительно выглядевшие знатные особы, организованные по иерархическому принципу, – высшие сановники, маршалы Франции, генерал-полковники, высшие должностные лица короны и т. д. Их титулы были в большинстве случаев заимствованы у прежнего двора. «Высших сановников» было шесть – великий электор, архиканцлер империи, государственный канцлер, архиказначей, великий коннетабль и великий адмирал. Все они носили роскошные знаки своей должности. Маршалов и генерал-полковников император выбрал из числа самых прославленных генералов революции. Высшие должностные лица короны назывались «великий капеллан», «великий камергер», «главный ловчий», «главный конюший», «великий церемониймейстер» и «великий гофмаршал». Даже при Людовике XIV королевская резиденция не была более совершенной и не более блестящей, чем при Наполеоне. Некоторые его высшие должностные лица даже были из старого двора. Великим камергером стал граф Талейран, бывший епископ Отенский, уже занимавший должность министра иностранных дел. Великим церемониймейстером был граф де Сегюр, бывший послом Людовика XVI при дворе Екатерины II Российской.
Сенат при империи потерял свою важнейшую привилегию – право решать, соответствует ли тот или иной закон конституции. Его решения в других подобных случаях теперь были действительны только после их утверждения императором. В результате император теперь имел не только исполнительную, но и законодательную власть: «Цезарь» хотел все делать сам!
* * *
Ни один человек за всю христианскую эпоху не был таким грозным правителем и не обладал таким даром повелевать людьми, как Наполеон. И как бы мы ни оценивали его человеческие качества, ему почти нет равных во всей истории человечества, кроме Юлия Цезаря. «Он был гигантом среди людей, как мамонт; он был создан не по тому образцу, что другие», – писал о нем Тэн. Одна его противница (мадам де Сталь) заметила: «Его нельзя было описать словами, которые привыкли служить нашим целям».
В то время, когда Корсиканец взошел на трон, ему было тридцать один год и его гений и характер полностью развились. Самыми яркими его чертами были сила ума и воображения, жажда славы и власти и необыкновенная работоспособность.
Его изумительный интеллект был, видимо, по способу мышления самым стихийным и ясным умом, каким может обладать человек. И этот ум он регулировал и дисциплинировал необычным образом. Наполеон откровенно объяснял: «Различные дела расставлены у меня в голове, как вещи в шкафу. Когда я заканчиваю работать над одним делом, я закрываю ящик, где оно лежит, и открываю ящик с другим. Дела не смешиваются между собой и никогда не раздражают и не утомляют меня». Его ум был прочно связан с объективной реальностью. В его отношении к жизни всегда преобладал практицизм, и потому он терпеть не мог чистые теории и чистых теоретиков. Корсиканец всей душой ненавидел таких людей и говорил о них: «Идеологи – просто сброд!»
Тем не менее воображение у него было такое же необыкновенное, как ум. «Я никогда не представляю себе будущее больше чем на два года вперед», – сказал он однажды. Но у него, несомненно, было много мечтаний и любимых мысленных картин. Значительная часть его царствования была потрачена на их осуществление, а его враги давали ему предлоги и удобные случаи для переселения в реальный мир созданий его воображения. У Наполеона была мечта, о которой он много раз говорил своим собеседникам, – сделать Французскую империю «матерью других суверенных государств». Позже Наполеон, наследник Карла Великого и верховный правитель Европы, раздавал королевства своим генералам и даже на папу смотрел свысока – снизошел до него, оставив на престоле как своего заместителя по духовной части. Париж должен был стать «единственным в своем роде городом» (la ville unique), где должны были храниться главные достижения науки и искусства и все, чем прославились предыдущие века. Он должен был стать столицей столиц, где «каждого короля Европы надо было заставить построить большой дворец», в котором король жил бы в день коронации императора французов.
С этим безудержным воображением сочеталась страстная любовь к славе и власти, такая неумеренная, что она заставляла Наполеона смотреть на Европу как на «кротовую кочку», где нельзя совершить ни одного большого дела. Он открыто жалел, что «пришел в этот мир слишком поздно» и не жил в древние времена, когда «Александр после того, как завоевал Азию, объявил своему народу, что он сын Юпитера, и весь Восток провозгласил, что это так». Ту власть, которую он желал иметь полностью, он не мог делить ни с кем. Наполеон никогда не думал о том, чтобы иметь соправителя или хотя бы младшего правителя-помощника, который мог бы взять на себя часть его многочисленных обязанностей. Все дела должны быть сделаны им так же, как все народы должны склониться перед ним! Эта жажда всемогущества непрерывно росла в нем до самого его крушения. Более того, в начале своей карьеры он старался окружать себя только заслуженными людьми и спрашивал у них совета, но с 1801 г. не желал иметь при себе истинных советчиков. Во всех делах он желал, чтобы его подчиненные были только его покорными слугами, не способными проявлять инициативу, слепыми исполнителями его желаний. В результате он собрал вокруг себя слишком много людей со средними способностями и ближе к концу своего царствования действительно один правил половиной Европы.
С этой гигантской задачей он справлялся легко и красиво благодаря своей огромной трудоспособности, какой, вероятно, не было ни у кого другого, кроме Кольбера. Трудолюбивый король Людовик XIV в сравнении с Наполеоном кажется почти дилетантом. «Работа – моя стихия», – сказал однажды император, а затем добавил, что никогда не ощущал «предел своих способностей». Он редко трудился меньше восемнадцати часов в день и почти всегда работал без отдыха. Он трудился везде и всюду – за обедом в течение пятнадцати минут, которые отводил себе на еду, идя куда-нибудь, находясь в театре. У него была необыкновенная способность бодрствовать и спать в любое время по желанию, и часто ночью во время тех трех или четырех часов, которые посвящал сну, он просыпался и снова принимался за бесконечное чтение официальных писем и написание ответов. Задача, которую он решал в данный момент, поглощала его настолько, что он мог забыть обо всем, кроме нее, и стать совершенно нечувствительным к усталости. Только он мог сделать так, что ему хватало времени на все разнообразные дела, которые нужно было выполнить. Те, кто работал с ним, свидетельствовали, что он прекрасно знал, как распределить драгоценные часы. Один из этих помощников с восхищением рассказывал, что император смог «за три года сделать по управлению страной больше, чем прежние короли делали за сто лет»!
Раз в неделю, в один и тот же день, Наполеон собирал всех своих министров на совещание, где каждый из них представлял ему отчет о делах, за которые отвечал. Ни один министр не мог принять решение самостоятельно. Вся почта этих десяти министров тоже каждый день передавалась для рассмотрения императору. Фактически министры были сведены на роль руководителей отделов, которые должны были только подавать начальнику вопросы на рассмотрение и передавать его распоряжения. Свои приказы император диктовал тоном обычного разговора, шагая вперед и назад по своему кабинету. Он никогда не повторял дважды одно и то же слово и говорил так быстро, что его опытные секретари иногда с трудом записывали лишь половину его слов, потому что диктовал несколько приказов одновременно. Чтобы понять, какой огромный объем работы проделывал Наполеон, достаточно знать, что опубликованное собрание его сочинений состоит из тридцати томов и содержит 23 тысячи документов и в различных архивах лежат еще примерно 50 тысяч продиктованных им писем.
Характером Наполеона объясняются те учреждения и принятые правительством меры, из которых складывался имперский режим.
Мощное воображение и убежденность в том, что для удержания власти над людьми, особенно французами, надо угождать их самолюбию, подсказали его императорскому величеству, что он должен окружить себя роскошью и великолепием. Поэтому он возродил двор и создал новую аристократию.
Наполеон, завистливый деспот, не поддерживал ничего, что могло бы стать ему помехой в будущем. Он упразднил Трибунат, увеличил до огромного размера полицейскую систему, воссоздал государственные тюрьмы и отменил свободу прессы. С этого времени он желал быть хозяином не только тел, но и душ своих подданных и поэтому хотел формировать их умы так, как ему было удобно. Именно для этого он создал университет.
Вкусы самого императора были очень просты. Он жил как военный в высоком звании, которому его множество обязанностей не позволяют уделять много времени на личные пустяки. Он всегда был одет в мундир, обычно в темную форму полковника легкой кавалерии (colonel de chasseurs) – зеленый сюртук и белые брюки. Солдаты видели, как он ходил среди них, одетый как один из самых оборванных офицеров в армии. Но офицеры и придворные, которые окружали императора, были украшены плюмажами, золотом и шитьем. В Тюильри, где Наполеон обычно жил, в значительной степени были восстановлены вокруг императрицы Жозефины версальские церемонии. Снова вошла в моду одежда, которую носили при прежнем дворе, – сюртуки, панталоны, шпаги, туфли с пряжками, платья с длинными шлейфами. И так же, как в 1780 г., существовали, кроме дворца короля, дворец его брата и дворец королевы, в 1804 г. кроме императорского дворца существовали дворец императрицы, дворец матери Наполеона и дворцы его братьев и сестер императора – имперских принцев и принцесс. И все же это не был возврат к худшим злоупотреблениям старого режима. Самым важным и самым большим отличием императорского двора от королевского было то, что новый двор не имел никакого политического значения и что ни любовницы, ни другие женщины не имели ни малейшего влияния на правительство.
После триумфов под Аустерлицем, Йеной и Фридландом и поражения австро-прусской и российско-прусской коалиций (1805–1807) Наполеон в 1807 г. создал имперскую аристократию. Правда, происхождение новых аристократов не могло бы удовлетворить придирчивого исследователя. Мы уже видели[203], каким скромным было происхождение некоторых лучших генералов Наполеона, которые теперь стояли у самого императорского трона. Разумеется, многие дворяне из старинных семей, принявшие новый режим, были радушно приняты при новом дворе и получили почетные места; но все же он по своей сути был двором выскочек. Происходило то, что очень часто бывало в других странах: выскочки выстроились в очередь за правами и почестями. Чтобы создать аристократию с большими претензиями, эффективному и щедрому на награды правителю нужно мало времени.
Эта аристократия была создана из чиновников. Так же как в знаменитой табели о рангах, которую Петр I ввел в России, в этой системе иерархия титулов соответствовала иерархии должностей. Министры, сенаторы, государственные советники, архиепископы, различные члены института и некоторые любимые дивизионные генералы получили титул графа. Председатели Высшего кассационного суда и различных апелляционных судов, епископы, председатели избирательных коллегий и некоторые мэры могли гордиться титулом барона, а члены Почетного легиона стали кавалерами, то есть рыцарями. Титулы графа и барона при некоторых условиях становились наследственными и переходили к старшему сыну первого обладателя, что увековечивало новую аристократию.
Таким же образом император присвоил титулы герцога или князя многим маршалам и некоторым высшим гражданским чиновникам. Маршалы получили свои титулы в награду за выдающиеся услуги, которые они оказали республике или империи. Келлерман, в прошлом якобинец, стал герцогом де Вальми; Ожеро – герцогом де Кастильоне; Ланн – герцогом де Монтебелло; Ней – герцогом Эльхингенский и позже князем Московским; Даву – герцогом Ауэрштадтским, а потом князем Экмюльским и т. д. Среди гражданских чиновников Талейран, министр иностранных дел, получил титул «князь Беневенто», а Фуше, ловкий и в высшей степени неразборчивый в средствах министр полиции[204], стал герцогом Отранто. К каждому из этих титулов, которые были наследственными, император прибавил пенсионы, часто очень большие. Даву, например, получал около миллиона франков (200 тысчяч долларов) в год. Некоторые из этих пенсионов до сравнительно недавнего времени французское правительство еще выплачивало наследникам их первых обладателей.
В то самое время, когда Наполеон создавал имперскую аристократию, он уничтожил несчастный Трибунат, поскольку знал, что в этом собрании еще сохранились следы «того беспокойного духа демократии, который так долго тревожил Францию». Пятьдесят трибунов получили новые места в Законодательной палате. Позже и она была практически уничтожена: продолжительность ее сессий была сокращена до нескольких недель, а в некоторые годы Законодательная палата вообще не созывалась. Затем Наполеон незаконно потребовал от сената, который был очень сговорчивым, утвердить большое количество постановлений – о призыве в армию новобранцев, о составлении бюджета и другие, для принятия которых, согласно конституции, были необходимы голоса депутатов-законодателей. В 1813 г. император сам занимался составлением бюджета и вводил новые налоги только собственной властью – точно так же, как Людовик XIV. Так исчезла самая важная из политических свобод, приобретенных в 1789 г., – право народа самому определять свои доходы и расходы. Лучше было бы вообще отменить конституцию, которая стала только видимостью.
При такой системе правления, разумеется, исчезло уважение к свободе отдельного человека. Огромная полицейская система держала Париж и департаменты в своих когтях. Она была такой многочисленной и такой активной, что для управления полицией был назначен отдельный министр. Официальные агенты полиции, «уполномоченные» во всех деревнях и «тайные агенты» повсюду инспектировали, выслеживали, доносили на людей в суды и арестовывали несчастных, подозреваемых в том, что они враги империи. Поэтому были снова введены в действие государственные тюрьмы, и граждан начали «ради безопасности» отправлять в заключение без суда, по одному лишь приказу императора, который исполняла полиция. До 1789 г. подданных короля точно так же бросали в Бастилию на основании леттр-де-каше. В 1808 г. Наполеон отдал министру полиции Фуше приказ подготовиться к отправке в военное училище Сен-Сир определенного числа мальчиков, «которых родители, бывшие эмигранты, растили в досадной праздности». «Если кто-то начнет возражать, – добавил император, – пусть он (Фуше. – Пер.) отвечает только: «Так угодно его величеству». Это почти те же слова, которыми формулировалась власть абсолютного монарха Людовика XIV.
Императору было «угодно» подавить свободу прессы так же, как он подавил людей террора и Директории. В начале Консульства на многие газеты был наложен арест. В 1799 г. в Париже было более семидесяти трех политических газет. Шестьдесят из них Бонапарт сразу же заставил замолчать. Из оставшихся тринадцати только четырем разрешалось печататься в 1811 г. Но их главные редакторы назначались императором, и любая статья перед публикацией должна была предъявляться цензору, которого назначал министр полиции. За пределами Парижа газеты разрешалось выпускать только в восьмидесяти городах, и только по одной в каждом из них. Эта единственная газета печаталась под надзором префекта департамента и могла публиковать только официальные сообщения и различные безвредные новости – заметки о несчастных случаях, пожарах и т. д. Никакая дискуссия, даже в полностью лояльном тоне, не поощрялась.
С книгами и типографами власти обходились не лучше, чем с газетами и их редакторами. В этом случае император тоже вернулся к традициям абсолютной монархии. Он установил цензуру (в 1810 г.), которая запретила публиковать даже перевод Псалмов Давида, поскольку, по словам цензоров, «в них есть отрывки, которые содержат пророческие намеки на конфликт между Наполеоном и папой». Количество печатных станков было ограничено. Количество типографов было ограничено. Никто не мог стать владельцем типографии, не имея на это лицензии, то есть императорского разрешения. Наполеон откровенно говорил, что пресса – это «оружие, которое надо раздавать не всему миру, а лишь тем, кому доверяет правительство». Это тоже было возвратом к временам до Вольтера.
Но больше всего Наполеон желал, чтобы в будущем правительство пользовалось доверием большинства французов. Чтобы достичь этого, правительство должно было контролировать их умы и формировать эти умы так, как ему угодно, опекая граждан страны с младенчества с помощью сложной и детально разработанной системы образования[205]. Это была новая идея, которую Наполеон заимствовал у Собраний эпохи революции. При старом режиме король, в сущности, не интересовался тем, чему и как учатся его подданные. Практически все образование, достойное так называться, находилось в руках служителей церкви, и часто это были иезуиты. Значительная часть низших классов общества была, к сожалению, неграмотная. Люди революции и их вожди разрабатывали проект государственной системы образования. Наполеон продолжил их работу. Он считал развитие такого образования делом первостепенной важности, потому что, по его словам, «желал создать гранитный фундамент, на котором мог бы строить слои нового общества». Будучи консулом, он организовал в стране средние школы (лицеи). Став императором, он создал университет.
Университет империи был основан 17 марта 1808 г. В указе было сказано, что он создается, чтобы «обеспечивать единообразие образования и формировать для государства граждан, преданных своей религии, своему правителю, своей родине и своей семье», и должен был учить «верности императору и имперской монархии, стоящей на страже народного процветания».
Университет находился под управлением Великого магистра, который входил в число главных должностных лиц империи и позже стал называться министром общественного образования, и представлял собой многоступенчатую систему из трех видов образования – начального, среднего и высшего. В административном отношении он был разделен на академии, каждой из которых руководил ректор. Правда, начальное образование было организовано не государством: император поручил его ордену Братьев христианской веры. Эти братья получали субсидию, составлявшую всего 4250 франков в год. И это был весь бюджет начального образования! Это значило, что церкви и ее благотворительным организациям было поручено давать народу первые начала образования, причем такие простейшие начала, что в них не входили никакие политические знания. Наполеону было не очень важно, остаются ли пахари и виноградари неграмотными.
Однако об организации среднего образования император проявил много заботы, потому что оно должно было формировать будущих военных и гражданских чиновников, посредством которых он должен был контролировать Францию. Учебные заведения, дававшие его, были двух типов – коллежи и средние школы (лицеи). В их программах почти не было философии, истории и других предметов, изучение которых могло породить или развить в уме ученика склонность к критике. Преподаватели и ученики были обязаны соблюдать военную дисциплину. Жизнь в средних школах регулировалась одинаковым для них всех уставом, и учеба в них проходила под бой барабана, отчего они были очень похожи на военные училища.
Высшее образование давали факультеты. Существовали факультеты богословский, юридический, медицинский, естественно-научный и литературный. На всех этих факультетах преподавание имело чисто практический характер. Его цель была подготовить не только ученых, способных внести свой вклад в прогресс человеческого знания, но и специалистов – должностных лиц, адвокатов, врачей, преподавателей, которые хорошо выполняли бы свою работу. Специализированные учебные заведения (Коллеж де Франс, Эколь Нормаль), реорганизованные или созданные во время революции для подготовки преподавателей естественных наук и литературы, тоже были умело вплетены в ткань этой большой централизованной системы. Каковы бы ни были мотивы Наполеона, нельзя отрицать, что многие из его мер по организации высшего образования оказались очень полезны для Франции и для всей цивилизации.
Таким образом, государство теперь имело монополию на среднее и высшее образование. То и другое можно было получить только в правительственных учебных заведениях под руководством правительственных преподавателей. Ученикам начальных «бесплатных школ» приходилось учиться по программе, совместимой с программой средней школы, если они надеялись продолжить свое образование. Эта монополия университета просуществовала почти полвека, до самого начала Второй республики и закона Фаллу (1850). Университет оказал сильное влияние на жизнь и мышление французов, но, разумеется, военные катастрофы разрушили империю задолго до того, как все образованные французы были научены верить, что Наполеон Великий – единственный возможный их правитель.
Наполеон пытался сделать церковь таким же полезным для него, как университет, средством контроля над умами молодежи. В катехизисе радом с «обязанностями перед Богом» были перечислены обязанности перед императором. Это были «любовь, уважение, повиновение, верность, военная служба и налоги, взимаемые для сохранения и обороны империи». Опираясь на авторитет святого Павла, катехизис утверждал: «Тот, кто не исполняет эти свои обязанности по отношению к нашему императору, сопротивляется порядку, установленному самим Богом, и подлежит вечному проклятию». Вывод прост: призывник, который отказывается явиться в свой полк, или купец, не желающий платить за свою лицензию, навсегда обрекает себя адским мукам!
Однако император старался поставить на службу своей государственной мудрости не только французское духовенство (которое называл «своим духовенством»), но и самого папу. В результате между Наполеоном и Пием VII в 1806 г. начался конфликт, который продолжался до самого конца империи и в котором ярко проявились врожденный деспотизм императора и грубость его характера.
Когда возобновилась война против Англии, Наполеон повел себя с папой римским, независимым государем так, как обращался со своими префектами. Сначала он потребовал, чтобы папа изгнал из своих владений живших там англичан, а затем приказал ему закрыть порты для всех видов английских товаров (ноябрь 1806 г.). Чтобы обосновать свое повелительное обращение с папой, Наполеон ссылался на то, что Карл Великий, «его августейший предшественник», преподнес папам в дар имущество престола святого Петра и был верховным повелителем Рима. «Ваше святейшество – папа римский, но я – император», – писал он папе. Пий VII продолжал сохранять нейтралитет и подчеркивал это. Тогда Наполеон сначала (в 1807 г.) захватил Папское государство, а потом (в мае 1809 г.) попросту присоединил его к своей империи.
Папа отлучил его от церкви, после чего сам немедленно был арестован и отправлен в город Савону, где с ним обращались как с преступником: его лишили письменных принадлежностей и у его двери день и ночь стоял на карауле офицер полиции.
Эти события имели отклик во Франции. Папа, находясь в заточении, отказывался давать духовное посвящение епископам, которых назначал Наполеон, и в результате двадцать семь епархий остались без епископа. Император попытался заставить епископов занять их посты до папского посвящения. Но, невзирая на его угрозы и несмотря на то, что несколько епископов были отправлены в Венсенскую тюрьму, все они, даже самые верные и послушные Наполеону, заявили, что верны в первую очередь папе. Наполеон приложил огромные усилия, чтобы разрушить эту верность. В 1812 г. он перевез в Фонтенбло Пия VII, здоровье которого тогда было очень слабым. С помощью обмана император заставил папу подписать (в 1813 г.) новый конкордат, который сводил к нулю власть папы и делал папу, теперь формально проживавшего во Франции, всего лишь кем-то вроде заместителя императора по духовной части.
Но Пий VII, хотя и был уже стар, физически окреп настолько, что смог отречься от подписи, которую его принудили поставить во время болезни. Прошло немного времени, и военные поражения заставили Наполеона освободить папу (в 1814 г.); вскоре после этого Пий VII снова завладел Римом. В 1815 г. папа великодушно предоставил убежище членам семьи Бонапарт, вынужденным бежать из Франции, а немного позже добивался от государей-союзников смягчения приговора, по которому Наполеон был сослан на остров Святой Елены. Такая христианская «месть» была достойна наследника святого Петра. Эта религиозная борьба имела политические последствия. Духовенство и католики хорошо относились к «Наполеону – восстановителю веры», но быстро стали врагами «Наполеона – преследователя папы». Страх, который Корсиканец внушал им до самого конца своего царствования, не позволял этой вражде проявляться в публичных действиях. Но духовенство уже было согласно на возвращение Бурбонов, и в 1814–1815 гг. реставрация королевской власти нашла среди служителей церкви самых преданных сторонников.
Имперский режим плохо закончил свое существование: недовольство им широко распространялось среди большинства французского народа. Примерно в начале 1809 г., всего через пять лет после основания империи, практически все слои французского общества стали охладевать к тому самому Наполеону, который был так популярен, когда был консулом. Это всеобщее охлаждение продолжалось вплоть до свержения императора в 1814 г. Уничтожение всех политических свобод, сложная система полицейской слежки, деспотизм, претендовавший на то, чтобы управлять даже мыслями людей, – все это вызывало глубокое недовольство у образованных буржуа. Континентальная блокада в значительной степени парализовала торговлю; она способствовала развитию промышленности, но также порождала аморальную спекуляцию. Результатом этого стал сильнейший экономический кризис 1811 г., когда обанкротилось много предприятий и недовольство властями охватило все слои буржуазии, в первую очередь промышленников, судовладельцев и купцов.
С другой стороны, правительство империи непрерывно расширяло ее. В результате постоянного присоединения к Франции совершенно чуждых ей земель образовалась страна из ста тридцати департаментов, в которой жили 60 миллионов человек. Она простиралась от Рима до Гамбурга и от Бреста до Рагузы – города на восточном побережье Адриатики. Затраты на содержание такой империи были огромны, хотя государственные расходы регулировались очень внимательно и аккуратно. Так же обстояло дело с военными затратами. Хотя расходы на саму войну в значительной степени перекладывались на побежденных, затраты на постоянное снаряжение новых армий не могли не ложиться тяжелейшим бременем на бюджет империи. Денег, поступавших от прямых налогов, скоро оказалось недостаточно, и правительство стало искать новые ресурсы. В 1805 г. французов обложили большими налогами на спиртное, карты и транспортные средства. В 1806 г. появился налог на соль, а в 1811 г. монополия на табак. Возрождение этих отмененных революцией налогов, возвращение к старым дополнительным налогам и особенно налог на соль, даже воспоминание о котором было ненавистно французам, раздражали всех, на кого государство взвалило это бремя.
Но главной и всеобщей причиной недовольства был постоянный призыв новобранцев в армию, необходимый из-за постоянных войн. Воинская повинность была непопулярна с самого начала: казалось, что угроза вторжения любых иностранцев очень далека, и французы не понимали, зачем теперь им служить в армии. В дни Консульства Наполеон сделал попытку облегчить это бремя: он призывал на службу лишь малую часть возможных новобранцев, а именно около 30 тысяч человек из 200 или 250 тысяч числившихся в списках призывников. Он ввел жеребьевку: все новобранцы тянули жребий, и те, кому доставались «счастливые», самые большие номера, освобождались от службы. Вскоре император разрешил замену призывника, то есть позволил богатому новобранцу «купить» человека, который будет служить вместо него. Но в начале 1805 г. стали видны недостатки этой системы. С каждым годом в армию набирали все больше солдат, и наборы становились все чаще. Император решил не только забирать людей в армию целыми группами, но и начал призывать тех, кто раньше был уволен из армии, а также из многих разрядов молодежи забирать в армию юношей, которым оставался год или даже два года до определенного законом призывного возраста. В 1813 г. в армию было призвано почти 1 миллион 200 тысяч человек. Уже в начале 1808 г. тысячи молодых людей калечили себя или бежали в леса и горы, чтобы не идти на военную службу. Наполеон наказывал за вину дезертира его родственников большими штрафами (общая сумма которых всего за один год составила 170 миллионов франков, что равно 34 миллиона долларов), ставил к таким правонарушителям на постой в дома солдат, которых они должны были содержать за свой счет, или размещал у них на квартирах жандармов и судебных приставов. Точно так же Людовик XIV принуждал протестантов к переходу в католичество. Но эти карательные меры не имели никакого успеха. Несмотря на них, в 1810 г. 160 тысяч призывников уклонялись от службы и 55 тысяч солдат, разделенных на малые колонны, ловили этих упрямцев. В 1813 г., когда Наполеон шел по предместью Сент-Антуан, какой-то призывник оскорбил его, а когда полицейские арестовали обидчика, женщины напали на них. Со всех сторон звучали жалобы, все и повсюду чувствовали неприязнь к императору. Народ прозвал его Чудовищем. Понадобились жестокости, совершенные союзниками при их вторжении во Францию в 1814 г., унизительный для французов первый Парижский договор и грубые ошибки Бурбонов после первой Реставрации, чтобы французы забыли свою ненависть к Наполеону и почувствовали к нему прежнюю любовь.
Однако император никогда не был только деспотом. Он очень энергично продолжал реорганизацию Франции, которую планировал, еще будучи консулом. В юриспруденции он добавил к Гражданскому кодексу другие – Гражданско-процессуальный (1805–1807), Коммерческий (1807), Уголовно-процессуальный (1808) и Уголовный (1810). Основные положения всех этих кодексов действуют и сейчас. Развитием промышленности он тоже занимался теперь больше, чем в дни Консульства, используя в качестве стимулов премии изобретателям и производителям и выгодные заказы, а иногда даже напрямую оказывая финансовую помощь. К примеру, он дал ссуду в 1,5 миллиона франков (300 тысяч долларов) Ришару Ленуару, создавшему хлопчатобумажную промышленность во Франции. А в 1811 г., когда французская коммерция переживала кризис, император тайно выделил владельцам крупнейших ткацких фабрик Амьена деньги на зарплаты для их рабочих. Причиной этих благодеяний, в сущности, стала континентальная блокада: ввоз английских товаров во Францию был запрещен, и Франция была вынуждена сама обеспечивать себя многими промышленными товарами, значительную часть которых она раньше закупала в Англии. В первую очередь получали помощь от правительства старые шерстяные и шелковые мануфактуры и новые отрасли – производство хлопчатобумажных тканей, черная металлургия и изготовление свекольного сахара. Наполеон не только желал, чтобы Франция была экономически независимой, он хотел, чтобы она производила все промышленные товары, нужные Европе. Это была часть его плана мирового господства.
И последнее: император продолжал осуществлять и финансировать за счет государства те широкомасштабные общественные проекты, которые начал, когда был консулом. Например, в Париже была открыта для движения улица Риволи, построено много величественных мостов через Сену, воздвигнут храм Победы – теперь это церковь Мадлен, построено здание Биржи, сооружена Триумфальная арка, достроен переход из Лувра в Тюильри, установлена Вандомская колонна, бронзу для которой получили, переплавив пушки, захваченные в битве при Аустерлице. За пределами столицы был украшен Лион, завершены Сен-Кантенский канал, а также каналы Нант – Брест и Рона – Рейн. Были значительно расширены порты Бреста и Шербура, а также другие крупные гавани. К проектам, которые государство финансировало во Франции, были добавлены государственные предприятия в Италии: в Милане, Венеции, Риме, на Адриатике и даже у границы Далмации. Никто не может отрицать, что везде, где французы устанавливали свое правление, их власть приносила с собой хорошие дороги и изящные общественные здания, изгоняла прочь феодальные злоупотребления и неэффективность и давала населению закон и порядок.
Методы, которыми пользовались наместники и генералы Наполеона, не всегда были приятными, но эти люди приходили на чужую землю не только как грабители и разрушители. Для несчастных крестьян многих областей Италии и Германии французская администрация часто оказывалась первой справедливой и эффективной властью в их жизни. И все эти успехи были достигнуты меньше чем за десять лет, к тому же во время непрерывных войн, когда император тратил свои основные силы на мощные удары по врагу и дипломатические заботы. Значит, все эти крупные общественные проекты сильнее и ощутимее всех слов, которые кто-либо может написать, свидетельствуют о том, каким необыкновенно деятельным был Корсиканец, и о многосторонности его гения.
Тот, кто пишет о Наполеоне, хвалит он Корсиканца или порицает, почти поневоле использует для этого превосходную степень слов.
Глава 18. «Слава и безумие» – Москва, Лейпциг и Ватерлоо
Гибельная Московская кампания. Пирровы победы и перемирие. Отчаянное положение. Бурбоны возвращены на трон. Попытка восстановить либерализм. Бегство Наполеона
В 1811 г. Наполеон благодаря своей безжалостной и агрессивной политике возвышался как гора над обычными правителями Европы и был грозен, как Сатана у Мильтона[206]. Он не проиграл ни одной войны и очень редко проигрывал сражения. Он продолжал сжимать в кулаке вырывавшуюся из его рук Испанию. Были заметны признаки того, что Англия сильно устала из-за континентальной блокады, от которой страдала ее экономика. Если бы император поддерживал спокойствие в странах, которыми уже владел, и решительно противостоял Англии, он вскоре смог бы принудить Англию к договору, который по форме был бы компромиссом, а фактически стал бы победой Франции. В любом случае для него было бы мудрым решением не создавать себе новых врагов. Как было только что сказано, его авторитарное правление становилось очень непопулярным внутри империи; континентальная блокада оказалась для французской экономики еще тяжелее, чем для английской; «налог кровью», то есть призыв новобранцев, делал противницей императора каждую мать, у которой подрастал сын. Даже некоторые из его самых верных помощников начали уставать от войны. Они уже насытились наградами и теперь хотели покоя, чтобы на досуге наслаждаться своими почетными титулами и пенсионами. Короче говоря, вся Франция уже пресытилась «славой» – вся, кроме ее властителя, который никогда не знал покоя.
В самом тяжелом положении находилась императорская армия. В ней по-прежнему было очень много компетентных офицеров, но ее солдаты, ветераны давних побед республики, Первого Итальянского похода, Аустерлица и Йены, сложили головы на полях множества сражений, а молодые новобранцы не были им равны. Правда, Наполеон везде, где возможно, использовал на войне своих вассалов-союзников. Теперь под его знаменами маршировало много итальянцев, баварцев, голландцев, вестфальцев и даже пруссаков. Пока дела у него шли хорошо, эти солдаты верно служили ему, но они не желали приносить большие жертвы ради французов, а несколько поражений могли бы поколебать их верность. Наполеон просто не мог продолжать действовать как раньше – бросать европейскую молодежь в непрерывные войны, как дрова в печь, и при этом ожидать, что его людские ресурсы никогда не закончатся. Он не мог рассчитывать и на то, что Франция и зависимые от нее страны будут терпеть ненужные муки только для того, чтобы удовлетворить его неуемное честолюбие. Возможно, верно предположение, что его положение внутри страны стало бы непрочным, если бы он искренне сказал «Хватит!» всем и всему, что побуждало его к новым завоеваниям, и оставался бы в своей стране, став мирным восстановителем Франции. Но как только война перестала бы давить на политику, раздались бы настойчивые требования дать народу гражданские свободы. А Наполеона можно вообразить делающим многое, но трудно представить, что он смог бы долго быть строго конституционным монархом с ограниченной властью, который помнит о правах своего народа и уважает оппозицию.
После Тильзита император какое-то время действительно работал в полном согласии с царем Александром I, но их дружбе быстро пришел конец. Наполеон разрушил планы России по завоеванию Турции, потому что сам уже наметил себе Константинополь как будущую жертву. Кроме того, он рассердил царя тем, что лишил престола одного из немецких правителей, герцога Ольденбургского, который был родственником Александра. Наполеон снова начал настаивать, чтобы Россия присоединилась к континентальной системе, отчего русская торговля стала гибнуть. В 1812 г. две великие империи, восточноевропейская и западноевропейская, бросили одна другой вызов, и Наполеон опять повел в поход свою Великую армию. Ее авангард двигался к Москве.
Император, несомненно, начал вести себя как избалованный любимец судьбы. Планируя свои военные кампании, он уже не так сильно сосредоточивался на важнейших деталях и слишком полагался на свои внезапные гениальные озарения. Он слишком охотно верил, что, раз его интуиция была верной раньше, она будет верной всегда. Вероятно, предположения, что он страдал болезнью, ослабившей его способности, неверны. Но он, возможно, утратил часть той быстроты тела и ума, которая восхищала людей во время его первой войны в Италии. Но в любом случае ослабление способностей императора было оценено по достоинству лишь после его великого поражения. В июне 1812 г. Европа знала только, что он ведет в самое сердце России более 553 тысяч солдат, среди которых, кроме французов, очень много итальянцев, поляков и немцев.
То, что случилось потом, показало всем народам, что Корсиканец – человек, а не идеально работающий и обладающий безжалостным умом механизм. Рассказ о Русском походе – один из самых знакомых читателям книг по истории. В июне Наполеон со своей Великой армией перешел Неман и направился к сердцу Московии. 7 сентября он выиграл битву при Бородине, самое кровопролитное сражение его войн[207]. Через семь дней он вошел в Москву и разместил свой главный штаб в покинутом людьми Кремле. Но его основная армия уже уменьшилась до 95 тысяч человек. Конечно, не все остальные погибли, но нужно было обеспечивать сохранность путей сообщения, которые были в опасности из-за своей большой длины, и это отнимало у армии много людей. С 15 по 19 сентября Москва горела. Теперь уже нет смысла выяснять, начались пожары случайно или были сознательно спланированы русскими. Очевидно, что положение Наполеона было неудобным. Он ожидал, что царь станет просить мира, но Александр этого не сделал. Неизбежное и скорое наступление русской зимы не принималось в расчет примерно до 19 октября, когда положение не стало таким критическим, что император со своей армией покинул Москву и отдал непривычный для него приказ отступать.
В начале ноября начался ужасный северный мороз. Погибающая от голода и холода Великая армия едва плелась в сторону Польши, и по пути ее подстерегали все новые беды. При переправе через Березину русские почти перерезали французам путь; французскую армию спасла только отвага Нея и Удино. С этого времени отступление захватчиков превратилось почти в бегство.
Если бы казаки царя получили приказ атаковать более решительно, возможно, все огромное множество их врагов было бы захвачено в плен или погибло. Но в конце сражения победа казалась им настолько полной, что они позволили Наполеону и последним остаткам его армии ускользнуть. Наконец у границы Пруссии император «решил покинуть армию и направиться в Париж, где срочно понадобилось его присутствие». Огромную катастрофу нельзя было ни скрыть, ни отрицать, но в знаменитом Бюллетене № 29 главной виновницей несчастья была названа суровая русская зима. Примерно 20 тысяч солдат императора с трудом перебрались через границу, сохраняя порядок, немного похожий на армейский. Из оставшейся части огромного войска многие попали в плен к русским, некоторые выбрались из России малыми группами. Но даже осторожная оценка показывает, что французы и их союзники потеряли убитыми 300 тысяч молодых и сильных мужчин. Случалась ли когда-нибудь раньше такая военная катастрофа?
Однако то, что казаки не надавили на Наполеона сильнее, было большим несчастьем для его врагов. Он потерял почти всех своих солдат, но значительную часть того остатка французской армии, который смог уйти, составляли лучшие офицеры, которые благодаря своему профессиональному мастерству ценились на вес золота. Поэтому Наполеон мог надеяться, что, имея достаточно времени и сырого материала, он сумеет создать новые армии. Времени у него не было: как только новость о его великом поражении достигла Пруссии, эта страна сбросила надетые на нее французами цепи и призвала не только свой народ, но и многих других северных немцев вооружиться и вовремя заключить союз с приближавшимися победоносными русскими. Англия снова была готова финансировать большую коалицию против своего главного врага. Австрия продолжала говорить о нейтралитете, но и на нее Наполеон не мог надеяться: эта страна просто ждала удобного случая.
Однако вернувшийся в Париж император вовсе не был раздавлен горем. Впервые он проиграл Судьбе, но у него еще было много ставок, которые он мог бросить на игральный стол. Он без малейших угрызений совести объявил новый призыв в армию и забрал в войска почти всех здоровых мужчин и юношей Франции. То, что сделал император, чтобы обеспечить свою новую армию снаряжением и одеждой, можно назвать чудом. Новобранцы были храбры и позже проявили себя в сражениях как французы, верные своей родине, хотя родители этих солдат проклинали безжалостную власть, уводившую их сыновей из дома ради политических целей. Однако желание воевать не могло превратить новичков в закаленных и опытных ветеранов. Начиная свою последнюю кампанию в Германии, Наполеон имел в распоряжении человеческий материал намного хуже тех солдат, которые были ему опорой в любой из его предыдущих игр с Судьбой. Кроме того, Корсиканец совершил серьезную ошибку: он старался удержать слишком много северонемецких крепостей – Данциг, Штеттин, Кюстрин, Гамбург и др. Он разместил в них часть своих лучших войск. Вскоре они были блокированы отрядами местного прусского ополчения и, обездвиженные, стали бесполезны для боевых действий в открытой местности. Увеличив за счет этих гарнизонов свою полевую армию, Наполеон имел бы возможность победить, без них, как позже выяснилось, у него не было этой возможности.
Таким образом, кампания 1813 г. началась так, словно одна рука Корсиканца была привязана к спине. Он был слабее, чем раньше, а его враги, как он сам с горечью признал, научились многим приемам его собственного военного искусства. В мае он нанес пруссакам и их русским союзникам поражение возле Лютцена (рядом с Лейпцигом), затем снова разбил их возле Бауцена. Но эти победы были далеко не решающими. В июне он совершил еще одну грубейшую ошибку – заключил со своими противниками перемирие (с 4 июня по 10 августа 1813 г.). Официально это было сделано для того, чтобы Австрия смогла выступить посредницей между воюющими сторонами и уладить миром спор между ними; на самом же деле обе стороны выигрывали время, чтобы получить подкрепления. Однако Австрия оказалась очень неискренней посредницей, а у императора было меньше, чем у его врагов, войск, которые могли быть использованы как подкрепления. Маршалы Наполеона забеспокоились по поводу возможного исхода войны. Если империи не станет, что будет с их собственными прекрасными княжествами и доходами? Они попытались советами удержать своего повелителя, но он не придавал большого значения их словам. До самого конца он был уверен, что французы не потерпят его в качестве правителя, если он хотя бы один раз публично признается в своем поражении. А его враги теперь требовали, чтобы он отказался от значительной части того, что раньше завоевал, и согласиться на это означало именно признать поражение. Кроме того, он упрямо верил, что сможет вернуть все каким-то молниеносным ударом своих войск.
Катастрофа произошла 26 июня в Дрездене, когда хитрый и коварный австрийский премьер-министр Меттерних встретился с императором и во время этой знаменитой встречи настойчиво, но безуспешно просил Наполеона проявить благоразумие. Наполеон был настроен высокомерно и заносчиво: несчастье ничему его не научило. «Значит, вы хотите войны, – сказал он. – Что ж, вы ее получите. Я разбил русских возле Бауцена. Теперь вы хотите, чтобы настала ваша очередь! Если это случится, мы увидимся в Вене». Меттерних напрасно напоминал Наполеону, что у того армия была обескровлена и солдатами в ней были не мужчины, а юноши, почти мальчики. Корсиканец, великий эгоист, бросил ему в ответ: «Вы не знаете, что происходит в уме солдата: такой человек, как я, обращает мало внимания даже на смерть миллиона людей» – и отшвырнул в сторону шляпу. Меттерних ее не поднял, то есть их беседа закончилась ссорой. Когда австрийский министр уходил, в прихожей вокруг него столпились французские генералы: они надеялись услышать, что начались настоящие переговоры о мире. Вертье озабоченно спросил: «Вы довольны императором?» – «Да, – ответил Меттерних. – Он объяснил мне все. Ему пришел конец».
Стало ясно, что ради безопасности всего мира огромный вампир, который имеет множество восхитительных качеств, но буквально высасывает лучшую кровь из Франции и из всей Европы, должен быть сброшен с престола. В августе 1813 г. после того, как выяснилось, что Наполеон абсолютно не желает примирения, война возобновилась. Австрия присоединилась к остальным его врагам. Впервые с 1795 г. Пруссия, Россия, Австрия и Англия одновременно воевали против Франции и при этом были объединены в искренний и дружественный союз. Теперь война шла не на жизнь, а на смерть. Прежняя находчивость не покинула Наполеона: он больше двух месяцев держался в Центральной Германии, защищая линию Эльбы. Он отразил первые атаки и даже выиграл большое сражение при Дрездене (26 августа), но силы были неравны[208].
К коалиции присоединилась Швеция, и в октябре, 16, 17 и 18-го числа, союзники наконец затравили ужасного льва возле Лейпцига. В этой трехдневной битве (немцы назвали ее Битва народов) 150 тысяч французов стояли против 200 тысяч русских, австрийцев, пруссаков и шведов. Молодые французские новобранцы сражались отважно, но от них требовали совершить невозможное, и 19-го числа Наполеон был вынужден отдать всем своим войскам приказ отступать в сторону Франции. В битве и при последовавшем за ней поспешном бегстве через Германию французы понесли огромные потери. Корсиканец снова оказался на французском берегу Рейна, имея под командованием едва 70 тысяч не слишком хорошо организованных солдат.
Теперь с военной точки зрения положение Наполеона было почти безнадежным. Армии ветеранов не было; новой армии из молодых призывников тоже почти не было. Оторванные от внешнего мира гарнизоны далеких теперь немецких крепостей сдавались один за другим под угрозой голодной смерти. Расположение французского народа утрачено из-за континентальной блокады и безжалостного призыва мужчин в армию. Англичане изгоняли генералов Наполеона из Испании и переходили Пиренеи. Южнонемецкие государства, вассальные от Французской империи, все договаривались о мире с победителями. И все же союзники, вероятно, оставили бы Наполеону его трон и территорию, которая была бы гораздо больше той, которой владел Людовик XVI в 1792 г., если бы Корсиканец вовремя и искренне заключил с ними мирный договор. Но он не захотел это сделать. Даже когда огромная армия союзников переходила Рейн, Наполеон боролся с неизбежным. Он, правда, прислал своих представителей на мирную конференцию, происходившую в Шатийоне (на берегах Сены), но разрешил им только тянуть время. Так он шел к своему концу.
Военные действия, которые Наполеон вел в 1814 г., с чисто военной точки зрения были в некоторых отношениях его лучшей кампанией. У него оставалось около 50 тысяч способных к быстрым маневрам солдат. Французский народ не желал восставать против захватчиков: пожар, пылавший в его душе в 1792–1793 гг., угас. Конечно, у французов вызывали гнев жестокости, которые союзники совершали при захвате их страны, но по сравнению с захватчиками 1914 г. их предшественники в 1814 г. были достаточно гуманными и не желали возбуждать патриотизм политикой устрашения. Учитывая такие тяжелые препятствия и то, что противник превосходил его солдат по численности в три или четыре раза, Корсиканец сражался блестяще. Он атаковал то одну, то другую из шедших на Париж колонн и несколько раз подряд одерживал временные победы, которые почти остановили продвижение австро-российско-прусских войск. Но в конечном счете его попытка не могла увенчаться успехом. Армия начала уставать от безнадежной борьбы, и вражеских войск было слишком много. После того как союзники прорвались к самым воротам Парижа, 31 марта в отсутствие Наполеона маршал Мармон, комендант столицы, капитулировал, и победители торжественным маршем вошли в город, от которого за двадцать два года до этого повернул назад Брауншвейг после сражения при Вальми.
Наполеон все еще мог собрать под своим началом в Фонтенбло 50 тысяч человек. Многие рядовые и младшие офицеры были готовы продолжать борьбу – так преданы они были своему вождю, который, даже не задумываясь, принес бы их в жертву. Но маршалы и старшие офицеры понимали, что игра проиграна и дальнейшая борьба означала бы разорение для них самих. Они не хотели быть ни бедняками, ни изгнанниками. В это время в Париже союзники формировали временное правительство, председателем которого стал бывший министр Наполеона, сговорчивый, аморальный и невероятно умный Талейран, который теперь с легким сердцем покинул своего прежнего повелителя и стал поспешно готовить реставрацию Бурбонов, объявив, что император утратил право на трон. Под давлением своих бывших товарищей Наполеон 4 апреля[209] подписал официальный акт о своем отречении. Союзники проявили великодушие (о котором, несомненно, пожалели через год): они предоставили ему в качестве «суверенного государства» маленький остров Эльбу на Средиземном море и в качестве жалкого утешения оставили Наполеону титул императора.
В это время Наполеон было очень непопулярен во Франции. Народ страстно желал мира, и казалось, что только честолюбие Корсиканца мешает остановить разорение народа.
Когда его везли через Лангедок и Прованс, ему кричали в лицо ругательства и бросали в его карету камни, а потом толпа провожала его громким криком: «Ненавистный тиран, наконец-то ты наказан!» В Оранже и Авиньоне даже возникли опасения, что над ним могут устроить самосуд. Свергнутый деспот, который, вероятно, на время сильно присмирел, был доставлен на Эльбу и десять нелегких месяцев ждал там своего часа. А за это время во Франции случилось многое.
Союзники посадили на французский трон Людовика XVIII, старшего из братьев Людовика XVI – не потому, что им очень нравился лично этот принц, а потому, что твердо решили покончить с Бонапартом и его семьей и были всей душой против республики. В таком случае оставалась лишь одна возможность – вернуть прежнюю династию. Завоеватели оставили Франции территорию немного больше, чем она имела в 1790 г., перед началом великих войн, и не стали брать с нее никаких контрибуций. Кроме того, они заставили Людовика XVIII дать его подданным нечто вроде конституции и гарантировать сохранение тех великих социальных и личных свобод, которые были завоеваны в 1789 г. Сделать это им подсказал здравый смысл: они боялись довести французский народ до отчаяния. После этого внимание всего мира переключилось с Парижа на Венский конгресс. В австрийской столице, под умелым председательством Меттерниха, дипломаты, собравшиеся на этот знаменитый мирный конгресс, сначала спорили и угрожали один другому, но вскоре пришли к соглашению по поводу границ и других вопросов. В то время люди горячо надеялись, что эти договоренности переживут много поколений, и, действительно, решения Венского конгресса влияли на жизнь Европы до 1914 г.
В это время Франция – наказанная, раздавленная экономически, захваченная иностранцами, обрезанная, лишенная своей лучшей молодежи – была отброшена в свое прошлое и несчастна. О личности нового короля, о Реставрации и политических учреждениях этого периода будет сказано позже. Сейчас достаточно сказать, что новое правительство вскоре стало очень непопулярным у влиятельных слоев общества. После заключения мира все пленные офицеры и ветераны, разумеется, вернулись на родину из России или Германии. Они были возмущены, увидев в Париже нового нежеланного короля и белый флаг Бурбонов вместо своего любимого трехцветного флага – знамени побед при Лоди и Маренго. Вместо публичных выражений благодарности и торжественной встречи им достались косые взгляды и недоверие новых хозяев Тюильри; а в материальном отношении самое большее, что они получали, – отставка с половинным окладом. Короче говоря, вскоре среди профессиональных военных возникло сильное недовольство положением в стране, а народным массам так не понравились многие действия новой династии, что недавняя ненависть французов к Корсиканцу значительно ослабла[210]. Умелые агенты быстро сообщили об этом Наполеону на Эльбу[211].
И вот 1 марта 1815 г., император высадился на французский берег в Каннах, ведя с собой полторы тысячи солдат, которых ему разрешили взять с собой в изгнание. А 20 марта он вошел в Париж, и король Людовик XVIII поспешно бежал в Гент.
«Я дойду до Парижа без единого выстрела», – сказал Наполеон, когда его маленький корабль приближался к берегу Франции. Возле Гренобля его попытался остановить батальон французской армии, которая теперь была королевской. Корсиканец вышел вперед, под дула нацеленных на него мушкетов, и солдаты услышали его знакомый голос: «Солдаты! Если кто-то из вас желает убить своего императора, он может это сделать. Я здесь». – «Да здравствует император!» – раздалось в ответ, и весь батальон перешел на сторону вернувшегося вождя. Маршал Ней, который в 1814 г. пошел против Наполеона и был тогда очень озлоблен на него, вышел из Безансона с 6 тысячами солдат, чтобы «вернуть его в железную клетку». Его солдаты начали дезертировать, и верность Нея Бурбонам иссякла. Он собрал вокруг себя своих офицеров и снова провозгласил Наполеона императором.
Вернувшийся изгнанник вступил во дворец Тюильри при радостных криках армии и ликовании всех офицеров на половинном окладе. На мгновение могло показаться, что от московского и лейпцигского разгромов не осталось и следа.
Однако Наполеон не обманывал себя: он осознавал, что армия в восторге от его возвращения, но остальной народ более или менее равнодушен к его планам, хотя совершенно не рад Людовику XVIII. «Мой дорогой, – сказал император своему близкому другу, – народ позволил мне прийти так же, как позволил Бурбонам уйти». Вероятно, при равных условиях большинство французов предпочли бы Наполеона вернувшимся роялистам, но условия не были равны. Французы страстно хотели мира, и император объявил (возможно, искренне), что будет стараться сохранить мир и не станет пытаться восстановить разбухшую благодаря войнам Францию 1812 г. Но как только известие о его высадке на французском берегу достигло Вены, дипломаты стран-союзников прекратили свои серьезные ссоры, объединились и совместным постановлением объявили вернувшегося изгнанника вне закона. Россия, Австрия, Пруссия и Англия вместе провозгласили, что Бонапарт разорвал соглашение, по которому ему предоставили остров Эльбу, чем «поставил себя вне гражданских и общественных отношений» и должен быть наказан как «нарушитель спокойствия в мире».
Так император снова оказался один против всех: все остальные крупные государства Европы вооружились против него, и у него не было ни одного союзника. Его могла спасти только единодушная и горячая поддержка всего французского народа. Наполеон попытался привлечь на свою сторону общественное мнение, внеся в прежнюю конституцию империи ряд либеральных изменений, которые стали известны как Дополнительный акт к ней. Однако, если проанализировать эти изменения, станет видно, что они нисколько не уменьшили возможность императора самовластно распоряжаться всем государством. Умные французы рассердились на то, что их заставляют по-прежнему жить под абсолютной властью монарха. И все французы, кроме тех, кто служил в армии, были в ужасе от мысли, что безнадежная война начнется опять. Поэтому неудивительно, что почти все знаменитые Сто дней Наполеона прошли в поспешных приготовлениях и сильной тревоге.
Когда попытки добиться мира от крупных государств полностью провалились, Корсиканец поставил на кон все, что имел, и снова сделал ставку на войну. Правда, теперь у него была прекрасная армия – 180 тысяч преданных ему ветеранов. Это были те, кто в 1814 г. был заперт в немецких крепостях или вынужден сдаться против своей воли. У его врагов было неизмеримо больше войск, но Наполеон имел возможность разбить их армии по одной, до того как они успеют соединиться. Для этого он в июне 1815 г. ввел свои основные силы в Бельгию, чтобы разбить пруссаков, которыми командовал Блюхер, и англичан, которых возглавлял Веллингтон, до того как австрийцы и русские приведут туда свои многотысячные армии.
Наполеон, «властитель легионов», не утратил своей прежней воинской хитрости. Он напал на прусскую армию Блюхера возле Линьи и разгромил ее в сражении, продолжавшемся 15 и 16 июня. Но тут императора постигло первое несчастье: он позволил убедить себя в том, что Блюхер пострадал от его удара гораздо сильнее, чем было на самом деле, и что теперь победители могут спокойно заняться другим противником. На самом же деле побежденные пруссаки вскоре нашли в себе силы прекратить отступление, а французский генерал Груши, которому было приказано преследовать их, потерял их из виду. И вот 18 июня Наполеон возле Ватерлоо нанес удар по герцогу Веллингтону с его смешанной армией, которая состояла из английских, голландских и северонемецких войск. У французов было примерно 70 тысяч человек, у Веллингтона немного меньше. Но Наполеон не знал, что Блюхер приближается к месту боя с 30 тысячами солдат, чтобы поддержать Веллингтона. Битва, которая произошла потом, едва не закончилась победой французов благодаря великолепным атакам императорской кавалерии. Но их император, который, в сущности, никогда не сражался против англичан, был изумлен упорством, с которым вражеские каре сопротивлялись этим атакам. Веллингтон, сражаясь против численно превосходящего противника и зная, какое низкое качество у не британской части его армии, мрачно молился, чтобы пришли «ночь или Блюхер». И когда сражение фактически зашло в тупик, Блюхер наконец появился. Последняя героическая атака старой гвардии французского императора началась успешно, но была отбита с большими потерями для французов. Затем весь строй англичан двинулся вперед, и большинство французских солдат, поняв, что их положение безнадежно, обратились в бегство.
Одно или два каре гвардейцев ушли с поля боя, сохранив что-то вроде порядка, но остановить панику было невозможно. Никогда в истории не было такого полного разгрома, как поражение французов при Ватерлоо. В пути беглецы семь раз останавливались на отдых, семь раз гнавшаяся за ними вражеская кавалерия приближалась и им приходилось идти дальше. Говорят, что Ней кричал своим солдатам: «Трусы! Вы что, забыли, как надо умирать?!» Это был несправедливый упрек: французская армия сделала для Корсиканца, может быть, больше, чем любая армия когда-либо делала для своего вождя. Его неугомонное честолюбие создало в Европе такую ситуацию, что ни во всем мире, ни во Франции не могло быть покоя, если бы Наполеон остался на троне. Даже если бы он победил при Ватерлоо, приближались русские и австрийские войска, и впереди был бы только новый ряд больших войн. Сам вождь французов не умер как солдат. Ошеломленный разгромом, он бежал с поля боя вместе с первыми из побежавших солдат. Приехав 20 июня в Париж, Наполеон увидел, что его положение безнадежно и что никто не станет сражаться за него. Временное правительство во главе с Фуше, бывшим министром Наполеона, обеспечивало что-то вроде порядка, пока не пришли союзники и не вернули на престол Бурбонов.
Наполеон снова отрекся «в пользу своего сына» и бежал в Рошфор, надеясь в этом городе, на берегу моря, найти корабль, на котором сможет уплыть в Америку[212].
Но английские крейсера преграждали ему путь, и, увидев, что положение безнадежно, он пришел на борт английского военного корабля и сдался на милость своих самых давних и самых постоянных врагов. То, что с ним сделали потом, часто называли слишком суровым обращением, но надо понимать, что этот беглец и узник стал причиной больших войн, которые продолжались почти двадцать лет и унесли жизнь нескольких миллионов людей[213]. После его бегства с Эльбы тогдашние государственные деятели считали, что было бы преступной небрежностью позволить этому смутьяну снова поджечь весь мир. Как всем известно, британцы отправили Наполеона на линейном корабле «Беллерофонт» на остров Святой Елены в Южной Атлантике. Там он жил несчастным и сварливым узником, пока не умер от рака в 1821 г. Когда стало известно о его смерти, многие французы скорбели, но весь мир почувствовал большое облегчение: великий разрушитель перестал быть угрозой для счастья народов.
Заканчивая этот краткий обзор деяний Наполеона Бонапарта, невозможно не сделать вывод, что, если бы Небо даровало ему по капле человечности, патриотизма и подлинного бескорыстия, не смешивая эти качества одно с другим, он смог бы достичь самых крайних пределов человеческих возможностей. В действительности же он, несмотря на услугу, которую оказал человечеству, уничтожив обветшавшие государственные учреждения во всей Европе и создав много прекрасных государственных учреждений для Франции, в конце своего жизненного пути он стал причиной бедствий для всего мира, и в первую очередь для того великого народа, императором которого гордо себя называл[214].
Корсиканец смог очаровать мир своим блеском, но это был блеск Сатаны, переодетого ангелом света.
Глава 19. Реставрация Бурбонов и их уход
Что из наследства революции сохранилось. Буржуазия. Людовик XVIII. Палаты. Отношения между королем и ультрароялистами. В армию или в организацию? Изменения в нижней палате. Возрождение политической оппозиции. Карл распускает палаты. Сопротивление и баррикады. Провозглашение Луи-Филиппа королем
Людовик XVIII вернулся в Париж в 1815 г. не потому, что французский народ хотел его возвращения. Победители при Ватерлоо силой оружия навязали его не слишком желавшим подданным. Второй раз иностранные войска вошли в великий город на берегах Сены, однако французы были не слишком опечалены этим. У них не было желания приносить большие жертвы ради Наполеона. Жажда донести «свободу, равенство и братство» до края земли, которая воодушевляла молодые армии республики, угасла: пламя прежних чувств выгорело на полях многочисленных сражений. Выросло новое поколение, которое не знало Руссо и очень хотело мира и прочного уюта для себя. Огромные поместья церкви и старой аристократии были уже разделены, и их новые владельцы, люди с короткой родословной, но часто с большими состояниями, хотели покоя в стране. Матери рослых сыновей радовались, что набор солдат в армию закончился; а мужчины, которые в молодости были якобинцами, были готовы дрожать от ужаса при воспоминании о крайностях последних двадцати пяти лет и благодарили Провидение, что выбрались из всего этого живыми и гораздо более мудрыми.
После великих дней, великих страстей и великих преступлений революции, после колоссального цезаризма империи мы видим перед собой более мелкую и гораздо более прозаическую Францию. Большинство героев 1789–1793 гг. умерли. Правда, был еще жив Лафайет, и мы еще встретимся с ним. Но гильотина до 1795 г., а позже кровопролитные Наполеоновские войны лишили народ значительной части его самых умных людей, которые могли бы строить его будущее. Утверждают, что ужасные потери на полях сражений даже ослабили народ физически, а именно что молодые французы в 1815 г. были в среднем слабее и ниже ростом, чем их отцы в 1789 г. Так это или нет, в любом случае французский народ постигло ужасное разочарование. Французам казалось, что они вот-вот создадут империю более великую, чем Римская, а вместо этого иностранцы два раза захватили их страну, и чужеземные армии сбросили их правителя с трона. Правду говоря, обстоятельства этого поражения были такими, что немного льстили гордости французов. Чтобы одолеть Францию, против нее пришлось объединиться всей остальной Европе; Франция сражалась одна почти против всего мира. Но эти рассуждения не отменяли того, что вся наполеоновская «слава» закончилась сокрушительным военным поражением.
В 1814 г. союзники обошлись с Францией сравнительно великодушно. В 1815 г., во второй раз возводя на престол Людовика XVIII, они были сильно озлоблены и навязали ей более суровые условия. Франции была оставлена территория в границах 1790, а не 1792 г., как в первом договоре. В результате она утратила многие крепости на границах Эльзаса – Лотарингии и вернула королю Сардинии провинцию Савойя. Она также должна была выплатить большую для того времени контрибуцию в размере 700 миллионов франков (140 миллионов долларов) и терпеть присутствие оккупационных войск в некоторых своих пограничных городах, пока эта сумма не будет выплачена. Эти условия нельзя назвать невыносимыми, но они были унизительны. Повторное начало власти в таких обстоятельствах принесло Людовику XVIII очень мало славы.
Франция и теперь оставалась очень крупным государством, но вряд ли сохраняла даже то положение, которое занимала до 1780 г. Британия благодаря своему могуществу на морях, казалось, полностью держала в своих руках торговлю всего мира, к тому же она имела гораздо более развитую промышленность, чем любая ее соперница. Самый могущественный политик Европы жил не в Париже, а в Вене, и это был князь Меттерних, умный сторонник абсолютной монархии. Самая могучая армия, как тогда казалось, была у царя Александра I, который, как было хорошо известно, теперь был на побегушках у Меттерниха. А Франция снова была вынуждена заниматься только собой. У нее осталась только ее собственная территория. Большинство ее колоний были захвачены англичанами. По мирному договору ей были возвращены лишь несколько маленьких островов в Вест-Индии и некоторые торговые фактории в Африке и Индии. Огромная колониальная империя, существовавшая до 1760 г., разумеется, исчезла гораздо раньше. Строительство второй великой колониальной империи, которая перед 1900 г. охватывала всю Северную Африку, еще не было даже начато. Поэтому у французов было мало внешних проблем, которые могли бы отвлекать их мысли от домашних неприятностей.
Тем не менее Франция 1815 г. вовсе не была Францией 1789 г. Якобинцы явно потерпели неудачу. Их предшественники, люди 1789 г., которых презирали и ругали, в значительной степени добились успеха. «Привилегии» и большинство остальных крупных злоупотреблений старого режима исчезли навсегда. Больше не было привилегированных классов, и собственность была распределена среди значительной части населения. Все французы были равны перед законом и теоретически имели равные права на государственные должности. Церковь была лишена своих чрезмерных привилегий. Финансы страны были в сравнительно хорошем порядке. Веротерпимость была почти полная. Короче говоря, в 1815 г. «страна уже имела социальную и административную структуру; она оставалась – и остается до сих пор – демократическим обществом, делами которого управляет централизованная администрация. Однако механизм центрального правительства еще не был создан. Франция много трудилась, чтобы разработать его: в течение всего XIX в. она создавала для себя политическую конституцию»[215]. Важность этих слов может лишь тот, кто понимает, до какой степени парижское правительство господствовало над всей жизнью Франции. Америка и большинство британских общин остались бы в основном демократическими и либеральными, даже если бы их центральное правительство вдруг перестало быть либеральным: в этих государствах очень сильно местное самоуправление. Но во Франции местное самоуправление было тогда и остается теперь очень слабым (с американской точки зрения): власть парижских министров дотягивается до самой безвестной коммуны. Поэтому наш взгляд здесь постоянно будет обращен на столицу.
Нужно сказать, что в 1815 г. основная масса французского народа не испытывала большого интереса к политике. Несмотря на длительные войны, население страны увеличилось и составляло около 29 миллионов человек. Подавляющее большинство французов по-прежнему были крестьянами. Революция, уничтожив земельные владения дворянства и церкви, исполнила заветное желание многих из этих людей иметь надежную маленькую ферму и скромный достаток. Они, в сущности, были наиболее процветающим, имевшим наибольшее чувство собственного достоинства, самым стабильным и самым домовитым крестьянством в мире. Правда, среди них, к сожалению, много неграмотных и суеверных, но сравнение французских земледельцев с крестьянами любой другой страны было бы очень благоприятным для французов. Они были настоящей силой страны. Революция и империя сделали для них больше, чем для любого другого слоя французского общества, но крестьянам было не очень важно, кто у них правитель, лишь бы он обеспечивал им мир, порядок и процветание. Французское крестьянство вновь и вновь исправляло ошибки более заметных частей своего народа. Оно обуздывало революционеров, когда те заходили слишком далеко; оно выплачивало огромные военные долги и контрибуции; и, наконец, в 1914–1918 гг. оно дало подавляющее большинство тех сильных и неукротимых пуалю, которые стали живой стеной, защитившей свободу во всем мире[216].
В городах, конечно, была велика доля промышленных рабочих; но, по современным меркам, французские города того времени были малочисленны и невелики по размеру. Кроме Парижа, вероятно, только Лион имел больше 100 тысяч жителей. Французские промышленные предприятия были далеко не так развиты, как английские. Разумеется, значительная часть французских ремесленников жила в Париже, где находилось правительство, а потому внезапное восстание этих людей в некоторых случаях могло иметь очень серьезные политические последствия: их пальцы были возле горла власти и всегда могли придушить ее. Десять тысяч вопящих рабочих в Париже могли сделать для революции гораздо больше, чем 100 тысяч недовольных крестьян, разбросанных по департаментам. Но нельзя было рассчитывать, что вся остальная Франция радостно примет революцию, которая произошла в столице. Крестьяне могли выразить свое несогласие; они действовали бы не так быстро, как рабочие, но не менее решительно и твердо.
Выше крестьян и ремесленников располагался многочисленный класс, известный под названием буржуазия, – владельцы собственности, претендовавшие на более или менее заметное место в обществе, крупные и мелкие государственные служащие, люди свободных профессий и т. д. Их обвиняли в том, что они глубоко консервативны и ведут «простую тихую жизнь, как в маленьких городках, – однообразную жизнь без удобств, без развлечений, без умственной деятельности и находятся в рабстве у общественного мнения». Еще их винили в том, что они имеют почти так же мало представления о политике, как крестьяне, и ведут себя в высшей степени эгоистично, особенно когда мешают ремесленникам добиться улучшения оплаты и условий их труда. Каким вялым и сонным было общественное мнение тогдашней Франции, можно судить по тому, как мало читали в этой стране газет. Конечно, на протяжении почти всего периода Реставрации существовали суровая цензура печати, налог в размере 10 сантимов (2 центов) с каждого экземпляра газеты и очень большой почтовый сбор. И все же можно очень удивиться тому, что, согласно официальному отчету, составленному в 1824 г., во всей Франции было всего 55 тысяч экземпляров газет со статьями о политике. Надо признать, что эти газеты обычно были довольно глупыми и не просвещали читателей, но в это время публика, вероятно, и не хотела ничего лучшего.
Конечно, среди народа было и меньшинство бережливых, расчетливых людей, которые смотрели в будущее с умом, то есть строили планы на лучшее время. Как правило, эти люди тоже принадлежали к буржуазии или были отпрысками старых дворянских семей, достаточно просвещенными для того, чтобы перестать плести реакционные заговоры и забыть о своих родословных. Однако можно сказать, что с 1815 по 1848 г. французов побуждали к политическим переменам четыре главные причины: 1) боязнь, что полное возвращение старого режима (которое несколько раз казалось возможным) поставит под угрозу все состояния и права на собственность, приобретенные после 1789 г.; 2) требования владевших собственностью слоев общества, чтобы правительство работало эффективно и создало в стране стабильность, которая бы способствовала развитию прибыльной торговли и промышленности; 3) требование парижских промышленных рабочих сделать хоть что-нибудь для облегчения тяжелых и неблагоприятных условий их труда и 4) постепенный возврат к идеям предыдущего поколения и его идеализму, побуждавший людей требовать истинно либеральных учреждений и претворения в жизнь демократических теорий. В конце концов все эти факторы объединились, вытащили Францию из скучного болота, куда она была брошена в 1815 г., и поставили ее на дорогу, которая вела к более благородным целям.
Людовик XVIII, посаженный на престол в 1814 г. и возвращенный на него в 1815 г., получил власть из рук союзников потому, что Меттерних и царь Александр не смогли найти лучшего монарха для Франции. Признать, что народ может сам выбирать себе правительство? Об этом им было отвратительно даже думать. «Была бы нужна новая революция, [чтобы это произошло]. Кроме того, какой вопрос должно решать [народное] собрание? Законный король здесь», – заявил Меттерних.
Людовик XVIII[217] формально был королем с 1795 г., когда его племянник, Людовик XVII, несчастный дофин времен революции, умер в заточении из-за жестокости своих тюремщиков. Новый король прожил много утомительных лет в изгнании, в основном в России и Англии, надеясь, несмотря ни на что, на крушение Корсиканца и свое возвращение во Францию. И вот наконец судьба улыбнулась ему: великие государства два раза усадили его на трон. По правде говоря, он был не слишком величественной заменой «маленького капрала». На его портрете, опубликованном с согласия официальных властей, видно, что он был крупным, тучным человеком с изуродованными подагрой ладонями и ступнями. В 1815 г. ему было шестьдесят лет. В 1789 г. он был широко известен как сторонник абсолютизма и реакционер.
К счастью, в изгнании он усвоил несколько полезных идей и понимал, что с тех пор, как он, переодетый, бежал из Франции в 1791 г., произошло многое. По словам одного современника, «у него было очень твердое желание умереть на троне». Совершенно ясно, что у короля был лишь один способ исполнить это желание – признать все более или менее значительные нововведения, которые заслужили одобрение народа. Во время своего правления, с 1815 по 1824 г., он показал себя очень умным и твердым политиком и оставил о себе в общем хорошую память. Все свои способности он употреблял на то, чтобы объединить сторонников старого и нового режимов. Он говорил, что «не желает быть королем двух народов» и что «дети одного отечества должны быть братьями».
Сам Людовик XVIII понимал, что может остаться во Франции, лишь признав то, что произошло после 1789 г., но среди его семьи и помощников было очень мало тех, кто это понимал. В 1814–1815 гг. огромное множество дворян-эмигрантов поспешно вернулись в Париж. Есть поговорка о том, что изгнание калечит и озлобляет человека. Вернувшиеся изгнанники, чьи родственники, вполне вероятно, закончили жизнь на гильотине, не были в состоянии увидеть ничего хорошего в делах нового режима. Они громко требовали мести, возвращения своих утраченных поместий и отмены всех постановлений, принятых после старых добрых дней, когда Калонн и Мария-Антуанетта устраивали праздники в садах Версаля. Они клялись в величайшей верности Людовику XVIII, но вскоре стали недовольны новым королем за то, что он не начал сразу же проводить крайне реакционную политику. В этом недовольстве их поддерживал младший брат короля, граф Артуа, который, поскольку у Людовика не было сыновей, должен был, очевидно, стать его наследником, королем Карлом Х. Артуа был самым крайним сторонником абсолютизма, которого можно себе представить. Позже он сказал, что «охотнее стал бы пилить дрова, чем царствовать, как король Англии». В тот день, когда Людовик XVIII провозгласил новую конституцию (Хартию), Артуа притворился больным, чтобы не присягать на верность ей. Его дворец все время был центром интриг ультрароялистов. Король понимал, как вредно влияние его брата, и видел, что оно может погубить их ди настию, но часто уступал ему, чтобы сохранить мир в своей семье. Режим Бурбонов продержался до 1830 г. Учитывая, каким человеком был будущий Карл Х, можно даже немного удивиться тому, что их власть просуществовала так долго.
Европейские союзники вернули во Францию Бурбонов, но не пытались вернуть абсолютизм. Меттерних не желал иметь конституцию у себя в Австрии, но согласился с доводом, что, если Францию силой вернуть к чисто аристократическому правлению, в ней скоро произойдет новая революция, которая создаст угрозу для спокойствия других стран. Поэтому Людовика XVIII заставили опубликовать конституцию для Франции, сделав это обязательным условием его возведения на престол. Эта конституция и была знаменитой когда-то Хартией. Хотя сейчас она кажется ограниченной, в то время она дала Франции в основном более либеральное правительство, чем было у любого другого королевства, кроме Англии, и явно была намного либеральнее, чем система управления, существовавшая во Франции при Наполеоне.
С 1815 до 1848 г. Франция управлялась согласно Хартии, хотя в 1830 г. в этот документ были внесены важные изменения. Общественная жизнь того времени почти вся вращалась вокруг нападок на Хартию и ее защиты, поэтому мы не можем обойтись без обсуждения главных положений Хартии.
Людовик XVIII заявил, что правит так же, как правил его несчастный брат, – «милостью Божьей», и назвал Хартию результатом «свободного осуществления королевской власти». Поэтому теоретически она была милостивой уступкой самодержца, а не выражением воли народа. Кроме того, она была датирована «девятнадцатым годом царствования», как будто Людовик XVIII был правящим монархом с 1795 г. – со времени смерти своего племянника. Таким образом, теоретические положения Хартии – совершенно нелиберальные. Но в ее тексте есть статьи, которые позволяют утверждать, что Франция в то время была до некоторой степени ограниченной монархией и что главным в этом документе была не большая власть, которую он давал королю, а большая власть, предоставленная богатым классам общества.
Король, конечно, был главой «исполнительной власти». Он командовал армиями, объявлял войну, заключал мир, подписывал договоры и (двусмысленный пункт, которому было суждено стать причиной мятежа) «отдавал распоряжения и приказы, необходимые для исполнения законов и для безопасности государства». Он назначал всех государственных чиновников и правил страной через посредство «ответственных» министров. Если министры плохо вели себя, низшая палата Законодательного собрания могла предъявить им обвинение, а верхняя палата – судить.
Свою «законодательную власть» король разделял с палатой пэров и палатой депутатов. Король инициировал законопроекты. Обе палаты должны были обсудить и утвердить их, затем король их обнародовал. Пэры, кажется, явное подражание британской палате лордов. С самого начала всех пэров назначал король, выбирая их из числа великих людей Франции – маршалов, видных гражданских деятелей и т. п. Некоторые из них только получали свое звание пожизненно, другие могли передать его по наследству. Депутаты избирались на пять лет, и каждый год проводились выборы пятой части членов этой палаты, чтобы в ее составе не происходило слишком много внезапных перемен. Ни один налог нельзя было установить или собирать с населения без согласия обеих палат, и они должны были заново давать это согласие каждый год. Теоретически это положение Хартии давало в руки новому парламенту грозное оружие против королевской власти. Но весь этот внешний либерализм был лишен силы тем, что только обеспеченным и богатым людям было разрешено голосовать за членов палаты депутатов.
Избирателем мог быть француз в возрасте от тридцати лет, который платил в качестве прямого налога минимум 300 франков (60 долларов). Чтобы быть избранным в члены нижней палаты, он должен был иметь возраст не меньше сорока лет и платить прямой налог в 1000 франков (200 долларов). При таких условиях быть известным как «голосующий» становилось почетно: в сельской общине эту честь, вероятно, имели только два или три из самых богатых землевладельцев. В 1815 г. во всей Франции было лишь немного больше 90 тысяч обычных избирателей и лишь меньше 12 тысяч из них отвечали условиям, позволявшим послать человека представителем в Париж. Таким образом, была произвольно создана новая привилегия – привилегия богатства, одна из самых оскорбительных; она непременно должна была вызвать зависть и недовольство.
Однако, помимо этой огромной ошибки, в Хартии было много прекрасных положений. Сохранялась судебная система, существовавшая при империи. Судью можно было снять с должности, только если он сам, непосредственно совершил преступление, и эта несменяемость наделяла судей чувством собственного достоинства и положенной им властью. Были гарантированы свобода личности и свобода вероисповедания, хотя католичество объявили государственной религией. Была также провозглашена свобода слова, но при условии, что пресса будет «соблюдать законы, запрещающие злоупотребление этой свободой». Это условие потом принесло много горя.
Было запрещено конфисковать собственность без компенсации. Отменена воинская повинность, что явилось уступкой народным настроениям, которые помогли свергнуть Наполеона. Отдельные законы должны были обеспечить реорганизацию армии.
Таким образом, несмотря на большое число ограничений и одну очень крупную ошибку, Хартия при верном применении и дальнейшем развитии в правильном духе могла бы обес печить Франции довольство и процветание. Были сохранены главные завоевания 1789 г. – свобода, равенство (по крайней мере, во всех частных правах) и теоретическое право на участие в управлении страной. Практически же право голоса согласно Хартии получили только представители верхов буржуазии – в большинстве случаев землевладельцы, но часто также владельцы фабрик и банкиры. Эти люди, разумеется, были верными сторонниками «права собственности», но не сочувствовали дворянам, неистово требовавшим восстановления старого режима. Крупные буржуа не чуждались новых идей и, хотя составляли лишь малую часть населения Франции, вскоре показали, что понимают, в какую сторону развивается общественное мнение и насколько оно сильно. В результате после 1815 г. Франция была очень похожа на действительно ограниченную монархию: в ней были партии, программы, «оппозиция», выборы и т. д., хотя в целом система управления была вовсе не демократической.
Уже в начале периода Реставрации во Франции начали быстро формироваться три политические партии – 1) ультрароялисты, 2) независимые и 3) конституционные роялисты. Первая партия была откровенно реакционной. Она считала все, что произошло после июня 1789 г., преступлением, а предоставление народу Хартии – прискорбной и грубой ошибкой. В эту партию входили вернувшиеся изгнанники, у которых была лишь одна цель – перевести часы истории как можно дальше назад. «Независимые» тоже были крайне недовольны Хартией: она дала народу слишком мало свобод, а эта партия втайне желала снова отправить Бурбонов в путешествие. Эта партия была, разумеется, порождением прежних республиканцев и сама позже породила новую Республиканскую партию. Будущее было за ней, но пока она была очень слаба: это была эпоха реакции, и получалось, что незави симые плыли против течения событий. Конституционные роялисты занимали место между этим двумя беспокойными партиями. Они считали Хартию подходящим и хорошо просчитанным рабочим планом спасения Франции и были полны решимости использовать ее, практически не внося изменений. Смогут ли они добиться успеха, в значительной степени зависело от того, какую поддержку они получат от короля.
Если бы Людовик XVIII был предоставлен себе самому, он, несомненно, искренне добивался бы успеха Хартии. Он обнаружил, что «трон – самое удобное кресло», и не хотел делать ничего такого, что заставило бы его опять бежать в Гент от нового восстания. Но вернувшиеся эмигранты из партии ультра были для него плохими союзниками. Окружавшие его дворяне были абсолютистами больше, чем сам король, и он не мог не учитывать их мнение. А они заявляли, что хотят абсолютной монархии, потому что при ней смогли бы получить все, чего хотели. Они требовали полной «очистки» государственной и военной службы от выскочек, то есть отставки всех наполеоновских префектов, генералов и т. д., и замены их аристократами, которым пришлось терпеть бедность и изгнание «за правое дело». Кроме того, они требовали большого возмещения за свои утраченные поместья. Прессу и образование, по их мнению, тоже можно было доверить лишь надежным роялистам или их очень усердным и надежным помощникам – духовенству. Когда король отказался утвердить эти проекты, поскольку, приняв их полностью, он лишился бы трона, ультра начали произносить полный гнева тост «за здоровье короля, несмотря на все» и стали с надеждой ждать того дня, когда престол займет граф Артуа.
Когда палата нового законодательного органа собралась впервые после Ста дней, вскоре стало очевидно, что во время сумятицы, которой сопровождалось падение империи, ультра сумели получить значительное большинство среди депутатов. В южной части страны роялисты устраивали массовые погромы своих противников и убивали их без суда; это был настоящий «белый террор». В Париже новые палаты почти так же сильно жаждали быстрой и кровавой мести тем, кто во второй раз посадил на престол ненавистного Корсиканца. По их мнению, Францию нужно было полностью «очистить», и Людовик XVIII сердито сказал: «Если бы этим господам дать полную волю, они в конце концов и меня бы вычистили». Король старался успокоить этих людей, но не смог спасти некоторых жертв. Маршал Ней заслужил особую ненависть ультра тем, что перешел к Наполеону, перед этим пообещав Бурбонам, что арестует его. Когда роялисты вернулись в Париж, Ней не смог правильно оценить это предупреждение, не догадался бежать и был арестован. Король был недоволен его арестом и раздраженно сказал: «Позволив себя поймать, он причинил нам больше вреда, чем 13 марта [когда перешел к Наполеону]», но спасти Нея не смог. Этот маршал, которого называли «храбрейшим из храбрых», был поставлен перед судом генералов. Судьи, напуганные требованиями крови, громко звучавшими в салонах аристократов и в палатах, признали Нея виновным в измене, и 7 декабря 1815 г. он был расстрелян в Люксембургском саду. Так закончилась жизнь одного из самых выдающихся военачальников, когда-либо воевавших за Францию. Его судьба стала позором для Реставрации, и в этом позоре был виновен не король, а «верное» королю дворянство.
Правда, нужно сказать, что ультра не имели никакой разумной политической программы. Уничтожив Нея и еще нескольких людей, которым особенно жаждали отомстить, они повели собственную игру, но слишком поторопились. Они сделали глупость – отвергли бюджет, напугав этим всех магнатов, заинтересованных в финансовой стабильности Франции. Король быстро распустил палату, и выборщики, которых привел в ужас кровавый вихрь поднятых ультрароялистами страстей, снова избрали состав, где большинство было за умеренными. Это спасло Францию от нового революционного взрыва и, возможно, от иностранной интервенции.
Министры Людовика, несмотря на необходимость бороться с неуправляемыми ультра, добились некоторого успеха в решении трудной проблемы возрождения страны. Французский народ снова проявил свою гениальную практичность. Одни только мир, закон и порядок уже принесли стране почти полное процветание. Большая контрибуция, которую Франция должна была уплатить союзникам, выплачивалась регулярно; в 1818 г. последний оккупант покинул Французскую землю, хотя первоначально предполагалось, что иностранные войска будут выведены только в 1820 г. «Я могу умереть спокойно, – сказал король. – Умирая, я буду видеть свободную Францию, и французский флаг будет развеваться надо всеми ее городами».
Достаточно умно был решен и другой вопрос – армейский. Воинская повинность, введенная Наполеоном, была отменена. Превосходной боевой машине (точнее, тому, что уцелело от нее после Ватерлоо) было позволено прийти в упадок и рассыпаться. Но Французское государство не могло снова занять достойное место среди европейских стран, не имея хорошо действующих вооруженных сил. Для этого существовал лишь один путь – снова ввести какой-то вид воинской повинности. Было решено набирать как можно больше добровольцев. Чтобы набрать остальную часть армии, всем юношам в возрасте двадцати лет было приказано тянуть жребий; те, кому выпадали «плохие» номера (малая часть от всех), должны были отслужить шесть лет в действующей армии, а затем еще шесть лет в резерве. Так составлялась армия численностью примерно в 240 тысяч человек, в которой почти все солдаты были сверхсрочниками-профессионалами. По сравнению с другими европейскими армиями она была достаточной по численности. Но молодой человек из хорошей семьи легко мог избежать такой повинности[218], а буржуа, как правило, ненавидели военную службу. Таким образом, во Франции почти до 1870 г. большинство молодежи не имело военной подготовки, а в Пруссии в эти годы «всеобщая воинская служба» стала реальностью. Однако эта опасность стала сильно ощущаться только в 1860-х гг. А пока споры по поводу нового закона возникали в основном из-за пункта, согласно которому повышение в звании и производство в офицеры было одинаково доступно для всех классов. Надежды ультрароялистов вернуть дворянам исключительное право на офицерские должности в армии были разрушены; ультра протестовали энергично, но безуспешно. Закон об армии был принят против их воли и стал еще одной преградой на пути реакции.
Однако в тот момент реакционерам помогало то, что независимые – радикальная партия, говорившая о возврате к трехцветному флагу и даже к республике, – опять становились серьезной силой в палате депутатов. В 1817 г. у них было в ней только 23 места из 258, в 1818-м уже 45, а в 1819-м они имели 90 мест. Одним из их вождей был знаменитый Грегуар – пылкий якобинец старого закала и бывший член Конвента, который когда-то сказал, что «короли морально то же, что уроды физически». Даже умеренные конституционалисты голосовали вместе с ультра за его изгнание из палаты. В самый разгар этих волнений фанатик-одиночка убил предполагаемого наследника короны – герцога Беррийского, сына графа Артуа. Республиканцы не имели отношения к этому преступлению, но, разумеется, пожали в полной мере плоды его непопулярности. В 1820 г. произошло еще одно неизбежное наступление роялистской реакции, и Людовик XVIII не смог устоять перед ней. «Мне конец», – мрачно сказал он, имея в виду, что больше не может выдерживать давление ультра. В результате самодержавие десять лет все туже затягивало петлю на горле страны, а потом веревка лопнула, и Франция спаслась, вбежав по кровавой дороге революции в немного более либеральный режим.
Перед самым началом 1820 г. появились признаки постепенной либерализации правительства. В 1819 г. был принят закон, позволявший судам присяжных рассматривать дела, связанные с прессой, и отменявший цензуру. Правда, газеты по-прежнему облагались большим налогом и должны были предоставлять сумму, равную 40 тысячам долларов, в качестве залога своего хорошего поведения. Теперь этому смягчению режима настал конец. Ультрароялисты вернули себе контроль над прессой, а потом (в 1820 г.) начали мошеннически переделывать в свою пользу структуру палаты депутатов. Коли чество членов этой низшей палаты было увеличено до 430 человек. Но только 256 из них, как вначале, могли быть выбраны обычными избирателями, платившими 300 франков налога. Остальные 172 избирались только плательщиками налога в 1000 франков, которые могли сами быть избраны в число законодателей. Это фактически давало очень богатым изби рателям два голоса. Новые выборы (прошедшие в ноябре 1820 г.) обрадовали ультра: эта партия сумела получить подавляющее большинство, а фракция независимых (партия триколора) в палатах сократилась до маленькой бессильной горстки людей. Роялисты, разумеется, были в восторге. Им казалось, что они раздавили оппозицию. На самом же деле радикалы, лишившись законного способа отстаивать свое дело, вернулись к старым проверенным революционным средствам – тайным обществам, интригам, а вскоре и настоящим заговорам. В 1830 г. они показали свою силу на баррикадах.
Людовик XVIII, окруженный со всех сторон влиятельными реакционерами, был вынужден в 1823 г. ввести французские войска в Испанию, чтобы подавить попытку либералов этой страны, которую долго раздражали и выводили из себя, заставить их короля-тирана дать народу конституцию. Правда, если бы Франция заупрямилась и отказалась, Меттерних, вероятно, заставил вторгнуться туда какую-нибудь другую страну с самодержавной властью; но французских патриотов очень раздражало то, что их страна, которая в 1793 г. стремилась принести свободу всем угнетенным странам Европы, теперь, как им казалось, стала услужливым жандармом абсолютизма. В 1824 г. ультра добились на новых выборах такого успеха, что в палате оказалось всего 19 либералов, и новое большинство открыто обсуждало планы возвращения аристократам земель, а духовенству авторитета. Удача сделала роялистов беспечными, и они не обращали внимания на предупреждения постаревших, но по-прежнему почитаемых лидеров, в том числе Лафайета. В 1824 г. этот знаменитый генерал вновь посетил Америку – страну, где он впервые обнажил меч во имя свободы; там его приняли с беспримерными почестями и радостью. Своим американским друзьям Лафайет с полной откровенностью выразил свое мнение о положении на родине. «Франция не может быть счастлива под управлением Бурбонов, и мы должны их выгнать!» – заявил он.
В том же году желание Лафайета заметно приблизилось к осуществлению: Людовик XVIII умер, и брат покойного взошел на престол под именем Карла Х (годы правления 1824–1830). Новый король, в отличие от своего предшественника, никогда не пытался идти средним курсом между ультра и умеренными роялистами: Карл всегда открыто был на стороне ультра. Он ненавидел конституционализм и, несомненно, при первой же возможности восстановил бы монархический режим Людовика XIV. Кроме того, он был горячим приверженцем церкви. В значительной степени именно этот король, который «ничему не научился и ничего не забыл», создал тот пагубный союз «алтаря и трона», от которого и политическая жизнь Франции, и французская католическая церковь страдали почти до 1914 г. После 1815 г. французское духовенство для собственной пользы заключило с ультра соглашение о сотрудничестве. Служители церкви были должны делать все возможное для возврата страны к самодержавию. Ультра же должны были обеспечить духовенству полный контроль над образованием и, если будет возможно, вернуть духовенству все то богатство и влияние, которым оно обладало до 1789 г. Карл Х, когда был наследником престола, а затем королем, не скрывал своей сильнейшей симпатии к этому движению.
Правда, новый король, вступая на престол, заявил, что намерен «придерживаться Хартии», освободил политических заключенных и даже на короткое время снова отменил цензуру для прессы. Разумеется, каждый правитель бывает милостивым и популярным в первую неделю после своего прихода к власти. Но Карл скоро показал свой неисправимо средневековый нрав. В 1825 г. он короновался в Реймсе по сложному церемониалу, который существовал до 1789 г., не упустив ни одного обряда, и на нем был такой же наряд, какой носили давние короли, – туника, далматик, золотой скипетр в руке и все прочее. Французы очень ясно почувствовали всю нелепость этой церемонии. В XIX в. престиж монарха не увеличивался оттого, что этот монарх был «помазан по семи частям своего тела» священным маслом, которое «чудесным образом сохранилось» со времен Хлодвига. Немногие из подданных Карла восприняли всерьез и его заявление, что он теперь будет исцелять больных своим «королевским прикосновением». Такие обряды только рассмешили безбожников, но, когда король Карл, «потомок Людовика Святого», начал настойчиво требовать от своих министров, чтобы они осуществили крайне реакционную политическую программу, дело пошло дальше смеха.
Вернувшиеся дворяне уже давно требовали если не возвращения своих утраченных имений, то компенсации за них. Теперь эта просьба была исполнена: депутаты проголосовали за выделение дворянам компенсации в сумме 1 миллиард франков. Для того чтобы накопить эти деньги, процентная ставка по прежним государственным долгам была «преобразована» – уменьшена с 5 до 3 процентов. Многочисленные и могущественные держатели государственных облигаций были в ярости от этой перемены и стали еще меньше доверять режиму Реставрации. Духовенство вмешивалось во все правительственные дела. Был принят закон, каравший смертной казнью за кражу священных сосудов из церквей. Увеличилось количество епископов. Учителя, работавшие в государственной системе образования, были поставлены под надзор церковных властей. Множество чиновников были уволены за то, что недостаточно усердно проводили в жизнь эту новую политику.
Все эти меры, разумеется, создали правительству врагов и слева и справа. Избиратели во Франции и без того были лишь достаточно малой частью всего общества, теперь же даже они стали покидать правительство. На сторону либералов перешли многие крупные промышленники и банкиры – люди богатые и могущественные, несмотря на короткие родословные; и они были сильно возмущены новым положением дел в стране. Закон о восстановлении исключительного права старших сыновей наследовать крупные поместья, который был необходимой подготовительной мерой для воссоздания привилегированной аристократии, не был утвержден палатой пэров[219]. Таким же образом была остановлена и попытка принять закон о прессе, согласно которому каждая газета была обязана предоставлять правительству рукописный экземпляр своего очередного номера за пять дней до его выпуска.
Разгневанный этим премьер-министр Виллель, ультрароялист, попытался лишить либералов большинства в палате пэров, убедив короля назначить 73 новых пэра из числа избранных реакционеров. Но правительство после этого распустило нижнюю палату и досрочно назначило новые выборы (в 1827 г.), надеясь в результате получить полностью управляемый парламент. Сразу же стало видно, что министры и король полностью потеряли поддержку даже самых привилегированных слоев французского общества. Противники ультрароялистов снова получили сильное большинство в парламенте, хотя правом голоса обладало лишь незначительное меньшинство французов. К нескрываемому огорчению Карла, Виллель подал в отставку, и королю для ведения текущих дел страны пришлось назначить премьер-министром умеренного Мартиньяка.
Но Карл ненавидел политику нового премьера и быстро дал ему почувствовать свою власть. Меньше всего Карл хотел действительно быть конституционным королем. В 1829 г. он отправил в отставку умеренных министров и привел во власть своего личного друга, графа Полиньяка, бывшего эмигранта, который прекрасно помог королю расшатать трон под династией Бурбонов. Полиньяк был ограниченным человеком и ультрароялистом, «с губительным упрямством мученика и мужеством самого худшего сорта, когда человек решает: «Пусть будет так, как угодно Небу»[220]. Министр и его король мчались вперед своим путем. Они отлично знали, что теперь большинство депутатов палаты против них, но твердо решили, что никакие препятствия не заставят их отклониться от цели. Государственные деятели такого типа чаще всего ускоряют своими действиями начало революции.
Положение Полиньяка было слабым в первую очередь оттого, что он не мог законно собирать налоги без согласия палат. Люди заговорили о «законном сопротивлении». Либеральная газета «Журнал де Деба» в августе 1829 г. откровенно писала: «Народ заплатил бы тысячи миллионов франков по закону, но не заплатит ни одного франка по приказам министра». Эта статья-предупреждение заканчивалась словами: «Несчастная Франция! Несчастный король!»[221] Однако министр и его монарх, видимо, питали иллюзию, что, раз только обеспеченные и богатые граждане могут голосовать за депутатов, остальному народу неинтересно, как администрация принуждает к повиновению парламент. На самом же деле уже всерьез разрабатывались планы радикальных изменений в правительстве, и все французы чувствовали, что права депутатов и права народа – одно и то же. Стали возникать общества для сопротивления уплате налогов, если министры попытаются собирать их незаконно. Членом одной из этих организаций был известный конституционалист Гизо, знаменитый историк и, возможно, лучший литератор тогдашней Франции, уволенный из универститета за то, что его лекции не были реакционными. Лафайет объехал юг Франции. По приветствиям, которыми его там встретили, стало видно, как многочисленны либералы и масоны – неистовые противники духовенства. В Париже маленькие республиканские клубы, которые до этого были слабы, набрались мужества и стали составлять планы борьбы на баррикадах. Кроме того, Тьер, молодой и умный публицист, начал хорошо организованную литературную атаку на политику правительства. Так Полиньяк и Карл Х мчались навстречу своему крушению.
В марте 1830 г. депутаты официально выразили, путем голосования, свое недоверие министерству Полиньяка. Карл в ответ распустил палату и приказал провести новые выборы. «Дело касается не министров, а монархии», – неосторожно сказал он. До этих слов можно было говорить, что король просто жертва плохих советников, теперь же он вызвал весь огонь критики на себя. Король сам занялся политическими делами, чтобы получить выгодное для себя большинство. Избирателям он сказал: «Выполняйте свой долг, а я буду выполнять свой».
Людовика XIV обвиняют в том, что он сказал: «Государство – это я». Карл Х практически сказал: «Министерство – это я».
В тот момент, когда выборы закончились, у ультрароялистов, должно быть, открылись глаза. Общественное мнение крепко держало в своей власти малочисленных избирателей. В прежней палате ультра имели большинство 221 человек против одного Полиньяка. Теперь у них был всего один сторонник из 274. Талейран, умелый приспособленец, бывший министр Наполеона, сделавший очень много для возвращения Бурбонов, теперь лукаво наблюдал за ходом событий, находясь в отставке, подвел итог происходящему коротким и решительным заключением: «В 1814 г. возвращение Бурбонов обеспечило покой Европы. В 1830 или 1831 г. их уход обеспечит покой Франции». Но король и его приспешники не дали своей власти продолжиться до 1831 г.[222]
События последних дней существования Бурбонской монархии были настолько неизбежными, что мы не станем долго задерживаться на них. Только с помощью большой и верной ему армии Карл Х смог бы проводить свою прежнюю политику и остаться на троне. Воспользовавшись нечетко сформулированной статьей Хартии, которая давала королю власть издавать указы «ради безопасности государства», Полиньяк 26 июля 1830 г. внезапно расклеил в Париже четыре «указа». Первый из них полностью отменял свободу прессы. Второй распускал только что избранную палату. Третий указ кардинально изменял закон о выборах: теперь голосовать могли, в сущности, только крупные землевладельцы, так что во всей Франции оставалось лишь около 25 тысяч «избирателей». Четвертый был распоряжением о проведении новых выборов и созыве палаты, избранной в соответствии с третьим указом. Через четыре дня правительство и династия были свергнуты в результате вооруженного восстания.
Бои происходили только в Париже. Об их подробностях можно не рассказывать: это было всего лишь самовоспламенение горючего материала.
Когда были изданы противоречившие конституции указы, редакторы либеральных газет опубликовали в ответ свои протесты.
«Правительство нарушило закон, – писали они. – Мы больше не обязаны повиноваться ему. …Мы будем сопротивляться [правительству]. И пусть Франция решает, как далеко пойдет это сопротивление». Сами редакторы, конечно, физически ничего не могли сделать, но так же, как в 1789 г., парижская чернь пришла им на помощь и стала их войском. Партия триколора восстала. Ее вождь Кавеньяк, сын члена Конвента, явно желал установить в стране республику; у многих из тех, кто пошел за ним, не было четкой программы, но «их объединяла ненависть к Бурбонам и любовь к трехцветному знамени». Вначале всего лишь от 8 до 10 тысяч человек выступили с оружием в руках против правительства, но условия Парижа благоприятствовали им[223]. Многие районы столицы были лабиринтами узких переулков, вдоль которых стояли высокие старинные дома. Несколько камней из мостовой, перевернутая телега или несколько стульев, брошенных посреди улицы ножками наружу, становились грозной баррикадой. Пулеметов и шрапнели тогда еще не существовало. Солдаты, прокладывая себе путь по улицам, могли применять почти только одни мушкеты. А улицы были разрезаны на части баррикадами, и восставшие стреляли по солдатам с флангов из каждого окна. Маршал Мармон, командовавший королевскими войсками, был очень непопулярен в Париже. Это он управлял Парижем в 1814 г., когда город был сдан союзникам. Сейчас у него было всего 14 тысяч солдат. Они не были ни трусами, ни мятежниками, но не настолько любили Бурбонов, чтобы сражаться, не щадя себя, ради них. К тому же они не желали стрелять в свой любимый трехцветный флаг, который везде подняли восставшие. В результате, пока Карл Х, довольный собой, играл в карты в своем пригородном дворце, он лишился столицы и трона.
Незаконные указы появились 26 июля 1830 г. А 27 июля во всем Париже уже поднимались баррикады, словно вырастая из-под земли по взмаху волшебной палочки.
И 28 июля восставшие уже занимали ратушу и собор Нотр-Дам и кричали «Долой Бурбонов!». Солдаты Мармона были изгнаны из восточной части столицы и укрывались возле Лувра. А 20-го числа восставшие уже наступали, и их Исполнительный комитет, заседавший в ратуше, уже организовал снова Национальную гвардию, чтобы защитить жизнь и имущество горожан, и назначил ее командующим старого вождя Лафайета. Карл Х наконец испугался настолько, что отправил в отставку Полиньяка и объявил об отмене губительных указов. Когда его посланцы добрались до ратуши, их там не приняли и ответили: «Слишком поздно. Трон Карла Х уже уплыл от него по крови».
Как только республиканские повстанцы заставили войска Мармона отступить и крадучись вернуться в свое убежище, начали действовать либеральные роялисты. Они завладели помещением палаты депутатов и объявили, что являются законной властью. У них был для престола кандидат, способный стать строго конституционным королем, – Луи-Филипп, герцог Орлеанский, о котором будет подробнее рассказано потом. Была вывешена написанная умелым Тьером прокламация, в которой всех французов убеждали согласиться на эту компромиссную кандидатуру. «Он ждет нашего зова. Позовем же его, и он примет Хартию, как мы всегда желали. Он получит свою корону из рук французского народа», – писал Тьер.
Герцог Орлеанский въехал в королевский дворец, но пока называл себя только «генерал-лейтенантом королевства». Именно тогда он произнес свое знаменитое обещание: «Отныне Хартия станет реальностью».
Кавеньяк и его республиканский комитет по-прежнему удерживали ратушу. Они хотели не лучшего короля, а вообще никакого короля. Но было ясно, что они представляют лишь очень малую часть народа. Луи-Филипп подъехал верхом к их оплоту, хвалил их, льстил им, обнял Лафайета и вместе с ним вышел на балкон ратуши, задрапировавшись в трехцветное знамя. Народ встретил его аплодисментами (это было 31 июля). Республиканцам поневоле пришлось уступить, сохраняя хорошую мину при плохой игре. Кавеньяк честно сказал: «Вы напрасно благодарите нас [за отступление]. Мы уступили только потому, что не готовы сопротивляться».
Остальная Франция радостно согласилась с решением столицы. Карл Х безуспешно попытался отречься в пользу своего внука, но палата вовремя провозгласила Луи-Филиппа королем Франции (7 августа 1830 г.). Бывший монарх, усталый и свергнутый, уехал в Англию и провел остаток своей жизни в изгнании; умер он в австрийском городе Гориц, в 1836 г. Ни один король не был настолько творцом своих собственных бед, как он[224].
Итак, у французского народа теперь были новое правительство и новая династия. Луи-Филипп, «король баррикад», готовился сменить правление ультра на правление буржуа.
Глава 20. «Король-гражданин» и правление буржуазии
Начало жизни Луи-Филиппа. Новая Национальная гвардия. Оппозиционные силы. Тьер. Бездействие правительства. Оппозиционное правительство. Мусульманский Алжир. Сопротивление Абд-эль-Кадира. Начинаются требования провести реформы. Призывы радикалов провозгласить республику. Салоны. Королевский двор. Общественная жизнь. Тайные общества. Организации трудящихся. Внешний вид Парижа
Июльская революция 1830 г. наделала много шума в Европе, и она беспокойно заворочалась. Казалось, что Франция возвращается на прежний путь и снова будет создавать неприятности всему миру. Когда новость о появлении в Париже нового короля была еще почти свежей, стало известно о восстании в Брюсселе. Там бельгийцы объявили о своей независимости, положив конец собственному неудобному союзу с Голландией. В ноябре началось восстание в Польше против русской власти, и до конца года произошли волнения во многих малых немецких государствах, где население добивалось конституций от своих правителей, а те не желали выполнять это требование. В начале 1831 г. произошли новые восстания сторонников либерализма в нескольких из маленьких итальянских княжеств, жители которых безуспешно пытались добиться для себя более умелого правительства и менее тиранической власти. Во всех этих возмущениях, угрожавших полностью разрушить хорошо налаженную систему, созданную в Вене в 1815 г., самодержцы Австрии, России и Пруссии и их английская родня по духу – партия тори были склонны обвинять Луи-Филиппа. Что сделает Франция? Потеряет голову, быстро опустится до нового якобинства и станет поощрять всевозможную беспокойную пропаганду в других странах? Немецкие, австрийские и русские войска вполне могли по указанию Меттерниха снова вторгнуться во Францию и вернуть Бурбонов на престол в профилактических целях, чтобы не допустить новой вспышки революционной ереси.
Но все эти страхи были напрасны. Все правление Луи-Филиппа – скучный период спада после напряжения сил. Новый режим очень мало отличался от режима Реставрации. Настоящее изменение было в том, что к власти пришли новые люди. Вместо Бурбонов, скованных традицией и связанных обязательствами перед старинным дворянством и духовенством, на престоле была семья Орлеан, наполовину буржуазная и вольтерьянская, вынужденная опираться на полулиберальный средний класс. Правда, теоретически эта Июльская монархия[225] признавала суверенитет народа. Тьер в своей прокламации писал: «Он [Луи-Филипп] получит свою корону из рук французского народа». Гизо, другой пропагандист новой династии, заявил: «Он будет уважать наши права, потому что именно мы дадим ему его права». Сам новый правитель провозгласил, что является королем Франции «по милости Бога и по доброй воле французского народа». Он специально позаботился о том, чтобы присягнуть на верность Хартии. В законодательстве было записано, что Хартия не просто дарована монархом народу, а передается старшим поколением народа младшему поколению, а король дает на это свое согласие. Было также установлено, что король не имеет права издавать указы, которые отменяют или изменяют официальные законы государства. Все шло прекрасно, Франция становилась ограниченной монархией не только по названию, а и на деле. Но хотя король должен был стать «ограниченным», он все же оставался королем, а потому его личные качества и его политика приобрели первостепенную важность.
Луи-Филипп был сыном того герцога Орлеанского, который в 1789 г. получил бы несомненное право на трон, если бы что-то уничтожило правящую семью Бурбон. Этот герцог, у которого были совсем не родственные отношения с Людовиком XVI, угождал революционерам демагогическими заявлениями, назвал себя Филипп Эгалите (то есть Равенство), когда старые титулы были выброшены за борт, был в конце концов избран в Конвент и даже голосовал за казнь короля[226]. «Гражданин Эгалите» сам был казнен на гильотине в 1793 г. Луи-Филипп был его старшим сыном. Этот наследник великого имени провел молодость в странствиях и бедности. Он изучал математику в Швейцарии. Он жил как изгнанник в Соединенных Штатах, возле Бруклина, но недолго; затем он вернулся в Англию, правительство которой назначило ему пенсию. Он женился на дочери короля Сицилии и в 1814 г. вернулся в Париж вместе с Бурбонами. Родственники, естественно, ненавидели его и оказывали ему при дворе так мало благосклонности, как это было возможно, но он вернул себе бо́льшую часть имущества своей семьи. Луи-Филипп стал очень популярен благодаря своим демократическим привычкам: он гулял по улицам под зеленым зонтом, разговаривал с рабочими, водил с ними компанию, учил своих сыновей в тех же школах, где учились дети зажиточных буржуа, охотно принимал в своем дворце артистов и литераторов, открыто выражавших сочувствие либералам. Своими привычками он напоминал не французского аристократа из высшей знати, а жизнерадостного английского джентльмена. Поэтому, когда в 1830 г. стало нужно срочно избавиться от Бурбонов, он казался самым подходящим претендентом на трон. Луи-Филипп лучше любого другого кандидата отвечал всем необходимым требованиям: он должен был привести корабль Франции к свободе, не посадив его на скалы якобинства.
Однако этот «король-гражданин», который даже после того, как взошел на трон, казался таким восхитительно демократичным в своих привычках, на самом деле очень крепко держал власть в своих руках, старался командовать своими министрами и был почти так же упрям, как Карл Х. У него была большая семья, и он тратил значительную часть своих сил на весьма буржуазные заботы о выгодных браках своих детей и увеличении огромных личных состояний орлеанских принцев. Он старался не нарушать положений Хартии в том виде, который она имела после правки в 1830–1831 г., но был решительно против любых предложений, расширявших те малые свободы, которые она давала французам. Он знал, что другие великие государства смотрели на него недоверчиво, если не враждебно. Поэтому он старательно отвергал все предложения французских либералов оказать дипломатическую и военную помощь революционерам, сражавшимся в других странах. В личной жизни он был добродетельным и достойным человеком, но в государственной деятельности никогда не был творцом и ошибочно считал, что если будет стараться нравиться лишь одной, но влиятельной части народа, то может избежать необходимости умиротворять остальные. Эта иллюзия стала в конечном счете причиной его крушения.
В Хартии было несколько статей, изменения которых в 1830 г. требовали даже самые умеренные либералы. Республиканцы, разумеется, желали, чтобы голосование было всеобщим. Ответ, который они получили, сводился к тому, что они должны удовольствоваться возвращением любимого трехцветного флага и очень незначительным увеличением числа избирателей. Новый закон 1831 г. отменил предоставление двух голосов очень богатым гражданам. Минимальный возраст избирателей был понижен до двадцати пяти лет, а налоговый ценз снижен с 300 до 200 франков (40 долларов). Людям некоторых профессий – адвокатам, судьям, профессорам, врачам – было разрешено голосовать, если они платили всего 100 франков. Чтобы стать кандидатом в палату депутатов, человек должен был платить 500 франков налога, а не 1000, как раньше. Эти меры увеличили число избирателей до примерно 190 тысяч человек из 30 миллионов населения страны. Вскоре эти 190 тысяч получили гордое название, оскорбительное для остального народа: их стали называть Pays légale – «законная страна», словно остальные их сограждане ничего не значили!
Чтобы защитить эту аристократию богатства, новые власти страны начали преобразовывать Национальную гвардию в действительно грозную военную силу – но не для защиты границ страны от нового вторжения пруссаков или австрийцев, а для защиты Июльской монархии от нападения радикалов. Власти старательно заботились о том, чтобы в их новые «легионы» были приняты на службу только надежные люди из буржуазных семей. И бойцы реорганизованного ополчения действительно почувствовали, что их служба не синекура. Им пришлось бороться с мощными бунтами и даже восстаниями. В первые годы правления Луи-Филиппа больше 2 тысяч гвардейцев были убиты или ранены в боях с мятежниками. Короче говоря, Национальная гвардия была опорой орлеанского режима. Конституционная монархия сохраняла свои позиции, пока гвардейцы были ей верны. А в 1848 г., когда гвардия покинула Луи-Филиппа, он быстро оказался в изгнании.
Итак, теперь во Франции почти сформировалась грозная монархия с полным единовластием короля, но «переодетая в одежду буржуа». Когда-то Цезарь Август, обманывая своих соотечественников-римлян, называл себя не царем, а первым гражданином, чтобы скрыть истинный характер своей власти. Так и Луи-Филипп велел стереть королевские лилии со стенок своих карет, а в приемные дни открывал двери своего дворца почти для всех прилично одетых граждан, которые давали себе труд прийти и обменяться рукопожатиями с главой государства. Но подлинный принцип деятельности его правительства сформулировал в своей речи его премьер-министр Казимир-Перье: «Франция пожелала, чтобы монархия стала народной, но не желает, чтобы она стала бессильной».
Ни один из недавних периодов французской истории не был так беден на яркие события, как царствование Луи-Филиппа (1830–1848). Больших войн не было, если не считать колониальные завоевательные войны в Алжире, о которых будет рассказано позже. Не было крупных правительственных кризисов и ни одной крупной политической реформы. Церковь теперь расплачивалась за «союз Алтаря и Трона», которым она так гордилась при Карле Х. Ее служителей не преследовали, католическая вера осталась государственной религией Франции, однако новое правительство ясно дало почувствовать церковной партии, что не имеет больших обязательств перед ней и любит ее меньше, чем любило прежнее. С другой стороны, республиканцы, которые отважно, хотя и недисциплинированно сражались на баррикадах и без которых свержение Бурбонов было бы невозможным, вскоре рассердились и захотели мстить. Они мечтали о каком-то виде возврата к славным дням 1792–1794 гг. И вот, полюбуйтесь: новые правители Франции почти не придерживаются даже самых основных завоеваний 1789 г.! В результате рабочие твердо решили довести до конца дело, брошенное в 1830 г., и подняли одно за другим несколько восстаний. В 1832 г. в Париже два дня шли ожесточенные уличные бои, а еще раньше, в 1831 г., в Лионе рабочие шелковых фабрик, недовольные слишком низкой зарплатой, подняли восстание. Мятеж в городе продолжался пять дней, и, чтобы подавить его, понадобились серьезные усилия армии.
Эти вспышки должны были бы стать для Луи-Филиппа и его «либеральных» министров предупреждением о том, что им нужно всерьез попытаться умиротворить низшие слои общества, увеличив число избирателей и приняв законы, которые бы улучшили экономическое положение промышленных рабочих. Однако король и министры если и приняли какие-то заметные меры, то лишь в области репрессий. Суды были завалены исками против республиканских газет. Газета «Трибюн» (главный печатный орган радикалов) получила 111 исков и по их совокупности приговорена к уплате 157 тысяч франков (31 400 долларов). Ненависть к королю усиливалась. С 1835 по 1846 г. его пытались убить шесть раз. Покушение в 1835 г. было особенно жестоким. Корсиканец по фамилии Фиески изготовил «адскую машину» из ста ружейных стволов и выстрелил из них всех одновременно по королю, когда тот вместе со свитой ехал верхом на коне по одной из парижских улиц. Луи-Филипп и его сыновья уцелели, но двенадцать других людей погибли. Ответом на такое покушение, разумеется, стало ужесточение репрессий. Были созданы специальные суды для рассмотрения дел преступников, угрожающих безопасности государства. Чтобы осудить обвиняемого, было достаточно простого большинства голосов присяжных – семи голосов из двенадцати[227]. Для прессы были предусмотрены тяжелые наказания за любую «невоздержанность» – например, за публикацию списка присяжных (что было запрещено). Если газету штрафовали, тем, кто сочувствовал ее редактору, запрещалось собирать деньги по подписке для уплаты этого штрафа.
Казалось, что теперь во Франции было так же мало настоящей свободы, как в лучшие дни партии ультра. Поэтому Луи-Филипп подвергался жесточайшей критике с обеих сторон. Друзья церкви и прежних Бурбонов (с которыми по-прежнему приходилось считаться), разумеется, терпеть его не могли и теперь вступили в совершенно противоестественный союз с республиканцами. Это недовольство продолжало усиливаться вплоть до нового революционного взрыва, который произошел в 1848 г.
Единственным слоем общества, с которым король был в хороших отношениях, оставались его вернейшие сторонники – крупная буржуазия. Это было время биржевых спекуляций и расширения коммерческих предприятий. Франция процветала, хотя ее ремесленники и не получали справедливую долю в этом процветании.
Богатство создало многочисленный слой выскочек с большими претензиями, которым была очень по душе атмосфера, преобладавшая тогда в Париже. Тьер и Гизо, самые выдающиеся министры Луи-Филиппа, были только горячими защитниками «права собственности». В романах Бальзака, которые были написаны в это время, хорошо показана омерзительная жажда наживы, которая, как казалось, господствовала тогда в жизни французского народа. Самым священным правилом французских стяжателей того времени была поговорка «честность – лучшая политика», и часто было похоже, что они охотнее простят человеку убийство, чем банкротство. Дюма-отец менее мрачными красками и в более романтическом стиле рассказал в своем «Графе Монте-Кристо» кое-что о тогдашнем «высшем обществе». У него показаны крупные финансисты, которые, когда думают, считают на миллионы; грубая драка за богатство, которое становится ключом к могуществу; поддельные аристократы, которые хвалятся своим знатным происхождением, а сами скрывают совсем недавнюю постыдную семейную тайну; и готовность всех – великих и малых – гнуться перед любым авантюристом, если им кажется, что у него есть большой кредит в банке. Казалось, что народ, который дал миру богословское учение Кальвина, философию Руссо и героический идеализм жирондистов, теперь пропитался духом бесславного торгашества и поставил богатство выше воспитанности, ума и религии. Это было неверно в отношении всего народа, но нет сомнения, что это было верно в отношении тех людей, которые, как казалось, руководили политикой Франции в те короткие восемнадцать лет.
Луи-Филипп избежал одной ошибки: хотя он достаточно жестко контролировал правительство, он не пытался обойтись без настоящих министров. Наоборот, он хвалился тем, что, используя компетентных администраторов, укрепил свою власть и в то же время удовлетворил «законную страну». Он был вынужден несколько раз подряд назначать премьер-министром Тьера, одного из тех либералов, которым он в значительной степени был обязан тем, что взошел на трон в 1830 г. Однако Тьер был недостаточно покорным: он считал, что король должен выбирать министров среди членов партии, которая преобладает в палате, а потом пусть король позволяет им управлять страной, как они пожелают, пока они не утратят доверие депутатов. Но для Луи-Филиппа это было уж слишком «конституционно». Он желал выбирать своих министров и лично определять политику, которой они должны придерживаться, а им оставить только улаживание разногласий с палатой, чтобы она с радостью утверждала предложенные ей проекты.
Тьер был очень талантливым человеком, и до 1840 г. король несколько раз призывал его во власть потому, что не мог найти никого другого, кто был бы способен вести дела с палатой. Но в 1840 г. случился кризис во внешней политике страны. Англия, Австрия и Россия вмешивались в дела Египта, и наместник этой страны, Мехмет-Али, попросил защиты у Франции. Тьер настойчиво заявлял, что Франция должна вести воинственную политику: чтобы отстоять интересы своей страны на Ближнем Востоке, он был готов рискнуть даже на войну против Англии. Но Луи-Филипп ясно понимал, что его любимые буржуа меньше всего желают большой войны. В лучшем для них случае война прекратит спекуляции и выплату дивидендов. В худшем случае во Францию войдут войска новой коалиции. Король уволил Тьера с должности, заставил себя забыть про национальную гордость французов и назначил премьер-министром Гизо (тоже либерала, который отличился в 1830 г.), и тот решил кризис, постыдно отказавшись от претензий Франции в Египте. Король наконец-то нашел себе помощника, который был ему по душе. Гизо и Луи-Филипп работали вместе в тесном содружестве с 1840 до 1848 г., когда им внезапно и одновременно пришлось отправиться в изгнание.
Тьер до своего ухода из власти исполнил – разумеется, получив на это искреннее согласие короля – одно дело, которое имело большие последствия. С 1815 г. легенда о Наполеоне разрасталась и покоряла воображение подраставших поколений французов. Корсиканец был уже не безжалостным «чудовищем», забиравшим юношей в солдаты, а несравненным защитником Франции от ее давних врагов, героем Лоди, Йены и Москвы. Тьер своим литературным трудом сам внес большой вклад в эту посмертную реабилитацию императора[228]: министр уже тогда был не только одним из самых знаменитых политиков Франции, но и входил в число ее самых знаменитых историков.
Наполеон в своем завещании пожелал быть похороненным на берегах Сены, как он написал, «среди французского народа, который я так горячо любил». В 1840 г. правительство Франции отправило на остров Святой Елены фрегат, который привез домой гроб императора. И третий сын Луи-Филиппа, князь де Жуанвиль, почтил знаменитого покойника тем, что сам командовал этим кораблем. В декабре 1840 г. парижане с неумеренным восторгом восхищались самыми великолепными государственными похоронами за всю историю столицы. Когда катафалк проезжал под Триумфальной аркой, снова раздался прежний возглас: «Да здравствует император!» Ветераны великого полководца, которых было много в толпе, заплакали. И похоронная процессия продолжала путь к Дому инвалидов.
Луи-Филипп
Наполеон III
Адольф Тьер
Леон Гамбетта
С политической точки зрения эти похороны, несомненно, были грубой ошибкой. Они, видимо, возродили и усилили легенду о Наполеоне – зревшую в сердцах слишком многих французов веру, что император был настоящим патриотом и был свергнут лишь потому, что защищал честь и свободу французского народа. Меньше чем через десять лет друзья Июльской монархии, находясь в изгнании, жалели, что устроили этот праздник, но в 1840 г. он казался достаточно безвредным. Если Луи-Филиппу и угрожала опасность, то казалось, что ее источники – старые Бурбоны и новые республиканцы. Вождем бонапартистов был некий Луи-Наполеон, сын бывшего «короля Голландии». Этого претендента считали очень непрактичным авантюристом. В 1836 г. он пытался устроить флибустьерский налет на Страсбург, и эта попытка закончилась смешной неудачей. В 1840 г. он незадолго до похоронной процессии попытался напасть на Булонь. Этот рейд закончился еще более смешной неудачей, и теперь Луи-Наполеон сидел в тюрьме под надежной охраной. У короля и его министров были более опасные враги, которых стоило бояться.
До 1840 г. Луи-Филипп за десять лет правления сменил десять премьер-министров, теперь в течение восьми лет у него будет только один премьер – Франсуа Гизо. Это был искренний монархист, который однажды сказал: «Трон – не пустое кресло». Гизо был родом из города Ним в Южной Франции. Он родился в протестантской семье в то время, когда протестантов не преследовали по закону, но все же не любили в обществе. Будущий премьер был преподавателем современной истории в Парижском университете[229], но в 1822 г. министры-ультра посчитали его лекции «слишком либеральными» и уволили его. С этого времени и до 1830 г. он был одним из главных защитников конституционализма от реакции. Вполне можно было ожидать, что Гизо станет защищать прогрессивный режим «короля-гражданина», но он этого не сделал. Как до 1830 г. он был против всего, что давало меньше свободы, чем Хартия, так после 1830 г. он был против любого, даже малейшего расширения записанных в ней очень ограниченных «свобод». Для него конституционализм означал правление крупной буржуазии – единственной части французского народа, которая была образованной, но не зараженной средневековыми предрассудками. Со всем упорством кальвиниста он желал лишь одного – поставить свои способности на службу Луи-Филиппу. Вначале его проверили на менее крупных должностях, и вот теперь назначили премьер-министром. Король был в восторге от Гизо и однажды сказал: «Он – мой рот!»
Последний период Июльской монархии был совершенно лишен каких-либо событий. У правительства не было никакой программы – ни реформаторской, ни даже откровенно реакционной. Оно заботилось только о постоянном процветании королевской династии и любимых королем слоев общества. Крупных войн не было (за исключением военных действий в Алжире). Гизо терпел, когда о нем в насмешку говорили, что в политике он стоит «за мир любой ценой». Луи-Филипп продолжал играть роль «короля-гражданина», хотя после покушения Фиески в 1835 г. уже не осмеливался ходить по парижским улицам, а выезжая из дворца в карете, сидел спиной к лошадям, потому что так был менее заметной целью для убийц. Утверждают, что в него стреляли тринадцать раз. Надо признать, что король, которого могли убить в любой момент, мужественно встречал эту опасность. Но похоже, что он никогда не пытался сделать свою жизнь безопаснее, примирив общественное мнение с либеральными реформами[230].
Блестящий оратор Ламартин точно охарактеризовал сложившуюся тогда ситуацию. Он сказал о Гизо и его повелителе: «Только каменный столб смог бы вынести их политику!» Другой протестующий депутат в 1847 г. крикнул: «Что они сделали за семь лет? Ничего, ничего, ничего!» На всю эту критику Гизо спокойно отвечал, что его цель – «удовлетворить основную массу народа – спокойных и разумных граждан», а не «ограниченное количество фанатиков», которые больны «манией нововведений».
И все же это был исключительно конституционный режим. Министр и король могли сказать, что строго соблюдают букву Хартии. Гизо не только получил большинство в палате в 1840 г., это большинство увеличилось во время выборов 1842 и 1846 гг. А потому мог ли кто-нибудь честно сказать, что правительство своей политикой бросает вызов общественному мнению? На самом же деле министры, проявив изумительную ловкость, скрепили себя прочными связями с «законной страной». Избирателей было так мало, что правительство могло предложить непосредственно той их части, от которой зависел исход голосования, какие-то выгоды за то, что она выберет депутатов, которые придутся по душе «королю-гражданину». Читатели, знакомые с теми методами, которые в Англии XVIII в. применял Уолпол, чтобы сохранить за собой большинство в палате общин, имеют очень точное представление о методах Гизо. Среднестатистическая «коллегия выборщиков» включала в себя так много государственных служащих (которые занимали свои должности благодаря доброй воле министерства), что правительство могло рассчитывать на значительное число верных друзей в каждом округе. Мелкие правительственные подачки – например, помощь в получении лицензии на продажу табака, предоставление возможностей для выгодных спекуляций при прокладке новых железных дорог и даже предоставление в дар контрактов и т. д. – все это обеспечивало правительству голоса еще какого-то числа колеблющихся. После того как депутат был избран, ему везло, если Гизо не очень скоро связывал его по рукам и ногам. Члены палаты не получали платы за свой труд. Правительство предоставляло им все возможности для получения железнодорожных франшиз и, что еще хуже, официальных должностей. Вскоре примерно двести депутатов, то есть примерно половина палаты, имели правительственные должности и получали правительственную зарплату. Разумеется, они совершенно не желали потерять ее, проголосовав не так, как нравилось правительству, или произнеся недружественную речь. Таким образом, коррупция (это слово произносилось почти открыто) стала нормальной системой управления страной. Многочисленные скандалы, о которых стало известно в 1848 г., стали достаточным доказательством того, что этой системой пользовались не только подчиненные строгого и аскетичного премьер-министра, но и он сам. «Что такое палата? – крикнул один депутат в 1841 г. – Это большой базар, где каждый продает свою совесть или то, что считается его совестью, в обмен на место или должность».
Правда, существовала и оппозиция, противостоявшая премьер-министру. Она давала выход своим чувствам в протестах против бездействия Гизо во внешней политике и в требованиях провести избирательную реформу. Но это было лишь бессильное меньшинство. Часть протестов исходила от искренних либералов, которые желали упорядоченной республики или хотя бы монархии с намного бо́льшими правами для народа, чем он имел при короле-гражданине. Однако зарождалась и другая протестующая партия, которая желала не только политических, но и экономических реформ. Французская промышленность развивалась. Размеры фабрик увеличивались. Паровые двигатели и новые машины вытесняли ручной труд[231]. Условия труда были плохими, рабочий день длинным, зарплата мизерной, а потому у рабочих было много законных поводов жаловаться. Буржуазная администрация в ответ на растущее недовольство рабочего класса ответила всего несколькими уступками и не осуществила почти ни одной умной реформы, зато провела много репрессий. Если улучшить условия труда, это означало бы, что крупные промышленники, верные сторонники Гизо, будут, по крайней мере сейчас, получать меньше дивидендов.
Было хорошо известно, что в рабочих кварталах Парижа много рассуждают о социалистических теориях. Известно было и о том, что Луи Блан, очень умный писатель и мыслитель, стоял за демократическую республику и более того – говорил о необходимости создать «национальные мастерские», которые принадлежали бы государству, управлялись занятыми в них рабочими и подавили бы или, по меньшей мере, постепенно заменили все частные промышленные предприятия. Уже в 1842 г. немец Штейн, наблюдатель с острым взглядом, утверждал: «Время чисто политических движений во Франции прошло. Следующая революция неизбежно будет социальной».
Король, первый министр и буржуазия не обращали ни малейшего внимания на все это. На требование увеличить число обладателей права голоса Гизо ответил с высокомерным презрением: «Работайте и становитесь богатыми! Тогда вы получите право голоса!» Однако вся его политика практически не давала среднему французу даже надежды на то, чтобы «стать богатым»[232].
Правда, Июльская монархия осуществила несколько желанных перемен. Некоторые из ужасно суровых законов ее уголовного права были изменены. Была сделана честная попытка создать лучшие начальные школы. До этого времени начальное образование для детей бедняков во многих коммунах было просто пародией на обучение. Теперь правительство требовало от коммун не просто назначить для школы учителя, но и обеспечить его жильем, помещением для школы и фиксированной зарплатой. Однако эти начальные школы не были полностью бесплатными, поэтому к ним все же относились с большим скептицизмом. Прошло много времени, прежде чем система школьного образования во Франции получила достаточно прочный фундамент.
Таким образом, Июльская монархия в основном была временем обманов, непродуктивности и растущего недовольства. Тем не менее в дни правления Луи-Филиппа произошла одна великая перемена, которая оказала мощное влияние на будущее Франции, а также, можно сказать, и на будущее других народов, в первую очередь тех, которые населяют великий Африканский континент.
В 1815 г. Франция владела всего одним плацдармом на Африканской земле – маленькой торговой факторией в Сенегале.
В 1914 г. она владела почти третьей частью всего Африканского континента. Приобретение этих земель было одной из самых великих и героических колониальных экспансий в мире. И основы этого поразительного успеха были заложены бесславными во всем остальном монархами – Карлом Х и Луи-Филиппом.
Алжир, одно из североафриканских магометанских государств, граничил с Тунисом на востоке и Марокко на западе. С тех пор как арабы в VII в. захватили эту страну, уничтожив в ней остатки римской и византийской государственности, она вернулась в полуварварское состояние. Мавры, коренные жители этих мест, полностью исламизировались, и, став мусульманской, эта страна, которая когда-то дала христианскому миру святого Августина, была так же потеряна для прогресса, как если бы опустилась на дно моря. Ее верховный правитель носил титул «дей» и считался вассалом турецкого султана. Но дей лишь именовался правителем: его власть над населявшими внутренние области страны племенами арабов и берберов была очень слабой. Эта власть становилась еще слабее по другую сторону Атласских гор, где земли Алжира сливались с бескрайними песками Сахары. Однако при хорошем управлении Алжир мог быть очень плодородной страной. Это была одна из самых многообещающих территорий, еще не захваченных европейцами.
В 1815 г. главный город этой страны, который тоже называется Алжир, еще был столицей беззаконного пиратского государства, чьи корабли были грозой Средиземного моря. Большинство американцев знают, что в 1815 г. Соединенные Штаты объявили войну алжирскому дею и послали против него эскадру под командованием коммодора Декейтера, которая отомстила за ущерб, нанесенный алжирскими корсарами американской торговле, и вынудила их дать обещание в дальнейшем вести себя смирно. В 1816 и 1819 гг. англичане тоже продемонстрировали свою силу дею, но он не сделал практически ничего. Восточные люди легко нарушают свои обещания, а предводители алжирских пиратов были безответственными и неисправимыми людьми. Однако в 1827 г. между Францией и деем Хусейном возникли разногласия по поводу коммерческих дел. Во время обсуждения спорных вопросов алжирский деспот не выдержал и ударил французского консула по лицу мухобойкой. Этим он открыто оскорбил правительство Карла Х. Оставить оскорбление безнаказанным было нельзя, если французы не желали полностью утратить свой престиж перед восточными народами, французские корабли блокировали гавань города Алжира. В 1829 г. корсары нанесли еще одно оскорбление – обстреляли французское судно, на котором был поднят флаг перемирия. Теперь парижское правительство было вынуждено перейти к решительным действиям.
В страну Алжир была послана регулярная экспедиционная армия, дей был атакован с суши и с моря, и 5 июля 1830 г. город Алжир сдался. Это случилось почти в те же дни, когда произошла Июльская революция, так что победа пришла слишком поздно и не успела укрепить престиж терявших власть Бурбонов. Перед Луи-Филиппом встал вопрос: продолжать завоевательную войну или срочно уходить из арабской страны. Вскоре во Франции образовались две партии. Большинство членов палат желали оставить страну Алжир в покое. Для среднего буржуазного избирателя эта страна казалась очень далекой. Он считал, что возможностей для коммерции там мало, зато был твердо уверен, что туда будет утекать много денег, полученных с налогоплательщиков. Однако народ в целом явно был за продолжение прекрасно начатой войны. Июльская монархия проявила характерную для нее медлительность: она решила только захватить главные алжирские порты и «ждать дальнейших событий». Однако местные жители сами создали «дальнейшие события» – совершили несколько мощных атак на французские войска. Французам пришлось пойти в наступление, чтобы отомстить за эти налеты.
Тем не менее французы долгое время владели только побережьем Алжира. Несколько лет их гарнизоны были только в городах Алжир, Оран и Бона, хотя французы пытались вступить в переговоры с беями – правителями внутренних областей страны (раньше эти правители были зависимыми от дея) и убедить их отдаться под защиту Франции. Но, пока эти переговоры только начинались, мавры уже нашли себе грозного вождя – эмира Абд аль-Кадира. Это был «человек редкого ума, бесстрашный всадник и красноречивый оратор». Этот доблестный вождь, поистине новый Югурта своей страны, которая в древности называлась Нумидия, объединил разрозненные племена под своей властью и в течение пятнадцати лет сражался практически на равных против всех войск, которые Франция могла направить в Африку.
Вывод французских войск из Алжира, когда против них действовал такой противник, стал бы для Луи-Филиппа ударом по престижу королевского правительства и во всем Леванте, и в самой Франции. Это стало еще более верным после 1835 г., когда эмир нанес поражение генералу Трезелю в настоящей битве на берегах реки Макты. В дальнейшем Абд аль-Кадир вел войну так успешно, что в 1837 г. французы были вынуждены заключить с ним договор, по которому он получал в свое непосредственное управление весь запад Алжира в обмен на то, что в расплывчатых выражениях признал «верховную власть Франции». Но эмир смотрел на это соглашение лишь как на перемирие, необходимое для подготовки к полномасштабному джихаду (священной войне). Свою огромную энергию он тратил на создание грозной армии, частично организованной по европейскому образцу, в которой была не только полевая, но и осадная артиллерия. Утверждали, что эмир имел 50 тысяч конницы и еще больше пехоты. В стратегически важных местах он подготовил арсеналы, пороховые и пушечные заводы и станции для доставки продовольствия. В 1839 г. он решил, что все готово, нарушил перемирие, атаковал французов и дошел до самых ворот города Алжира. Армия эмира сжигала фермы и убивала несчастных французских колонистов, попадавших ей в руки.
Теперь Луи-Филиппу оставалось лишь одно – послать в Алжир действительно грозную армию. Чтобы исправить явно очень сложную военную ситуацию, генерал Бужо получил сначала 80 тысяч человек, затем их число было увеличено до 115 тысяч. Он сознательно изменил систему ведения войны в Африке. Раньше французские завоеватели удерживали только города на побережье, но не пытались овладеть внутренней частью страны. Бужо дал солдатам более легкое снаряжение, применял малогабаритные орудия, которые можно было перевозить на мулах, и увеличил число свои быстрых и легко передвигавшихся колонн. Следуя своей политике «решительного наступления», Бужо перенес боевые действия в западную область Оран, откуда Абд аль-Кадир получал основную часть своих ресурсов. Генерал захватил по одному укрепления и склады эмира и к 1843 г. изгнал своего противника с остатками его армии в Марокко. Но на этом война не закончилась. Исламские фанатики сделали величайшее усилие. Аскет и проповедник по имени Бу-Маза (что значит «Козий пастух») снова призвал верующих к оружию, и Абд аль-Кадир вернулся в Алжир. Но к этому времени берберы и другие мавританские народности этой страны успели разделиться на партии. И одна сильная партия стала считать правление французов меньшим злом по сравнению с деспотизмом эмира. Кончилось это тем, что в 1847 г. Абд аль-Кадир сдался герцогу д’Омалю, одному из сыновей Луи-Филиппа (Бужо незадолго до этого ушел в отставку), и период завоевания закончился[233].
Но и после этого у французов, разумеется, были трудности в Алжире: чтобы управлять воинственными и фанатичными племенами гор и пустыни, нужно много твердости и очень много такта. В 1864 г. произошел стихийный бунт. Еще одно восстание, на этот раз, несомненно, крупное, было в 1871 г., когда престиж Франции повсюду упал после поражения, которое она потерпела от Германии. Беспокойные мавры поверили, что могущество французов сломлено, но узнали на собственном горьком опыте, что французы по-прежнему в состоянии сражаться. Правда, борьба французов за то, чтобы укрепить в Алжире авторитет европейцев, когда правительство Франции едва справлялось с множеством более насущных проблем, оказалась тяжелой.
К 1890 г. власть французов в Алжире была уже такой прочной, что они предприняли попытку установить связь через Сахару с Сенегалом и с расширявшимся французским торговым поселением в обширной области на реке Нигер. Наконец в 1914 г. отношения между европейцами и алжирцами стали такими доверительными, что Франция смогла не только вывести из этой страны значительную часть своих оккупационных войск и в критический момент использовать их против Германии, но и набрать в свою армию десятки тысяч берберов. Потом эти пылкие алжирцы доблестно и верно сражались за свободу всего мира на полях Пикардии и Шампани.
Абд аль-Кадир сдался французам почти ровно за два месяца до падения Луи-Филиппа. Июльская монархия до самого своего конца выглядела процветающей и надменной, но внезапность ее падения показывает, насколько прогнила ее основа. Правда, ее престиж и популярность сильно пострадали из-за знаменитых «испанских свадеб», в истории с которыми король ясно показал, что готов ставить интересы своей семьи выше даже интересов всей Франции[234]. Хотя многие проницательные и расчетливые наблюдатели уже несколько лет предсказывали падение Луи-Филиппа. Меттерних, который (при всей своей ограниченности) не был дураком, сказал в начале царствования Луи-Филиппа, что власть семьи Орлеан не основана ни на воодушевлении народа, на авторитете всенародного голосования, на славе, как у Наполеона; ни на решении «законной» династии. «Она держится лишь волей случая!» Этот режим продержался так долго главным образом из-за врожденного консерватизма народных масс за пределами Парижа, корыстного здравомыслия буржуазных политиков короля, мира во всей Европе и в значительной степени просто благодаря везению. В феврале 1848 г. везению внезапно настал конец.
Год за годом все громче звучали требования провести реформы – в первую очередь избирательную. Даже при тогдашнем очень ограниченном праве голоса в палате было немало протестов, а вне стен палаты протестов было еще больше. В 1847 г. начался ряд «банкетов в честь реформ». Они служили заменой парадов и обычных общественных собраний, которые правительство решительно не одобряло. Часто участники этих банкетов заявляли, что верны королю и всего лишь желают, чтобы было увеличено число обладателей права голосовать. Но иногда агитаторы желали большего.
Начались «республиканские банкеты», на которых право монархии на существование как минимум подвергали сомнению посредством намеков. Ничего не делалось, чтобы удовлетворить требования умеренных, поэтому неудивительно, что на первый план вышли радикалы. Нельзя отрицать, что избирательное право в его тогдашнем виде превращало палату в «клуб капиталистов», и, когда против нее были выдвинуты обвинения в коррупции, Гизо был настолько задет ими, что спросил у тех, кого сам же назначил депутатами, чувствуют ли они себя коррупционерами? Ламартин коротко и с изумительной точностью подвел всем этим событиям итог, сказав: «Франции это надоело».
Вот как звучит короткий рассказ о падении Июльской монархии, если исключить из него живописные эпизоды чисто личного характера. Все началось с того, что 22 февраля 1848 г. депутаты-оппозиционеры решили организовать большой банкет протеста против правительственной политики ничегонеделания. Власти сделали глупость: они запретили этот банкет. Его устроители мирно отказались от своего намерения, однако не успели вовремя распространить известие о его отмене. Начались волнения. Можно было ожидать, что они перерастут в уличные стычки, и, действительно, 22-го числа многие парижане вышли на улицы. Вскоре самые беспокойные из них уже кричали: «Ура реформам!» Весь день происходили мелкие бунты, были разграблены несколько оружейных магазинов, но казалось, что полиция держит ситуацию под контролем.
Вожди политического движения радикалов посчитали, что начавшееся возмущение не обещает им удачи, а потому не призвали своих сторонников взяться за оружие. Однако утром 23 февраля не связанные ни с одной партией отряды рабочих начали строить баррикады. В ответ правительство вызвало Национальную гвардию. Однако и гвардии, хотя она была «буржуазной», опротивело министерство. Многие гвардейцы тоже начали громко кричать «Ура реформам!» и часто добавляли: «Долой Гизо!» Измена гвардейцев заставила отступить ранее решительно настроенных короля и премьера. Гизо подал в отставку, и начались разговоры о том, что новое министерство будет «министерством реформ» и что начнется истинное обновление конституции. За что еще сражаться? В этот вечер все респектабельные парижане из среднего класса зажгли свет в своих домах, а позже спокойно легли спать: победа была одержана, и казалось, что переворот закончился.
Но для радикальных республиканцев переворот не закончился. Они понимали, что у них никогда уже не будет момента удачнее, чем этот: на улицах еще стоят баррикады, оружие по-прежнему в руках у промышленных рабочих. Перед зданием министерства иностранных дел полиция обстреляла отряд противников монархии. Радикалы положили на телегу несколько мертвых тел и торжественно провезли их при свете факелов через ремесленные кварталы, призывая народ к оружию. Монархия убивала народ, пусть же теперь народ прогонит монархию! И 24-го числа народ кричал уже не о реформах. Он кричал: «Да здравствует республика!»
Теперь Луи-Филипп делал одну уступку за другой, но все было напрасно. Как и в 1830 г., солдаты не проявили большой отваги, сражаясь за непопулярное правительство. Восточные кварталы города вскоре оказались в руках у восставших. Везде были развешаны их плакаты: «Луи-Филипп убивает нас, как убивал Карл Х. Отправим его туда же, куда отправили Карла Х». Король, несмотря на свой пожилой возраст, очень энергично убеждал Национальную гвардию сопротивляться радикалам, но, услышав в ответ из ее рядов нестройные крики, вернулся, разочарованный, в Тюильри и отрекся в пользу своего внука, графа Парижского. При популярном регенте для этого мальчика династия могла бы уцелеть.
Но такие хитрости в последний час не смогли спасти орлеанистов. В 4:30 пополудни этого бурного дня 24 февраля толпа ворвалась в Тюильри. В это время палата провозгласила малолетнего графа Парижского королем. Этот мальчик «царствовал» лишь несколько минут. Толпа хлынула в зал. Депутаты-республиканцы быстро взяли ситуацию в свои руки и провозгласили временное правительство. Оно должно было править Францией до выборов постоянного исполнительного органа, более соответствующего правилам. Последние остатки королевской власти исчезли. В ратуше еще более радикальные «демократические республиканцы» провозгласили другое новое правительство, но вскоре две республиканские фракции заключили компромиссное соглашение, по которому консервативные республиканцы получили большинство министерских портфелей, а лидеры радикалов – посты секретарей при многих министрах[235]. На следующий день новые временные правители страны объявили, что «во Франции установлено республиканское правление». Еще через несколько дней они распорядились созвать Национальное собрание для разработки новой конституции. А принцы из семейства Орлеан в это время не слишком героически убегали из страны через Ла-Манш, чтобы присоединиться к своим бурбонским родственникам в печальном и скучном изгнании.
Луи-Филипп умер от старости в Англии в 1850 г. Он не был ни подлецом, ни дураком, но своим эгоизмом, своекорыстием и упрямством он отнял у Франции последнюю возможность стать мирной и счастливой страной с демократическим правлением при наследственном президенте, как в Англии. Понятно и без слов, что он до конца своей жизни смотрел на дела своих соотечественников с горечью и печалью. Одному гостю, посетившему его в изгнании, он сказал: «Возможно все. Во Франции возможно все – империя, республика, Шамбор [претендент на трон из семьи Бурбонов] или мой внук; невозможно лишь одно – чтобы кто-нибудь из них продержался долго. Этот народ убил уважение»[236].
Это было, конечно, неверное и слишком суровое суждение. Но совершенно верно было другое: малая часть жителей Парижа подняла восстание, свергла правительство и посадила на его место другое, даже не попытавшись узнать, какой реформированный режим больше всего понравится остальной Франции. Департаменты узнали о новой революции, когда дело было уже сделано, и сначала словно оцепенели: с ними никто не советовался, они не были готовы к ней и не были организованы для быстрых действий. Но вскоре развитие событий показало, какая широкая пропасть отделяет буйные пригороды от солидного консервативного крестьянства.
Очень компетентный судья (Жюль Симон)[237] коротко характеризует революцию 1848 г. в таких словах: «Агитация, начатая несколькими либералами, привела к установлению республики, которой они боялись; и в последний момент всеобщее голосование, установленное несколькими либералами, привело к улучшению позиций социализма, который они ненавидели».
Некоторые стороны жизни Франции при реставрированной монархии (1814–1848)
Хотя эта книга посвящена главным образом политической истории Франции, степень развитости некоторых сторон жизни этой страны, развитие условий жизни в Париже и т. д. имеют для нас большое значение как примеры условий, сделавших возможными политические события 1814–1848 гг.
Революции 1830 и 1848 гг. были в значительной степени делом рук парижан, и поэтому, чтобы их понять, совершенно необходимо хотя бы немного понимать, каким тогда было положение в столице. Состояние французского общества в этот период отражает общую ситуацию в стране – переход от эпохи тарого режима к современной Франции, которую мы видим сегодня. И как любая переходная эпоха в жизни общества, этот период состоял из нескольких этапов, которые нужно учитывать в обычной истории[238].
Французское общество никогда не выглядело более рафинированным, чем в этот период, когда на него наложили отпечаток дворяне, получившие выгоду от своих недавних несчастий, и буржуа, никогда не забывавшие свою привычку к холодной сдержанности. Однако теперь существовали политические разногласия, в результате которых возникли минимум две политические партии; поэтому единого высшего общества, как во Франции XVIII в., теперь не было. Были, с одной стороны, салоны роялистов, с другой стороны, салоны либералов. Когда в квартале Шоссе д’Антен[239] и предместье Сент-Оноре[240] устраивали приемы и веселые праздники, можно было уверенно сделать вывод, что в Сен-Жерменском предместье[241] царит печаль и его обитатели не интересуются списками гостей, приглашенных на ближайшие празднества.
Однако и роялисты, и либералы одинаково предпочитали неброскую элегантность, испытывали огромное наслаждение от жизни салонов и наслаждались обществом элегантных женщин. Возродилось прежнее французское искусство вести беседу, характерными чертами которого были почтение к собеседнику, оживленность и любезность. Благородство манер и этикет, характерные для этих кругов, в сущности, исчезли навсегда, когда это общество стало угасать после 1848 г. В салонах 1820 и 1840 гг. снова звучали прежние остроумные разговоры с их сложным построением, умными и находчивыми ответами, с их шутками и остротами. Возродились даже мадригалы и другие преувеличенные поэтические похвалы, характерные для старого режима. Говорили о политике, философии, искусстве, но так же, как было перед революцией, гораздо меньше внимания уделяли естественным наукам, поскольку французы интересовались в первую очередь литературой. Драмы Виктора Гюго, картины Энгра и Делакруа, лирическая музыка Мейербера и Берлиоза занимали в разговорах значительно больше места, чем открытия Ампера в области электричества или Араго в астрономии.
Влиянию правящих классов на жизнь общества еще не угрожало влияние с противоположной стороны – от низших классов. Редко случалось, чтобы человек, претендовавший на место в обществе, позволил себе употребить в разговоре хотя бы одно жаргонное слово. Общество еще не испытало на себе и влияния задир и скандалистов из средних классов – подлинных артистов и бездарностей, пытавшихся быть артистами, литераторов и в первую очередь людей из окололитературной богемы. Идеи, манеры, художественные и литературные вкусы этих выскочек из мира литературы и знаний пока еще были для «хорошего общества» лишь темой шуток и карикатур, и назвать что-то «буржуазным» означало заклеймить это как безнадежно устаревшее.
Однако у общества были капризы. Например, около 1820 г. оно вдруг сошло с ума от стихов Байрона, от «Вертера» Гете и от «Рене» Шатобриана. Из-за этого увлечения стало модно выглядеть «разочарованным» и «уставшим от жизни». «Молодые люди, обычно обладающие прекрасным здоровьем, играли роль чахоточных». «Неземные» стихи Ламартина были популярны во многих и достаточно многочисленных кружках хрупких и словно бестелесных дам, которые, поднимая взор к небесам, «уверяли, что питаются только запахом роз».
О дворе Людовика XVIII известно очень мало: это был король с душой ученого, знаток классической литературы – короче говоря, пожилой джентльмен-горожанин, который читал наизусть Горация и произносил действительно умные шутки, но он был слаб здоровьем и к тому же страдал подагрой, а потому не любил бывать в обществе. После того как его сноха, герцогиня де Берри, после трагической гибели своего мужа перестала исполнять свои придворные обязанности, в Париже давали очень мало светских приемов. Исключением были праздники, которые устраивали герцог и герцогиня Ангулемские в своих резиденциях и граф д’Артуа, предполагаемый наследник трона, в павильоне Марсан[242], где он держал свой штат. При Карле Х количество гостей на этих приемах было ограниченно: на них допускали лишь узкий круг давних роялистов с хорошей репутацией и людей, доказавших свою верность монархии. Разумеется, при орлеанском режиме ситуация резко изменилась.
Луи-Филипп взошел на трон в результате совместных усилий народных масс Парижа и буржуазии. Верности народа он добился тем, что спел «Марсельезу» на балконе дворца Тюильри, верность буржуа заслужил тем, что охотно допускал их в свои салоны. Первые приемы, которые дал Луи-Филипп в Пале-Рояле, были очень необычным зрелищем. Этот снисходительный король позволил присутствовать на них любому аккуратно одетому человеку, и офицеры Национальной гвардии пришли из рыночных округов и из пригородов, одетые по всей форме, ведя под руку своих жен, чтобы выразить почтение «королю-гражданину».
Личные добродетели короля и королевы и неброская простота всего их домашнего хозяйства, разумеется, привели в восторг буржуа. Они обрадовались, когда король объявил, что разрешает им гулять по саду Тюильри под самыми своими окнами и для этого вход в сад будут открывать в определенные дни. Гостей провели по салонам и даже по спальням королевской четы, и, конечно, на них произвели впечатление признаки умелого управления хозяйством, которые они должны были увидеть и в общественной, и в частной жизни двора. Они с удовольствием увидели короля и высоко оценили то, что он ходил среди них со своим хорошо знакомым каждому из них зеленым зонтом, который для среднего буржуа был символом одновременно бережливости и предусмотрительности. На них произвело большое впечатление и то, что король даже в присутствии послов сам резал для себя за столом кусок птицы так же, как сделали бы они сами.
Сыновья короля получили такое же образование, как сыновья буржуа. Они учились в государственном лицее, а когда закончили обучение, в Тюильри по этому поводу был устроен прием, на который были приглашены их товарищи. И надо честно сказать, что, несмотря на все обвинения, которые выдвигали против Июльской монархии, ни одного умершего принца даже при старом режиме не оплакивали так, как герцога Орлеанского после его трагической смерти в 1842 г.
В области литературы буржуа оставили народу драмы, которые шли в театрах на парижских бульварах, и были с самого начала возмущены вторжением сочинений Гюго в Комеди Франсез. Их любимыми авторами были Скриб и Мюссе. Они были вовсе не против определенного некоторых родов веселья. Даже в лучших буржуазных домах был обычай после очень хорошего обеда оставаться за столом и петь песни Беранже, причем припев пели хором.
Высшее общество собиралось на балу-маскараде в Опере. Там все танцевали вместе, виделись с предводительницами женской части общества и учились различным приемам вежливой интриги. По мере того как увеличивалось население Парижа, эти балы теряли свою первоначальную скромность. На них приходило все больше авантюристов и незнакомцев. Устроители бала начали нанимать для выступлений профессиональных танцоров. Залом завладели буйный Мюзар с его скрипучей медной рукой, симфонией из пистолетных выстрелов и падающих стульев и бешеным галопом и Шикар в латных рукавицах и шлеме с причудливыми перьями. Респектабельные люди постепенно, один за другим, перестали ходить на эти пестрые празднества.
При Реставрации власти сохранили государственную лотерею, которая была запрещена в 1793 и возрождена в 1797 г. Она обладала огромным очарованием для людей определенного типа. Они пытались угадать выигрышные номера, увидеть их во сне, узнать их от предсказателей или ясновидящих. Существовало пять лотерейных бюро – в Париже, Бордо, Лилле, Лионе и Страсбурге. Тиражи проводились пять раз в месяц. Существовала также общест венная система азартных игр, очень популярная. В них играли в Париже под патронажем государства так же, как потом в Бадене и Монте-Карло. Но даже эта система не смогла вытеснить частные игорные дома, и в 1836 г., когда у государства был приступ борьбы за добродетель, оно запретило и частные, и общественные казино. В 1839 г. лотерея тоже была запрещена под предлогом аморальности. Было подсчитано, что эти два вида игры стоили французскому народу почти 400 миллионов франков (80 миллионов долларов) в год.
В этот период французы полностью переняли некоторые английские обычаи. Одним из важнейших и самых желательных среди них была личная гигиена. Ее правила были заимствованы после 1814 г., когда люди стали уделять чистоте своего тела больше внимания, чем в предыдущие двадцать пять лет военных кампаний, походных привалов и кочевой жизни. «Они начали использовать меньше духов и больше воды». В своих домах французы стали обращать меньше внимания на элегантность, а больше думали об удобстве и для его обозначения заимствовали у англичан английское по духу и форме слово «комфорт». Британская еда, простая и сытная, во многих случаях заменила чересчур изысканные блюда французских поваров. Даже во Франции узнали, что такое хороший бифштекс.
Сначала французы были без ума от английских тканей, английской стали и множества изящных безделушек, которые могла поставить им Англия. Эту страсть сдерживали только очень высокие таможенные пошлины. «Пальто, обувь, иглы, бритвы – в сущности, все хорошее, красивое и удобное поступало из-за Ла-Манша». На смену французскому слову «мода» пришло слово «фешен», означавшее то же самое, но по-английски. Каждый француз гордился тем, что он «фешенебельный». Люди бойко и много рассуждали о бегах, лошадях, ирландских банкетах, стипль-чезе, беговой дорожке, жокеях, стартерах и совершенно по-английски говорили о пари и букмекерах. Лошадям давали английские имена, и даже чисто французским песням – английские названия.
Вторая Реставрация вызвала сильнейшую ненависть тем, что жестоко расправилась с вождями наполеоновской армии, а к безжалостным убийцам, которые устроили резню на юге страны[243], отнеслась крайне снисходительно. Еще одной причиной для недовольства был союз роялистов с оккупантами[244].
В числе самых непримиримых противников Реставрации оказались офицеры Наполеона: их отправили в отставку, на субсидию, равную лишь половине прежнего жалованья, а ненавистных им эмигрантов, множество которых вернулось на родину вместе с монархией, государство щедро одаривало должностями в армии. Некоторые из этих несчастных офицеров во главе с генералом Лаллеманом приехали в Техас и создали там военное поселение. Оно называлось Шамдазиль («Место убежища»). Во Франции колонистов поддержали: народ собрал для них деньги по подписке (в 1819 г.). Колонию переименовали в Кантон Маренго, а ее главный город назывался Эглевиль («Город орла»). Другие отставные офицеры на половинном окладе, застегнув до самого подбородка свои рединготы и украсив шляпы розеткой или красной лентой, загнутой кверху над глазом, довольствовались тем, что помогали обучать новобранцев на плацах. Это новое занятие раздражало их: они чувствовали, что не имеют настоящего дела и незаслуженно находятся в опале. Нашлись среди офицеров и такие, которые начали готовить настоящие заговоры и стали главной опасностью для правящей династии.
Кафе «Валуа» было местом встречи мирных легитимистов, старых эмигрантов. Бонапартисты же собирались в кафе «Ламблен». Когда в 1814 г. телохранители короля объявили, что намерены прийти в это кафе и поставить там бюст Людовика XVIII, триста офицеров империи вошли туда, чтобы защитить свое место сбора, и даже вмешательство властей не смогло предотвратить кровопролития.
После возвращения императора в 1815 г. штабом императорских офицеров стало кафе «Монтансье» в Пале-Рояле. Они превратили сцену концертного зала кафе в трибуну, сами стали выходить на нее вместо актеров и осыпать Бурбонов самой грубой бранью. После второго возвращения короля королевские мушкетеры и телохранители, жаждавшие мести, взяли это кафе штурмом, разбили стаканы и тарелки, а серебро и мебель выбросили в окна.
В провинции прежние феодальные владельцы деревень, очень часто вступавшие в союз с приходскими священниками, беспокоили покупателей «национального имущества»[245], презирали мэра и муниципальный совет и утверждали, что по-прежнему имеют право сидеть в церкви на старой скамье сеньоров и получать священную облатку раньше остальных верующих. Эти деревенские дворяне с большими претензиями скоро стали жертвами открытых насмешек в сатирах и карикатурах и мишенями для шуток либералов.
Во Франции как будто были два народа, боровшиеся один с другим, и две армии, противостоявшие одна другой. Либералы и бонапартисты в это время были союзниками в борьбе за общее дело. Антагонизм между ними и легитимистами давал о себе знать тысячей способов, и некоторые его проявления были совершенно нелепыми. Роялисты шутили по поводу сходства слов libéreaux (либералы) и libérés (вернувшиеся заключенные) и всерьез распространяли религиозные книги и легитимистские памфлеты. Публицист-либерал Туке ответил на это множеством изданий Руссо и Вольтера, и в продаже появились их книги всех размеров и по любой цене. Этот же Туке продавал либералам табакерки, в которых под крышкой был спрятан текст Хартии. Роялисты решили применить эту же уловку, только вместо Хартии прятали завещание Людовика XVI или портрет своего «короля-мученика». В 1819 г. кто-то изготовил трости с регулируемым набалдашником. Если его открывали, становилась видна статуэтка Наполеона. Кто-то еще додумался продавать подтяжки цветов французского флага и производить алкогольные напитки, которые назывались «Ликер храбрецов» и «Слезы генерала Фуа». В 1815 г. священники отказались похоронить в церкви Святого Роха актрису, мадемуазель Рокур. Либералы, выведенные из себя этим оскорблением, взломали двери этой церкви, сломали несколько решеток и установили гроб с телом умершей перед главным алтарем. Людовик XVIII отнесся к их поступку снисходительно и прислал священника повторить погребальные обряды над покойной, и угрожавшая либералам толпа отступила. Однажды в 1817 г. либералы и роялисты заполнили Театр Франсе (театр Комеди Франсез. – Пер.). Они пришли на представление трагедии «Германик» посредственного драматурга Арно, который был известен только своей верностью Наполеону. Между офицерами этих двух партий произошла ссора; и те и другие обнажили шпаги, и пришлось вызвать жандармов. На следующий день эпилогом этой драмы стали шесть дуэлей!
По правде говоря, никогда не было так много дуэлей, как в первые годы Реставрации. Каждое утро (сохранились официальные рапорты об этом) офицеры прежней императорской гвардии дрались с офицерами новой королевской гвардии. Парламентарии тоже иногда дрались на дуэли из-за разногласий в палате. Например, так дрался генерал Фуа с господином де Корде (в 1820 г.). Оружием в этих поединках обычно были пистолеты. Если тот, кто стрелял первым, промахивался, второй из вежливости стрелял в воздух. Самой знаменитой дуэлью времен Июльской монархии была та, на которой журналист Эмиль де Жирарден убил собрата по профессии, журналиста Армана Карреля. Этот поединок стал знаменит больше из-за шума, поднятого вокруг него, чем из-за личностей его участников (произошел он в 1836 г.).
Почти все либералы были масонами, но масонские ложи в этот период были гораздо менее активны, чем некоторые секретные общества других разновидностей. С одной стороны существовала Конгрегация, которую контролировали иезуиты. С другой стороны действовали карбонарии (по-французски Charbonnerie), основателем которых был Бюше, в то время студент-медик. Эти карбонарии (по-итальянски их название carbonari означает «угольщики») были организованы по образцу своих итальянских собратьев. Они клялись на кинжале «вечно ненавидеть короля и монархию». Члены организации платили в ее кассу взносы – 1 франк в месяц. Они были организованы в группы числом по двадцать человек. Членов общества становилось все больше, возникали новые «двадцатки», и в конце концов карбонарии охватили сетью своих организаций всю страну и даже армию. Структура общества была иерархической. Возглавлял его Верховный совет. Полиция Бурбонов не знала, кто в него входит, но этого не знали и сами тысячи людей, состоявшие в обществе карбонариев. Результатом проникновения карбонаризма в армию стали заговоры военных в двух городах – Сомюре и Бельфоре, заговор капитана Валля и попытка поднять восстание в Эльзасе, которую предпринял подполковник Карон. Один из самых знаменитых французских судебных процессов произошел именно в тот период (в 1822 г.) и закончился казнью «четырех сержантов из Ла-Рошели». Парижане каждый год украшали их могилы цветами. Это грозное общество прекратило свое существование, когда ненависть к Бурбонам стала слабеть.
Но в дни правления Луи-Филиппа существовали другие более или менее тайные общества, например «Друзья народа», «Друзья равенства», Июльский союз, «Права человека» (это общество в 1833 г. насчитывало более 60 тысяч членов), «Действие», «Времена года» и «Семьи». Все они продолжали организовывать бунты и восстания, подвергались судебному преследованию и своими действиями породили ограничительный закон 1835 г.
Новое правительство, следуя примеру старого режима, упразднило многие объединения рабочих, но сохранило один тип таких объединений – цеховые братства, в которые не входили «оседлые», то есть постоянно живущие на одном месте рабочие. Это были группы «странствующих ремесленников», которые ходили из города в город в поисках работы. В народе их передвижение называли «тур де Франс» («поход по Франции»). В каждом городе на маршруте этого «похода» местное отделение братства принимало у себя любого путешественника, который был членом их общества, и старалось обеспечить его работой. Его угощали в кабачке, который общество выбрало местом таких встреч, и его брала под свою опеку «мать братства». (Члены общества называли себя ее «детьми».) Если путешественник заболевал, «мать» ухаживала за ним, собратья по обществу за ним присматривали, и rouleur (одно из должностных лиц братства) навещал больного. Если пришедший собрат умирал, его тело достойным образом провожали на кладбище, и там его хоронили члены братства.
Всех, кто вступал в братство, посвящали в определенные тайные обряды. Двое рабочих, встречаясь, обменивались условными словами и знаками, позволявшими членам одного братства узнать друг друга. Эта церемония узнавания сопровождалась очень сложными обрядами, из-за чего у членов цеховых братств возник обычай на общенародных праздниках носить с собой трость и прикреплять к своей одежде лентами, держать свои стаканы над столом и т. д. На похоронах любого члена братства один из его собратьев произносил надгробную хвалу в его честь, затем остальные братья издавали стон. После этого они проходили мимо могилы по двое, и каждая пара клала свои трости на землю крест-накрест. Кроме того, они особым образом ставили ноги на углы могилы. В заключение похоронного обряда присутствовавшие на нем члены братства обнимали друг друга.
В этих корпорациях продолжали существовать некоторые странные пороки цеховых братств старого режима. Звание «странствующего подмастерья» можно было получить только после долгой и трудной учебы. Учеников называли «соискателями», «юнцами» или «лисами». Полноправные странствующие ремесленники обычно злоупотребляли своей властью над ними и обижали их множеством различных способов. Наставники всегда забирали лучшую работу себе, а учеников отправляли «в колючие кусты» – то есть в пригороды или маленькие деревни. Наставники не позволяли ученикам спать в той комнате, где спали сами, и не сажали их за свой стол в праздники. Странствующий ремесленник мог крикнуть ученику: «Лис, принеси мне мои сапоги!» – и тот был обязан повиноваться.
В начале XIX в. самыми известными из этих обществ были «Дети Соломона» и «Дети мастера Жака». Члены первого из них утверждали, что оно было создано мастером Хирамом, архитектором царя Соломона, и что Хирам был убит в первоначальном Храме тремя предателями, которым отказался открыть тайны своего братства. Члены второго гордо заявляли, что их основателем и первым наставником был Яков, иначе Жак, архитектор из Прованса, работавший вместе с Хирамом и убитый завистливым врагом после возвращения в Прованс из Иерусалима.
«Дети Соломона» считали себя более древней организацией, чем «Дети мастера Жака», и были крайне высокомерны. Их обряды были переданы только четырем цеховым братствам – каменщикам, слесарям, плотникам и столярам. Эти корпорации принимали к себе людей любого вероисповедования и потому набирали значительную часть новичков среди протестантов. «Дети мастера Жака» были более гостеприимными и открыли свои тайны большему числу цеховых братств, но принимали в члены только странствующих ремесленников-католиков. Они называли себя «детьми долга» или «послушными долгу»[246].
Эти организации завидовали одна другой и даже враждовали. Слесари «Соломона», если им случалось работать в одной деревне со слесарями «Мастера Жака», не желали иметь с ними ничего общего. Часто между «гаво» (прозвище «Детей Соломона») и «девуарантами» (прозвище «Детей мастера Жака») происходили стычки. В городе Санс в 1842 г. одному члену Братства мастера Жака взбрело на ум проехать мимо лавок слесарей из соперничающей организации на осле, погоняя его криками: «Но, но, Гаво!», то есть называя его их прозвищем. В результате произошла драка с кровопролитием. В 1845 г. в Нанте пекари готовились прийти на праздник, который устраивали в день своего святого-покровителя, со знаками различия полноценных цеховых братств – тростями и лентами. Странствующие ремесленники, разгневанные таким незаконным присвоением своих регалий, напали на шествие пекарей, и произошел настоящий бунт.
Часто эти братства забывали о своей истинной цели. Подчеркнутая таинственность их обрядов, угнетение учеников их наставниками и постоянные войны или ссоры с соперниками, разумеется, мешали братьям оказывать помощь друг другу. Старый режим пытался запретить такие корпорации. Законодательное собрание подтвердило этот запрет в своем ограничительном законе 1791 г. Тем не менее корпоративная система глубоко укоренилась среди не слишком талантливой, но драчливой части работников, и в этой среде цеховые братства существовали еще долго.
В 1823 г. ученики восстали против своих мастеров и основали Общество независимых. В 1839 г. произошло еще одно восстание, в результате которого появилась новая, лучшая ассоциация ремесленников. Как раз в это время шла подготовка к экспедиции в Алжир, и потому в южном морском порту Тулоне собралось много рабочих. «Мать» цехового братства предложила, чтобы странствующие подмастерья позволили ученикам жить в одних с ними комнатах. Подмастерья отказались и были так оскорблены этим предложением, что ушли из дома «матери» и приказали учениками следовать за ними. Однако ученики в свою очередь ответили отказом, сняли с себя знаки своего подчиненного положения и основали Общество союза. У них уже не было ни знаков принадлежности к братству вроде тростей и лент, ни пароля, ни объединяющего клича, ни воинственных гимнов. У их общества была лишь одна цель – помощь друг другу и взаимовыручка. Это, конечно, была организация правильного типа. Именно такие общества в конце концов стали преобладать среди трудящихся, и в результате старая система цеховых братств постепенно перестала применяться.
В это время парижане начали замечать рост активности и богатства французского народа. Наполеон смог стимулировать этот рост, но для этого императору понадобилось ограбить весь мир ради собственной «славы». Теперь Париж быстро развивался. В 1816 г. в нем было 710 тысяч жителей[247]. В 1826 г. их было 800 тысяч, в 1836 г. их стало 909 тысяч, а в 1846 г. больше миллиона (1 миллион 53 тысячи).
При Реставрации были построены мост Инвалидов, мост Арколь и другие мосты через Сену. На площади Рояль (Королевской площади) была поставлена статуя Людовика XIII работы Корто и Дюпати, на площади Виктуар (площади Побед) – статуя Людовика XIV работы Бозио, была установлена бронзовая статуя Генриха IV работы Лемо, отлитая из статуй Наполеона и его генерала Дезе. В этот же период улицы были освещены газовыми фонарями, пассажиров стали обслуживать омнибусы и была организована эффективная полиция.
При Июльской монархии большой вклад в развитие Парижа внес Рамбюто, префект департамента Сена. Именно он построил в то время мост Луи-Филиппа и мост Карусель. Была проложена улица, которая теперь носит имя Рамбюто, и создан план площади Согласия с Луксорским обелиском и окружающими его восемью статуями – символами восьми главных городов Франции. Была также установлена колонна в честь Июльской монархии (Июльская колонна).
Была достроена арка на площади Звезды и реставрированы два чуда средневековой готической архитектуры – Нотр-Дам и Сент-Шапель. Среди других завершенных зданий можно назвать церковь Мадлен, Пантеон, Бурбонский дворец и дворец на набережной д’Орсе. Были также построены здания Школы изящных искусств, Медицинской школы и высшей нормальной школы на улице Ульм. Были заложены площади Лувуа и Сен-Сюльпис, вторая – с ее прекрасным фонтаном работы Висконти[248].
И наконец, Тьер и Гизо дали французской столице ту систему застав, которая окружает Париж, и построили (в 1841 г.) отдельно стоящие форты. Тогда оппозиционная пресса писала, что эти форты годятся быть только тюрьмами, а значит, деспотическое правительство вооружается против Парижа, но они принесли парижанам огромную пользу во время осады 1870 г.
В ту эпоху Париж выглядел далеко не так, как выглядит сегодня. Самыми крупными улицами центра столицы были так же, как сейчас, улицы Сен-Дени и Сен-Мартен. Проспект Оперы, бульвар Сен-Жермен, улица Школ и другие знаменитые артерии Парижа еще не были проложены. Богатые кварталы располагались вдоль бульваров Малерб, Осман и Перейр и проспектов Вилье и Курсель и вдоль широких улиц, которые расходятся лучами от Триумфальной арки. Переполненные людьми кварталы и трущобы, которые теперь тянутся вдоль северных и южных бульваров, тогда еще не существовали. В тогдашнем Париже было всего двенадцать округов. Сейчас их двадцать: еще восемь были образованы позже, когда в состав города включили пригородные коммуны. И когда в те годы водевильные актеры хотели посмеяться над внебрачными любовными связями, они называли такую связь «браком, заключенным в ратуше тринадцатого округа».
В Париже по-прежнему было много запутанных лабиринтов узких улочек, где по обеим сторонам стояли старые дома. Разумеется, там было очень сыро, потому что солнечные лучи редко проникали туда. Именно эти ряды домов давали огромное преимущество тем, кто сражался на баррикадах во время многочисленных революций, потрясавших Париж в 1830 и 1848 гг., а также во время менее успешных восстаний. Один из самых знаменитых таких лабиринтов занимал место между Триумфальной аркой Карусель и старым Лувром.
На узких улицах этого квартала можно было увидеть лачуги, в которых устроили свои лавки торговцы попугаями и другими экзотическими птицами. Кажется, некоторые из этих лачуг находились у самой границы Тюильри.
В эпоху Реставрации очень мало парижских улиц имели тротуары. В 1830 г. во всей столице насчитывалось только 16 километров (ок. 10 миль) таких пешеходных дорожек. Июльская монархия сделала много для исправления этого дурного состояния улиц, и при ней суммарная длина парижских тротуаров увеличилась до 195 километров (ок. 140 мил). Но даже там, где тротуары существовали, они были узкими и неровными. Пешеходы могли защититься от проезжающего транспорта, только прижимаясь к стенам или взбираясь на ступени домов. Дома тоже обычно были маленькими и узкими, хотя часто насчитывали пять или шесть этажей, их черепичные крыши были очень крутыми и были оборудованы водосточными желобами, из которых на головы прохожим часто проливались целые потоки дождевой воды. Если улицы вообще были вымощены, то во многих случаях мостовая была сделана из известняковых блоков. Эти блоки были уложены неровно и очень непрочно, а потому во время восстаний служили готовым материалом для умелых строителей баррикад. Щебеночное покрытие, изобретенное шотландским инженером Джоном Лаудоном Макадамом, который умер в 1836 г., стало применяться в Париже лишь после 1849 г. Канализационная система тоже была совершенно недостаточной. В 1806 г. ее суммарная длина была всего 25 метров (ок. 75 футов). Правительство Луи-Филиппа, особенно в тот период, когда префектом был Рамбюто, увеличило эту длину до 79 метров (ок. 240 футов). Однако основная часть подземного Парижа была построена при Второй империи[249]. Туалеты в парижских домах до 1848 г. были точно такие же, как сейчас во французских деревенских коммунах. Неудивительно, что эпидемия холеры в 1832 г. унесла столько жизней!
Улицы не были приподняты в центре для стока воды, как сейчас; наоборот, в центре улицы делали борозду, по которой вода стекала, как по желобу. Поэтому после сильной грозы перейти улицу было все равно что перейти вброд ручей. В таких случаях предприимчивые люди клали поперек желоба доску и за плату в 1 су помогали пешеходам перейти на другую сторону, не замочив ног. Карл Верне изобразил широко распространенную сцену на одной из своих гравюр и назвал ее: «Проходите, платите». Кроме того, посередине улицы, через одинаковые промежутки, были люки, которые вели в канализационные трубы. Правда, они были накрыты железными решетками, но громоздкие телеги и кареты часто разбивали эти решетки, чем наносили большой вред товарам или пассажирам.
Население столицы было так скучепно, что в ней не было ни одного сквера, куда люди могли бы прийти и даже в летнюю жару глотнуть свежего воздуха. Стоит упомянуть и еще об одном неудобстве. Вода Сены почти никогда не была пригодна для питья, но те, кто приезжал в столицу из провинции, не так ясно осознавали это, как парижане. Поэтому приезжие часто не принимали достаточно мер предосторожности и расплачивались за это всевозможными болезнями, в том числе эпидемическими. Водопровод, подающий воду в дом, люди того времени так же не могли себе представить, как газ, поступающий по трубам на каждый этаж. Воду брали из колодцев или из колонок, или же ее доставляли в дом водоносы. Некоторые из наиболее преуспевающих водоносов имели двухколесную телегу, которую везла лошадь, и ходили от двери к двери. Все парижане, жившие в то время, видели их и потом могли вспомнить, как эти здоровяки «овернцы»[250] (прозванные так потому, что первоначально почти все они были из Оверни и других регионов Центральной Франции) каждое утро взбирались по лестнице, неся на плечах два ведра воды на коромысле и наливая из этих ведер воду своим клиентам. Ведро воды стоило 1 су или даже больше. Ничто не удивляло приезжих в Париже больше, чем то, что в этом городе за воду надо было платить, как за все остальное.
Рынков и рыночных площадей было мало. Горожане, которые имели обычное домашнее хозяйство, покупали все продукты у мелких торговцев, которые ходили от дома к дому, толкая перед собой тачки с товаром. Их называли «торговцы четырех времен года»[251], и они сохраняли традиции уличных торговцев-«крикунов» прежнего Парижа.
Витрин было намного меньше, чем сейчас, и они были намного менее элегантными. Владельцы не закрывали их на ночь металлическими решетками, запертыми на какое-нибудь механическое устройство, как сейчас делают в большинстве европейских городов. Владелец магазина открывал, один за другим, задвижки на восьми или десяти ставнях, которые защищали витрину. Эти ставни сверху вешались на крюк, а снизу закреплялись на месте защелкой. Нередко, отперев узкий вход в свой магазин и заходя внутрь со ставнями на плече, он сталкивался у двери каким-нибудь ничего не подозревавшим прохожим. Удар получался сильный. В цокольных этажах магазинов были опускные двери, которые открывались на улицу и поэтому были еще одним источником опасности для пешеходов.
Все это показывает, как медленно уходило «доброе старое время» из французской столицы. Тем не менее период реставрированной монархии, несомненно, был для Парижа временем прогресса во внешнем виде и во многих других отношениях. Например, значительно улучшилось освещение городских улиц. В 1848 г. в Париже еще было 2608 фонарей старого типа, но были и не менее 8600 гораздо более эффективных новых газовых ламп.
Такими были некоторые из общественных обычаев и физических условий во Франции и в Париже в переходное время между старым режимом и Третьей республикой.
Глава 21. Мятежи радикалов и в ответ на них – переход к цезаризму
Вторая республика: 1848–1851
Национальные мастерские. Закрытие национальных мастерских. Новая конституция. Начало жизни Луи-Наполеона. Ловкая политика президента. Де Морни, Сен-Арно. Заговор. Луи-Наполеон получает поддержку. Выдающийся личный триумф
Никогда еще централизация всей власти в Париже не действовала на Францию так явно и бесспорно и в общем так неудачно, как это случилось в феврале 1848 г. Департаменты почти не участвовали в новой революции и, несомненно, не слишком сочувствовали тем крайним радикалам, которые, сражаясь, привели ее к успеху. Средний крестьянин или буржуа из маленького города очень слабо интересовался политикой. Он хотел условий, которые обеспечат благополучие его ферме или предприятию, легких налогов, личной свободы. Еще он хотел иметь в Париже правительство, которое было бы прогрессивным, но в разумных пределах и сохранило бы за Францией положение страны, которая ведет за собой другие народы. Стране откровенно опротивела политика полного благоразумия (американцы назвали бы ее «безопасность прежде всего») в отношениях с другими странами. Французам казалось, что такая осторожность заставляет Францию покоряться чужакам, особенно англичанам, потому что из-за любого решительного поступка властей начались бы международные осложнения, а из-за них облигации парижских финансистов упали бы в цене. Но подробности конституции почти не волновали французских провинциалов. Руководители, которым поручили Францию Гизо и Луи-Филипп, заслуживают серьезного осуждения за то, что при такой спокойной политической обстановке не смогли удержать контроль над правительством страны. То, что их прогнал радикальный Париж, верно. Но верно и то, что у них не было ни малейшей надежды на какие-либо реальные действия в департаментах, которые помешали бы их изгнанию.
Итак, однажды, проснувшись, французы обнаружили, что за ночь их страна стала республикой. Смена власти была принята с разумной покорностью, но без большого воодушевления. Однако любой проницательный человек, изучающий общественное мнение, сказал бы, что эта республика, чтобы иметь успех, должна быть очень упорядоченной, разумной и умеренной, чтить право собственности и не перейти слишком быстро к созданию утопий. Именно этого не делала Вторая республика. Результатом стал переход к диктатуре, а потом к откровенному империализму на том основании, что цезаризм лучше, чем анархия. Применение силы парижскими социалистами в 1848 г. стало лучшим доводом в пользу создания и существования Второй империи.
Тем, что Вторая республика экспериментировала с частью программы социалистов, она представляет большой интерес для тех, кто изучает экономическую теорию и социологию. Но тот, кто изучает историю, не имеет причины долго задерживаться на событиях 1848 г. Из главное значение было в том, что они 1) вызвали у французов отвращение к скороспелым экспериментам радикалов и 2) этим ускорили приход к власти Наполеона III как защитника «порядка».
Республиканцы, которые свергли Луи-Филиппа, сами не были едины. Между ними были серьезные разногласия. Умеренные республиканцы, типичным лидером которых был красноречивый Ламартин, хотели демократическую республику под их любимым трехцветным флагом. Радикальные республиканцы, главным вождем которых был Луи Блан, желали социалистической республики под красным флагом крайних революционеров. Вначале умеренные и радикалы работали вместе: в конце концов, и те и другие желали установить республику. Умеренные в целом преобладали в новом временном правительстве, но они должны были сделать большие уступки радикалам, которые ковали железо, пока оно горячо. В марте 1848 г. «все граждане» были записаны в Национальную гвардию. Она перестала быть чисто буржуазной. Вскоре в Париже ее численность возросла с 36 до 190 тысяч, и большинство новых гвардейцев были промышленными рабочими. Вырастали как грибы политические клубы, часто находившиеся под контролем самых буйных агитаторов. Перед ратушей, где заседало временное правительство, несколько раз собирались вооруженные демонстранты, и напуганные временные администраторы под их давлением соглашались на одну уступку за другой.
И вот 25 февраля после одной такой демонстрации Луи Блан принял новое постановление: «Правительство Французской республики гарантирует трудящимся возможность жить за счет их труда и предоставляет работу всем гражданам». Вскоре после этого было принято постановление об организации «национальных мастерских».
А 28 февраля, после следующей демонстрации, администраторы создали «правительственный комитет по делам рабочего класса, специально предназначенный для того, чтобы блюсти интересы рабочих». Комитет возглавили Блан и Альбер, а местом их работы стал Люксембургский дворец. Они смогли отдать несколько полезных и очень уместных распоряжений: например, сократили обычную продолжительность рабочего дня до десяти часов в Париже и одиннадцати часов в департаментах[252]. Обсуждались разнообразные и великолепные планы, но работодатели хмурились и упрямо сопротивлялись комитету, а радикалы требовали, чтобы его работа мгновенно принесла результаты. Комитет (имевший очень мало власти и потому неспособный принудить непослушных выполнять его распоряжения) тратил время на бесполезные совещания, а в это время в обоих лагерях, разумеется, усиливались недоверие и гнев.
И 26 апреля радикалы наконец попытались снова принудить правительство. Клубы рабочих в полном составе торжественным маршем пошли к ратуше, чтобы потребовать «отмены эксплуатации человека человеком и организации трудовых объединений». Не совсем ясно, что именно они имели в виду. На семьдесят пять лет позже мир назвал бы их требования большевизмом – может быть, несправедливо. Но умеренные республиканцы испугались. Восток Парижа бушует и требует социализма. Но если подчиниться ему, это почти наверняка вернет остальную Францию к монархизму. Ледрю-Роллен, один из самых выдающихся лидеров антиорлеанистского движения, вызвал к ратуше много надежных рот Национальной гвардии. Они встретили рабочих перед ней криками «Долой коммунистов!». Радикалы на этот раз дрогнули и разошлись.
Казалось, все замыслы социалистов, кроме «национальных мастерских», закончились провалом. И похоже, что даже мастерскими руководили люди, желавшие, чтобы этот проект закончился неудачей. Правда, если быть честным, надо сказать: чтобы такой проект имел хотя бы малейшую надежду на успех, его надо внедрять очень осторожно и подробно разработать все его детали, а социалисты требовали, чтобы новые организации выросли как грибы за одну ночь и сразу начали работать. Из-за беспорядков в Париже стало много безработных. В начале марта 1848 г. было 6 тысяч «национальных» рабочих. Вскоре их стало 25 тысяч, а в мае их насчитывалось уже больше 100 тысяч. Разумеется, невозможно было сразу же обеспечить всех этих людей крупными фабриками без широкомасштабной экспроприации, но от ее проведения правительство отказалось. Оно дало этим людям работу на строительстве укреплений вокруг Парижа и платило им 2 франка (40 центов) в день. Казна была в весьма плачевном состоянии, и потому вскоре этих рабочих стали занимать на работе всего два дня в неделю. Остальные четыре дня они оставались без дела и получали всего 1 франк (20 центов) в день. В итоге Париж был полон раздраженных людей, у которых было слишком много свободного времени и большое желание слушать ораторов-экстремистов, перечислявших беды народа.
Пока все это происходило, временное правительство отчаянно пыталось сдвинуть с мертвой точки свою молодую республику. Финансы были в беспорядке. Выпуск займов был невозможен. Оставался лишь один выход – увеличить прямые налоги примерно на 45 процентов. Это было сделано и, разумеется, очень рассердило крестьян и буржуа. При таких неприятных для власти обстоятельствах прошли выборы в Законодательное собрание, которое, в свою очередь, должно было избрать постоянное правительство Франции. Голосование на выборах было всеобщее, в него были выбраны 900 человек из многих департаментов. До конца работы правительства Собрание должно было руководить им через Исполнительный комитет из пяти человек. Произошло то, чего следовало ожидать при таких обстоятельствах. У прежних Бурбонов было мало друзей, орлеанисты были полностью дискредитированы – во всяком случае, в этот момент; у бонапартистов не было времени организоваться и поднять головы. В результате подавляющее большинство членов Собрания заявили, что хотят видеть страну республикой. Но в него избрали очень мало социалистов, и многие депутаты представляли крупных землевладельцев и духовенство, а эти слои общества по-прежнему были очень сильны. От такого Собрания радикалы явно не получили бы большой поддержки.
Парижские социалисты скоро обнаружили это и решили, что «лучший способ исправлять конституции – пика и барабан». Не для того они сражались на баррикадах в феврале, чтобы их теперь унижали. И вот 15 мая вооруженные отряды ворвались в Зал заседаний и уже начали объявлять, что собрание распущено и назначается новое временное правительство, но тут национальные гвардейцы внезапным налетом выгнали их из зала. Кровь не пролилась, но депутаты Собрания вполне обоснованно испугались. Собрание провело аресты, закрыло политические клубы и, чтобы устранить основу своих проблем, решило закрыть «национальные мастерские». Они стоили государству 150 тысяч франков в день, а работы производили мало – в основном «вырывали камни из мостовой и бесполезно перемещали землю» на Марсовом поле. Несомненно, противники Луи Блана устраивали так, чтобы дискредитировать весь пакет его либеральных проектов, в которых было и кое-что практически целесообразное. Но в любом случае сложившееся положение было нельзя терпеть. И 21 июня 1848 г. Собрание своим постановлением закрыло национальные мастерские. Молодые рабочие могли поступить в армию; тем, кто старше, были обещаны места на общественных работах в департаментах.
Итак, Собрание бросило социалистам перчатку. Те быстро подняли ее. Теперь у них была сложная разветвленная организация и много мушкетов, хотя не имели артиллерии. Вся восточная часть Парижа от Пантеона до бульвара Сен-Мартен была превращена в укрепленный лагерь, где было больше 400 баррикад. Часто эти баррикады строились по правилам науки и были сложными – дополнялись рвом и стеной, в которой были проделаны бойницы. Иногда такие стены были выше первых этажей домов. За этими баррикадами ждали противника не меньше 50 тысяч повстанцев. В это время правительство могло направить против них только 40 тысяч человек – регулярные части и надежных национальных гвардейцев. Но теперь против рабочих кварталов Парижа была почти вся Франция. В столицу постепенно прибывали в огромном количестве буржуазные национальные гвардейцы из ее пригородов, а потом из близлежащих городов и сельских округов, и «все они желали истребить социалистов». Собрание дало генералу Кавеньяку – в прошлом республиканскому агитатору, но не социалисту – диктаторские полномочия, чтобы он разгромил радикалов. Четыре дня продолжалась отчаянная и в высшей степени кровопролитная борьба. Улицы Парижа обстреливались артиллерией. Архиепископ был застрелен, когда пытался стать посредником между разъяренными бойцами воюющих сторон. И 26 июня были взяты штурмом последние укрепления «красных» в Сент-Антуанском предместье. Никогда нельзя будет точно подсчитать, сколько людей погибло в те кровавые июньские дни. Правительственные войска захватили в плен 11 тысяч человек, и 3 тысячи из них были сосланы в Алжир без суда, на основе только постановления правительства.
Этот социальный взрыв имел очень важные последствия. Рабочие были побеждены и на какое-то время разгромлены, но продолжали ненавидеть буржуа и крестьян (явно вставших на сторону буржуазии); эта ненависть была сильной и долгой[253]. С нее начался болезненный раскол внутри французского народа. С другой стороны, буржуа сами были напуганы и чувствовали угрозу своему богатству. Государственные облигации в феврале продавались за 116 франков, а в апреле стоили только 50. Июньские события совершенно не помогли их цене подняться! Многие достойные торговцы и мелкие промышленники полностью разорились из-за застоя в делах.
Что, кроме зла, принесла им эта горячо желанная республика? Не лучше иметь «сильное правительство», которое хорошо обеспечивает «порядок»? Крестьяне же обнаружили, что новый режим ничего не сделал, только повысил налоги на 45 процентов, и были склонны считать (может быть, несправедливо), что проклятые «красные» собирались начать по всей стране передел фермерских земель. Они так же, как буржуа, мечтали о правительстве, которое бы этого не допустило.
Однако Собрание было избрано до этого переворота в общественном мнении. Оно продолжало быть умеренно республиканским. В результате большой работы была написана новая конституция, которая, как надеялись ее составители, не будет иметь тех пороков, которыми страдали результаты прежних смелых попыток – документы 1791 и 1795 гг. К этому времени Соединенные Штаты существовали уже достаточно долго и могли дать Франции несколько вполне понятных примеров того, как обходиться без монархии. Но, к сожалению, Собрание не перенесло во французскую конституцию многие прекрасные положения конституции американской и, увы, не увидело коренного отличия многих явлений американской жизни от тех, которые существовали во Франции. Если говорить коротко, получилось вот что. Конституция 1848 г. установила должность президента, которого полагалось выбирать на четыре года всеобщим прямым голосованием. Этот президент получил большие исполнительные полномочия, но не мог быть переизбран сразу после завершения президентского срока. Противовесом ему должно было служить однопалатное Законодательное собрание из 750 человек; его члены тоже избирались всеобщим голосованием. Способов мирного улаживания разногласий между президентом и Собранием даже по самой мягкой оценке было очень мало, и они были несовершенны. Было предложено, чтобы Собрание выбирало президента, но Ламартин, златоуст того времени, историк жирондистов и сам такой же утопист, как они, ответил на это предложение великолепным восклицанием: «Пусть говорят Бог и нация: надо же что-то оставить на волю Провидения!» В итоге «Богу и нации» было позволено выбрать Наполеона Маленького.
Проницательный французский историк (Сеньобос) говорит об этом так: «Американский механизм был перенесен из федеральной системы управления, в которой не было армии и класса чиновников, в централизованную систему управления, где были армия, которой невозможно сопротивляться, и корпус государственных чиновников, привыкших управлять людьми». Неудивительно, что жизнь Второй республики была короткой и несчастной!
Франция мучилась перед президентскими выборами. Внезапно на сцене появился человек, которому было суждено двадцать пять лет находиться в центре европейской политики, а потом исчезнуть, приведя страну к великой катастрофе.
Луи-Наполеон Бонапарт родился в 1808 г.; он был сыном Луи Бонапарта, того брата Наполеона I, который с 1806 по 1810 г. был королем Голландии. После 1814 г. он, как и остальные члены семьи Бонапарт, менял один вид изгнания на другой. Его ветвь семьи имела немалое собственное состояние, и Луи-Наполеон часть времени рос в Швейцарии, а часть в Южной Германии. Говорят, что именно там он приобрел легкий немецкий акцент, от которого никогда не смог полностью избавиться. Его честолюбивая мать постоянно убеждала его, что он обладает наследством, дающим огромные возможности. «С твоим именем, – говорила она, – ты всегда будешь что-то стоить или в нашем европейском Старом Свете, или в Новом».
В 1832 г. в Австрии умер герцог Рейхштадтский, сын Наполеона I и Марии-Луизы, которого бонапартисты называли Наполеоном II. Смерть этого несчастного юноши, которого прозвали Орленком, сделала Луи-Наполеона главным претендентом на наследство Бонапартов. С этих пор он начал относиться к себе очень серьезно, подбирать концы ослабших нитей бонапартистских заговоров и пропагандировать новую империю как лекарство для Франции от ее политических болезней. Он казался безнадежным мечтателем, и сторонники Июльской монархии считали его совершенно безопасным для них, пока в 1836 г. он вдруг не появился в Страсбурге и не предпринял отчаянную попытку переманить на свою сторону гарнизон этого города. Его арестовали, посадили на корабль, отплывавший в Америку, и в апреле 1837 г. высадили в Нью-Йорке. Но в августе того же года он на другом корабле вернулся в Европу и поселился в Швейцарии, а позже долго жил в Лондоне. В это время режим Луи-Филиппа уже опротивел французам. Благодаря этому недовольству претензии наследника Бонапартов на престол не были попросту осмеяны и забыты, и он нашел себе некоторое количество пылких друзей. Постаревший герцог Веллингтон, сам большой мастер обмана, писал о Луи-Наполеоне: «Вы, конечно, не поверили бы, скажи я, что этот молодой человек не заявлял, что собирается стать императором французов!» Его главные мысли были о том, что он сделает, «когда взойдет на трон». В 1839 г. он, чтобы оправдать свои надежды и пропагандистские старания, опубликовал книгу «Наполеоновские идеи». Содержание книги было «причудливой смесью бонапартизма, социализма и пацифизма». А образ Наполеона I в ней был нелогичным почти до смешного: Наполеон был изображен защитником, которому народ Франции поручил оберегать свою свободу от реакционеров.
В 1840 г. Луи-Наполеон снова попытался захватить трон. На этот раз он устроил маленькую «флибустьерскую» экспедицию через Ла-Манш в Булонь. Она закончилась провалом, еще более унизительным, чем страсбургский. Предводитель мятежников был заключен под арест в крепость Гам, но в 1846 г. бежал оттуда способом немного похожим на выдумки авторов дешевых романов, и вернулся в Лондон. Там он прожил еще два года, по-прежнему сохраняя самообладание и предаваясь мечтам и грезам. «Удача два раза отвернулась от меня, но все равно я уверен, что осуществлю то, для чего предназначен судьбой; я жду», – говорил он. В 1848 г. он перестал ждать и начал действовать.
После падения Июльской монархии он сразу вернулся во Францию. Благодаря проснувшимся бонапартистским воспоминаниям французов он добился избрания в новое Законодательное собрание, но не сразу занял свое место в нем. Претендент на императорский престол понимал, что Собрание, вероятно, будет делать ошибки, и не хотел, чтобы его в них упрекали. Поэтому он не участвовал в событиях знаменитых Июньских дней. Свое место он занял в сентябре. И когда в октябре был предложен проект закона, который лишил бы депутата Бонапарта возможности стать кандидатом в президенты, этот депутат произнес такую плохую речь в свою защиту, что Туре[254], инициатор этого враждебного Луи-Наполеону проекта, презрительно отозвал свое предложение, решив, что такая предосторожность совершенно не нужна. Однако чуть больше чем через два месяца «претендент», на которого хитрые политики смотрели почти как на дурака и мечтателя, внезапно стал самым грозным кандидатом в президенты.
У него была мощная поддержка. Могущественное духовенство, которое при Луи-Филиппе было в немилости, считало Луи-Наполеона кандидатом, который вернет служителям церкви хотя бы часть их прежней власти. Крестьяне были напуганы и рассержены всем, что вожди республиканцев сделали и чему стали причиной с февраля. Слава ушедшей в прошлое империи стала воспоминанием и издалека казалась все ярче. Крестьяне знали, что для Наполеона «закон и порядок» были превыше всего. Они ненавидели «кандидата демократов» Кавеньяка и «кандидата социалистов» Ледрю-Роллена. Роялисты обеих разновидностей решили голосовать как бонапартисты: они полагали, что претендент из семьи Бонапарт быстро потерпит неудачу, а после этого монархисты смогут вернуться. В результате всего этого почти во всех департаментах Франции был избран «с большим преимуществом», как сказали бы американцы, этот малоизвестный идеалист и жалкий заговорщик. Более 5 миллионов 130 тысяч французов проголосовали за Луи-Наполеона, 1 миллион 450 тысяч за Кавеньяка и только около 370 тысяч за Ледрю-Роллена.
Новый президент сразу же взял в руки бразды правления. Он торжественно поклялся «быть верным демократической республике и считать своими врагами всех, кто будет пытаться изменить эту форму правления». После этого он сразу проявил свою власть – назначая министров, в большинстве случаев выбрал католиков и бывших орлеанистов. Странного «хранителя» нашла в его лице республика!
С того момента, как Луи-Наполеон вступил в должность президента (это произошло 20 декабря 1848 г.), и до того момента, когда он отменил конституцию, которую поклялся защищать, было легко предсказать, что он каким-то образом постарается навсегда закрепить за собой власть. Учитывая его происхождение из Бонапартов и бонапартистские убеждения, было бы неразумно ждать от него чего-то другого. Однако эта перемена могла бы произойти не так грубо. А если бы в стране была разумная и единая оппозиция, она могла бы полностью разрушить планы Луи-Наполеона. Но обстоятельства сложились так, что почти все карты шли прямо в руки ловкому авантюристу.
В мае 1849 г. было избрано новое Законодательное собрание. Антиреспубликанская реакция была в самом разгаре. Более 500 депутатов из 750 были монархистами того или иного оттенка. Республиканское меньшинство тоже не было единым: в нем были и умеренные, и «красные». Франция оказалась в странной и причудливой ситуации: согласно закону она была республикой, но президент хотел преобразовать эту республику в одну разновидность монархии, а большинство депутатов желали превратить ее в другую разновидность монархии. Президенту и депутатскому большинству было легко работать вместе, чтобы сделать невозможным возврат радикализма. Трудности начались, когда они попытались составить конструктивную программу на будущее.
Политика Луи-Наполеона с 1849 до 1851 г. была крайне умной. Он упрочил за собой расположение клерикалов тем, что послал армию в Рим для свержения тамошних революционеров и вернул земную власть папе Пию IX. Он даже пальцем не шевельнул, когда Законодательное собрание по его собственной инициативе одобряло законы, которые заткнули рот прессе, приостановили право граждан на собрания и, наконец, в 1850 г. разрешили участвовать в выборах лишь тем, кто прожил три года в каком-либо округе. Последний закон вычеркнул из списка избирателей более 3 миллионов странствующих рабочих и ремесленников. Он был очень непопулярен, и все упреки по поводу его принятия обрушились на Собрание. Один из друзей Луи-Наполеона сказал ему: «Я не могу понять, как вы, пришедший к власти благодаря всеобщему голосованию, можете защищать ограниченное право голоса?» – «Вы не понимаете, в чем дело, – ответил президент. – Я готовлюсь погубить Собрание». – «Но вы сами погибнете вместе с ним», – предположил друг. «Наоборот, – ответил Луи-Наполеон. – Когда Собрание повиснет над пропастью, я перережу веревку».
Очень скоро стало очевидно, что главное достоинство президента в глазах народа – то, что у него был очень знаменитый дядя. В своем обращении к французам президент Бонапарт заявил: «Имя Наполеона – само по себе уже программа. Оно означает во внутренней политике порядок, религию и благо народа, а во внешней политике достоинство страны». Были организованы крупномасштабные парады войск и народные гулянья, на которых какие-то люди (вероятно, вдохновленные полученными деньгами) громко орали «Да здравствует Наполеон!» и даже «Да здравствует император!». Один генерал был уволен за то, что приказал своим подчиненным не кричать этого. Вскоре около президента собрался кружок дерзких авантюристов – политиков и военных с короткой родословной. Они видели, что им во всех отношениях выгодно сделать собрата-авантюриста постоянным правителем страны. Министры и большинство государственных чиновников находились полностью под контролем президента. Новый президент начал бы ставить на все посты новых людей, и эти чиновники, разумеется, потеряли бы свои уютные, хорошо оплачиваемые должности. И, как сказали бы американцы, огромная политическая машина быстро заработала.
Ближайшей задачей этой машины было обеспечить повторное избрание Луи-Наполеона на пост президента. Его президентский срок завершался в конце 1852 г. Конституция запрещала его переизбрать, но Собрание могло изменить запрещающую статью двумя третями голосов. Когда от депутатов потребовали это сделать, они отказались, причем очень бестактно (это произошло 19 июля 1851 г.). Президент мог сказать, что избран подавляющим большинством всех французов и очень вероятно, что такое же большинство желает избрать его снова. Неужели буква конституции, написанной в спешке и совершенно не проверенной на практике, важнее, чем ясно выраженная воля народа? Если политический лидер задает себе такие вопросы, остальное происходит легко.
Итак, с 1848 по 1851 г. Луи-Наполеон делал все возможное, чтобы превратить свое президентское кресло в трон. У себя в Елисейском дворце он умел понравиться всем. Ему нравилось, когда его называли «принц», «ваше высочество» или «монсеньор», но, если к нему обращались просто «гражданин», он выслушивал это спокойно. Он на каждом шагу льстил духовенству, угощал солдат колбасой и сигарами, чтобы успокоить буржуа, беседовал с ними о необходимости «порядка на улицах», а потом отправлялся в поездки по провинциям и там был образцом дружелюбия и добросердечия при встречах с крестьянами. Но пока президент шел этим путем мудрой скромности, за него действовали его друзья. Создатели Второй империи не были ни элегантными аристократами, ни радикалами с безумием во взглядах, ни солдатами, которые бряцают саблями. Эти люди могли чувствовать себя в своей среде за игорным столом или играя на бирже при больших колебаниях курсов облигаций и акций. Одним из главных советников президента и его «людей действия» был его внебрачный брат по матери, де Морни[255], который «хорошо умел хранить тайны, руководить заговорами и делать самые жестокие дела весело и без подготовки». Другим авантюристом в окружении президента был де Персиньи, который, вероятно по основательным причинам, взял себе эту фамилию вместо прежней, Фиален. Еще одним человеком такого же типа был Сен-Арно, мужественный и храбрый до безрассудства солдат, который прославился в Алжире, где в сражениях против арабов дерзкая отвага предводителя помогала больше, чем учебники стратегии. Он тоже несколько раз менял свое имя. Когда-то он носил фамилию Ле Руа, потом был актером в маленьком парижском театре под именем Флориваль. Сен-Арно считался «прекрасным администратором, хорошо образованным человеком и приятным товарищем в обществе; он совершенно был лишен угрызений совести и был готов участвовать в любом жестоком замысле, если считал эту жестокость необходимой». У президента были и другие союзники – де Мопа, Руэр, Маньян и т. д., все примерно такие же темные личности. С их точки зрения превращение Луи-Наполеона в самодержца, конечно, означало неизмеримый выигрыш для них самих.
Конституция 1848 г. давала возможность шайке алчных авантюристов вроде них вступить в сговор с президентом и свергнуть существующий государственный строй. Разногласия в Законодательном собрании и полная политическая некомпетентность его депутатов позволяли этим заговорщикам с большой вероятностью надеяться на успех.
К декабрю 1851 г. все было готово для осуществления тайного плана. Заговорщики с удовольствием видели, 1) что общественное мнение Франции согласится со свержением Собрания; 2) что республиканское движение на время почти угасло; 3) что армия (благодаря старательной лести и осторожному манипулированию) будет готова подчиниться приказам Наполеона и на нее можно надеяться.
Чтобы армия, от которой в конечном счете все зависело, была в руках заговорщиков, Сен-Арно был назначен военным министром. Люди поняли, что скоро что-то произойдет. Один видный депутат сказал: «Когда вы увидите Сен-Арно министром, можете сказать: начался государственный переворот». Де Мопа, близкий Сен-Арно по духу, стал начальником парижской полиции. В кризисное время эта должность была очень рискованной и требовала величайшего такта. Президент сказал ему: «Я стою на краю рва, полного воды. На другой стороне я вижу безопасность нашей страны. Будешь ли ты одним из людей, которые помогут мне перейти?» Де Мопа был восхищен тем, что ему поручают такое ответственное дело.
Однако Луи-Наполеон до самого последнего момента не решался перепрыгнуть или переплыть этот ров. Он «колебался между желанием укрепиться во власти, не рискуя ничем, и страхом потерять эту власть, если ничем не рискнет». Де Морни и остальные в коце концов победили его сомнения; это они заставили его начать действовать. Вечером 1 декабря 1851 г. президент приветствовал случайных гостей на приеме в Елисейском дворце. Когда последний посетитель ушел, главный чиновник республики, де Морни, Сен-Арно и еще несколько человек собрались в курительной комнате. Потом быстро полетели приказы, и механизм заговора заработал как часы. Был составлен временной график, отрегулированный до минуты: в такое-то время должны быть арестованы некоторые неприятные для заговорщиков генералы, в такое-то войска должны занять указанные им позиции; в такое-то должны быть окружены все парижские типографии. Если говорить коротко, этот план предусматривал арест всех находившихся в Париже людей, которые чем-то выделились в политике после февраля 1848 г., за исключением верных сторонников президента.
Переворот был осуществлен мастерски. Жандармы захватили правительственную типографию. В ней были набраны несколько прокламаций, но каждую набирали по частям, и эти части были такими короткими, что ни один наборщик не мог понять, о чем говорится во всем документе. На рассвете 2 декабря парижане обнаружили, что солдаты патрулируют улицы, а на стенах расклеены манифесты президента. Он объявлял, что Законодательное собрание распущено, голосование опять становится всеобщим и очень скоро будет проведен всенародный референдум, который определит, какой будет новая конституция страны. Два полка регулярных войск захватили дворец, где заседало Законодательное собрание. Вскоре стало известно, что все лидеры депутатов – и роялисты, и республиканцы, и «красные» – надежно заперты в Мазасской тюрьме[256]. Происходили массовые аресты журналистов и неофициальных агитаторов. Разумеется, президент хотел полностью лишить лидеров все группы и движения, которые могли бы сопротивляться его перевороту.
Однако схватить всех депутатов было невозможно. Примерно двести из них добрались до мэрии Десятого округа Парижа. Там они поспешно организовались, объявили президента отстраненным от должности за государственную измену и объявили, что Собрание остается законным и продолжает заседать. Однако их громкие заявления были бессильны, как гром без молнии. Де Мопа послал генерала Форни разогнать это Собрание. Отчаянная попытка заседания завершилась тем, что последние защитники Конституции отправились в тюрьму, шагая между двумя шеренгами солдат.
У противников переворота оставалось еще одно, последнее средство. Знаменитый писатель Виктор Гюго, Жюль Фавр и еще несколько видных либералов попытались его применить. Сент-Антуанское предместье по-прежнему было очагом радикализма. Некоторые из прежних бойцов Радикальной партии по призыву либералов взялись за оружие. Вечером 3 декабря на улицах возникли баррикады, но кровь в заметном количестве пролилась лишь 4-го числа, когда Сен-Арно повел против этих баррикад свои войска и его солдаты безжалостно стреляли картечью даже по безоружным зрителям. Сопротивление, которое оказалось слишком сильным для Карла Х и Луи-Филиппа и почти остановило Кавеньяка в 1848 г., теперь было подавлено регулярными войсками. Племянник Корсиканца крепко держал в руках Париж.
Итак, Париж был побежден, но Париж еще не вся Франция. Когда о государственном перевороте стало известно в стране, в некоторых местах, где население симпатизировало демократам, произошло несколько достаточно крупных восстаний. В южных провинциях и в окрестностях Марселя сопротивление было особенно мощным и потребовало от местной жандармерии напряжения всех ее сил. Де Морни, который, как только его брат захватил Париж, был назначен министром внутренних дел, подавил эти выступления железной рукой. Бонапартисты преувеличивали масштаб этих волнений, чтобы предстать перед буржуа и зажиточными крестьянами в облике «спасителей страны» от всеобщего бунта и разорения. Де Морни разрешил подчиненным ему префектам департаментов заменить всех ненадежных в каком-либо смысле мэров, школьных учителей и чиновников местных судов. Подозрительных личностей следовало немедленно арестовать. А 6 декабря он постановил, что ни одна газета не может выйти в свет, если сначала пробный экземпляр номера не будет показан одному из доверенных префектов. «Администрации, – заявил де Морни, – понадобилась вся ее моральная сила, чтобы выполнить ее восстановительную и спасительную работу». И 8-го числа он отдал приказ о массовых арестах «всех подлых членов тайных обществ и непризнанных политических объединений», которых считал уже осужденными уголовными преступниками.
Население было напугано, ему подавали только просеянную через сито цензуры и часто сознательно искаженную информацию, все независимые агентства, выяснявшие мнение народа, были в оковах или, по меньшей мере, запуганы военными. Разве в таких условиях у французов была возможность выразить свое подлинное мнение на всенародном голосовании 20 декабря 1851 г.? В 32 департаментах действовало военное положение, 26 642 человека были арестованы, и их допрашивали специальные трибуналы, в которых не было присяжных. Французам задали вопрос, желают ли они, чтобы Луи-Наполеон разработал новую конституцию. Никакой альтернативы им не предлагали. Если бы большинство проголосовало против президента, он, согласно логике, был бы должен уйти в отставку и оставить страну совершенно без власти. Де Морни использовал все механизмы правительственной системы, чтобы «обеспечить свободное и искреннее выражение воли народа» и сделать так, чтобы народ выразил именно то желание, которое от него ожидали. Государственные чиновники использовали множество различных средств, чтобы получить благоприятное для них голосование. Де Морни написал префектам, что гражданам гарантирована свобода совести, и тут же добавил: «Но я ожидаю, что вы будете решительно и последовательно применять все допустимые способы влияния и убеждения».
Такие в высшей степени практичные методы дали нужный результат. Выбирая между анархией и Луи-Наполеоном, французский народ предпочел Луи-Наполеона. За него пользу было подано 7 миллионов 481 тысяча голосов, а против него 647 тысяч[257]. Он быстро провозгласил себя президентом на десять лет с правами почти самодержца и Законодательным собранием, полностью отданным на его милость. Но мало кого из французов сильно интересовала эта последняя стадия республики с «принцем-президентом». Все знали, что скоро произойдет.
Чтобы расчистить путь для последнего шага, де Морни, никогда не уклонявшийся от грязной работы, заставил судебные органы поторопиться. Видных радикалов ускоренно судили сначала суровые трибуналы, а под конец – Специальный суд, что-то вроде Революционного трибунала наоборот, чтобы быстро и в упрощенном порядке разделываться с политическими преступниками. «Количество виновных и боязнь раздора в обществе не позволяют нам поступить иначе», – писал де Морни в своем циркуляре. В эти специальные суды попало значительно больше 20 тысяч подобных дел. Старым консерваторам было почти нечего бояться: их скоро отпустили. С республиканцами и даже с умеренными либералами обошлись иначе. Из них 3 тысячи человек были отправлены в тюрьмы Франции, около 10 тысяч были сосланы в Алжир и примерно 6 тысяч получили разрешение жить дома под надзором полиции.
Но гораздо больше республиканцев и либералов, в том числе некоторые из самых выдающихся людей страны, оказались в изгнании – в Англии, Бельгии или Швейцарии. Жорж Санд написала в 1852 г.: «Когда вы приезжаете в провинцию и видите, как велики там уныние и подавленность, вам нужно помнить, что вся сила [общественного мнения] была сосредоточена в нескольких людях, которые теперь находятся в тюрьме, мертвы или изгнаны».
А 29 марта 1852 г. принц-президент торжественно провозгласил вступление в силу новой конституции и при этом высокопарно заявил: «Сегодня заканчиваются диктаторские полномочия, которые дал мне народ». Его ждал более высокий титул, чем звание «диктатора». Во время поездки принца-президента по Франции его принимали с поистине королевскими почестями. В своих речах он ясно давал понять, что скоро будет монархом, и обещал, что его царствование будет прекрасным. Многие консерваторы опасались, что племянник, по примеру дяди, втянет Францию в опасные войны – он очень старался успокоить этих людей. В Бордо он произнес свою знаменитую фразу: «Империя – это мир». Затем наступила кульминация. Сенат, снова созданный новой конституцией, представил на утверждение постановление о том, что Франция – империя и «Наполеон III – император французов». Снова было проведено неизбежное всенародное голосование (оно прошло 21 ноября 1852 г.). Радикалы были разгромлены и утратили мужество. Организованной оппозиции не было. И 7 миллионов 824 тысячи человек проголосовали за возведение главы бонапартистов на престол, 253 тысячам человек было позволено считаться сказавшими «нет». И 2 декабря 1852 г., в годовщину битвы при Аустерлице и своего государственного переворота, Наполеон III стал наследственным императором со всеми роскошными атрибутами французского самодержавия. Так замкнулся круг – от монархии к монархии.
Так был достигнут один из величайших личных успехов в истории. Человек, который за несколько лет до этого (по словам королевы Виктории) «находился в изгнании, был беден, никто о нем не думал», теперь был практически самодержавным правителем страны, которая тогда считалась самой богатой и сильной в континентальной Европе.
В следующие десять лет Луи-Наполеон стал самым могущественным и влиятельным человеком в Европе. Наши современники с трудом могут представить себе, как сильно он занимал умы и воображение людей. Но все дни его величия люди помнили о предательском и жестоком перевороте, который привел его к власти. Его непримиримые враги в изгнании дали ему прозвища Наполеон Малый и Фальшивый Наполеон. В 1870 г. мир узнал, что эти прозвища были верны.
Глава 22. Наполеон Малый. Его процветание и упадок
Законодательный корпус. Активность шпионов и полиции. Придворные-выскочки. Поражение русских. Наполеон женится на Евгении. Война против Австрии. Попытки умиротворить либералов. Неудача в Мексике оскорбляет Наполеона. Напрасный гнев Франции. Новая попытка сблизиться с либералами. Неполные реформы в армии. Заметка о прогрессе французской экономики
Итак, во дворце Тюильри снова жил Бонапарт. Но он вовсе не был решительным и эгоистичным «маленьким капралом». Наполеон III, несмотря на все свои многочисленные грехи, был не лишен благородных побуждений и великодушных порывов. Причиной или, по меньшей мере, одной из причин, по которой он хотел получить власть, была его искренняя убежденность в том, что он может обеспечить Франции удачу и счастье, которые для нее невозможны ни при Бурбонах, ни при Орлеанах, ни при республике любой разновидности. Он в первую очередь был мечтателем, и многие его мечты были достойными. На портретах его ясные голубые глаза всегда смотрят не вниз и не вперед, а вверх, словно он постоянно грезил о чем-то. Часто он выглядел меланхоличным. В своих собственных поступках он обычно проявлял доброту и благожелательность к людям. Этот человек, спустивший на парижан янычарскую свору Сен-Арно, вовсе не был бесчувственным, когда лично сталкивался с человеческим страданиями. Именно увидев множество раненых после сражения при Сольферино, он поспешил заключить мир с Австрией (в 1859 г.). Смог бы он набраться мужества, чтобы совершить свой переворот, если бы рядом не было де Морни и других ему подобных? На этот вопрос мы никогда не сможем ответить.
Наполеон III много и хвастливо говорил о том, что он – защитник народа. Он или его защитники очень старались, чтобы французский народ не выбрал себе других защитников. В конституции 1852 г., согласно которой Вторая империя управлялась до 1860 г., конституционным было только ее заглавие. Угрюмый царь Николай I, самодержец всероссийский, вряд ли имел больше власти, чем его «большой и добрый друг»[258] император французов.
Однако «любимец судьбы» не стремился править как ничем формально не ограниченный монарх. Напротив, мало было периодов, когда столько говорилось бы о «суверенитете народа» и «выяснении воли нации», как в годы его правления. Но авторы конституции 1852 г. старательно заботились о том, чтобы «воля нации» совпадала с желанием императора. Император сам имел большую власть. Он объявлял войну, подписывал договоры, назначал и увольнял всех государственных чиновников. Министры, стоявшие во главе важнейших министерств государства, были поставлены императором и занимали свои должности лишь потому, что это было угодно ему. Он один мог предлагать для принятия новые законы. Разумеется, он утверждал их после принятия и отдавал распоряжение обнародовать их, после чего они вступали в силу. Таким образом, он держал в своих руках всю систему законодательной власти. Документы для законодательных органов составлял Государственный совет (членов которого назначал император). А если слабые законодатели набирались мужества и вносили в документ какие-либо поправки, Совет мог посоветовать императору принять поправку или отклонить.
Законодательный корпус (Corps législatif) состоял из 261 депутата. Депутаты избирались на шесть лет народным голосованием. Этот Корпус был полностью в руках императора. Законодатели собирались на заседание по императорскому вызову, монарх мог объявить перерыв в работе законодателей или распустить корпус. Император назначал президента и вице-президента Корпуса. Корпус мог рассматривать только те документы, которые ему предлагали императорские министры, или те, на обсуждение которых давал согласие Государственный совет. Заседания Корпуса, правда, были публичными, то есть слушателям было разрешено слушать их на балконе зала. Но ничего из сказанного во время дебатов нельзя было напечатать. Опубликовать можно было только очень краткое официальное резюме, составленное президентом Корпуса. А этот президент, которого, разумеется, назначал император, был обязан запрещать любые замечания, нежелательные для правительства. Предполагалось, что депутаты голосованием принимают законопроекты об ассигнованиях (то есть бюджет). Но если правительство желало, оно всегда могло найти деньги для нужной ему цели, перечислив их с одного счета на другой. Короче говоря, депутаты реально не имели решающей власти над кошельком государства.
Вновь созданный сенат был в большей чести, чем Законодательный корпус. В сенате заседали 150 человек. Некоторые из них – адмиралы, маршалы, кардиналы – были сенаторами «по своим правам», остальных пожизненно назначал император. Они изучали законы, принятые депутатами, и ни один закон не мог быть обнародован без их одобрения. Теоретически, конечно, у них было что-то вроде права вето, но, разумеется, они тоже были полностью под контролем императора. Если правительству приходилось заняться вопросами, которые не регулировались конституцией, сенаторы могли обнародовать необходимые законы, то есть фактически изменить конституцию. Наконец, надо сказать, что эти очень много о себе мнившие сенаторы собирались на заседания тайно, и это тоже помогало их повелителю манипулировать ими.
Наполеон III всегда много говорил о том, что быть избирателем во Франции – привилегия. Однако избиратели, которым он так часто льстил, почти ничего не могли решить самостоятельно. Правительство «просвещало» их (это официальная формулировка) насчет того, за кого надо отдать голоса. Избирателям называли «официальных кандидатов», к которым благосклонен император. Каждый государственный чиновник был обязан трудиться ради их избрания. Их призывы и прокламации печатались на официальной белой бумаге[259]. Префекты департаментов распределяли поданные голоса в пользу предпочтительных кандидатов и имели множество предлогов, чтобы запретить призывы и собрания кандидатов от оппозиции. Избирательные урны охранялись только правительственными чиновниками и, несомненно, при выемке бюллетеней из урн и подсчете голосов происходили очень странные дела.
Формально цензуры для прессы не было. Но на самом деле было почти невозможно всерьез критиковать правительство. Газета должна была внести большой залог (в Париже он был равен 50 тысяч франков, то есть 10 тысяч долларов) в качестве гарантии своего хорошего поведения. Дела, имевшие отношение к прессе, слушались в специальных судах, где не было присяжных. Если газета не нравилась правительству, ей могли сделать «предупреждение». В случае второго предупреждения ее могли тут же запретить.
Публикация «ложных новостей» была правонарушением. А поскольку газеты иногда ошибались даже в простейших вещах, почти любую нежеланную газету можно было довести до закрытия судебными преследованиями. Исполнение этих законов часто поручалось местным чиновникам, а те искали благосклонности парижских властей, показывая им, как трудолюбиво преследуют неугодных. Иногда предупреждение делали по очень смешным причинам. Например, две газеты были предупреждены за то, что напечатали дискуссию о пользе некоторых химических удобрений, «потому что она может только породить неуверенность в умах покупателей»[260].
Никогда за всю свою современную историю Франции ее не наводняло такое количество шпионов, «агентов полиции» и прочих презренных мелких служащих репрессивной системы. Эти люди везде проводили аресты и часто выбирали кого-то своей жертвой просто потому, что им так захотелось. Люди попадали в тюремную камеру за самые невинные замечания. В Туре одна женщина сказала: «На винограде опять появилась гниль». Ее арестовали, и префект департамента лично пригрозил ей, что посадит ее в тюрьму пожизненно, «если она снова будет распространять плохие новости».
Образование, разумеется, было полностью в когтях нового правительства. Преподаватели всех разновидностей должны были присягнуть на верность императору. За отказ увольняли, поэтому многие учителя проявили достоинство и уволились сами. Изучение истории и философии не одобрялось, поскольку могло привести к опасным политическим дискуссиям и недовольству. Министр образования (Фортуль) пытался свести всю преподавательскую деятельность во Франции к безжизненной автоматической системе обучения. Это он издал часто цитируемый приказ, в котором предписал преподавателям сбрить усы, «чтобы устранить из внешности так же, как из манер, последние следы анархии»[261].
Читатель, разумеется, спросит: «Как мог французский народ, свободолюбивый, остро чувствующий обиду и обман, и очень умный, терпеть такой режим?» Первый ответ: репрессивные меры властей делали любое сопротивление очень трудным. Но у Наполеона III в любом случае было три огромных преимущества: 1) за него была армия. Солдаты с восторгом повиновались человеку, который обещал возродить традиции своего могущественного дяди и при каждом удобном случае льстил им и их баловал; 2) большинство буржуа были за него. Они просили только закона, порядка и устойчивого материального процветания. Вторая империя предоставляла им все это; 3) служители церкви сначала были верными сторонниками Наполеона III. Они ненавидели режим Луи-Филиппа. Вторая республика относилась к ним более или менее дружественно. Теперь Вторая империя пообещала им почет и влияние. А в Италии политическое положение было таким, что папе Пию IX в любой момент могла понадобиться поддержка французских штыков. В ответ духовенство восхваляло и поддерживало императорский режим. Кроме того (это была самая ценная помощь из всех), приходские священники часто созывали послушных им крестьян в места голосования, чтобы те отдали голоса за «официальных» кандидатов. Наполеона III всегда ненавидели промышленные рабочие Парижа и других крупных городов. Большинство ведущих интеллектуалов и литераторов французского народа были непримиримыми противниками императора. Но в это время важны были только штыки и избирательные бюллетени. Император много лет мог бросать вызов любой ворчащей оппозиции.
Тем не менее Наполеон III и окружавшие его алчные соратники не обманывали себя. Они никогда не верили, что прочно укоренились во власти и смогут остаться в Тюильри, даже если однажды станут очень непопулярными. Чтобы привлечь к себе и удержать интерес народа, нужны были войны – разумеется, победоносные, в ходе которых пролилось бы как можно меньше крови и было бы истрачено как можно меньше денег, но увеличилась бы «слава» имени Наполеона. Кроме того, чтобы удовлетворить буржуа, нужно было постоянно пропагандировать железные дороги, пароходы, коммерцию и т. д. Чтобы успокоить враждебно настроенных промышленных рабочих, нужно было принять меры, полезные для них. Короче говоря, император начал играть роль благожелательного деспота, и надо признать, что у него были хорошие намерения. Он собирался оправдать существование Второй империи большими подлинными выгодами, которые она принесла бы Франции.
К несчастью, тот, кто хочет быть успешным деспотом, должен иметь результативных помощников – честных, талантливых и уважающих себя. Но из-за своего переворота Наполеон III навсегда потерял возможность командовать лучшими умами Франции. Люди, которым следовало сидеть в его министерствах, были в изгнании или, по меньшей мере, ушли в свою частную жизнь и лишь беспомощно ворчали. На их местах находились те, кто организовал переворот 2 декабря, и, конечно, многие другие, подобные им по духу. В Париж стали съезжаться все измотанные трудной жизнью наемные солдаты, все дворяне, чьи титулы потускнели, все безрассудные основатели акционерных обществ, которые, казалось, чувствовали себя как дома, лишь когда наклонялись над колесом рулетки. Они со всей Европы в огромном количестве приезжали в Париж и предлагали свои «услуги» императору или его министрам[262]. Наполеон III создал роскошный блестящий двор, который своей элегантностью соответствовал в XIX в. великолепию двора Людовика XIV. Но «этот двор состоял из мужчин и женщин, которые все в большей или меньшей мере были авантюристами. Это был двор нуворишей и скороспелой аристократии. Здесь были призы, которые можно выиграть, и удовольствия, которыми можно насладиться. Это было „похоже на времена Ноя до того, как начался потоп и смыл их всех“».
С такими помощниками император смог продержаться на троне восемнадцать лет, и первая половина его царствования в общем и целом была очень успешной во внешних делах. В Европе было неспокойно с самого 1848 г. Италия и Германия шли тяжелым путем каждая к своему национальному единству.
Австро-Венгрия – огромное скопление разнородных земель, которым уже управлял молодой тогда Франц-Иосиф, – трудилась, но труд не приносил ей удачи. Россия снова протягивала свою железную руку к Константинополю и остальному наследству «больного человека Европы»[263]. Осложнений во внешней политике вряд ли можно было бы избежать, даже если бы Наполеон III этого желал. А как он мог быть Наполеоном и желать избегнуть осложнений во внешней политике? У него была французская армия, теперь воодушевленная заботливыми напоминаниями о победах при Лоди и Йене, – боевая машина, которая казалась лучшей в Европе, пока внезапно не столкнулась с новой боевой машиной фон Мольтке, состоявшей из солдат, обученных иначе. Было бы нечестно сказать, что Вторая империя осознанно искала войны для своего расширения, как делали пангерманисты в 1914 г. Но будет честно сказать, что французский император казался очень довольным, когда Россия и Австрия в свою очередь приняли меры, позволившие ему сказать, что «эту борьбу ему навязали». Несмотря на свое знаменитое обещание, что «империя – это мир», Наполеон должен был начать войну с Россией в 1854 г. и с Австрией в 1859 г. Он выиграл обе этих войны, и если не разгромил противников, то, во всяком случае, повысил свой престиж, укрепил свою власть над Францией и упрочил свои претензии на то, чтобы быть главным человеком в Европе.
Задача этой книги не в том, чтобы разгадывать дипломатические головоломки, которые возникали в Европе с 1848 по 1870 г. и в решении которых полностью увязли Наполеон III и его министры иностранных дел. Однако нам нужно увидеть, как его внешняя политика подействовала на процветание и судьбу великого французского народа, который не совсем охотно, но все же признал этого человека своим вождем. В первой из своих войн Наполеон III объединился с давним врагом французов, Англией, против России. Эту Крымскую войну против царя Николая I (1854–1856) Франция начала не по той же причине, что Великобритания. Британцы боялись, что страшный для них московит вот-вот захватит Константинополь – ворота в Египет и Индию. Французы же долго считали себя защитниками латинских христиан Турецкой империи, дела которой были в большом расстройстве, и самым желанным из христианских государств во всех владениях султана. Николай же решительно поддерживал требования греческих христиан в ущерб требованиям их очень недружественных западных единоверцев. В Леванте он, несомненно, оттеснял на второй план все другие немусульманские государства своим постоянным вмешательством в дела Турции. Личные отношения царя и императора тоже были очень холодными. Николай считал Наполеона просто выскочкой и не признавал подлинным право французского императора называться его «братом» – монархом. В 1854 г. и Англия, и Франция могли бы избежать Крымской войны, если бы пожелали мирным путем договориться с царем о ликвидации почти обанкротившейся Османской империи. Теперь все единодушно считают, что турки не стоили того, чтобы их спасать, и что поэтому сохранение их государства граничило с преступлением. С другой стороны, политика России, несомненно, была агрессивной, грубой и казалась угрозой для западных стран. Поэтому вина в войне может быть честно распределена между всеми участниками.
Эта война продолжалась два года (1854–1856). Как известно, превосходившие противника по силе англо-французские флоты удерживали русские эскадры в плотной блокаде. Армии царя вскоре ушли из Балканских государств, и боевые действия практически свелись к длительной и отчаянной осаде Севастополя – главной крепости на Крымском полуострове. Осада началась в октябре 1854 г., и крепость держалась до сентября 1855 г. Рассказ о доблести тех, кто атаковал и кто защищал Альму, Балаклаву, Инкерман, и о штурме Малахова кургана и Редана[264] можно оставить для других книг. Об участии французов в этой войне можно честно сказать, что англичане предоставили большинство необходимых для войны судов, но все время осады французских пехотинцев в ней участвовало больше, чем английских. Поэтому французы пропорционально делали больше, чем англичане, для того, чтобы союзники выигрывали сражения на открытой местности, отражали вылазки противника и, наконец, вынудили русских эвакуировать город. Тогда говорили, что французские солдаты лучше британских переносили ужасный холод и другие трудности русской зимы. Первоначально ими командовал Сен-Арно, который приобрел известность во время наполеоновского переворота. Но он умер от холеры в самом начале осады, и ее довели до успешного конца Канробер и Пелисье[265].
Плохие дороги Южной России и скверная работа административных служб царя, возможно, сделали для победы западных союзников больше, чем доблесть англичан или французов. Николай I умер в 1855 г. с печалью и досадой в душе: ненавистный выскочка и презираемые им англичане побеждали его. Его преемник Александр II был готов заключить мир даже на явно унизительных для него условиях.
В марте и апреле 1856 г. Наполеон III имел приятную для него честь принимать ведущих дипломатов Европы на когда-то знаменитом Парижском конгрессе, где был «решен» всегда нерешенный восточный вопрос. Нам нет необходимости подробно говорить об условиях заключенного тогда договора. Достаточно сказать, что Турции продлили жизнь: ей было позволено еще какое-то время существовать под опекой и защитой Британии и Франции, а Россия была обязана отказаться от большинства своих претензий на право вмешиваться в дела Турции и даже от права иметь военные корабли на Черном море. Император играл важную роль на этой конференции. Казалось, что он диктует свои законы послушной Европе. Он навязал участникам конгресса такое решение проблем Румынии, которое было очень нежелательным для Австрии. Он позволил Кавуру, премьер-министру Сардинии, заговорить на деликатную тему угнетения Италии и плохого управления итальянскими провинциями Австрии. А эта тема была еще неприятнее для Габсбургов, чем румынский вопрос. Европейские правители признали, что его могущество велико, и перестали смотреть на него как на выскочку. Члены его семьи смогли войти через брак во многие королевские семейства. Гордости французов страшно льстило то, что иностранцы держат себя с их правителем как с первым государем Европы, почти как в дни Людовика XIV. Короче говоря, Крымская война была не слишком кровопролитной и не слишком дорогой и принесла Наполеону III огромные дивиденды.
Итак, меньше чем за пять лет после наполеоновского переворота Вторая империя достигла своего расцвета. Париж был средоточием богатства, элегантности и моды. Никогда все сомнительные развлечения, которые предлагала сверкающая великолепием столица, не были так привлекательны, никогда этот знаменитый город не был таким «веселым». Это было время внезапно наступившего процветания и соответствующего ему изобилия. Министры и протеже Наполеона часто были авантюристами, но это были интереснейшие авантюристы, которые великолепно жили благодаря своему уму. В 1852 г. императорскому двору понадобилась хозяйка. Советники императора обратили внимание на принцессу из рода Гогенцоллерн[266] и на еще одну или двух высокородных невест, но до 1856 г. старые династии не слишком стремились породниться с Бонапартом. Поэтому Наполеон женился (29 января 1853 г.) на Евгении де Монтихо, молодой испанке довольно знатного происхождения, семья которой была особенно верна делу Жозефа Бонапарта, когда тот считался испанским королем. Новая императрица была «высокой, красивой и изящной, а волосы у нее были как у красавиц Тициана». Она стала прекрасной законодательницей мод и этикета; она была образцом для всех европейских портных и во всех европейских гостиных. По своему характеру она, кажется, была в общем и целом добросердечной и достойной женщиной. Но ее политические взгляды в основном сводились к горячей поддержке всего, что было дружественным для церкви, и такой же горячей неприязни ко всему антиклерикальному или протестантскому. Она использовала свое влияние против итальянских патриотов, потому что они были против папы, а также против Пруссии – вероятно, главным образом из-за того, что пруссаки были лютеранами. Поэтому она, в общем, толкала своего мужа к ссоре с теми, кто был ему нужен в качестве друзей.
В то время, когда в Крыму бушевала война, королева Виктория и ее супруг, принц Альберт, посетили своего могущественного союзника в Булони. Принц был проницательным наблюдателем и в своих записках на память оставил интересные свидетельства о Второй империи и ее повелителе.
Принц писал: «Господа, которые входят в окружение императора, не отличаются благородством происхождения, манерами или образованием. Тон [этого кружка] скорее гарнизонный, и в нем много курят. …В общем и целом у меня сложилось впечатление, что император не хочет предпринимать никаких резких действий ни во внешней политике, ни внутри страны, но ему мучительно не хватает средств управления страной, и он вынужден изо дня в день оглядываться вокруг. Полностью лишив активного участия в управлении страной народ и сведя его до роли зрителей, они, как толпа, собравшаяся посмотреть фейерверк, теряют терпение при любом перерыве в представлении».
Это было написано в 1854 г. В 1855 г. Наполеон и Евгения побывали с ответным визитом в Англии, где были великолепно и радушно приняты в Виндзоре и проехали через Лондон, «где семь лет назад он [император] ходил в сопровождении своей бежавшей сзади верной собаки к киоску возле Берлингтонской аркады, чтобы купить газеты с последними новостями». В 1856 г., разумеется, был Парижский конгресс, еще больше прославивший императорскую чету. Как раз перед ним у царственных супругов родился маленький сын, и казалось, что его рождение обещает династии Бонапартов долгую жизнь и процветание. Предполагаемый наследник престола Пруссии приехал к императору с коротким визитом, чтобы принять от него щедрый дар. В свите прусского гостя был скромный офицер, майор фон Мольтке. В то время он еще не был знаменитым, но так же, как принц Альберт, хорошо умел видеть то, что скрывается под поверхностью. В своих письмах домой, в Германию он хвалит многое во Второй империи и много рассказывает о добродушии и благожелательности Наполеона, но заявляет: «Он страдает от нехватки способных людей, которые могли бы его поддержать. Он не может использовать людей с независимым характером, которые настаивают на том, чтобы иметь собственное мнение, потому что управление делами государства должно быть сосредоточено в его руках». Однако фон Мольтке с одобрением отнесся к тому, что император не забывает, что «французский народ любит видеть своих правителей окруженными блестящим двором».
Итак, конгресс начался и окончился. Наполеон продолжал плыть по течению событий к своей второй великой войне – битве против Австрии за свободу Италии. В юности император был членом тайного общества борцов за освобождение Италии от австрийского ига. Великодушие заставляло его сочувственно относиться к долетавшим с полуострова горьким жалобам на угнетение со стороны Габсбургов и зависевших от них мелких правителей. Его собственная политическая теория о том, что каждый народ имеет право решать свою судьбу всенародным голосованием, тоже побуждала его благосклонно выслушивать слова Кавура, очень хитроумного и дальновидного премьер-министра королевства Сардиния-Пьемонт[267], о том, что Франция должна бы вмешаться в итальянские дела и, по меньшей мере, выгнать австрийцев из Ломбардии и Венеции.
Сейчас мы снова вынуждены опустить крайне интересный рассказ о дипломатических операциях. В 1858 г. Наполеон тайно заключил с Кавуром и Виктором-Эммануилом союз, чтобы помочь им изгнать австрийцев с Итальянской земли. В обмен на значительные территориальные приобретения внутри полуострова Виктор-Эммануил уступал Франции франкоязычные округа Савойи и графства Ницца. В 1859 г. Кавур после интереснейшего всплеска дипломатической активности хитрыми маневрами заставил Австрию объявить войну Пьемонту при обстоятельствах, позволявших Наполеону сказать, что он просто приходит на помощь слабому союзнику. Однако итальянская война была популярна не у всех французов. Австрийцев поддерживал папа, боявшийся потерять свою «земную власть», и вследствие этого императрица и французские клерикалы не одобряли эту войну. Буржуазии тоже не нравились неясность исхода боевых действий и военные налоги. Тем не менее Наполеон ввел большую армию в Северную Италию. Ни австрийские, ни французские генералы не проявили практически никаких способностей как стратеги, но французские пехотинцы дрались несравненно лучше австрийских, и под командованием совершавшего грубые ошибки начальства доблестно одержали под трехцветным флагом две великие победы – сначала возле селения Маджента, потом около селения Сольферино.
Однако австрийцы еще не были разгромлены. И существовала опасность, что Пруссия предпримет недружественные действия на Рейне. В самой Франции клерикалы были обеспокоены и рассержены. Поэтому Наполеон поступил не слишком честно – покинул своего пьемонтского союзника в трудную для того минуту и внезапно заключил с Францем-Иосифом мир в Вилла-Франка (11 июля 1859 г.). По условиям этого договора Австрия должна была уступить Сардинии-Пьемонту только Ломбардию, а Венеция оставалась под австрийским игом. Поскольку император не выполнил свою часть соглашения с союзниками, он в это время не настаивал на том, чтобы получить от них Савойю и Ниццу. Но немного позже (1859–1860) государства Центральной и Южной Италии сами изгнали своих великих герцогов или папских легатов и объединились под властью Виктора-Эммануила, ставшего королем Италии. И тогда Наполеон потребовал себе обещанные округа как плату за то, что не стал слушать вопли клерикалов, оскорбленных и возмущенных тем, как сильно были урезаны территории, принадлежавшие папе. Так Франция получила два новых департамента в Альпах, образованные из Савойи, и прекрасный город Ниццу на Ривьере, но приобрела их в результате некрасивой сделки, совершенной ее императором. В результате боевых действий в Италии престиж Наполеона как военного вождя, вероятно, стал выше, чем когда-либо, но император лишился симпатии клерикалов. Итальянцы тоже не любили его: они осознавали, что он бросил их в трудное время, когда не помог им получить Венецию, а потом нечестно потребовал с них плату за то, что не помешал им объединить основную часть их земель.
Тем не менее в 1859 г. Вторая империя, вероятно, была на вершине своей славы. Франция процветала. Чтобы завоевать расположение промышленных рабочих, были организованы крупномасштабные общественные работы. Строились железные дороги. Начали работать крупные акционерные компании, которые в большей или меньшей степени находились под покровительством правительства. Барон Осман[268] планомерно перестраивал Париж, создавая в столице широкие, величественные бульвары. Это стоило дорого, но результат был великолепный. Париж стал немного менее живописным, но теперь больше, чем когда-либо, был богатой, чистой, современной столицей. Попутно была решена еще одна задача: широкие прямые проспекты легко простреливались артиллерией, а исчезновение кривых улочек, похожих на средневековые, на 100 процентов усложнило бои для защитников баррикад.
После 1859 г. стало ясно, что папа, вероятно, полностью потеряет свою земную власть над Римом и станет «узником в Ватикане», что и случилось в 1870 г. Клерикалы упрекали в этом Наполеона и охладели к нему. Чтобы найти замену их поддержке, император стал благоволить к либералам, которых так долго презирал.
Республиканцев он подавлял железной рукой. До 1857 г. у них не было ни одного представителя в депутатском корпусе. С 1857 до 1863 г. у них было лишь пять представителей (их коротко называли Пять). Этих оппозиционеров выбирали те округа Парижа и Лиона, население которых не могли полностью подчинить себе ни полиция, ни официальные кандидаты. Роялистов обеих разновидностей власть преследовала чуть менее сурово, но они были почти так же беспомощны, как республиканцы. На границах Франции регулярно обыскивали мешки с почтой и багаж путешественников, чтобы не пропустить внутрь Франции антибонапартистскую литературу. Теперь это давление было немного ослаблено. В 1860 г. официальной газете «Монитёр» было разрешено печатать полностью то, что говорилось на дебатах в палате. В 1861 г. депутатам обеспечили возможность голосовать за каждую статью бюджета отдельно и предоставили некоторые средства для реального контроля над государственной казной. Палате было разрешено отвечать обращением на тронную речь императора. С прессы тоже была снята часть ограничений: была разрешена очень умеренная критика правительства. В 1863 г. депутатами были избраны 35 оппозиционеров[269]. Это была очень маленькая фракция в палате (в которой по конституции 1851 г. был 251 депутат), но существование этой фракции означало настоящие дебаты, и правительству приходилось защищаться парламентскими средствами от истинной оппозиции. От Парижа в палату были избраны только оппозиционеры. Это означало, что Наполеон не мог рассчитывать на верность мозгового центра Франции. Такое положение могло стать очень опасным, если бы он на какое-то время утратил контроль над армией.
Однако после этих первых шагов в сторону либерализации режима было уже невозможно снова «закрутить гайки». В 1864 г. император попытался умиротворить промышленных рабочих законом, дававшим трудящимся право организовывать профсоюзы (которые до этого были запрещены ради соблюдения интересов буржуа), а также, разумеется, право бастовать с целью улучшения своих условий. Этот закон имел важнейшее значение для последующего экономического и общественного развития страны. Но сколько бы популярности император ни приобрел за счет этих мер, от нее ничего не осталось, когда Вторая империя по вине Наполеона III потеряла свой престиж из-за полной неудачи его позорной авантюры в Мексике.
Французский император, «любимец судьбы», с циничным интересом наблюдал за Гражданской войной в Соединенных Штатах. Если бы эта великая англосаксонская республика была разорвана на части и навсегда ослаблена, настал бы конец доктрине Монро[270]. И тогда Франция получила бы восхитительные возможности для всех видов империалистической эксплуатации Латинской Америки. Вероятно, Наполеон III вмешался бы в Гражданскую войну на стороне Конфедерации южных штатов, будь он уверен, что его поддержит Англия и что на его стороне будет французское общественное мнение. Французы, может быть, не все понимали в американских событиях, но не желали проливать кровь и тратить деньги для поддержки государства, которое было основано на рабстве[271]. Но в 1862 г., когда казалось, что у Америки крепко связаны руки, император наконец набрался решимости и вмешался в дела Мексики. Интервенция его войск в эту страну стала началом конца Второй империи.
Здесь мы снова переходим к рассказу о событиях, которые хорошо знакомы американцам и имеют лишь косвенное отношение к жизни французского народа. Финансы Мексики находились в нормальном для них большом беспорядке. Франция, Англия и Испания в интересах своих банков совместно ввели свои войска в Мексику, чтобы обеспечить уплату долга. Но вскоре стало ясно, что Наполеон намерен оккупировать виновную страну. Тогда Англия и Испания поспешили выйти из союза.
А французская армия была направлена из Веракруса во внутренние области страны и после нескольких первоначальных поражений заняла Мехико (1863). Мексиканские клерикалы, противники республиканского строя, теперь подыграли Наполеону – добились провозглашения в своей стране монархии и предложили австрийскому эрцгерцогу Максимилиану[272] стать «императором Мексики». Этот симпатичный и любезный принц ничего не знал о мексиканских проблемах; он необдуманно и поспешно поверил Наполеону, когда император Франции торжественно пообещал поддерживать Максимилиана силой французского оружия, пока власть нового правительства Мексики не станет прочной. В 1864 г. Максимилиан прибыл в Мексику, но республиканцы продолжали сопротивляться. Французские войска, присланные в эту страну, были слишком малочисленны, чтобы ее завоевать, и вся эта военная экспедиция в целом стоила так дорого, что французские налогоплательщики начали проявлять недовольство, и их точка зрения очень громко звучала в палатах. Затем, в 1865 г., была разгромлена Конфедерация южных штатов. Правительство Соединенных Штатов стало направлять в Париж суровые ноты по поводу Мексики, доктрина Монро воскресла и стала очень грозной силой: армия ветеранов, прошедших Гражданскую войну на стороне Севера, сосредоточилась на границе Техаса, и это был многозначительный намек. Наполеон меньше всего хотел ввязываться в отчаянную схватку с победоносными и хорошо вооруженными Соединенными Штатами. В 1867 г. он, несмотря на торжественное обязательство, данное австрийскому принцу, вывел французские войска из Мексики и оставил Максимилиана на волю судьбы. Как Максимилиан остался в Мексике, сопротивлялся республиканцам, был взят в плен и расстрелян – один из самых известных эпизодов истории Северной Америки.
Мексиканская авантюра стоила Наполеону больших денег. Она сковала часть французских войск в Америке в то время, когда они были отчаянно нужны для защиты интересов Франции в Европе. Она закончилась позорной смертью Максимилиана, и друзья австрийского принца осыпали Наполеона суровыми упреками за то, что он заманил их друга на гибель. Разумеется, она не принесла французскому императору никакой «славы», а только тяжелейший груз ответственности за ее неудачу. К тому времени, когда она закончилась, Вторая империя утратила все великолепие, которым отличалась после Парижского конгресса, и сама явно мчалась навстречу гибели, как корабль, который течение несет на скалы.
К этому времени стало ясно, что скалы и зыбучие пески, способные погубить корабль Франции, расположены со стороны Германии. В 1862 г. Бисмарк стал премьер-министром Пруссии, а фон Мольтке уже строил свою огромную военную машину, которая вскоре стала так хорошо знакома всему миру. В некоторых отношениях объединение основной части Италии в одно сильное королевство стало серьезным ударом для гордости французов. Теперь, когда рядом с Францией, за Рейном, Бисмарк начал шаг за шагом создавать большое и сплоченное Германское государство, тревога и обида французов усиливались гораздо быстрее. В 1864 г. хитроумный министр короля Вильгельма I убедил Австрию совместно с Пруссией напасть на Данию. Две великие державы, разумеется, одолели эту страну и отняли у нее Шлезвиг-Гольштейн. Было очевидно, что две страны, победившие в этой бесславной войне, обязательно поссорятся по вопросу о главенстве Германии. И Франция была в высшей степени заинтересована в том, чем окончится этот спор. Если был Наполеон III объявил, что собирается поддержать Австрию, все планы Бисмарка сделать Пруссию госпожой Центральной Европы растворились бы в воздухе. Но этот умный немецкий дворянин-землевладелец никогда не употреблял два своих великих таланта – умение льстить и умение намеками опорочить противника – с большей пользой, чем в 1865 г., когда посетил французского императора в Биаррице. В тот приезд Бисмарк несколько раз конфиденциально встречался с Наполеоном и уговорами выманил у него обещание соблюдать нейтралитет в делах Германии в обмен на очень смутные надежды и ненадежные половинчатые обещания отдать Франции еще некоторые территории к западу от Рейна, когда Пруссия станет улаживать свои дела с Австрией.
Наполеон согласился быть нейтральным. Он считал, что ни одно из германских государств не сможет быстро одержать победу над другим. Император рассчитывал, что война будет тянуться долго, исход ее будет неясным и вскоре он сможет стать в ней неодолимым третейским судьей. Поэтому он остался в стороне, позволил Италии заключить союз с Пруссией против Австрии и ждал, что будет потом.
То, что было потом, стало для него тяжелой расплатой. Война между Австрией и Пруссией была объявлена 16 июня 1866 г. А через семнадцать дней, 3 июля, могучая Австрия была разгромлена и почти беспомощна после великой битвы при Садовой (или Кёниггреце). А 23 августа в Праге был подписан мирный договор, и война закончилась. Австрия была вынуждена отказаться от всех своих интересов в делах немецких государств и отдать Италии Венецию. А Пруссия включила в свой состав Ганновер, Гессен-Кассель, Нассау и другие немецкие государства и продолжила объединять все немецкие земли, кроме Южной Германии, в грозную Северо-Германскую Конфедерацию, разумеется под своим очень строгим руководством. В результате Пруссия увеличила свою территорию примерно на 25 процентов, зато в гораздо большей степени увеличила свое могущество и свой престиж в Европе.
Новость о катастрофе при Садовой была воспринята в Париже с не меньшим ужасом, чем в Вене. По мнению французов, император совершил ужасную ошибку: у самых границ Франции родилось большое, агрессивное и сильное в военном отношении государство, а он смотрел, как оно растет, и совершенно ничего не сделал, чтобы помешать возникновению этой большой опасности для французского народа. Теперь он напрасно пытался напомнить Бисмарку, что тот обещал Франции новые территории. Не может ли она получить земли Баварии и Гессена к западу от Рейна? Или, может быть, ей разрешат захватить часть Бельгии? (Такое предложение не заслуживает похвалы.) Короче говоря, император был согласен на любое территориальное приобретение, которое бы спасло пошатнувшийся престиж Второй империи. Но Бисмарк в довольно резких выражениях отказался вспоминать о своих красивых словах, сказанных в Биаррице. Он неясно намекнул, что не прочь вознаградить Францию за счет Бельгии, но намекнул лишь для того, чтобы потом, в 1870 г., организовать утечку этой информации и опорочить Францию перед Англией. Он совершенно ясно объяснил, что Пруссия намерена перестраивать Германию на свой собственный лад и не допустит французского вторжения. Наполеон охотно начал бы войну против нее, но мексиканская авантюра сковала часть его армии, а еще несколько его полков находились в Риме, защищая папу от итальянских патриотов, желавших захватить Вечный город. К тому же компетентные генералы сказали императору, что, даже если он соберет все свои войска, у него не хватит сил для нападения на грозную новую военную машину фон Мольтке. Наполеон с огромной болью в душе отказался от воинственных планов.
Но еще один раз, последний, он попытался утешить гордость французов приобретением новых земель. Великое герцогство Люксембургское принадлежало королю Голландии, а этот король нуждался в деньгах и не испытывал большой радости от того, что владеет еще и этим крошечным государством. В 1867 г. была достигнута договоренность о продаже маленькой страны Люксембург Франции[273]. Сделка была почти заключена, но Бисмарк внезапно заявил, что не согласен с ней и пригрозил королю Голландии, что, если тот будет продолжать переговоры о продаже, общественное мнение Германии может вызвать войну. Разумеется, король сразу же прекратил переговоры. Наполеон снова был полностью разгромлен своим прусским противником; это понимала вся Европа и в особенности вся Франция.
Годы с 1867 по 1870 были «бабьим летом» для Второй империи. Франция все еще процветала. Торговля и промышленность были прибыльными. Огромный прирост богатства обеспечивал искусства щедрыми покровителями. Париж больше, чем когда-либо, был столицей комфорта, роскоши, всевозможных манящих развлечений и «порока». В 1867 г. император принимал многих европейских монархов как гостей на Великой всемирной выставке, которая во второй раз была проведена в Париже[274]. Но никто не мог скрыть, что Наполеон III терял престиж. Император Франции сильно страдал от болезни мочевого пузыря и не мог полностью сосредоточить свое внимание на государственных делах. В 1867 г. французский народ узнал о позорном поражении в Мексике и полностью ощутил на себе последствия расширения Пруссии. Вернувшийся в политику Тьер, долгожитель среди государственных деятелей, с горечью воскликнул: «Не осталось ни одной ошибки, которой бы мы не совершили!»
В 1868 г. приобретавший известность журналист Анри Рошфор написал об императоре очень ядовитые строки. В своем журнале «Лантерн» (что значит «Фонарь») он напал на Наполеона III такими словами: «Я убежденный бонапартист, но мне должны позволить выбрать среди представителей этой династии одного моим любимым героем. Как бонапартист, я предпочитаю Наполеона II. Для меня он – идеальный государь, и считать так – мое право. Никто не может отрицать, что этот монарх был на троне, раз его преемником стал Наполеон III. Какое царствование, друзья мои, какое царствование! Ни налогов, ни войн, ни цивильного листа! О да, Наполеон II, я люблю тебя и безгранично тобой восхищаюсь!»
За эти слова Рошфор поплатился судебным преследованием и изгнанием, но власти не смогли остановить распространение этого «алого памфлета». Престиж Второй империи был окончательно разрушен.
В таких обстоятельствах императору оставался лишь один выход – попытаться возвратить себе популярность с помощью новых уступок либералам. И правительство попыталось создать «демократическую империю». В 1868 г. законы о прессе стали еще мягче. Были разрешены политические собрания, если за их участников ручались семь ответственных граждан. В 1860 г. были сделаны еще более крупные уступки. После обсуждений император ввел министерскую ответственность, и после этого палата получила настоящий контроль над делами страны. Теперь она могла предлагать законопроекты, требовать от министров объяснения по поводу их политики и сама изменять свою структуру. Считалось, что министры ответственны перед большинством палаты, хотя на практике эта мера, последний шаг на пути либерализации, была применена лишь в 1870 г. На этом последнем этапе премьер-министра занимал Оливье, который раньше был лидером умеренной оппозиции, а теперь объявил, что собирается управлять страной в строгом соответствии с принципами либерализма и парламентаризма. Итак, снова колесо судьбы совершило полный оборот: Наполеон III переходил от самодержавия к ограниченной монархии. В 1869 г. он с гордостью заявил, что наконец закладывает основы системы правления, которая «одинаково далека от реакции и от революционных теорий», и обратился к народу со словами: «Я могу ответить за порядок; помогите мне спасти свободу!»
Уцелела бы Вторая империя, если бы не было катастрофы извне? Это по меньшей мере сомнительно. Воспоминание о преступном перевороте, который привел к власти ее императора, отравляло ее, как отравляла Геракла пропитанная ядом одежда кентавра Несса. Как только полицейский гнет ослаб, республиканцы подняли головы. В мае 1869 г. на выборах нового состава палаты правительственные кандидаты все вместе получили лишь 4 миллиона 438 тысяч голосов, а оппозиция набрала 3 миллиона 385 тысяч. В Париже против правительства было подано 231 тысяча голосов, а за него только 74 тысячи. В палату было избрано целых девяносто депутатов-оппозиционеров[275].
И вот 2 декабря 1869 г., в годовщину захвата власти Наполеоном, республиканцы устроили праздник в честь тех, кто погиб в 1851 г., защищая республиканские свободы. Молодой адвокат по фамилии Гамбетта произнес речь в защиту тех, кого в то время сразу же обвинили в «оскорблении правительства». Его речь стала мощным ударом по защитникам бонапартистского режима. «Послушайте, вы семнадцать лет были полным хозяином Франции. Но вы за все это время не посмели сказать: «Мы включим это второе декабря в число торжественных праздников Франции», и это характеризует вас с самой лучшей стороны, потому что доказывает, что Вы сами испытываете угрызения совести. …Хорошо! Мы [республиканцы] берем себе эту годовщину. Мы всегда будем праздновать ее и никогда не пропустим… эту годовщину смерти наших товарищей, пока наша страна снова не станет себе госпожой и не заставит вас тяжело искупить вашу вину во имя свободы, равенства и братства».
После либеральных реформ апреля 1870 г. Оливье, несмотря на все это, постарался убедить императора, что «старые добрые времена» продолжаются. Чтобы повысить престиж нового правительства, был проведен еще один референдум. Францию попросили проголосовать за формулировку: «Народ одобряет либеральные поправки, внесенные в конституцию с 1860 г., и утверждает сенаторское постановление от 20 апреля 1870 г.». Как и можно было ожидать, подавляющее большинство голосов было подано в пользу правительства. Вопрос был сформулирован умно: отвечая на него, голосующие говорили не о том, нравится ли им на самом деле Вторая империя, а лишь о том, одобряют ли они шаги власти в сторону либерализма. В итоге 7 миллионов 358 тысяч человек ответили «Да», а 1 миллион 571 тысяча – «Нет». Республиканцы объявили весь референдум нечестной уловкой. Однако в тот момент казалось, что Вторая империя подтвердила свое право на существование и продлила себе жизнь. Вполне вероятно, что на самом деле этот референдум стал одной из причин катастрофы, погубившей империю, если его результаты (как позже писал Лебон) убедили Наполеона III, «что страна по-прежнему доверяет ему и что небольшое количество славы во внешних делах посте стольких неудач восстановило бы его пошатнувшийся авторитет».
В 1869 г. последний луч солнца из-за границы осветил судьбу императора: было завершено строительство Суэцкого канала (работами руководил выдающийся француз, Де Лессепс). Сам Наполеон не смог приехать в Египет на его открытие, но Евгения прибыла туда на военном корабле, была почетной гостьей хедива Исмаила и сияла «как яркая звезда» рядом с императором Францем-Иосифом и многими другими королевскими особами Европы. В 1869 и 1870 гг. международный горизонт казался практически безоблачным. Франция внешне смирилась с объединением Северной Германии. Не было никаких отложенных серьезных проблем, которые бы ожидали решения. Но, несмотря на это, в международных делах ощущалось сильное напряжение, и о нем знали все. Французы говорили о «мести за Садовую», словно это было их собственное поражение. Пруссаки говорили о необходимости смирить «наследственного врага».
Французские военные очень ясно осознавали, что с их армией не все в порядке. Пруссаки новой организацией своей армии открыли им глаза на это. В 1866 г. во Франции была предпринята серьезная попытка реорганизовать армию. Срок военной службы был слишком большим, и в войсках служили, в сущности, профессиональные солдаты, а не люди, призванные на короткий срок. Поэтому у армии не было боеспособного резерва. Закон 1855 г. фактически разрешал платить деньги за то, чтобы призывник не служил в армии, и большинство буржуа были рады раскошелиться, чтобы спасти своих сыновей от этой утомительной обязанности. Маршал Ньель предложил ввести всеобщую воинскую повинность, но депутаты, заседавшие в палате в тот год (1866-й), не захотели его слушать, а император отказался проталкивать этот проект силой. В 1868 г. в конце концов депутаты проголосовали за некоторые несовершенные реформы, которые, если бы их осуществили, увеличили бы французскую армию до 800 тысяч человек. Однако в 1870 г., в год великого разгрома, основная часть этих реформ оставалась еще на бумаге. В этом году Франция противостояла Пруссии со своей прежней профессиональной армией и практически без боеспособных резервов или других обученных формирований, которые могли бы ее поддержать. Легко быть умным после события.
Тем не менее в первой половине 1870 г. так же, как в первой половине 1914 г., мир казался совершенно спокойным. Политика Оливье, нового либерального премьер-министра Франции, была такой мирной, что в январе 1870 г. он предложил сократить численность французской армии, если Пруссия тоже сократит численность своей. Бисмарк, у которого были свои хитроумные замыслы, отмахнулся от этого сделанного с добрыми намерениями предложения. Обстановка оставалась спокойной до начала лета. Казалось, что опасность крушения Второй империи была меньше, чем когда-либо с 1866 г. Европа успокоилась. Оливье, казалось, твердо решил совершенно не вмешиваться в дела Германии, которая стала теперь прусской. Было публично сказано, что в международных делах на горизонте не видно ни малейшего облачка, и многие дипломаты уехали в отпуск. А потом вдруг началась буря. И 19 июля Франция уже воевала с Пруссией, а 2 сентября Наполеон Малый перестал быть императором.
Заметка об экономическом и материальном прогрессе Франции в 1852–1870 гг.
Напрасно было бы отрицать, что Вторая империя сделала много для улучшения материальных условий жизни французского народа. В сущности, Наполеон III и его соратники-авантюристы были даже обязаны улучшить жизнь народных масс, чтобы сделать свое правление популярным. Более того, этот император искренне любил людей – когда любовь не мешала ему стать более великим. В эти годы было основано много больниц и домов для выздоравливающих, были приняты меры для создания системы государственных врачей и бесплатных лекарств. Поощрялись общества взаимопомощи. Государство способствовало развитию касс взаимопомощи, которые должны были облегчать жизнь стариков и служить страховкой от болезней и несчастных случаев. В 1868 г. был основан Фонд имперского принца, где рабочим предоставляли деньги на покупку инструментов. Коммерческое соглашение с Великобританией (в 1860 г.) сильно осуждали как невыгодное производителям, но оно, несомненно, помогло сделать многие товары первой необходимости дешевле для бедняков. О том, что рабочим было дано право создавать свои организации и бастовать для улучшения своих условий, уже было сказано раньше. Плывя по морю жизни, корабль революции иногда создает обратные потоки. Одной из таких странных струй было реакционное постановление революционных законодателей, фактически сделавшее забастовку уголовным преступлением. Теперь это положение было изменено.
Энергично велось строительство железных дорог. До 1842 г. их во Франции почти не было. В 1851 г. их длина составляла лишь около 2100 миль. А в 1870 г. в стране несчитывалось почти 10 тысяч миль железных дорог.
О великолепной перестройке Парижа, которой руководил барон Осман, здесь уже рассказывалось. Кроме огромных и дорогостоящих перемен на бульварах и проспектах, было построено множество новых церквей, театров, рынков, казарм и т. д., которые в огромной степени увеличили великолепие французской столицы. Кроме Парижа, были украшены Лилль, Лион, Бордо и Марсель, каждый пропорционально своему размеру и значению.
Крупные государственные предприятия, стимулирование торговли и промышленности и т. д., разумеется, привели к соответствующему развитию финансовой деятельности. В 1852 г. был основан банк «Креди Фонсье», а в 1865 г. – банк «Креди Лионне», которые должны были предоставлять деньги сельским хозяевам, промышленникам и торговцам. Эти крупные банки сделали много для стабильности и процветания Франции. Правительство сознательно увеличило государственный долг, чтобы найти деньги для своих многочисленных предприятий, но не испытывало трудностей при размещении своих ценных бумаг. В 1868 г. ему понадобился заем на сумму 400 миллионов франков (80 миллионов долларов). На этот заем подписались не меньше 830 тысяч человек, и они все вместе предложили правительству 15 миллиардов франков.
Именно это богатство, накопленное с 1852 по 1870 г., позволило Франции так быстро оправиться от ужасных ударов, которые нанесла ей Пруссия.
Если смотреть на Вторую империю только с экономической точки зрения, она заслуживала хорошего отношения со стороны народа. И то, что французы не пожелали, чтобы авантюристы-бонапартисты тащили их в болото самодовольства, делает честь уму, моральным качествам и совести французов.
Глава 23. Пруссия терзает Францию: 1870–1871 гг.
Кандидат на испанский престол. Глупая самоуверенность правительства Франции. Путаница и смятение в армии. Разгром около Седана, Наполеон попадает в плен. Правительство национальной обороны. Гамбетта выбирается из Парижа. Базен сдает Мец. Сдача Парижа. Опасное положение в Париже. Вторая осада Парижа Мак-Магоном. Утрата Эльзаса-Лотарингии. Долг помнить об утраченных провинциях
Несчастьем Наполеона III была шаткость его положения. Его власть была такой неустойчивой, что самая незначительная перемена в направлении ветров международной политики могла привести к ситуации, когда ему пришлось бы начать большую войну. А если бы он не пожелал мстить за «честь нации», его трон оказался бы под угрозой. Правительство, которое держится прочно, может сделать многое, что неприятно народу или непопулярно у него. Но правительство Второй империи не было таким, которое держится прочно. Это было одной из главных причин кризиса и разгрома 1870 г.
Почему Отто фон Бисмарк считал, что для его политики объединения немецких государств будет выгодна война с Францией? Это касается только немецкой истории. Подробности движения фигур на шахматной доске войны во время крушения Второй империи и мучительной борьбы французского народа тоже находятся за пределами темы этой книги. Мы будем смотреть лишь на то, как шайка веселых и некомпетентных людей, которых Наполеон III называл своими министрами, довела свою страну до войны и какими были физические и моральные последствия этой ужасной катастрофы для французского народа. Мало современных стран (до 1914 г.) перенесли более тяжелые испытания, чем Франция в 1870–1871 гг. То, что французский народ смог пережить эти мучения и снова поставить на ноги свою истерзанную страну, – одно из самых убедительных, какие только возможны, доказательств того, что потомки галло-римлян, франков и норманнов после многих веков переменчивой истории оставались по-прежнему плодовитым, достойным и сильным народом.
В 1870 г. Оливье был главой кабинета министров, но по необходимости был вынужден передать значительную часть дипломатических дел министру иностранных дел, герцогу де Грамону, слишком большому ура-патриоту и слишком неосторожному политику. В это время не существовало нерешенных вопросов, которые могли бы показаться непосредственной причиной близкой беды, но международное положение в целом все же было достаточно тревожным. Положение было таким же, как в 1869 г., когда генерал Дюкро написал: «Мы одновременно воинственны и миролюбивы. Мы не можем смириться и заставить себя принять ситуацию, которую сами создали своими огромными ошибками в 1866 г., и все же можем откровенно решиться на войну. Мир стоит на хрупком фундаменте и потому не продержится долго. Пруссия может откладывать свои планы, но никогда не откажется от них. Разве не ясно, что в этом переходном положении с его трениями и вызовами в любой момент непредвиденный случай может привести к ужасному кризису?»
Затем произошли события, которые сыграли на руку Бисмарку, мастеру в искусстве бесчестной интриги, и фон Мольтке, мастеру-полководцу. Вот как они выглядели в общих чертах. Трон Испании был свободен. В начале июля в Париже стало известно, что имевшая решающую власть в Мадриде партия предложила испанскую корону принцу Леопольду Гогенцоллерн-Сигмарингену, родственнику Вильгельма I, короля Пруссии. Парижская пресса сразу же забушевала. Еще одно оскорбление от Пруссии! Второй Гогенцоллерн к югу от Пиренеев вдобавок к тому, который сидит рядом за Рейном! Станет ли правительство Франции это терпеть? И так далее. По этому поводу был сделан гневный запрос в палате. И 6 июля 1870 г. герцог де Грамон «наглым и провокационным тоном» сказал депутатам, что, если одно из великих королевств посадит своего принца на трон Карла V, это нарушит равновесие сил в Европе и в этом случае «Франция выполнит свой долг без колебаний и без слабости».
Леопольд Гогенцоллерн сразу же снял свою кандидатуру: король Пруссии Вильгельм вовсе не хотел войны. Он ничем не ответил на пылкую тираду де Грамона, но тот твердо решил публично дать отпор Пруссии. Пусть все увидят, что она отступила перед угрозами Франции! Поэтому французское министерство иностранных дел стало требовать от Вильгельма официальное письмо, в котором король запретил бы своему родственнику снова стать кандидатом на испанский трон. Король не хотел заходить так далеко, тем более что вопрос уже был полностью закрыт. Тогда де Грамон совершил ошибку, из-за которой потом великий французский народ пролил много слез. Он потребовал от Бенедетти, французского посла при прусском дворе, дождался Вильгельма в курортном городе Эмс и 13 июля, в роковой день, потребовал от короля дать обязательство, что принц больше никогда не станет добиваться испанского трона. Король довольно холодно отклонил это требование, но, уходя, сердечно попрощался с Бенедетти. Было понятно, что переговоры будут продолжены в дружеском тоне.
«Значит, Бенедетти не был оскорблен и не жаловался на оскорбление»[276]. Но, как теперь все знают, Бисмарк в Берлине специально передал представителям прессы фальшивую телеграмму из Эмса, в которой было сказано, что король очень невежливо обошелся с французским послом и «указал ему на дверь». Великий министр, разумеется, хотел таким образом сделать конфликт неизбежным, чтобы укрепить единство Германии после победоносной войны против Франции.
Ни одна аморальная политическая уловка не имела такого быстрого успеха, как эта опубликованная в печати мнимая телеграмма из Эмса. В Париже обстановка накалилась еще до этого инцидента. Безответственные журналисты уже призывали правительство вести «энергичную политику» и «очистить от пруссаков правый берег Рейна». Однако де Грамон тогда был уверен, что сможет добиться огромного успеха дипломатическим путем, без войны, а император и премьер-министр Оливье были твердыми сторонниками мира. В тот самый день, 12-го числа, когда был отправлен приказ послу Бенедетти, Совет министров даже проголосовал за то, что при любом ответе короля Пруссии «правительство удовольствуется тем, что получит». Но теперь Франции словно дали пощечину. Летнее тепло выманило людей на парижские бульвары. Заполнявшая их толпа, услышав об оскорблении посла Франции, как один человек закричала: «На Берлин!» Наполеон III понял, что его отказ ответить на вызов лишит Вторую империю последних остатков ее исчезающего престижа. Интересно было бы вычислить, долго ли «любимец судьбы» в этом случае сохранял бы корону на голове.
Народу лгали относительно боеспособности армии. В кабинете министров партия войны мгновенно одержала верх. Императрица была всей душой за то, чтобы действовать. Личные предубеждения заставляли королеву элегантности и моды рваться в бой. Утверждают, что она воскликнула: «Это моя война! Мы раздавим этих прусских протестантов!» Император еще наполовину хотел мира, но его мучила болезнь и на него давили крики толпы. Оливье 15 июля пришел в палату и попросил кредит в 50 миллионов франков на военные цели. Тьер напрасно пытался добиться от него фактов и выяснить, действительно ли «оскорбление» было таким ужасным, как о нем писали. Премьер отмахнулся от его вопросов. В том угаре патриотизма, который охватил тогда французов, ни о каком спокойном обсуждении вопросов не могло быть и речи. И подавляющее большинство депутатов объявило войну Пруссии (это случилось 19 июля 1870 г.).
Руководители французского народа или были беззаботны и не задумывались о будущем, или преступно вели народ по краю пропасти лишь для того, чтобы ненадолго отсрочить свое изгнание из власти. Оливье произнес свою ставшую знаменитой фразу: «Я с легким сердцем принимаю вызов». Де Грамон позже говорил: «Принимая решение начать войну, я был полностью уверен в победе. Я верил в величие моей страны, в ее силу, в ее воинские добродетели так же, как верю в мою святую религию». Но война в конечном счете в первую очередь военная операция. Ни премьер, ни министр иностранных дел не были военными специалистами. А что говорили их военные «специалисты»? Военный министр Лебёф заверял своих коллег, что «армия готова». Когда его настойчиво попросили объяснить, что означают его слова, он ответил: «Я имею в виду, что армия прекрасно снаряжена во всех отношениях и что в течение будущего года ей не понадобится ни одна пуговица для гетр!» Так великий народ был отправлен по пути, который вел в долину унижений.
История военных событий 1870 г. теперь стала хорошо знакома каждому образованному американцу[277]. Мы все понимаем, насколько хорошо были подготовлены Пруссия и ее южногерманские союзники. Мы знаем, как тысячи мобилизованных солдат фон Мольтке, словно бездушная разрушающая машина, в идеальном порядке и прекрасно снаряженные, двинулись к Рейну. Мы знаем и о том, что военная машина Второй империи, как только ее солдаты получили приказ явиться на действительную службу, показала свою полную непригодность. Разумеется, главной бедой французов было то, что Наполеон III в военных делах так же, как в гражданских, не имел в своем распоряжении самых талантливых людей Франции. Большинство его генералов были авантюристами, просто мошенниками или, в лучшем случае, бездарными рутинерами, считавшими, что если Наполеон Великий разбил пруссаков при Йене, то его методы позволят Наполеону Малому снова разбить пруссаков где-нибудь, например, возле Франкфурта. Солдаты были храбрыми, младшие офицеры компетентными, но Верховное командование, способы снабжения армии и т. д. никуда не годились. Полевые орудия были гораздо хуже прусских, и ту же оценку можно было дать почти всему в армии. Военные реформы, предложенные в 1868 г., были очень плохо проведены в жизнь[278]. Не было боеспособных резервов. Большинство молодых французов не были обучены пользоваться оружием. Короче говоря, французы могли рассчитывать практически только на старую профессиональную армию, в которой до 1 августа было немного больше 250 тысяч человек. А она должна была противостоять намного превосходившим ее численно прусским войскам, к которым постоянно прибывали пополнения. Компетентный критик, оценивая последовавший за этим разгром, назвал три причины крушения Франции, которые легко было обнаружить, – «меньшая численность, худшее оружие, худшее высшее командование». В сущности же, у всех этих причин была одна главная причина – неумение Наполеона III осуществлять власть, которую он захватил преступным путем.
Наполеон не только поссорился с Пруссией, когда должен был знать достаточно, чтобы сидеть смирно.
Он еще и не смог найти для Франции ни одного союзника. Австрия могла бы выступить против Пруссии, но боялась, что тогда ее контратакует Россия, и потому стала ждать «первых французских побед», а их не было. Италия могла бы прийти на помощь Наполеону, но за это он должен был заплатить выводом французских войск из Рима. А император слишком зависел от клерикалов и не осмелился бросить папу на произвол судьбы. Поэтому французский гарнизон оставался в Риме до тех пор, пока положение на севере Франции не стало безнадежным. В итоге Франция вступила в войну без единого друга, с отвратительно организованной и отвратительно снаряженной армией, которая имела, как вскоре выяснилось, еще более отвратительное командование. С первого момента, когда враждующие армии столкнулись в бою, можно было почти не сомневаться, чем закончится эта война.
Еще до первых поражений стало очевидно, что дела французов очень плохи. Говорили, что отделения телеграфа были переполнены солдатами и офицерами, которые все писали телеграммы, начинавшиеся словами «Пожалуйста, пришли мне…». Из Меца, где находился главный штаб французской армии, в Париж поступали сообщения о полной неразберихе. Тем не менее столица продолжала взволнованно и радостно ждать хороших новостей. В конце июля император и маленький имперский принц отправились поездами в Мец, чтобы присоединиться к армии. Императрица осталась в Париже в качестве регентши. Ни отец, ни сын больше никогда не увидели Париж. Для наших целей о последующих событиях можно рассказать очень коротко:
1. Чтобы угодить парижской черни, которая нетерпеливо ждала победы, Наполеон 2 августа приказал атаковать слабый прусский отряд возле Саарбрюкена, у самой границы, сразу за ней. Назвать это сражением было бы смешно: прусский батальон немного пострелял и отступил. Император отправил телеграмму о том, что принц «прошел боевое крещение», и эта мелкая стычка была отмечена благодарственными молебнами, словно крупная победа.
2. Затем, 4 августа, значительно превосходящие силы пруссаков внезапно атаковали и разбили французскую дивизию возле Вайсенбурга, то есть выиграли первое серьезное сражение.
3. После этого, 6 августа, 45 тысяч французов, которыми командовал Мак-Магон, были атакованы вдвое большими силами пруссаков. После доблестного сопротивления французы были почти разгромлены и вынуждены бежать.
4. В тот же день бедствий, 6 августа, французский корпус под командованием Фроссара был атакован возле Форбаха в Лотарингии. Французы отбили первые атаки, но в итоге были вынуждены отступить – скорее из-за неумелых действий командования, чем из-за неспособности солдат остановить пруссаков.
5. Париж нетерпеливо ждал успехов, обещанных правительством. Уже после поражения французов возле Ворта столица в тот же самый день несколько часов была в лихорадочном восторге из-за ложного сообщения (вероятно, отправленного ради выгодной спекуляции акциями), что будто бы французская армия одержала великую победу и наследный принц Пруссии взят в плен. В этом же бюллетене было признано, что противник находится на французской территории, «но это предоставляет нам заметные преимущества в военном отношении» и «все может быть исправлено». Разумеется, была нужна жертва, на которой народ мог бы выместить свои чувства. Такой жертвой стал Оливье: он подал в отставку, и главой кабинета министров стал граф Паликао (10 августа). Это был полный самомнения и совершенно неумелый человек. Продолжая политику лжи о положении дел на войне, он пророчески сказал: «Если бы Париж узнал то, что знаю я, весь город был бы освещен».
6. Немцы шли прямо вперед поблизости от Меца. Император передал командование главной армией маршалу Базену (эгоисту и любителю выставлять себя напоказ, который не мог справиться с ситуацией, намного превосходившей его возможности), а сам чуть не оказался заперт в Меце пруссаками и едва успел уехать оттуда вовремя. Прусская армия загнала французов обратно в Мец в результате ряда боев, которые начались 14 августа и кульминацией которых стало решающее сражение возле Гравелота (18 августа). Французы сражались отважно, но Базен упустил все возможности победить: он действовал очень медленно и не сумел ввести в бой свои крупные резервы, чтобы подкрепить испытывавшие сильное давление дивизии на линии огня. Вскоре он был блокирован в Меце и умолял прислать ему подкрепление.
7. Наполеон не осмелился вернуться в Париж с ужасной новостью о поражении. Он укрылся в лагере возле Шалона, где его лучший генерал, Мак-Магон, пытался упорядочить состоявшую из совершенно разнородных частей резервную армию, чтобы сделать ее полезной[279]. Мак-Магон хотел на какое-то время оставить Базена держаться одного и медленно отступать к Парижу, изматывая немцев. Поскольку его войска теперь были единственной регулярной армией, находившейся в распоряжении Франции, это решение было единственно возможным. Но Паликао и напуганная императрица телеграфировали из Парижа, что, если армия отступит, не попытавшись спасти Мак-Магона, произойдет революция, которая погубит правящую династию. И Мак-Магон, против всех правил хорошей стратегии, направился к реке Мёз, напрасно надеясь соединиться с Базеном. С его армией шел император, печальный гость, беспомощный свидетель событий, которые не мог контролировать. Как и можно было ожидать, фон Мольтке стал усердно искать армию Мак-Магона, нашел ее и запер своими значительно превосходившими ее численно войсками в Седане возле границы с Бельгией. После отважной и почти лихорадочной борьбы 2 сентября Мак-Магон был вынужден сдаться. Вместе с ним сдались 82 тысячи не раненых человек, в том числе, как насмешливо сообщили немцы, «один император».
Наполеон III лаконично телеграфировал в Париж: «Армия побеждена и взята в плен. Я сам в плену». Пруссаки отправили его в симпатичный замок в Гессене, где он и находился, пока война не закончилась. Затем он уехал в изгнание в Англию. Они причинил Франции почти весь вред, который мог ей причинить один человек.
8. Теперь пруссаки, разумеется, пошли прямо на Париж: больше не было ни одной французской армии, которая могла бы им противостоять. Страсбург и другие приграничные крепости еще сражались – доблестно, но без надежды. Базен сонно сидел в Меце под прицелом прусских орудий. К 19 сентября пруссаки заняли Версаль и начали осаду Парижа. Теперь им пришлось сражаться уже не со Второй империей, а с новым Правительством национальной обороны.
Как только зловещая новость о поражении под Седаном распространилась по Парижу, авторитет власти перестал сковывать парижан. Цепь, стягивавшая их, была разорвана. Лживые бюллетени и постепенное осознание того, что приспешники Наполеона Малого ведут страну к ужасным материальным бедствиям, озлобили парижан и привели их в ярость. Однако в столице не произошло ни неистовых жестоких самосудов, ни даже просто жестоких убийств, и эта сдержанность характеризует ее жителей с хорошей стороны.
В ночь 3 сентября палата заседала. Один из лидеров республиканцев, Жюль Фавр, внезапно предложил считать, что правление Бонапарта закончилось, и создать временное правительство. Большинство депутатов были так ошеломлены его словами, что предложение не было ни принято, ни отклонено. В 10 часов утра 4-го числа рабочие устроили шествие и кричали «Свержение! Свержение!». В Тюильри встревоженные и растерянные министры в последний раз совещались с императрицей-регентшей. Паликао сказал, что может попытаться остановить толпу, если у него будут «40 тысяч человек», но у властей не было 40 тысяч верных солдат. Весь день прошел в бесполезных спорах между всеми якобы правящими органами. Кончилось тем, что, пока палата голосовала за предложение Тьера создать Комитет национальной обороны, толпа ворвалась в здание. Заседание было прервано. Чтобы угодить народу, депутаты перешли в ратушу. Там к ним присоединился Трошю, военный губернатор Парижа. Ему доверял гарнизон, и он был не слишком дружен с Евгенией. Трошю встал во главе нового временного правительства, большинство членов которого были республиканцами. Самым выдающимся из них было Жюль Фавр, получивший портфель министра иностранных дел. Министром внутренних дел стал Гамбетта.
Катастрофа была так велика, что конституционные придирки или приятные процедуры улаживания и перехода были невозможны. Евгения бежала из почти осажденного толпой Тюильри, и народ кричал ей вслед: «Низложить!» и «Да здравствует республика!». Благодаря помощи своего зубного врача доктора Эванса[280], американца, она вскоре не без приключений бежала в Англию, где началось ее долгое изгнание.
Сенат и Законодательная палата повели себя не слишком достойно – сами объявили о своем роспуске. Как надпись на могиле беспомощных депутатов прозвучали слова Тьера: «Мы не можем ни сопротивляться, ни помогать тем, кто сражается против врага. Мы можем лишь сказать: «Да поможет им Бог!»
Вся Франция сразу же приняла Правительство национальной обороны и подчинилась ему. У французов не было другого выхода, иначе в стране началась бы анархия, когда победоносный враг шел вперед по ее земле. Итак, во Франции снова была республика. Но перед этой республикой стояли серьезные препятствия – ужасы за ее пределами и деморализация внутри ее. И перед ней стояла почти невозможная задача – спасти народ от материального разорения. Ни одна новая власть не начинала свою жизнь в более тяжелых условиях. Но именно эта власть в итоге стала дважды победительницей на Марне, победительницей при Вердене, победительницей в Шампани и устами своего верховного военачальника высказалась за демократизацию мира, когда диктовала условия перемирия Гогенцоллерну в 1918 г. Однако прежде, чем настал этот «день славы», Франция на много горестных лет должна была спуститься в Долину теней.
Новое правительство попыталось вступить в переговоры с пруссаками. Войну начал Наполеон III; теперь его больше нет; французский народ готов заплатить за мир большую контрибуцию, – так сказал Жюль Фавр во время встречи с Бисмарком. Но когда речь зашла о передаче Германии Эльзаса и северной части Лотарингии, канцлер услышал в ответ гордые слова: «Ни одной пяди нашей земли, ни одного камня наших крепостей!» Война должна была продолжаться. «Мы не у власти, но мы в бою!» – заявили народу вожди республиканцев и призвали французов защитить родину, чтобы она осталась целой. Тьер отправился в поездку по европейским столицам, чтобы найти союзников для Франции, но не имел успеха[281]. Внутри же страны все силы французов были направлены на то, чтобы сопротивляться ожидавшей их горькой участи.
В последовавшей за этим борьбе французы не смогли сберечь свою территорию, но, несомненно, спасли свою честь. Положение было таким отчаянным, что им было бы не стыдно сразу же сдаться врагу[282]. Кроме осажденных гарнизонов Меца и Страсбурга, у французского правительства было около 95 тысяч регулярных войск (рассредоточенных по большой территории) и почти никаких надежных резервов. Из этих войск примерно 50 тысяч человек находились в Париже. Приближавшихся пруссаков было 230 тысяч, они были в упоении от своей победы и прекрасно организованы.
Но с 4-го по 19-е число (пока враг приближался) в столице была проделана огромная работа. Из арсеналов Шербура и Бреста были срочно доставлены тяжелые орудия морской артиллерии. Из провинции пришли 125 тысяч «мобильных гвардейцев» (мобильной гвардией называлась разновидность ополчения), и значительная часть парижан была записана в новую Национальную гвардию. Всего в ряды защитников столицы вступили 500 тысяч человек[283]. К сожалению, их численное превосходство над пруссаками было обманчивым. Большинство этих новых солдат были не обучены, не имели компетентных офицеров, вступили в армию в спешке, во время паники, и могли противопоставить ветеранам фон Мольтке только свою горячую любовь к родине. Большинство эти войск невозможно было использовать в наступательных операциях, а немцы, разумеется, были достаточно хитры и не пытались штурмовать систему укреплений, окружавшую Париж.
Во всяком случае, эта энергия и предусмотрительность тех, кто срочно ввез в Париж большие запасы продовольствия, позволили французской столице продержаться не четыре недели, на которые рассчитывал фон Мольтке, а четыре месяца.
Чтобы спасти Париж, пока не кончилось продовольствие, нужно было, чтобы департаменты собрали большую армию для снятия с него осады и чтобы эта армия прорвалась сквозь ряды осаждающих. Но из-за того, что гарнизон столицы был таким большим, перспективы такой попытки были очень печальными. Большинство членов нового правительства оставались в Париже, но они направили трех своих представителей в Тур, чтобы те организовали войну за пределами столицы. Эти делегаты правительства были не слишком умелыми организаторами. Пишут, что, когда они начали свою работу, в их распоряжении фактически были только 23 тысячи надежных солдат и одна батарея из шести пушек. Но к ним уже спешило мощное моральное подкрепление.
Аэропланов в то время еще не было, но при благоприятном ветре парижане покидали город на воздушных шарах, пролетая над немецкими войсками. И 9 октября Леон Гамбетта, тридцатидвухлетний адвокат, который недавно так резко критиковал Вторую империю, улетел из Парижа на воздушном шаре и прибыл в Тур. Теперь он был делегатом запертого в столице правительства. Вскоре он стал считать себя воплощением всего правительства Франции. С энергией, достойной Карно, организатора войск самой первой Французской революции, он принялся организовывать «вооружение народа». Все здоровые, сильные мужчины были призваны в армию. Не имея компетентных штабных офицеров, вынужденный сам строить свои организационные структуры, имея дело с людьми, которые подчинялись ему больше из-за его властности и патриотизма, чем оттого, что он имел законное поручение правительства, Гамбетта смог создать многочисленные армии. За четыре месяца он вооружил, организовал и послал в бой 600 тысяч человек, воспламененных поэтичными призывами, которые очень любил французский народ.
Однако перед Гамбеттой стояли такие препятствия, которых не смог бы преодолеть и Наполеон I. Молодой делегат мог набрать большие армии, но не имел времени на их обучение.
Среди его офицеров почти не было испытанных в бою профессионалов; в большинстве случаев это были лишь отважные любители, которым приходилось обучаться искусству войны на практике, когда они вели своих сограждан в бой против самой научно подготовленной армии мира. Ни гениальные организаторские способности, ни горячие патриотические призывы не могли за одну ночь превратить искренне желающих сражаться буржуа и крестьян в закаленных опытных солдат. И все же Гамбетта, вероятно, спас бы Париж, если ли бы не случилось новой беды – если бы немецкая армия, окружавшая Париж, не стала почти вдвое сильнее.
После своих первых побед пруссаки осадили Страсбург. И 13 августа они начали обстреливать этот город, причем направляли смертоносный огонь своих орудий не на форты, а на частные дома, школы и т. д. Таким способом они надеялись заставить горожан убедить коменданта сдаться, но полностью просчитались. Горожане укрылись в погребах. Многие общественные здания были сожжены, в том числе две ценные библиотеки, знаменитый собор пострадал от снарядов, но горожане стойко держались. Их комендант был прав, когда сказал им: «В этот час терпение – ваш героизм». Однако в городе не было достаточных запасов пищи, и 27 сентября его защитникам пришлось поднять белый флаг над собором: другого выхода у них не было. Так начался плен Страсбурга, продолжавшийся сорок восемь лет[284].
Разумеется, падение Страсбурга освободило значительное количество немецких войск, которые были использованы против Парижа; но это было ничто по сравнению с тем, что случилось через месяц. Базен вел себя как законченный трус – стоял со своими войсками неподвижно вокруг крепости Мец и не сделал ни одной решительной попытки прорвать немецкую блокаду, хотя осаждавшие его армию немецкие войска не имели над ней подавляющего численного превосходства. Когда в его лагерь добралась новость о падении империи, его «глупый и преступный» ум переключился на политику.
Генерал вступил в переговоры с противником, желая добиться перемирия в той или иной форме, привести обратно в Париж единственную армию, которая осталась у Франции, и восстановить Вторую империю или заменить ее какой-либо другой диктатурой. Бисмарк водил его за нос притворными переговорами и расплывчатыми обещаниями, пока у Базена не кончилось продовольствие и его солдаты не утратили боевой дух настолько, что у него оставался лишь один выход – сдаться. Эта капитуляция была еще более позорной, чем поражение возле Седана. Базен сдался пруссакам в Меце 27 октября. В руках врага оказались 179 тысяч французских солдат, 1570 пушек и 260 тысяч мушкетов. Капитуляция Базена была последним злым наследством, которое Вторая империя оставила Франции, и произошло оно как раз вовремя, чтобы довести до конца крушение страны[285].
Базен был обязан сделать попытку прорваться через боевые порядки врага, а в случае неудачи держаться до последнего вздоха, даже если бы его солдаты умирали от голода. Уже одно то, что он и его армия существовали и находились в Меце, сковывало возле этого города 200 тысяч немцев, а значит, давало Гамбетте возможность снять осаду с Парижа. Теперь все это множество немецких войск в один момент стало свободным и могло помочь другим немецким армиям в осаде Парижа. Спасительные армии Гамбетты еще только начали формироваться и вступать в бой. И все же 9 ноября достаточно компетентный французский генерал, д’Орель де Паладин, одержал победу при Кульмье (которая стала едва ли не первым лучом надежды для французов) и отбил у тевтонов Орлеан.
Но раньше, чем французы успели использовать этот успех, немецкие полчища, осаждавшие Париж, получили подкрепление – «лавину, спустившуюся из Меца» и стали так сильны, что положение столицы сделалось безнадежным.
Конец этого печального рассказа не будет долгим. Ко всем бедам несчастных французских армий добавилась необыкновенно суровая зима. Плохо снаряженные, разутые, а часто и раздетые, незнакомые со своими полуобученными офицерами-новичками французские солдаты делали все, что было в человеческих силах, но не могли сделать больше. Все их попытки прорвать немецкую блокаду потерпели неудачу. Неудачными были и попытки Парижского гарнизона вырваться из города (некоторые из них были смелыми операциями). Гамбетта продолжал трудиться: этот оптимист был неутомим и готов бороться с любыми враждебными обстоятельствами. Однако война уже начала разорять центральные департаменты Франции, и это разорение было ужасным. Крестьяне стали терять мужество. Военные специалисты говорили Гамбетте, что положение безнадежно. И в январе положение в Париже стало таким тяжелым, что привело войну к неизбежной развязке.
Столица держалась, пока горожанам не стали выдавать в день всего 300 граммов хлеба, и это был «черный вязкий хлеб из смеси риса, овса, конопляного семени и отрубей. Конина продавалась по цене 12 франков за 500 граммов, но каждому человеку было разрешено покупать ее только 30 граммов в день. Крысы стоили 2 франка штука. Львы, слоны и жирафы, жившие в парижском зверинце, уже давно были убиты и поданы к столу в дорогих ресторанах[286]. Запасы дров и угля закончились среди зимы, а она была такой суровой, что вино замерзало в бочках. Маленькие дети умирали сотнями из-за нехватки молока. И разумеется, смертность среди больных и стариков была ужасающая. И вдобавок в начале января немцы начали обстреливать Париж с большого расстояния, убив и ранив около 400 человек, хотя этот обстрел мало сделал для сдачи города.
Конец настал, когда городские власти узнали, что через несколько дней хлеба не хватит даже на тогдашние скудные пайки, и испугались, что не справятся с неизбежным в этом случае мятежом. И вот 23 января Жюль Фавр отправился в Версаль к пруссакам. Бисмарк остался глух к его мольбам о милосердии, и 28 января Париж сдался. Большинство солдат его гарнизона стали военнопленными. Когда об этом стало известно в департаментах, Гамбетта хотел продолжать войну, но руководители армии сказали ему, что положение безнадежно и Франция должна заключить мир на любых условиях, или она будет полностью разорена. С болью в сердце «диктатор» смиренно сложил свои полномочия и уехал в Испанию, где Фавр и Тьер вели завершающие печальные переговоры с Бисмарком. Было принято решение, что будет созвано Национальное собрание, которое одобрит мирный договор от имени народа и создаст постоянное правительство Франции. Страна, которая совсем недавно, в 1856 г., казалась первой и не имевшей себе равных среди государств Европы, теперь должна была по требованию победителей уступить Германии Эльзас и северную часть Лотарингии (в том числе Мец), а также уплатить контрибуцию в размере 5 миллиардов франков (1 миллиард долларов). Только благодаря твердости Тьера и его отчаянным угрозам немцы не потребовали мощную крепость Бельфор[287] и 6 миллионов вместо пяти. Унижение «великой нации» было огромным и не имело себе равных.
Национальное собрание начало заседать в Бордо 12 февраля 1871 г. О том, при каких обстоятельствах оно было избрано и кто были его члены, будет рассказано в следующей главе. А 26 февраля Тьер и Бисмарк составили в Версале предварительный вариант мирного договора. Потом была последняя мучительная попытка сопротивления: депутаты от Эльзаса – Лотарингии стали умолять своих соотечественников не отдавать их ненавистным чужеземцам и объявили о своем «нерушимом желании остаться французами».
Однако выхода не было; оставалось только вписать их протесты в протокол и попрощаться с ними. Одним из меньшинства, которое объявило постановление об отделении этих областей от Франции незаконным, был молодой политик Жорж Клемансо – тот самый, который через много лет снова въехал в Страсбург, а перед ним везли трехцветное знамя.
Однако чаша горестей французского народа еще не была полна. После того как пруссаки убивали французов, одни французы стали убивать других. Страдания народных масс Парижа во время осады, несомненно, были огромными. Еще в то время, когда пруссаки осаждали город, было несколько бунтов, бешеных вспышек недовольства, когда горожане едва не свергли временное правительство. А 31 октября 1870 г. буйная шайка мятежников попыталась захватить власть в ратуше, и разогнать ее удалось только силой оружия. Теперь бесполезная борьба закончилась. Немцы устроили короткий парад в честь своей победы, и их солдаты прошли под Триумфальной аркой. Многочисленное население столицы было охвачено унынием и тревогой; большинство парижан не имели работы и по-прежнему жили впроголодь. Как мудро обобщил Макиавелли, «почти все известные в истории крупные осады завершались мятежами, потому что душевные и телесные страдания народа делают его предрасположенным к влиянию агитаторов, а оружие, которое неизбежно у него есть, применяется для восстания». Именно так и случилось в Париже в ту очень несчастливую весну 1871 г.
В следующей главе автор объяснит, почему в новом Национальном собрании сильно преобладали те, кого парижская чернь считала монархистами и реакционерами. В первый раз его депутаты собрались на заседание в Бордо, чтобы немцы не могли им досаждать, но, как только немцы ушли[288], Собрание переехало в Версаль.
То, что они выбрали бывшую резиденцию королей, а не Париж, показалось парижанам оскорблением столицы и знаком того, что Собрание не сочувствует их страданиям и ничего для них не сделает. Дурная кровь вскипела, и каждый радикальный агитатор имел возможность добиться успеха.
Промышленные рабочие, жившие в восточных кварталах Парижа, «пережили осаду в состоянии сильнейшего возбуждения, физического и морального; нервы их были больны, а ум помутился». У рабочих было мало еды и почти не было привычного для них легкого вина, зато, к несчастью, было очень много виски и бренди. Когда город пал, они не понимали, что в современной войне главное не храбрость, а аккуратная научная подготовка. Поэтому они были склонны верить в простое объяснение, что виновно в поражении правительство, будто бы «предавшее» народ. Рабочие были пылкими республиканцами и думали, что Собрание готовится вернуть в страну королей. Они были организованы в отряды, составлявшие часть Национальной гвардии, и теперь не пожелали выпускать из рук оружие. Когда этим гвардейцам велели сдать артиллерийские орудия, которых у них было примерно двести тридцать, они ответили отказом, заявив, что орудия принадлежат народу Парижа, а не центральному правительству. Обиженных и не доверявших правительству рабочих стали агитировать вожди социалистов (увидевшие возможность для своего успеха). А Собрание в это время совершило очень грубую ошибку: оно отменило выплату жалованья национальным гвардейцам. Поскольку промышленные предприятия не работали, это жалованье, 11/2 франка (30 центов) в день, было единственным источником средств к существованию для многих рабочих. Кроме того, собрание постановило возобновить сбор долгов, арендной платы и т. д., который был прерван на время осады. И 150 тысяч парижан вдруг обнаружили, что могут попасть под суд за невнесенные платежи по аренде. Ясно и без слов, что недовольство росло быстро.
И вот 18 марта 1871 г. Тьер, теперь возглавлявший новое исполнительное правительство, назначенное Собранием, приказал войскам конфисковать пушки, принадлежавшие парижской Национальной гвардии. Чернь оказала сопротивление. Войска дрогнули и стали брататься с недовольными. Орудия не были отняты. В этой сумятице шайка отчаянных головорезов убила двух генералов – Лаконта и Клемана Тома. Так началась отвратительная гражданская война, которая продолжалась до 28 мая.
Столица оказалась в руках Генерального совета Парижской коммуны, в который входили только делегаты, избранные населением рабочих кварталов. Эта Коммуна объявила себя постоянным правительством города, назначила министров, подняла над Парижем красный флаг крайних радикалов и стала издавать постановления, которые объявила обязательными для всей Франции. Но, кажется, главной идеей ее вождей было превратить Францию в федерацию слабо связанных между собой автономных коммун, в каждой из которых развивалась бы своя разновидность социализма. В определенном смысле это была война Парижа против департаментов, борьба идеалов промышленных рабочих с идеалами крестьян и буржуазии. Некоторые вожди коммунистов были искренними энтузиастами и талантливыми людьми, некоторые неуравновешенными фанатиками, а другие и просто выпущенные на свободу особо опасные преступники. По мере того как социалисты проигрывали борьбу, их планы становились все более отчаянными, худшие из мятежников выходили на первый план и становились все более заметными. Коммуна, как многие другие социальные движения, началась как искренняя попытка исправить несомненное зло и приблизить наступление рая на земле. Закончилась она тем, что запятнанные кровью головорезы попытались сжечь Париж, чтобы его пепел стал памятником их гибели.
В начале апреля войска коммунистов пошли на Версаль, чтобы разогнать Собрание. Однако оно собрало верные ему войска и отбило нападение. Немцы к этому времени отпустили значительное число пленных. Ветераны Мак-Магона и Базена вернулись на родину и увидели, что к несчастьям Франции, кроме иностранной оккупации, прибавились еще две беды – гражданская война и угроза анархии. Тьер поставил маршала Мак-Магона во главе правительственных войск, которые должны были захватить столицу (их было около 150 тысяч человек). И Парижу пришлось вынести беды второй осады. В этот раз он страдал не только от голода и обстрела из дальнобойных орудий. Правительственные войска, как в 1830 и 1848 гг., захватывали баррикаду за баррикадой, улицу за улицей, хотя и атаки и оборона теперь были более долгими, сложными и отчаянными. Немцы, остававшиеся в фортах на границе Парижа, сохраняли нейтралитет и с язвительной насмешкой следили за тем, как их недавние враги режут друг друга. У Мак-Магона было преимущество в численности, снаряжении, руководстве и дисциплине, а также моральное преимущество: его люди шли в бой за более благородное дело. Ему понадобилось несколько недель, чтобы взять штурмом внешние форты и проделать брешь в цепи внутренних укреплений Парижа. А 21 мая эти укрепления тоже были захвачены, и началось сражение за сам город.
Это были адские, в высшей степени разрушительные бои. Правительственные солдаты были в бешенстве оттого, что их враги увеличивали несчастье Франции, когда победоносный враг еще находился на Французской земле[289]. Побежденные редко просили пощады и еще реже ее получали. В конце боев коммунисты в порыве жестокого отчаяния подожгли с помощью керосина многие из самых великолепных зданий Парижа. Дворец Тюильри был сожжен, Лувр едва избежал той же судьбы, многие другие здания были уничтожены или изуродованы. «Сена текла между двумя стенами огня». Коммунары хладнокровно казнили многих высокопоставленных людей, которых взяли в заложники в апреле. Среди погибших были монсеньор Дарбуа, архиепископ Парижский, и еще несколько высокопоставленных духовных лиц, а также председатель Высокого кассационного суда.
Войска победителей тоже были безжалостны, когда прокладывали себе путь вперед. Последний рубеж, на котором сражались коммунисты, проходил вокруг оскверненных могил большого кладбища Пер-Лашез. К 28 мая была взята штурмом последняя баррикада, и Кровавая неделя закончилась. После этого Париж отдыхал от войны до тех пор, пока новые прусские снаряды не обрушились на него из гигантской пушки и с аэропланов в 1914–1918 гг.
Согласно официальным подсчетам, 6500 человек погибли в боях или были схвачены с оружием в руках и после этого расстреляны. Однако на самом деле жертв, вероятно, было не меньше 17 тысяч. Минимум 36 тысяч пленных были приведены под конвоем в Версаль, где их судил военный трибунал. Не меньше 10 тысяч из них были приговорены к ссылке, и часто их ссылали на пустынный остров Новая Каледония в Тихом океане. Суровость и безжалостность наказаний соответствовали гневу и ужасу победителей. И наконец «буря закончилась». Тьер и его коллеги смогли заняться восстановлением Франции.
Франко-прусская война и последовавшая за ней Коммуна принесли Франции падение, внезапное унижение и огромные материальные потери, которым почти не было равных до 1914 г. Казалось, что страна одним ударом вычеркнута из списка великих держав и само ее существование находится под угрозой. Катастрофа указала на то, что весь фундамент французского общества прогнил, и неоспоримо доказала, что прежняя Франция была вырождавшимся и шатким государством. Мир мгновенно утратил доверие к Франции и стал считать эту страну тем, чем она была с точки зрения своих самых жестоких критиков. И Франция сама почти утратила веру в себя. Она не только перестала быть «первым государством Европы». Теперь речь уже шла о том, избежит ли она падения на уровень обветшавшей Испании, которая навсегда оказалась в тени своего одетого в кольчугу соседа – государства Гогенцоллернов и поступала так, как этот сосед ее заставлял.
Уже одни материальные потери были огромны. В результате паралича экономики во время войны, уничтожения имущества во время боев и необходимости платить огромную контрибуцию Германии Франция стала беднее минимум на 3 миллиарда долларов. До 1914 г. эта сумма была колоссальной, а кроме нее, страна потеряла 4300 квадратных миль территории и более 1 миллиона 500 тысяч граждан, насильно отнятых у нее. Захват немцами Эльзаса – Лотарингии создал между французами и тевтонами глубокую пропасть вражды, которая, по словам выдающегося американца, «нарушала спокойствие в мире около пятидесяти лет»[290].
«Думайте об этом всегда, не говорите об этом никогда», – посоветовал Гамбетта своим соотечественникам по поводу потерь, понесенных страной. Но этот героический совет вряд ли был выполнимым. Вопрос о реванше прямо или косвенно возникал почти во всех политических дискуссиях. Он стоял, как призрак, за каждым действием французской дипломатии и за каждой дипломатической интригой Германии, желавшей сохранить награбленную добычу и навсегда сделать беспомощной бывшую хозяйку этой добычи. Следующее поколение уже не помнило прусских остроконечных касок на улицах французских деревень, но его учили, как печальному Евангелию, что его долг – взять реванш и отомстить. В последние десять лет перед Великой войной французы делали вид, что их воспоминания постепенно теряют свою остроту, что печаль об утраченном Страсбурге становится менее глубокой. Но призыв к оружию, когда стране стало угрожать новое немецкое вторжение, возродил все душевные муки и страстные желания 1871 г. Для сыновей Франции эта война была не просто новой обороной любимой родины. Это был крестовый поход ради того, чтобы исправить невыносимое зло.
Дальше я приведу вам отрывок из книги, которая была самым популярным учебником по истории Франции. По нему обучали французских детей в последние двадцать лет перед 1914 г. Его автор – один из самых выдающихся историков того времени и член знаменитой академии[291].
Рассказав о великом процветании Франции при Третьей республике, автор пишет, что «оно не должно заставить нас забыть о бедствиях, которые Франция терпела в 1870 и 1871 гг. после Франкфуртского мира, который унизил и уменьшил ее. Наша давняя военная честь была оскорблена.
Мы были разбиты, потому что наша армия была слишком маленькой, была плохо организована, находилась под плохим командованием и потому что наши крепости не были подготовлены как надо к обороне.
Правительство империи не справилось со своей обязанностью поддерживать в хорошем состоянии армию и крепости. Наши беды обязывают нас самим следить через депутатов, которых мы выбираем, за безопасностью нашей родной страны и никогда не отдавать себя во власть только одного человека.
Мы были разбиты, потому что многие французы слишком сильно любили мир, покой, который он дает, и богатства, которые он позволяет им добыть. Они говорили, что армия дорого стоит и что лучше использовать деньги на постройку машин для промышленности, а не на изготовление пушек. Но началась война. Наши потери и военная контрибуция вместе были равны самое меньшее 15 миллиардам франков [3 миллиарда долларов]. Наши беды учат нас тому, что экономия на армии обходится слишком дорого и что Франция, у которой есть грозные вооруженные соседи, должна привести себя в такое состояние, чтобы иметь возможность сопротивляться им, и должна поддерживать себя в этом состоянии.
Мы были разбиты, потому что очень многие французы считали, что им не нужно учиться искусству быть солдатом.
Мы были разбиты, потому что очень многие французы считали, что время войн прошло. Они говорили, что люди должны любить друг друга и что война – это варварство, которое позорит человечество. Но немцы писали и учили, что война – честь для человечества, и они ненавидели Францию и не упускали ни одного случая обойтись с нами как с «наследственными врагами». Они долго готовились к войне против Франции, и ОНИ ГОТОВЯТСЯ К НЕЙ ОПЯТЬ. Наши беды учат нас, что мы должны любить Францию больше всего остального и лишь во вторую очередь, после нее, любить «человечество».
Любая война, начатая без справедливой причины, – преступление. Захват земель, принадлежащих другим, – тоже преступление. Франция должна отказаться от всяких мыслей о войнах и завоеваниях. Но по Франкфуртскому мирному договору Франции пришлось отдать немцам провинции, где живут 1 миллион 500 тысяч французов. Немцы никогда не спрашивали жителей Эльзаса – Лотарингии, хотят ли эти люди стать немцами. С 1871 г. они управляли нашими согражданами в высшей степени сурово. При каждой возможности эльзасцы показывали, что их чувства не изменились. Когда они выбрали депутатов в немецкий парламент, то поручили им протестовать против Франкфуртского мира, который отдал их Германии.
Они доказали, что сохранили верную любовь к Франции. Первый долг Франции – не забывать про Эльзас – Лотарингию, которая не забывает о ней».
Глава 24. Начало Третьей республики: рождение в муках
У монархистов есть большинство, но нет единства. Тьер предпочитает республику. Реорганизация армии. Клерикалы и роялисты. План возвести на престол Генриха V. Перенос симпатий на республиканцев. Президент. Избрано республиканское большинство. Мак-Магон распускает палаты. Мак-Магон подает в отставку
Снова Национальное собрание собралось для задачи, привычность которой стала уже неприятна – дать Франции конституцию. С 1789 г. это был уже одиннадцатый раз, когда депутаты исполняли свою обязанность переделывать систему управления страной[292]. И еще ни разу они не делали этого в таких безнадежных обстоятельствах, как в 1871 г. Лишь в 1875 г. Собрание выполнило хотя бы часть своей задачи, и потом еще много лет их труд считался всего лишь временным и переходным. Однако именно это Собрание, избранное в мрачные дни прусского нашествия, создало Третью республику. Оно просуществовало дольше, чем любое другое французское правительство начиная с 1792 г. Именно оно вступило в борьбу с немецким титаном в 1914 г. и вышло из этой борьбы победителем. В 1871 г. по-прежнему казалось, что французы нащупывают в темноте систему, которая сможет дать им честь и безопасность за пределами Франции и одновременно горячо любимые ими свободу, равенство и братство внутри родной страны.
Бисмарк отказался принять мирный договор, подписанный только самопровозглашенным Правительством национальной обороны.
Он потребовал, чтобы договор был утвержден органом, свободно избранным и получившим право говорить от имени всей Франции. После того как в конце января Париж капитулировал, было нужно очень быстро провести выборы, чтобы прекратить войну. Голосование прошло 8 февраля 1871 г. Было избрано 750 депутатов. Для избрания было достаточно простого большинства голосов. Париж, юго-восточные департаменты и захваченные немцами округа выбрали в основном республиканцев различной степени радикализма, но огромная масса крестьян желала в первую очередь мира. А Гамбетта, самый выдающийся республиканец, недавно делал все возможное, чтобы продолжить войну. Поэтому крестьяне выбрали главным образом монархистов одной или другой разновидности.
Итак, среди депутатов, собравшихся в Бордо, заметное большинство не пожелало провозгласить страну республикой, а только назначило Тьера, самого выдающегося тогда государственного деятеля, «главой исполнительной власти». Дело было в том, что монархистам очень не хотелось, чтобы новое царствование, чьим бы оно ни было, началось подписанием разгромного мира с Германией. Они рассчитывали опорочить республиканцев, переложив на них ответственность за такой мир. Кроме того, монархисты численно были в большинстве, но по-прежнему в их рядах был глубокий раскол. Несмотря на всеобщее отвращение к павшей империи, среди депутатов все же было несколько бонапартистов. Большинство монархистов, вероятно, были орлеанистами. Но легитимистов (сторонников прежних Бурбонов) было тоже немало – столько, что друзья Июльской монархии не могли поторопить события в деле с дискредитацией республиканцев. Поэтому монархисты сначала были вполне готовы предоставить делам идти своим чередом, а пока заняться улаживанием собственных разногласий.
Центральной фигурой этой ситуации был Луи-Адольф Тьер. Он был родом из марсельской буржуазной семьи, и в 1871 г. ему уже было не меньше семидесяти четырех лет. Уже много десятилетий он был знаменит как историк и политик. При Луи-Филиппе он уже был сначала министром, а потом премьер-министром, но разошелся с «королем-гражданином» из-за того, что настаивал, чтобы тот не пытался быть самодержцем. С 1840 по 1863 г. Тьер посвящал бо́льшую часть своего времени литературе, но в годы заката Второй империи вернулся в политику и вскоре приобрел большое влияние на ход дебатов в Палете. В 1870 г. призыв де Грамона к войне не вскружил Тьеру голову: он был одним из незначительного меньшинства депутатов, которое голосовало против разрыва отношений с Пруссией. Теперь, когда сопротивление закончилось, Тьера провозгласили самым выдающимся либералом Франции. Более двадцати округов оказали ему честь, избрав его своим представителем. Он предпочел стать депутатом от Парижа. Почти сразу после начала работы Собрание навязало ему сомнительную честь быть «главой исполнительной власти» на переходный период и вместе с ней печальную обязанность довести до конца переговоры с Бисмарком и подавить огнем пулеметов и артиллерии Парижскую коммуну.
До этого времени Тьер считался руководителем с большими, но не слишком выдающимися способностями. Теперь, когда он был уже стар, выяснилось, что он почти гениален. Он стал одним из истинных спасителей и строителей Франции. Раньше у него не получалось хорошо работать с коллегами из-за того, что он по натуре был не способен исполнять чужие приказы[293]. Но теперь он отвечал только перед своей совестью, Собранием и народом.
Поэтому он пришел на помощь страдающей стране и служил ей всеми своими зрелыми силами немолодого, но не дряхлого человека. Этим он по справедливости завоевал себе место «среди, вероятно, самой великой по значению и, несомненно, самой малой по численности группы государственных деятелей – среди тех, к кому их страна обратилась во время великого бедствия и кто, ведя ее через это бедствие, проявил величайшее постоянство, мужество, преданность и умение и был за это вознагражден успехом настолько, насколько позволяли обстоятельства»[294].
Только 10 мая 1871 г. Тьер смог официально завершить войну с Германией, подписав мирный договор во Франкфурте-на-Майне. Разумеется, борьба с Коммуной продолжалась еще около трех недель. Немцы оставались в северо-восточных департаментах и, согласно положениям договора, должны были там находиться, пока не будет уплачена огромная контрибуция. Поэтому первой задачей правительства Тьера стало решение финансовых проблем. Франция должна была собраться с духом и восстановить свою экономику как ради себя самой, так и для того, чтобы заплатить тевтонам за их уход.
Для того чтобы упрочить свое положение, Тьер в августе 1871 г. убедил Собрание принять так называемый закон Риве (названный так по фамилии того, кто его предложил). По этому закону Тьер получил титул президента республики и такие большие полномочия, что его стали называть «парламентским королем». Предполагалось, что президент будет назначать министров, выбирая их среди людей, приемлемых для большинства депутатов Собрания, но и сам будет отвечать перед Собранием за свои действия. Тьер всегда говорил, что сразу же подаст в отставку, если Собрание ясно выразит желание, чтобы он ушел с поста. Однако он очень старался, чтобы ему не пришлось уйти в отставку без серьезной причины. Он выходил на трибуну перед депутатами, побеждал их своим красноречием и одерживал над ними верх в дебатах. Лично он был в очень плохих отношениях с лидером радикалов Гамбеттой, и это было всем известно. Но вскоре появились тревожные признаки в отношениях Тьера с монархистами: стало заметно, что президент считает непреодолимыми разногласия между монархическими партиями. Одна из его знаменитых поговорок звучала так: «Республика разделяет нас меньше, чем любая другая форма правления». Такое поведение руководителя сильно встревожило большинство депутатов Собрания. Но положение страны было таким тяжелым, и Тьер был настолько необходим, что они не решались свергнуть его, так что им долго пришлось покорно принимать его красноречивые предложения.
Как уже было сказано, первой большой задачей было заплатить немцам за уход из страны. Были серьезные сомнения, что Франция сможет выплатить этот долг и выкупить свою землю. Бисмарк рассчитывал, что экономика Франции будет искалечена еще минимум десять лет. Но Тьер обратился за помощью к солидным крестьянам и буржуа своей страны, и его призыв был услышан. Никогда знаменитые «кубышки» этих неприхотливых людей, чья бережливость вошла в поговорки, не приносили их стране такой пользы, как в тот раз. В 1871 г. Франция была обязана заплатить миллиард франков, а заплатила 2 миллиарда. К началу 1873 г. она уплатила и остальные 3 миллиарда. И в сентябре 1873 г. последний немецкий солдат покинул захваченные земли. Государственные займы имели большой успех. По подписке на второй из них была собрана сумма, в четыре раза превышавшая ту, на которую рассчитывали. А когда правительству понадобились последние три миллиарда, народ дал ему 43. Разумеется, такие свидетельства преуспевания французов и их веры в будущее родины в огромной степени увеличили престиж Франции за границей, а самим французам добавили очень много чувства собственного достоинства и веры в себя. Недовольно ворчали по этому поводу только немцы. Долг был уплачен слишком быстро и слишком легко! С тех пор до 1914 г. сначала прусские милитаристы, а позже пангерманцы говорили, что Бисмарк слишком мягко обошелся с французами, уверенно предвещали «следующую войну» и заявляли, что в ней тевтоны должны постараться «обескровить Францию полностью».
Другой большой практической задачей, стоявшей перед Тьером, была реорганизация армии. Было очевидно, что, пока французская военная машина не будет поставлена на современную научную основу, Франция будет полностью отдана на милость своих недавних завоевателей. Предложения ввести всеобщую военную повинность, на которые при Второй империи палаты ответили отказом, послужившим причиной стольких бед, теперь были выдвинуты снова и усовершенствованы. Французы хотели учиться на примере немцев – правда, это желание очень запоздало. Закон 1872 г. о военной службе стал основой той великолепной боевой машины, которая потом, с 1914 по 1918 г., под командованием Жоффра, Петена и Фоша, заслоняла собой мировую цивилизацию от варварства во множестве отчаянных сражений. Были точно определены и четко разграничены понятия «действующая армия», «активный резерв», «территориальная армия» и «территориальный резерв». Срок действительной службы тогда был равен пяти годам, но сначала из этого правила было много исключений для учителей, священнослужителей и единственных кормильцев семей. Кроме того, юноши, которых готовили главным образом к учебе в университете, должны были служить всего один год. Вскоре большинство этих исключений были отменены, но срок действительной службы был сокращен до трех лет, а потом, на короткое время, до двух. Накануне Великой войны он снова был увеличен до трех лет. Но основной принцип – обучить весь народ обращаться с оружием – сохранялся все это время. Ни в одной стране военная служба не была такой всеобщей, как во Франции в первые сорок лет после 1872 г. Ни в одной стране армейская дисциплина не была более демократичной, отношения офицеров и солдат более дружескими, армия и народ более едиными. И все же эта армия служила государству, а не была в конечном счете хозяйкой его политики[295].
Чего стоила эта истинно республиканская армия, мир увидел лишь через сорок два года после принятия закона о военной службе. Но настал день, когда Америка, Англия и Италия с не меньшей любовью и уважением, чем Франция, вспомнили о мудром старом государственном деятеле, который добился вступления в силу законов об армии.
Такие успехи заслуживали похвалы. После того как последний пруссак покинул Францию, Тьера прославляли как «освободителя страны». Его популярность была огромна. Более того, результаты многочисленных выборов на освободившиеся места в Собрании показали, что симпатии народа постепенно, но несомненно склоняются в сторону республики. Роялисты из Собрания почувствовали, что должны действовать быстро, иначе «временный президент» станет настоящим «конституционным президентом».
Тьер не мог рассчитывать на поддержку крайних радикалов. Те из прежних коммунистов, кто выжил, ненавидели его за то, как он обошелся с ними в 1871 г. Сам президент тоже нисколько не сочувствовал предложениям сделать республику лишь фундаментом для полного преобразования общества и экономики. «Республика будет консервативной или перестанет существовать», – коротко, но многозначительно сказал он. А когда Гамбетта произносил речи в честь «прихода в политику нового слоя общества», Тьер сразу же заявлял, что этот второй вождь антимонархистов ведет себя как буйнопомешанный. В таких обстоятельствах власть Тьера становилась все менее прочной.
Однако он отважно пошел в наступление и, в частности, потребовал, чтобы Собрание приступило к тому, что считалось главной обязанностью этого органа, – к установлению постоянной формы правления (это произошло в 1872 г.). К этому монархисты были совершенно не готовы. Они прекрасно понимали, что любой король, посаженный на престол не с согласия подавляющего большинства народа, вероятно, будет править недолго и неспокойно и опорочит все дело роялистов. Поэтому Собрание решило тянуть время и фактически отказалось что-либо делать. Оно только постановило, что Тьер в дальнейшем должен обращаться к нему лишь в посланиях, а не свободно вмешиваться в дебаты. Тьер подчинился, хотя и возразил, что нелепо просить его, «мелкого буржуа», произносить «тронную речь». Однако он приказал своим министрам предложить на утверждение проекты законов, которые в случае принятия сделали бы республиканскую форму правления постоянной. В это время в Париже состоялись местные выборы, результаты которых выглядели так, словно в столице опять побеждали радикалы. Монархисты испугались и 24 мая 1873 г. незначительным большинством приняли постановление, подразумевавшее недоверие правительству. Тьер исполнил обязательство, данное Собранию: он не бросил вызов депутатам, хотя страна, вероятно, была на его стороне. Он красиво ушел в отставку. Его великий труд был завершен. Он вернул во Францию закон, порядок и мирное процветание, снова дал ей грозную армию и направил Францию на путь к республиканскому строю, хотя и сделал это во многом против воли Собрания. Теперь он мог отойти в сторону и смотреть, как роялисты сами губят себя[296].
Теперь монархистские фракции объединились настолько, что смогли избрать временным президентом маршала Мак-Магона. Этот военачальник имел отношение к катастрофе возле Седана, но все считали, что ему тогда просто не повезло и упрекать его не за что. Это был человек старой закалки и строгих нравственных правил, почтенный аристократ по привычкам, искренне убежденный, что самая лучшая форма правления для Франции – какая-нибудь разновидность королевской власти. Разумеется, депутаты предполагали, что он поможет Собранию устроить так, чтобы опять какой-нибудь король мог мирно и при всеобщем одобрении вернуться под приветственные крики на трон святого Людовика.
На стороне монархистов было все огромное и мощнейшее влияние духовенства. При Июльской монархии политическая мощь церкви очень ослабла. Теперь ее служители вернулись в политику как ожесточенные противники республиканцев-«атеистов». Кроме того, французские клерикалы были страшно оскорблены действиями итальянского правительства, которое в 1870 г. лишило папу светской власти над Римом. Они горячо агитировали за вооруженное вторжение, которое вернуло бы понтифику его законные права в Италии, и охотно предполагали, что при благочестивом «сыне церкви» на восстановленном престоле Франция сможет выделить войска для выполнения этой задачи. Клерикалы и монархисты снова заключили политический союз, и за это сотрудничество по меньшей мере одна сторона – клерикалы – заплатила потом очень дорого.
Мак-Магон назначил премьер-министром герцога де Брольи, дворянина-орлеаниста.
Тот должен был не давать республике окрепнуть и не делать ничего, что могло бы обидеть церковь. Чтобы расчистить путь для возвращения к королевской власти, де Брольи стал «очищать» государственные учреждения от неподходящих людей – переводить на другие посты префектов и более низких по должности чиновников, если те был не по душе реакционерам. Одновременно со множества кафедр и в еще большем множестве модных гостиных священники и набожные миряне начали восхвалять будущее правление Генриха V, то есть графа де Шамбора, претендента на престол из рода Бурбонов. Монархисты даже заметно старались простить своих врагов и объединиться с ними вокруг общего кандидата на престол. Этим кандидатом должен был стать внук Карла Х, граф де Шамбор. Он родился в 1820 г. и прожил долгую жизнь в роскошном изгнании, в основном на виллах в Тироле, принадлежавших семье Бурбон. У графа не было детей, и его ближайшим наследником, вероятно, стал бы граф Парижский из семьи Орлеан, преемник прав Луи-Филиппа. При таких обстоятельствах монархистам было мало пользы от продолжения семейных ссор. Шамбор уже старел. Если бы он умер королем, после его смерти орлеанисты все равно получили бы то, чего хотели. Поэтому в 1873 г. граф Парижский приехал с торжественным визитом во Фрохсдорф в Австрии, официально объявил, что примиряется с Бурбонами, и приветствовал Шамбора как «главу королевского дома Франции и единственного представителя монархической партии».
Встреча прошла очень хорошо, хотя было заметно, что Шамбор держался со своим родственником холодно и примирение было скорее формальным, чем искренним. Однако вскоре возникли новые трудности, причиной которых стал характер самого Генриха V. Претендент вырос в узком кругу фанатичных роялистов и потому относился к своему восшествию на престол в высшей степени серьезно. У него были возвышенные представления о королевском сане, достойные Карла Х или даже Людовика XIV. Он был готов принять корону лишь на условиях, которые сделали бы его настоящим королем в традиционном смысле этого слова. Тем не менее роялисты из Собрания считали, что он окажется сговорчивым. Комитет из девяти представителей их партии начал переговоры с Шамбором и продвинулся в них вперед настолько, что это обнадежило остальных. Было решено, что «король» не будет избран, а Собрание призовет его на престол согласно его наследственному праву. Собрание предъявит ему конституцию, которую он милостиво примет. Это будет достаточно либеральная конституция, гораздо лучше, чем отвергнутая Хартия 1814–1848 гг. Казалось, что все готово. Республиканцы были не у власти и казались беспомощными. Однако никто не мог сказать, долго ли будет править Генрих V, потому что в этот момент он сам пришел на помощь своим самым непримиримым врагам.
Политики-орлеанисты были глубоко уверены в том, что Шамбор, разумеется, примет трехцветный флаг и не будет настаивать на его замене прежним, белым с лилиями, флагом Бурбонов. Они считали, что это понятно и без слов. Все было готово для торжественного въезда «короля» в Париж. Уже началось изготовление ламп и фонарей для иллюминации домов аристократии и гостиниц. Стояли наготове государственные кареты «для их величеств»[297]. И тут Шамбор, которому были предназначены все эти почести, вдруг отказался их принять и разрушил все надежды. Он еще раньше упрямился и возражал, когда ему предлагали править под трехцветным флагом, объясняя, что в этом случае он будет «королем революции». В октябре 1873 г. Шамбор, к ужасу и изумлению своих самых горячих сторонников, написал письмо, в котором торжественно заявил, что ни при каких условиях не взойдет на престол иначе, чем под белым знаменем Генриха IV, «которое получил как священный залог от своего деда, старого короля, когда тот умирал в изгнании».
Письменное подтверждение Шамбором его прежних слов стало для дела роялистов ударом, который потряс здание их планов до самого фундамента. Все опытные политики знали, что для французского народа трехцветный флаг – символ всего, чего Франция достигла после 1789 г. Для монархистов отказаться от него значило своими руками создать себе препятствие. Армия никогда бы не смирилась с такой заменой.
Мак-Магон гневно сказал: «По белому флагу «шаспо» [армейские ружья] выстрелят сами». Кроме того, этот случай хорошо показал, что Шамбор упрямый и своевольный человек, который так же, как Карл Х, не хотел и не мог ничему научиться на событиях, которые произошли во Франции. В любом случае он оказался так не способен прислушиваться к чужим советам, что непременно довел бы Францию до новой революции. Похоже, претендент сам понял, как ограниченны его возможности, и решил, что будет пытаться стать королем только при самых благоприятных для этого условиях. Позже он сказал во время беседы: «Если бы я сделал все уступки, которых от меня требовали, я, может быть, получил бы корону, но я и шести месяцев не продержался бы на троне»[298]. Вполне возможно, что он был прав.
В итоге монархисты очень неохотно вернулись к тому, с чего начинали. Они напрасно и вероломно надеялись, что Шамбор умрет: тогда претендентом на престол стал бы намного более приемлемый кандидат – граф Парижский. Но у Шамбора и в немолодом возрасте было прекрасное здоровье. Он умер только в 1883 г., когда республика вполне окрепла. Большинство Собрания с отвращением пыталось продлить существование временного правительства, напрасно надеясь на какую-нибудь счастливую случайность. Мак-Магон в самом деле был для них надежным президентом, и они твердо решили держать его у власти как можно дольше.
В конце 1873 г. они провозгласили Мак-Магона президентом, избранным на семь лет (эти годы получили название Семилетие), надеясь, что за это время решат личные проблемы в династиях.
Но, к несчастью для монархистов, народ явно отдалялся от них. Воспоминания о Коммуне перестали пугать обеспеченных французов. Гамбетта становился умеренным, старательно следил, чтобы в его речах не было радикализма, и вел себя по-дружески с консервативными республиканцами вроде Тьера. Собрание было избрано для того, чтобы дать Франции постоянное правительство. В 1874 г. раздался вопрос, который в 1875 г. зазвучал еще громче: разве у депутатов есть полномочия на долгосрочную диктатуру? Они что же, не намерены исполнить свой долг, который поклялись выполнить и затем разойтись? Премьер-министр де Брольи, роялист, даже сделал все возможное, чтобы помочь своему делу и смирить республиканцев. Были использованы большие полномочия, которые имела централизованная администрация, находившаяся в Париже. Право назначать мэров для коммун было отнято у местных советов и снова (как до 1871 г.) дано министрам, то есть роялистам. Власть преследовала республиканские газеты под любым возможным предлогом, и с ноября 1873 до ноября 1874 г. были наказаны не меньше двухсот таких газет. Формально еще продолжалось «осадное положение», и это позволяло правительству очень легко применять такие наказания. Слово «республика» было удалено из официальных документов. Полагалось говорить только о «французской нации». Однако чем дольше сохранялась эта ситуация, тем сильнее на Собрание нажимали с целью заставить его создать для страны основные законы. Когда это давление стало невыносимым, депутаты с большой неохотой начали действовать.
В 1874 г. Гамбетта в качестве «разъездного агента республиканцев» совершил поразительную поездку по Франции, во время которой стало заметно, что у него появляются сочувствующие не только среди рабочих-радикалов, но и среди солидных буржуа. Она значительно ускорила ход событий, а завершающий толчок им дало впечатление от прошедших по всей стране в конце того же года выборов в муниципальные советы. Республиканцы получили подавляющее большинство голосов, фактически весь народ проголосовал против монархистов. Непрерывные требования клерикалов заступиться за папу стали еще одним препятствием для монархической партии: помочь папе означало начать войну против Италии без провокации с ее стороны. А такая война при тогдашнем положении в Европе вполне могла привести к новой войне с Германией[299].
Подчиняясь принуждению, Собрание в феврале 1875 г. приняло два закона – об организации сената и об организации органов государственной власти. В июле оно выдало еще один закон – о взаимоотношениях органов государственной власти. Эти три закона вместе и стали тем, что часто неточно называют конституцией 1875 г. В 1884 г. они были немного изменены, но в остальном оставались основным законом Франции до того времени, когда была написана эта книга. Роялисты упорно боролись против того, чтобы слово «республика» вошло в какой-либо из этих важнейших документов. Но 30 января 1875 г. после яростных споров большинством в один голос была принята так называемая поправка Валлона, по которой это столь нелюбимое слово вошло в титул «президент республики». Так благодаря крошечному преимуществу удалось преодолеть последнее глубокое разногласие[300].
Эти законы 1875 г. имели перед прежними французскими конституциями огромное преимущество: они не были сложной схемой, составленной учеными политиками, которая должна была стать идеальной и неизменной системой управления страной. Они были созданы опытными практиками, и писавшие их роялисты, надеясь на то, что ситуация когда-нибудь изменится в их пользу, сделали их как можно проще. Это документы были только временной мерой, их создатели рассчитывали, что скоро их надо будет переделывать, и поэтому сделали эти очень удобными для исправления. Однако именно эта система, составленная наугад, за которую неохотно проголосовали большинство тех, кто официально ее поддержал, просуществовала намного дольше, чем состоявшие из очень четких формулировок творения законодателей 1791, 1795 и 1848 гг.
Эта книга, разумеется, не трактат по сравнительному анализу систем правления. Поэтому будет достаточно очень коротко перечислить главные принципы, согласно которым управлялась Третья республика.
1. Президент Франции избирался на семь лет сенатом и палатой депутатов, которые для этого заседали вместе, объединяясь в Национальное собрание. Номинально он имел очень большие полномочия – командовал армией, вел дипломатические дела, имел право предлагать законы, право помилования, право заключать договоры и т. д. Но он терял девять десятых своей власти из-за того, что ни одно его решение не имело силы без заверяющих его подпись подписей министров. А министры коллективно и поодиночке были ответственны перед палатами. Президент занимал очень достойное положение в обществе[301] и представлял Францию на церемониях, но не имел почти никакого непосредственного влияния на политику. Возможности появлялись у него главным образом в тех случаях, когда кабинет подавал в отставку, при формировании нового кабинета. Если партийные группы, которые требовали для себя часть мест в новом правительстве, были не очень хорошо организованы, президент, вероятно, мог иметь большое влияние на выбор новых министров. Но как только министерство прочно брало власть в свои руки, президент становился бессильным, и добиться смены министра мог не он, а большинство депутатов нижней палаты. Один британский писатель сказал тогда с язвительной насмешкой: «Король Англии царствует, но не правит. Президент Соединенных Штатов правит, хотя и не царствует. Президент Франции и не царствует, и не правит».
2. Опробованная в 1848 г. система со всего одним законодательным органом не оправдала себя.
Поэтому законодатели 1875 г. создали верхнюю палату, образцом для которой послужили частично британские пэры, частично американский сенат. Французский сенат состоял из 300 человек. Первоначально 75 из них избирались пожизненно, и, когда один из них умирал, преемника ему избирали сами пожизненные сенаторы. Но после 1884 г. все сенаторы стали выборными[302]. Остальных сенаторов с самого начала избирали на девять лет, и через каждые три года треть из них уходила в отставку. Сенаторов избирал не сам народ непосредственно, а совет, состоявший из выборщиков, которых избирали местные советы многочисленных коммун, входивших в данный департамент[303]. Каждый департамент обычного размера представляли два сенатора, более крупные департаменты имели больше сенаторов. Париж (департамент Сена) представляли десять членов сената. Вскоре сенат приобрел достоинство и влияние. Среди его членов были не только видные политики, но и выдающиеся литераторы и ученые. В общем и целом он был отличнейшим стабилизатором для французской политики: он не был подвержен внезапным переменам и порывам, как нижняя палата, он работал гораздо более спокойно и не так шумно. Однако сенат никогда не становился господствующей половиной законодательной власти. Министры не несли ответственность перед ним и редко уходили в отставку из-за того, что сенаторы проголосовали против них. Если он вел долгую борьбу с депутатами, то был практически обречен сдаться. Тем не менее влияние сената в целом было благотворным. Его сила явно была направлена на улучшение управления республикой.
3. Палата депутатов состояла из 597 человек (позже из 610). Их выбирали от округов (arrondissements)[304] голосованием всех взрослых граждан-мужчин и переизбирали каждые четыре года. Президент республики мог распустить эту палату и назначить досрочные выборы всего состава ее депутатов, но только после того, как добился бы согласия сената. Палата депутатов, разумеется, была главной движущей силой системы управления Францией. Она имела право вносить законопроекты, и кабинет министров, против которого она проголосовала, был обязан немедленно подать в отставку. Согласно закону ее члены (разумеется, вместе с сенаторами) должны были ежегодно собираться на сессию в январе и заседать минимум пять месяцев. Президент мог при желании прервать ее работу, но только на один месяц. А если он считал необходимым объявить осадное (то есть военное) положение, обе палаты должны были почти немедленно собраться на заседание, чтобы предотвратить возможный государственный переворот.
Таким образом, законы 1875 г. создали ситуацию, когда фактически самой влиятельной политической силой во Франции была палата депутатов. Один компетентный автор мудро написал: «То, что исполнительная и законодательная власти отделены одна от другой, только видимость. Фактически всю власть имеют палаты, в особенности палата депутатов, которая самым непосредственным образом представляет страну»[305]. И поэтому можно сказать, что Франция с того времени стала чисто парламентским государством. После этого детали ее государственной системы менялись, но неизменным оставался демократический дух этой системы, который она восприняла от британской палаты общин.
Конституционное собрание прервало свою работу 31 декабря 1875 г. Выборы в новый сенат и новую палату депутатов прошли в начале 1876 г. Благодаря более сложной процедуре голосования и назначению пожизненных сенаторов монархисты получили в сенате лишь незначительное большинство. Но все старания их министров не смогли помешать новому появлению республиканского большинства в нижней палате (оно составляло примерно 200 человек). Мак-Магон был вынужден смириться и, отвечая на требования народа, назначить новый кабинет министров из республиканцев.
Однако монархисты вовсе не были готовы выйти из игры. Клерикалы, которые окончательно потеряли надежду на французскую интервенцию в Рим для восстановления папского государства, теперь использовали все свое влияние в пользу монархистов.
Новые министры-республиканцы предложили проекты нескольких законов, которые ослабили бы контроль церкви над образованием. Клерикалы нанесли ответный удар – направили Мак-Магону торжественную петицию, в которой просили его поддержать папу против правительства Италии. Вслед за этим палата депутатов приняла постановление, осуждавшее агитацию, проводимую клерикалами. При его обсуждении Гамбетта произнес фразу, которая потом стала знаменитой и долго цитировалась во время каждого нового конфликта между французскими либералами и французскими священниками: «Клерикализм – вот наш враг!» Это решение привело к развязке. Монархисты были крайне встревожены. Они потеряли палату депутатов, а приближавшиеся муниципальные выборы могли нанести удар по их слабой власти над сенатом. Но президент по-прежнему был с ними, и они, используя свою власть над Мак-Магоном, убедили его сделать то, что позже стали называть «парламентским переворотом» 16 мая 1877 г.
Премьер-министром тогда был республиканец Жюль Симон. Лично он и Мак-Магон высоко ценили один другого. Утверждают, что однажды президент сказал Симону: «Как жаль, что вы настаиваете на том, чтобы управлять вместе с палатой. Если бы вы только согласились управлять без нее, дела пошли бы лучше, и я держал бы вас министром ровно столько времени, сколько сам бы оставался президентом». – «Я республиканец, – ответил Симон. – Я управляю вместе с парламентом и вместе с моей партией. Иначе я не был бы здесь». – «Я знаю это, – сказал маршал. – Очень жаль!» Однако теперь казалось, что все надежды монархистов рухнули, и папский нунций (то есть посол) сообщил президенту, что Ватикан разорвет дипломатические отношения с Францией, если в ней не сменится кабинет министров. И Мак-Магон перешел к решительным действиям. В знаменитый день 16 мая он прогнал Симона с должности и начал процедуру возвращения на этот пост герцога де Брольи, любимца монархистов и клерикалов. Разумеется, он сознательно вызвал этим недоверие к себе у большинства депутатов.
Теперь у Мак-Магона оставалась лишь одна возможность – обратиться к избирателям, если, конечно, он не был готов захватить власть силами армии. А он не был вполне уверен, что его позиции достаточно прочны для военного переворота. Однако он испробовал почти все, кроме применения грубой военной силы. Палата была распущена и выборы отложены на самый долгий возможный срок, чтобы можно было использовать все возможные уловки для привлечения голосов роялистов. По словам писателя и публициста Эдмона Абу, «вершиной мастерства кабинета Брольи было то, что этот кабинет за пять месяцев сосредоточил в своих руках всю ту деспотическую власть, которую имперский режим осуществлял восемнадцать лет».
Мак-Магон и Брольи совместно ставили везде на должности новых гражданских чиновников, чтобы иметь послушных помощников[306]. Они под любыми возможными предлогами подвергали преследованиям республиканские газеты, приостанавливали работу тех муниципальных советов, где большинство составляли республиканцы, и (подражая, на свою беду, Второй империи) представляли избирателям «официальных кандидатов». В своем официальном обращении к французам Мак-Магон заявил: «Мое правительство укажет вам среди кандидатов тех единственных, кто сможет пользоваться моим именем». В другом своем манифесте он провозгласил: «Это борьба между порядком и беспорядком, и вы проголосуете за тех кандидатов, которых рекомендую я».
Это было высказывание вполне в духе Карла Х или Наполеона III. Духовенство объединилось вокруг официальных кандидатов и поддерживало их с таким же пылом, с каким когда-то Петр Отшельник призывал к Крестовому походу. Республиканцев осуждали и обвиняли в каждом кружке набожных французов. Так католическая церковь Франции снова, к своему большому горю, сделала ставку на чисто политическую борьбу и политическую партию, рискуя пострадать от неизбежных последствий поражения, если эта борьба будет проиграна.
Республиканцы перед лицом общей опасности забыли о своих разногласиях и сплотили свои ряды. Теперь они хвалились тем, что именно они – настоящие консерваторы, что это они защищают права суверенного французского народа от реакционных замыслов президента и клерикалов. Гамбетта произнес свое знаменитое предупреждение Мак-Магону: «Когда страна заговорит, он должен будет покориться или уйти!» Несмотря на полные бешенства манифесты роялистов, громогласные угрозы церкви и даже на прямое принуждение со стороны официальных властей, ответ народа был недвусмысленным: 318 республиканцев были возвращены и дали своей партии прочный контроль над нижней палатой. Мак-Магон увидел, что дальнейшее сопротивление бесполезно, снял с должности де Брольи и ввел в кабинет министров-республиканцев. Новая палата сразу же отменила выборы более чем пятидесяти своих членов на том основании, что те были избраны при помощи незаконного давления со стороны министров или духовенства. Так роялисты[307] лишились своего последнего шанса. Через десять лет, во время «дела Буланже», для них мелькнул слабый луч надежды, но больше им никогда не удалось держать в своих руках правительство Франции.
В 1878 г. республиканцы получили в сенате большинство в примерно пятьдесят человек. Теперь Мак-Магон был изолированным разочарованным человеком. Он был честен и благороден в своей вере в то, что ограниченная монархия – лучший вид правления для французского народа, а теперь этот народ откровенно отверг его. Однако он был стойким солдатом, и ему было отвратительно покинуть свой пост.
Но в 1879 г., когда министр-республиканец принес ему на подпись постановления о наказании нескольких видных военачальников за их действия в 1877 г., он наотрез отказался их подписать. Мак-Магон сказал, что они всего лишь подчинялись его собственным приказам, и добавил: «Если бы я это подписал, я бы потом не осмелился целовать моих детей». У него оставался лишь один выход – уйти в отставку с должности президента. И Мак-Магон сразу же сделал это (30 января 1870 г.), хотя его президентский срок еще не закончился. Национальное собрание (то есть обе палаты совместно) сразу же выбрало вместо него Жюля Греви, старого вождя республиканцев, а председателем нижней палаты был избран Гамбетта. Теперь республиканцы полностью контролировали систему управления страной, и никакая непосредственная опасность не угрожала их власти: они могли бы потерять этот контроль, только если бы совершили несколько грубых ошибок. Одним из их первых распоряжений было постановление о немедленном переезде палаты из Версаля обратно в Париж.
Так, очень бесславно и в значительной мере из-за нелепого упрямства Шамбора, излишнего усердия клерикалов и присущего всем монархистам таланта совершать огромные ошибки, появилась на свет Третья республика[308]. Вероятно, ее приход к власти был менее ярким, чем у любого правительства Франции начиная с 1789 г. Ей постоянно предсказывали быстрое падение. Ей пришлось пережить много тревожных дней и позорных для нее событий. Но она выдержала все бури, вынесла даже Великую войну и стала свидетельницей укрепления и славы Франции в 1918 г.
Глава 25. Мирные годы – 1879—1914
Перемены в настроении Франции. Интриги монархистов. Многочисленные, но не имеющие большого значения смены министерств. Политика Буланже на посту военного министра. Интриги Буланже с монархистами. Самые большие успехи Булаже. «Дело Дрейфуса». Пикар и Дрейфус. Лубе избран президентом. Дрейфус полностью оправдан. Церковь и образование. Папа Пий Х ссорится с Францией. Фальер становится президентом. Ценность французских колоний. Завоевание Северной и Центральной Африки. Как они были захвачены. Захват Мадагаскара. Французский Индокитай
Пока Мак-Магон уходил, а Греви приходил, Франция храбрилась и делала вид, что все в порядке. В 1879 г. она, показывая, что поражение под Седаном и Коммуна не раздавили ее, снова пригласила весь мир в Париж на великолепную Международную выставку. Эта выставка должна была стать свидетельством того, что страна полностью восстановила свое богатство, что ее общество и экономика здоровы и крепки и что ее художественный гений полон жизненных сил. Но, несмотря на эту демонстрацию мужества, на душе у народа было нерадостно. Удар, полученный от Пруссии, выбил у Франции почву из-под ног в международных отношениях. Французских дипломатов уже не уважали так, как раньше: не было уверенности, что, если они скажут что-то смелое и дерзкое, их страна поддержит их эффективными действиями. Теперь континентальная Европа смотрела не на Париж, а на Берлин. Бисмарк-разрушитель имел над ней власть, которой не было ни у кого из тех, кто правил Францией после Наполеона III. Казалось, что движение мира определяют немецкие методы обучения, немецкая наука, немецкие промышленные технологии, немецкие идеи и догмы, от разрушительного богословского учения до разрушительного социализма. О Франции же думали, что она упала со своего высокого пьедестала в значительной степени потому, что сама заслужила свое несчастье. Многочисленные изменения в ее конституции считались явным доказательством того, что французы – неисправимо легкомысленный и непостоянный народ, «нация балетмейстеров и парикмахеров», как их однажды кто-то неучтиво назвал. В учебнике, по которому часто изучали географию в Америке, было сказано, что «французы – веселый народ, который очень любит танцы и легкие вина».
Но в 1871 г. и позже Франция уж точно не была веселой. Настроение всего французского общества стало более суровым и строгим. Оно надолго погружалось в мучительный самоанализ, и после таких периодов нередко казалось, что оно впадало в отчаяние. Вот что написала в те дни, в тени великого поражения, одна проницательная и умная женщина о кризисе, который переживала ее страна, и о будущем этой страны: «Раненая, больная, униженная, плывущая на плоту по воле волн во время бури, нация часто спрашивала себя, какие еще трудности ее ждут. По-прежнему неясно, в каком направлении ее уносит, и даже ближайшие предметы плохо видны и окутаны туманом. [Но] Франция не утратила мужества и не утратит его. Она трудится, она надеется и, отыскивая для себя верный путь, рассчитывает, что однажды революции закончатся и тогда свобода и порядок навсегда увенчают долгие и тяжелые усилия ее самых верных слуг, какие бы имена те ни носили и в какое бы время ни жили»[309].
За следующие тридцать лет после отставки Мак-Магона Франция собралась с силами и подняла голову. Ее возрождению помогли некоторые обстоятельства в международных отношениях. Во-первых, Железный канцлер Бисмарк оставался у власти в Берлине до 1890 г., а он, как бы велики ни были его грехи, постоянно понимал, что Германской империи, его молодому детищу, нужен настоящий мир, чтобы она окрепла. Поэтому он время от времени огрызался на своих французских соседей и грозил им, но никогда не брался за оружие всерьез. Более того, примерно в то время, когда Бисмарк уступил власть своему молодому и более агрессивному повелителю Вильгельму II, Франции повезло: она заключила союз с Россией, который стал гарантией, что Третья республика не будет втянута в новую безнадежную неравную войну с Германией. Кроме того, отношения Франции с Великобританией в период с 1879 по 1900 г. часто были, к сожалению, недружественными, в них случались даже очень неприятные инциденты, но все же за это время не случилось ни одного по-настоящему серьезного кризиса в отношениях Франции с ее «наследственным врагом». В результате эти годы были мирным временем и таким временем, когда министру иностранных дел Третьей республики было сравнительно легко с честью сохранять мир[310]. Конечно, это отсутствие сильного международного напряжения намного облегчало проблемы восстановления Франции.
Но по-настоящему Францию в это время спасали от войны спокойные прозаические добродетели подавляющего большинства французского народа. У основной массы буржуа и крестьян не было твердых политических убеждений. Они так же, как раньше, были готовы поддерживать любое правительство, которое сохраняло порядок и давало им достаточно личной свободы. Третья республика была в состоянии исполнить первую задачу, и первоначально именно поэтому ей позволили существовать долго. Но Франция выздоровела не благодаря каким-то волшебным свойствам простых основных «Законов 1875 г.». Новая конституция просто обновила государственное устройство, создав мирную и стабильную обстановку, в которой ум, уравновешенность и коллективная нравственность французского народа смогли беспрепятственно проявить свою огромную силу. Кажется, что с 1879 по 1914 г. во французской истории почти не было великих людей, не было широкомасштабных и быстрых конституционных реформ, не было поразительных событий, которые бы показали гениальность французского народа. Правда, некоторые события того периода очень интересны, но они вызывают интерес в основном тем, что не сбили народ с его пути. А потом, в 1914 г., после долгой мирной истории Третьей республики снова начинается мировой кризис – и смотрите! – и друзья и враги признают, что Франция опять стала собой.
В начале этого периода, фактически до конца «дела Дрейфуса», то есть примерно до 1899 г., французская политика все время вращалась вокруг одного, хотя и замаскированного, главного вопроса: имеет ли Третья республика право на существование? Когда Мак-Магон подавал в отставку, монархисты вовсе не собирались сдаваться. Они твердо надеялись, что республиканцы сделают ошибки, из-за которых станут противны народу. Ради этого они постоянно подстрекали к действиям самые радикальные и демагогические партии, прекрасно понимая, что вторая Коммуна стала бы истинной предвестницей коронации короля. Монархистам[311] ни разу не удалось близко подойти к тому, чтобы взять под контроль большинство в палате депутатов, но несколько раз они становились достаточно сильными, чтобы вместе с инакомыслящими республиканскими партиями, не согласными с основной массой республиканцев, свергать министерства. В конце 80-х гг. был момент, когда казалось, что их интриги почти близки к успеху. Это случилось, когда они встали на сторону авантюриста Буланже. Он пытался стать диктатором, совершив переворот в стиле Наполеона III, а за этой попыткой неизбежно должно было последовать движение в обратную сторону – к упорядоченной монархии.
Таким образом, республиканцы в течение всего этого периода должны были противостоять непримиримой и сильной оппозиции. Это была не обычная оппозиция, как в Америке и Англии, состоящая из людей, которые просто хотят насладиться благами, которые дает государственная должность, и законным образом осуществить программу экономических или юридических реформ. Та оппозиция хотела полностью переделать конституцию и, если бы у нее не получилось получить законным путем то, чего она желала, была вполне готова задуматься, велики ли будут ее шансы при государственном перевороте. К тому же монархистов долго поддерживало духовенство, которое имело огромное влияние на всех набожных католиков Франции. На стороне монархистов были и знатнейшие аристократические семьи, которые, правда, больше не имели своих официальных привилегий, но сохранили свое богатство и огромное влияние на общество во всех мозговых центрах страны. Поэтому неудивительно, что иногда казалось, что Третья республика борется за свою жизнь[312].
Еще одним препятствием для республиканцев стало то, что у них в течение долгого времени было мало лидеров действительно высокого класса, и то, что дисциплина в их партии была очень слабой. Гамбетта умер в последний день 1882 г.[313] Во время буйного начала 70-х гг. он не отличался, как предводитель, идеальным самообладанием и точностью суждений. Но со временем он стал более уравновешенным, разумным и умеренным. Его любовь к Франции была совершенно искренней. В его жизни были неприятные эпизоды, но никто не может отрицать, что и как государственный деятель, и просто как красноречивый оратор и ловкий политик он был на целую голову выше мелких парламентариев, которыми слишком часто были заражены советы Третьей республики. Он создал себе слишком много личных врагов и потому не имел успеха в непрочном кресле премьер-министра, когда недолго занимал эту должность перед смертью. Тем не менее все признают, что он был сердцем и душой Третьей республики. Когда он ушел со сцены, Францией начали править действительно маленькие люди. Лишь накануне 1914 г., когда новая угроза со стороны Германии взволновала лучшую кровь нации, руководство Францией снова оказалось в значительной мере в руках людей, которые заслуженно занимали свои высокие посты[314].
Если бы республиканцы были одной партией, дела могли бы идти лучше. На самом же деле они были расколоты на группы, а эти группы образовывали такие странные объединения, что их действия могли поставить в тупик любого.
У консервативных депутатов, которые представляли интересы богатых промышленников-буржуа и крупных землевладельцев, и некоторых законодателей-парижан, чьи избиратели открыто жалели, что Коммуна потерпела поражение, общим, как правило, было лишь одно: и те и другие не хотели, чтобы на трон взошел граф Парижский или претендент бонапартистов принц Наполеон. Сотрудничество этих двух партий не могло быть легким. Большинство правительств были словно сшиты из лоскутьев. Это были не группы коллег-единомышленников, а результаты временного раздела правительства. Главе каждой из нескольких разных партий выделяли какую-то часть министерских портфелей, и те, кто это делал, смутно надеялись, что премьер нового кабинета прежде, чем ему выра зят недоверие, успеет провести желанный для них закон. За период с 1875 до 1900 г. только четыре года прошли вообще без перемен в кабинете министров. В каждый год из остальных было хотя бы одно изменение в кабинете, а если продлить этот период до 1912 г., то окажется, что всего за тридцать семь лет сменилось минимум сорок пять правительств. Однако после 1900 г. обстановка начала стабилизироваться, и средний срок существования правительства стал больше, хотя так называемый кабинет Вальдека – Руссо, продержавшийся дольше всех, просуществовал лишь около трех лет (1899–1902)[315].
В таких обстоятельствах можно с уверенностью сказать, что одной из причин долгого существования Третьей республики было то, что французский народ после бесчисленных проб и мучений наконец пришел к выводу, что демократическая республика – самый подходящий ему по духу способ правления. В таком кратком обзоре, как этот, нет никакой необходимости пересказывать год за годом подробную историю этой республики. И разумеется, незачем описывать здесь судьбу сорока пяти (или большего числа) правительств. Президенты республики, как уже было объяснено, вовсе не были так влиятельны, чтобы нужно было рассказывать о правлении каждого из них отдельно, как о времени правления администрации каждого американского президента. Чтобы получить представление об опасностях, грозивших французской демократии, и о том, как она восстанавливала свои силы, достаточно рассказать о нескольких решающих событиях. Важнейшими из них были крушение Буланже, «дело Дрейфуса» и, уже непосредственно перед Великой войной, завершающее столкновение с клерикалами. К тому времени, когда завершилась эта последняя борьба внутри Франции, страна уже вооружалась для боя не на жизнь, а на смерть с тевтонским великаном.
Какие бы грехи или добродетели ни были у нового французского правительства 80-х гг., среди его дел было мало таких, которые могли бы увлечь воображение общества. Поэтому парижская пресса, которую часто финансировали роялисты, выжимала все, что можно, из каждого скандала или нечистоплотного поступка официальных властей, который можно было вытащить на свет. Учитывая военную ситуацию, было очень мудро ничем не провоцировать Германию и не предпринимать отчаянных попыток вернуть утраченные провинции, но это не приносило славы. За такую политику над республикой постоянно насмехались, обвиняли ее в постыдной покорности, а ни за что не отвечавшим кандидатам-роялистам было легко делать неясные намеки на то, что у них есть программа реванша. С другой стороны, радикалы постоянно призывали коренным образом пересмотреть конституцию, чтобы в правительстве было меньше противных им умеренных политиков. Кроме того, в конце 80-х гг. перед республиканскими министерствами одновременно возникли несколько проблем, которые их ослабляли, – новые схватки с клерикалами в ходе борьбы за светское образование; очень большие расходы на колониальные войны, особенно на боевые действия в Кохинхине и Аннаме, которые, как тогда казалось, приносили мало выгоды и мало славы; значительные затраты на общественные работы, а затем спады в экономике, повышение налогов и опасный рост государственного долга. Все эти факторы ускорили наступление событий 1886–1889 гг., известных как «кризис Буланже».
Жорж-Эрнест Буланже (родившийся в 1837 г.) не имел в своих венах ни бурбонской, ни орлеанской, ни наполеоновской крови и даже не был дворянином. И все же он практически стал претендентом если не на французский трон, то на верховную власть во Франции. Его отец был бретонским адвокатом и главой страховой компании. Сам будущий «бравый генерал» был майором во время войны 1870 г. и имел боевые заслуги. Позже он поднялся до высокого положения в армии, но мало вмешивался в политику. Он очень любил нарядные мундиры со сверкающими украшениями. У него была почти идеальная внешность всадника, привлекающего взгляды народа, – красивые темно-рыжие волосы и борода, очень правильные черты лица и прекрасная военная выправка.
В декабре 1885 г., во время одной из частых реорганизаций кабинета, Буланже был назначен на пост военного министра. Об этом просили радикалы, которые заявили, что он «единственный среди генералов истинный республиканец». Вскоре страна получила полную возможность судить о том, каким «республиканцем» он был.
Буланже скоро показал, что он кто угодно, только не обычный рутинный администратор. Действия кабинета Фрейсине, в который он входил, казались в высшей степени антироялистскими. В июне 1886 г. военный министр даже внес заметный вклад в создание закона, по которому Орлеаны и другие семьи, претендовавшие на французскую корону, изгонялись из Франции на том основании, что их присутствие в стране – постоянный стимул к интригам для революционеров. Вскоре генерал заслужил громкое одобрение от менее ответственной части прессы. Он открыто льстил желанию народа отомстить Германии и позволял своим сторонникам восхвалять себя как будущего завоевателя Эльзаса – Лотарингии. Одновременно он принимал меры, чтобы ослабить дисциплину в армии, сделать жизнь в казармах приятнее и вообще увеличить свою популярность среди солдат. На больших смотрах он выглядел потрясающе в своем блестящем мундире, на высоком вороном коне. О нем пели песни в кафе, его прозвали «генерал Реванш». Когда случился дипломатический инцидент с Германией, Буланже собирался отдать приказ о таких перемещениях войск в сторону границы, которые могли создать сильнейшую угрозу большой войны, и коллеги лишь с трудом отговорили его. Тем временем вокруг военного министра стали собираться безответственные радикалы, которые желали любой перемены, чтобы свергнуть скучный режим «буржуазных» республиканцев. Вместе с ними были гораздо более умные и менее честные роялисты, которые видели в Буланже идеально подходившее для них орудие. Генерала все больше восхваляли, газеты все шире рекламировали его. Однако эту кампанию нельзя было скрыть от властей: умеренные республиканцы не были полными дураками. В июле 1887 г. они добились реорганизации кабинета министров, при которой Буланже лишился поста военного министра.
Однако власти не могли наказать генерала, которым восхищался народ. Им пришлось назначить Буланже командующим одним из армейских корпусов, но они выбрали для генерала корпус, штаб которого находился в Клермон-Ферране, в провинции Овернь. Буланже по-прежнему имел очень большое влияние в Париже. Роялисты горячо поддержали его и, что было для него еще лучше, помогли его делу деньгами. А 14 июля 1887 г. на торжествах в честь государственного праздника нанятые роялистами демонстранты кричали так, что вся столица звенела от их голосов: «Долой республику! Долой [президента] Греви! Ура Буланже! Нам нужен Буланже!» Было совершенно ясно, что «бравый генерал» вовсе не надоел Франции.
Потом в Третьей республике внезапно произошел серьезный скандал. Одного известного генерала обвинили в том, что он «добывал» награды для очень недостойных людей – обеспечивал их награждение орденом Почетного легиона и другими орденами. В результате расследования выяснилось, что приятелем этого преступника был Даниель Вильсон, зять самого президента Греви. Вильсон был уже известен как биржевой маклер, совершавший очень темные сделки. Не было доказано, что президент понимал, что этот родственник управлял им с помощью своего семейного влияния. Но Греви старел, и, конечно, это позволяло делать неуместные предположения на его счет. Его честь как официального лица была запятнана, и ему бы следовало тогда же подать в отставку. Но он, наоборот, упрямо держался за свою должность: когда кабинет подал в отставку, Греви попытался найти других министров, которые пожелали бы служить ему. Но ни один выдающийся государственный деятель Франции не пожелал получить министерский портфель из рук этого президента. Палаты оказали на него давление – отложили до назначенного ими срока принятие «президентского послания». В итоге Греви подчинился желанию Франции и ушел. Он сделал это очень неохотно, но в это время ему было восемьдесят лет, и он явно утратил контроль над людьми и их поступками. Его падение, конечно, усилило недовольство многих французов Третьей республикой и было очень на руку Буланже.
Весь 1888 г. этот генерал был самым важным человеком во Франции. Национальное собрание выбрало преемником Греви умеренного республиканца Сади Карно (он был президентом с декабря 1887 по июнь 1894 г.). Это был сам по себе очень достойный и честный человек и притом наследник имени и традиций выдающейся республиканской семьи – потомок знаменитого Карно, военного министра якобинцев. Однако у нового президента не было достаточных официальных полномочий для того, чтобы сделать много в этой постоянно усложнявшейся обстановке. Те, кто обычно поддерживал правительство, были расколоты на крошечные партии, ими практически было невозможно руководить. Кабинет был слаб. Казалось, что у роялистов и служивших им орудиями радикалов появились прекрасные возможности.
Буланже в это время начал систематически вести переговоры с орлеанистами и бонапартистами. Обе стороны при этом сильно блефовали: много ли граф Парижский мог ожидать от лидера, который все время говорил о необходимости изменить конституцию так, чтобы президент республики избирался не опосредованно палатами, а всенародным голосованием (совсем как Луи-Наполеон)? На самом деле роялисты верно оценивали Буланже. Они считали, что генерал будет им полезен при свержении Третьей республики, а потом они легко смогут свергнуть его.
Генерал сразу же включился в политическую борьбу. Правительство, продолжавшее наказывать Буланже, отправило его в отставку с военной службы якобы за то, что он нарушил армейскую дисциплину (в марте 1888 г.). Теперь он мог играть роль преследуемого мученика. На его сторону встали все враги умеренного демократического режима. Странное это было объединение – «экзальтированные патриоты», кричавшие о реванше; радикалы, которым нравились крайние разновидности социализма; священнослужители в черных рясах и целая свита титулованных дам и изящных господ, которые считались высшей знатью. Буланже никогда не был настолько способен к государственному творчеству, чтобы предложить действительно реформаторскую программу. Его партию называли «ревизионистами-националистами». Их конкретными действиями стали нападки на законы 1875 г. Их лозунги были: «Роспуск! Ревизия (то есть пересмотр этих законов)! Законодательное собрание!» Было ясно лишь одно: дело явно шло к государственному перевороту.
У «генерала Реванша» появилось поразительное количество денег. Газеты все усерднее пели ему хвалу. Популярные сочинители песен настроили свои лиры на его прославление. В одной из их песен был припев: «Смерть пруссакам и ура Буланже!» Во всей Европе государственные деятели встревожились: им казалось, что с таким человеком во главе Франция идет прямо к войне за утраченные провинции. Но военная обстановка была такой, что эта война могла закончиться только крупным поражением Франции. Французам пора было успокоиться, иначе катастрофа стала бы неизбежной. Но в этот момент вожди республиканцев были бессильны. Буланже выдвигали кандидатом на каждых второстепенных выборах для заполнения свободного места в палате депутатов. Никогда за всю историю выборов во Франции кандидата не финансировали так щедро. Когда иссякли все источники, откуда орлеанисты обычно черпали средства, знатная дама, герцогиня д’Юзез, предоставила им деньги из своего личного состояния. Она была уверена, что продвижение Буланже во власть – шаг к возвращению «короля», наиболее благоприятный небесам. Поэтому она дополнительно дала 3 миллиона франков (600 тысяч долларов). С такой поддержкой объект ее преданности выиграл 6 выборов подряд в течение 5 месяцев (март – август 1888 г.), уходя, естественно, в отставку после каждого триумфа, чтобы стать кандидатом еще одной группы избирателей. Его цель была очень проста: на основании такого количества побед, одержанных с большим преимуществом (его всюду избирали значительным большинством), Буланже мог заявить, что он – избранник народа согласно всему, кроме буквы закона. В этом случае у него было бы «право» захватить силами армии президентский дворец и провозгласить себя диктатором.
В конце 1888 г. этот авантюрист незаконно завладел почти всеми умами французов – не политиков. Тысячи людей, ничего не зная о том, кто на самом деле поддерживал Буланже, считали его человеком, который вернет в общественную жизнь чистоту, процветание и достоинство и, кроме того, может каким-то странным способом, не рискуя начать войну, которая могла бы закончиться полным разгромом Франции, вернуть ей земли, утраченные в 1871 г. Шумная и хорошо финансируемая Лига патриотов делала все, чтобы внушить французам эти мысли. А сам «бравый генерал» в это время жил в своем большом парижском особняке с роскошью, достойной высокого государственного сановника. Его окружали секретари; ему составляли свиту такие же, как он, авантюристы, но меньшего масштаба; его радушно принимали на своих великолепных вечерах и обедах многие маркизы и герцоги, гордые своей длинной родословной.
Но теперь республиканские партии наконец очнулись и заметили угрожавшую им опасность. Некоторые республиканцы перестали враждовать друг с другом. Честные радикалы, которые раньше поддерживали Буланже, начали порывать с ним. Этот человек был так мелок умственно и нравственно, что за его спиной были отлично видны зловещие силы, выдвигавшие его кандидатом. В начале 1889 г. он одержал свою последнюю победу. Освободилось место депутата от Парижа. Сторонники Буланже потратили ради него не меньше 450 тысяч франков (90 тысяч долларов) и добились его победы на выборах. Он получил не меньше 244 тысяч голосов, умеренный республиканец Жак получил 162 тысяч, а социалист Буль всего 17 тысяч. Наступил решающий момент. Многие сторонники Буланже надеялись, что теперь он нанесет удар – призовет гарнизон и полицию следовать за ним[316], подойдет с ними к Елисейскому дворцу и «именем нации» прикажет Карно уйти.
Но, увы, «генерал Реванш», хотя и был способен грозить, что бросит вызов Германии, был создан не из того материала, из которого сделаны стойкие революционеры. Он не мог набраться мужества. Республиканское большинство палаты депутатов, защищая себя, нанесло ответный удар. Слабый и нерешительный кабинет министров во главе с Флоке был отправлен в отставку. Сменивший его более суровый кабинет Тирара-Констана полностью прекратил волнения одним отважным ударом. Констан, новый министр внутренних дел, получил доказательства того, что Буланже не ограничивался законными средствами агитации. Министр отдал приказ арестовать генерала и доставить его в сенат для суда за преступления против безопасности государства. Префект полиции Парижа не решался привести в исполнение этот приказ и сказал, что сомневается в верности своих офицеров. «Хорошо! Тогда подавайте в отставку, – холодно ответил Констан. – Вот перо, чернила и бумага. Мы подготовились к такому случаю». Префект тут же принял его распоряжения, но они так и не были исполнены. Кто-то из помощников Констана выдал тайну, и Буланже, совершенно не желавший спровоцировать правительство на самое худшее, что оно могло сделать, поспешно сбежал в Брюссель – как кассир, присвоивший чужие деньги (31 марта 1889 г.).
Это постыдное бегство полностью опорочило генерала в глазах большинства его сторонников. Они увидели, что их кумир не герой, а всего лишь трусливый шарлатан. Для роялистов он перестал быть полезным еще раньше. Они быстро потеряли надежду отыграться и прекратили тратить на него деньги. Бельгийское правительство было не радо нести ответственность за то, что укрывает такого опасного агитатора так близко от Франции, и вынудило Буланже переехать в Англию. В то время, когда генерал жил уже там, сенат заочно осудил его за заговор против нации и признал его виновным 203 голосами против трех. Буланже был приговорен к пожизненной ссылке, но, разумеется, был в безопасности на британской территории, где и остался.
Новые выборы в палату депутатов довершили полный разгром сторонников Буланже. Вскоре генерал переехал на остров Джерси. В сентябре 1891 г. он покончил жизнь самоубийством в Брюсселе, на могиле своей любовницы, ради которой он когда-то развелся с женой. Это был достаточно трагический конец для обманщика, почти убедившего большинство французов в том, что он мудрый государственный деятель и могучий военачальник, который сможет отомстить за 1871 г. и дать им мир, процветание и славу.
Крах Буланже стал очень тяжелым ударом для роялистов и клерикалов. Опять у них возникли большие надежды, и опять они полностью проиграли. После 1889 г. опасность внезапного свержения республики стала гораздо меньше. Вопрос об основных формах правления обсуждался меньше. Теперь партии расходились во взглядах на вопросы совершенствования экономической системы (тарифов, подоходного налога и т. д.) или на многочисленные программы различных социалистических движений, выходивших теперь на передний план. Потом, ближе к концу века, республике пришлось пройти через очень тяжелое испытание. Речь идет о «деле Дрейфуса», о котором в обществе перестали спорить лишь за несколько лет до начала Великой войны.
Если смотреть на это дело отвлеченно, оно принесло очень много тревоги и горя своим главным участникам, но не содержало в себе ничего, что могло бы стать потрясением для целого великого народа. Молодой офицер, еврей, был обвинен в том, что продал «иностранному государству» секретные военные документы. Его осудили и отправили в каторжный лагерь. Вскоре выяснилось, что все доказательства его вины ложны. Дело пересмотрели. Офицер сначала был помилован, затем публично оправдан и возвращен в армию. Истинные преступники были вынуждены бежать в позорное изгнание или были опозорены и наказаны во Франции. Что в этих событиях значительного для истории политики? И все же «дело Дрейфуса» начало волновать Францию в 1894 г., занимало первое место в публичных дискуссиях с 1898 до конца 1900 г. и перестало быть темой обсуждений только в 1906 г. Когда судебный процесс по этому делу был в самом разгаре, его исход мог погубить Третью республику, но колесо судьбы сделало поворот: окончательный исход дела еще сильнее опорочил монархистов и, вероятно, ускорил отделение французской церкви от государства.
Причиной всего этого, как точно отметил американский писатель Вильям Андерсон, было то, что французы «идеализируют частные случаи». Для республиканцев «дело Дрейфуса» не было случайной ошибкой правосудия в деле молодого офицера-еврея. Оно означало, что реакционеры и клерикалы, вечные враги республики, которые были сильны в армии, вместе с антисемитами пытались растоптать права народа, а значит, и саму республику. Эта мысль придавала им силы для постоянной борьбы и принесения жертв, пока не был исправлен вред и «установлена первопричина случившегося».
В «деле Дрейфуса» столько интереснейших событий, среди его движущих сил так много личных чувств, оно – такой увлекательный пример для изучения массовой психологии и вообще человеческой природы, что нам лучше ограничиться почти одними голыми фактами, иначе оно займет здесь непропорционально много места.
В 1894 г. президент Сади Карно, исполнявший свои обязанности весьма похвально, был убит анархистом. В конце того же года, когда президентский дворец уже занимал господин Казимир-Перье, стало известно, что некий капитан Альфред Дрейфус, эльзасский еврей, офицер Генерального штаба армии, арестован по обвинению в том, что продал Германии французские военные секреты. Поскольку дело касалось строго конфиденциальной информации, Дрейфуса судил секретный военный трибунал. Главным доказательством была сопроводительная опись бумаг (знаменитое «бордеро»), которая, как утверждали, была написана почерком Дрейфуса. Вскоре было объявлено, что обвиняемый осужден. Все, разумеется, были возмущены тем, что продажные предатели могут быть даже в мозговом центре армии. Мало кто имел хотя бы малейшие сомнения в справедливости приговора. И 5 января 1895 г. Дрейфус был публично лишен воинского звания со всеми позорными подробностями этой процедуры и приговорен к пожизненному заключению на Чертовом острове во Французской Гвиане (в Южной Америке). После этого дело осужденного офицера выпало из внимания общества, однако сперва социалисты успели поворчать, что богатому офицеру сохранили жизнь, а рядовой солдат был бы казнен даже за меньшее преступление.
Казимиру-Перье не пришлось бороться с трудностями, которые вскоре создал пересмотр этого дела: тогда он уже не был президентом. Он очень плохо ладил с кабинетом и обижался на то, что некоторые депутаты постоянно ругали его в палате. К всеобщему удивлению, 15 января 1895 г. он подал в отставку с президентского поста (для которого явно не подходил).
Через два дня Национальное собрание выбрало его преемником Феликса Фора, «человека с добрыми намерениями, но тщеславного, который был полон наивного восторга от того, что из скромного положения возвысился до главного должностного лица страны». Фор не проявил себя как совершенно бездарный президент, но нужно честно сказать, что в «деле Дрейфуса» он действовал не очень удачно.
То, что произошло дальше, лучше всего можно описать в виде ряда коротких, конкретных сообщений.
1. В предыдущие десять лет покой Франции и других европейских стран нарушало «антисемитское движение», занимавшееся нападками на всех евреев вообще и на их влияние. Похоже, что во Франции этой пропаганде оказывали мощную поддержку клерикалы, желавшие этим путем настроить французов против республиканского режима, который поддерживали многие видные французские евреи. В 1892 г. обанкротилась Компания Панамского канала. Ее банкротство стало скандалом национального масштаба, который потряс если не систему управления страной, то палаты и несколько кабинетов. Этот панамский скандал был усилен утверждением, что крупные финансисты-евреи использовали в своих целях беспомощных акционеров-христиан. Безответственный журналист Дрюмон основал газету «Свободное слово» (La Libre Parole), которая приобрела большую популярность постоянными нападками на все еврейское. В последовавшей за этим ожесточенной борьбе многие французы постоянно объявляли Дрейфуса виновным лишь потому, что он был евреем, а попытка его защитить приравнивалась к сознательному нападению на христианство.
2. После того как Дрейфус был отправлен в изгнание, его богатая семья продолжала бороться, доказывая его невиновность. Они не добились бы успеха, если бы в 1896 г. полковник Пикар, бесстрашный и умный солдат, имевший доступ к военным секретам, не убедился, что знаменитое бордеро было написано не Дрейфусом, а другим офицером, майором Эстергази, который был известен своим беспутным поведением. Но когда Пикар сообщил о своих сомнениях своим начальникам, ему сразу же сказали, что доказательства вины Дрейфуса неопровержимы, и назначили Пикара в Тунис. На прежней должности в службе разведки его сменил полковник Анри.
3. К этому времени информация о разногласиях среди экспертов вышла наружу. У Дрейфуса нашлись защитники среди гражданских людей; главным из них стал сенатор Шерер-Кестнер, достаточно видный политик. Были раскрыты многие неприятные факты, касавшиеся этого дела. Многие влиятельные литераторы начали требовать его пересмотра. С другой стороны, возникла новая партия националистов, для которых делом чести стало осуждение Дрейфуса. Вскоре стало ясно, что она в значительной степени состоит из монархистов, клерикалов и реакционеров различного толка, которые, используя популярность военных, пытались поставить республиканцев в невыгодное положение людей, якобы «посягающих на честь армии»[317]. Разумеется, республиканцы не хотели попасть в эту ловушку. В 1897 г. тогдашний премьер-министр Мелин публично заявил, что дело закрыто и новый суд по нему невозможен. Стало известно, что президент Фор согласен с ним.
4. Эстергази был привлечен к военному суду, но судили его лишь формально, и он был торжественно оправдан. С таким исходом разбирательства майора торжественно поздравили несколько высших чинов армии. Затем Пикар был тоже арестован и заключен в тюрьму по обвинению в «нарушении дисциплины». Клерикалы, антисемиты, а также шайка коррупционеров, которые, как вскоре выяснилось, занимали высокие посты в армии, были, разумеется, в восторге от этого ареста. Партии националистов дали меткое прозвище – «союз меча и кропила».
5. Палата депутатов приняла постановление, осуждавшее друзей Дрейфуса за их «гнусную компанию», которая якобы смущала народ и дискредитировала армию. Но на помощь защитникам осужденного бросился Эмиль Золя, в то время один из самых известных французских романистов.
Он 13 января 1898 г. опубликовал в имевшей широкий круг читателей газете «Аврора»[318] свое достопамятное открытое письмо «Я обвиняю», в котором обвинил нескольких высших офицеров французской армии, назвав их по именам, в сговоре с целью погубить Дрейфуса. Золя хотел, чтобы против него начали судебное преследование за клевету, которое бы привело к пересмотру всего дела. Руководители армии пустили в ход все свое влияние, и Золя был осужден, но приговор был отменен из-за несоблюдения необходимых формальностей. Писателя снова судили и снова признали виновным. После этого Золя не от страха, а из соображений юридической стратегии уехал в Англию. Он в значительной мере исполнил свое намерение бросить луч яркого света на всю историю с первоначальным осуждением Дрейфуса.
6. Во время очередной реорганизации кабинета военным министром стал Годфруа Кавеньяк. Он официально заявил, что Дрейфус виновен, поскольку, кроме бордеро, есть другие документы, которые не оставляют никаких сомнений в его вине. Но тут случилось то, что заставило министра утратить всю его бодрость: полковник Анри из разведки внезапно покончил с собой и перед самоубийством написал признание, что «в интересах страны» подделал главное из этих дополнительных доказательств. Почти сразу после этой смерти стало известно, что Эстергази бежал в Англию. Там он весело признался, что именно он написал знаменитое бордеро.
7. Теперь, разумеется, все большее число французов убеждались в невиновности Дрейфуса. Социалисты и все остальные радикальные партии, которые, разумеется, были противниками клерикалов и монархистов, начали менять свою позицию. В это время президент Фор внезапно умер, как было объявлено, от апоплексического удара (это случилось 10 февраля 1899 г.). На его место был выбран Эмиль Лубе, здравомыслящий лидер с умеренными взглядами. Ему оказалось гораздо легче поступить с Дрейфусом так, как не смог поступить Фор.
8. Теперь вопрос о пересмотре приговора был передан на рассмотрение в Кассационный суд, высший суд Франции. Судьи с восхитительной профессиональной твердостью, не поддаваясь чувствам и не уступая угрозам, начали подробно изучать дело с технической точки зрения. В итоге они постановили следующее: весь предыдущий процесс недействителен, Дрейфус должен быть возвращен с каторги, и его нужно судить заново.
9. Дрейфуса судили вторично в городе Ренн, в Бретани. Военный трибунал по его делу заседал с 7 августа по 9 сентября 1899 г. Все семь его судей были военными и, разумеется, считали подсудимого-узника по меньшей мере орудием, которым другие пользуются, чтобы вызвать презрение к армии и опорочить ее честь. К тому же они явно хотели спасти репутации тех высших офицеров, которые поверили в виновность ответчика, как в религиозную догму.
Страсти народа накалились до предела. Кто-то пытался убить главного адвоката Дрейфуса. Многие доказательства, благоприятные для ответчика, не были признаны судом, ходило много слухов по поводу процесса. Судьи пятью голосами против двух вынесли вердикт «Виновен, но есть смягчающие обстоятельства» и приговорили Дрейфуса только к десяти годам заключения. Это решение было, конечно, нелепым. Будь Дрейфус действительно виновен, он заслуживал бы кары, которая была бы почти смертью, потому что в таких случаях не может быть «смягчающих обстоятельств».
10. И националисты, и дрейфусары (сторонники Дрейфуса. – Пер.) были одинаково недовольны приговором, но в это время подавляющее большинство французов за пределами узкого круга военных было убеждено, что в этом деле произошла грубая судебная ошибка. Кабинет министров рекомендовал президенту Лубе помиловать Дрейфуса, и президент это сделал. Несчастному капитану вернули свободу, но не вернули доброе имя. Националисты и после этого гневно заявляли, что Лубе будто бы продал честь Франции «за золото евреев». Но в конце концов все успокоились. В 1900 г. были амнистированы все участники дела. Францию начали интересовать другие проблемы, и «дело Дрейфуса» перестало ее волновать.
11. Однако пострадавший и его семья, разумеется, упорно добивались его полного оправдания. В Кассационном суде был поставлен вопрос о законности второго приговора. На этот раз правосудие сознательно тянуло время, чтобы дать страстям остыть еще сильнее. В 1900 г. высший суд наконец отменил второй приговор так же, как раньше первый. Эстергази был заклеймен как истинный преступник. Дрейфус был возвращен в армию и получил звание майора, которое должен был иметь, если бы не был опозорен. Пикар, изгнанный со службы в 1898 г. за то, что стоял за правду, теперь тоже был возвращен в армию в звании бригадного генерала; немного позже он стал генерал-майором и был назначен военным министром нового кабинета Клемансо. Золя умер до того, как завершилось восстановление справедливости. Его останки были похоронены в Пантеоне, который во Франции то же, что Вестминстерское аббатство в Англии. Офицеры, которые участвовали в сговоре против Дрейфуса, или были уволены из армии, или остались в ней, но опозоренными и со сломанной карьерой. Так закончилось знаменитое дело. «Как в популярных романах, все герои получили награду, а все злодеи были наказаны».
Даже прочитав всю огромную массу свидетельских показаний, невозможно понять, почему все-таки так много высших офицеров армии слепо поверили в версию о виновности Дрейфуса, даже если они не любили его лично и евреев вообще. Несомненно, что основания считать Эстергази одним из подозреваемых были с самого начала. В основных фактах, относящихся к этому делу, нет никаких сомнений, но могли быть какие-то личные обстоятельства, которые никогда не станут известны. Без сомнения, многие честные солдаты считали, что доброе имя армии поставлено под вопрос перед всем миром и что лучше ради сохранения этого имени незапятнанным оставить одного жалкого капитана томиться на Чертовом острове, чем ради чести оплота Франции опозорить этот оплот судебными процессами. Однако суд по «делу Дрейфуса», помимо оправдания невиновного человека, оказал большую услугу Франции. Он выявил беспечность, разложение, а в некоторых случаях даже продажность французских офицеров определенного типа. Эти пороки нужно было вырвать с корнем, иначе страна пришла бы к новому Седану. К чести Третьей республики, эта необходимая работа была выполнена отважно и беспощадно. Офицерский корпус армии был очищен и оздоровлен; были установлены новые, более высокие стандарты исполнения профессиональных обязанностей. И когда наступил кризис 1914 г., армия находилась в руках гораздо более честных и способных людей, чем те, кто беспринципно сделал правосудие своим инструментом в 1894 г., а потом сам давал ложные показания, защищая несправедливость в 1898–1899 гг. Возможно, без «дела Дрейфуса» не было бы победы на Марне.
Крах этой попытки поддержать несправедливость стал последним ударом для монархистов. Было ясно, что агитацию националистов финансировали орлеанисты. Какой возмутительной и искусственной была эта антисемитская агитация, доказывает тот факт, что богатые спекулянты-евреи, вероятно, давали деньги роялистам на финансирование антисемитских газет, несомненно, рассчитывая получить очень большие проценты с этих сумм, когда «король» занял бы свой трон. После 1900 г. во Франции вряд ли осталось столько откровенных роялистов, чтобы они были ощутимой опасностью для республики.
Для клерикалов результаты «дела Дрейфуса» стали еще бо́льшим бедствием. Они неразрывно связали себя с «честью армии» и теперь поплатились за это. Французский клерикализм стал таким безнадежно политическим, что попытки папы Льва XIII, весьма дальновидного и благоразумного политика, вытащить французских клерикалов из союза с монархистами, в котором они запутались, имели лишь слабый успех. В 1802 г. папа направил французским католикам послание, в котором предупреждал их, что церковь не должна быть верна какой-либо одной конкретной форме правления и что они, как хорошие граждане, должны быть лояльными по отношению к Третьей республике. Лишь часть клерикалов исполнила это наставление, по-видимому, честно. Остальные, кажется, отвергли его и следовали ему лишь настолько, чтобы не бросать открыто вызов своему святому отцу. Таким образом, когда французская католическая церковь вошла в ХХ в., слова «клерикал» и «роялист» в устах народа означали если не совсем, то почти одно и то же. А потом на духовенство обрушилась надолго задержавшаяся буря.
Эти слова написаны слишком вскоре после отделения французской католической церкви от государства. О нем еще невозможно говорить только как о прошлом и ответственно, как должен поступать историк. Вероятно, большинство американцев похвалят или осудят то, что было сделано во Франции, с 1901 по 1907 г., в зависимости от того, протестанты или католики они сами. Правда, очень многие католики с радостью признают, что надо было изменить прежнее положение, когда церковь находилась под контролем светского правительства, когда многие входившие в него политические лидеры были свободомыслящими, или не верящими в Бога социалистами, или же протестантами или евреями.
Вскоре рабочий союз французского правительства и папского престола, возникший еще в VIII в. в дни Пипина, был грубо разорван, и к началу Великой войны обида потерпевших сторон еще не вполне угасла. Однако конкретно спор между Третьей республикой и церковью произошел из-за огромного множества мелких формальностей и из-за вопросов, понятных только французам, а потому автору было бы очень трудно, углубившись в подробности, сохранить при этом ясность изложения. И ради этой ясности, и ради беспристрастия будет лучше еще раз ограничиться только обнаженными до предела фактами.
Первоначально спор начался из-за вопросов, связанных с образованием. Несмотря на некоторые враждебные действия республиканцев, контроль над обучением французской молодежи в значительной степени оставался в руках многочисленных церковных организаций. Их обвиняли в том, что они внушали своим ученикам если не промонархические, то очень недемократические взгляды. Кроме того, число членов католических религиозных орденов и конгрегаций заметно увеличивалось, несмотря на законы, очень затруднявшие (и это еще мягко сказано) для некоторых из них получение разрешения на деятельность и увеличение численности. Утверждали, что значительная часть богатства страны (в 1900 г. – больше миллиарда франков) попадала «под мертвую руку» (то есть в собственность без права передачи. – Пер.) этих орденов. Количество монахинь превысило более 75 тысяч, монахов стало более 190 тысяч. С точки зрения государства это была настоящая регулярная армия «соперничающей с ним власти». И в 1900 г. Вальдек-Руссо, премьер-министр с более чем средними способностями, крепко державший палаты в руках, заявил, что такое положение угрожает безопасности республики. Многие действия монашеских орденов в «деле Дрейфуса», несомненно, давали премьеру право на это обвинение. Поэтому в 1901 г. он предложил на утверждение проект ставшего в определенном смысле знаменитым Закона об ассоциациях. Согласно этому закону все церковные конгрегации должны были иметь разрешение на деятельность. Те из них, у которых не было такого разрешения (а его имели лишь немногие), должны были обратиться за разрешением в палаты; те, которые не подадут такую просьбу или получат на нее отказ, немедленно распускались, а их имущество правительство конфисковало и отдавало на благотворительные цели.
В 1902 г. Вальдека-Руссо сменил на посту Комб, злейший враг церкви. В молодости Комб учился на священника, но потом полностью порвал с католиками. Клерикалы, разумеется, в своих обвинениях сравнивали его с древними языческими гонителями христиан. «Клерикализм, – заявил он, – фактически стоял за каждой агитацией и интригой [во Франции] в течение последних тридцати пяти лет!» В руках такого министра Закон об ассоциациях вскоре стал грозным оружием против монахов. Лишь очень немногим орденам было разрешено существовать и дальше. Были упразднены более пятисот преподающих, молящихся и «коммерческих»[319] орденов. В 1904 г. церкви был нанесен еще один удар: был принят закон, по которому религиозные ордены, даже разрешенные, должны были в течение десяти лет прекратить всю свою образовательную деятельность. Разумеется, клерикалы громко протестовали, называли этот закон тираническим, кричали, что он принят для того, чтобы сделать новое поколение французов богохульниками и атеистами. Но Комб продолжал идти своим путем и явно имел поддержку большинства в палатах.
Однако он не стал трогать конкордат 1801 г. В результате сохранялось нелепость: государство (то есть Третья республика) назначало епископов, а епископы, хотя и назначали священников, делали это только при согласии правительства.
В обмен на этот контроль государство платило жалованье французскому духовенству. Это было если не возмутительное, то ненормальное положение, и, вероятно, священнослужители сами были бы рады, чтобы оно прекратилось, если бы смогли примириться с тем, что республика установлена навсегда, и окончательно перестали мечтать о том, что однажды увидят, как благочестивый король торжественно отправится в Реймс, чтобы быть увенчанным короной Людовика Святого. Республиканцев сложившаяся ситуация уже давно раздражала. Они не решались ускорить ход событий, потому что хорошо понимали, как силен противник, но вскоре Ватикан дал им сильный повод для действий.
В 1903 г. умер папа Лев XIII, один из самых ловких понтификов из всех, кто когда-либо сидел на престоле святого Петра. Его преемник Пий Х (годы правления 1903–1914) был человеком святой жизни и отличался душевным благородством, но явно не обладал таким здравым смыслом, как его предшественник. Вскоре он занял очень жесткую позицию по поводу действий французского правительства. А в 1904 г. он приблизил начало кризиса: когда президент Лубе приехал в Рим к королю Италии с визитом вежливости, Пий в официальном дипломатическом письме осудил президента за то, что тот приехал к «узурпатору» в город, где папа является «узником», и объявил его приезд сознательным оскорблением Ватикана.
Теперь французское правительство имело хороший формальный предлог, чтобы сильно рассердиться. Оно в ответ направило несколько жалоб на то, что папа вмешивается в дела французских епископов, нарушая запреты, указанные в конкордате. Уже с 1903 г. комитет палаты работал над постановлением о разделении церкви и государства. Дипломатические отношения между республикой и Ватиканом сразу же были разорваны (это случилось 30 июля 1904 г.), а 9 декабря 1905 г. действительно был принят закон, согласно которому Конкордат отменялся, прекращалась выплата правительством жалованья духовенству и Третья республика отказывалась от всякой ответственности за содержание религии[320]. Католической церкви дали полную свободу самой заботиться о себе. Пожилым священнослужителям была предоставлена государственная пенсия, остальные же (по крайней мере, в ближайшее время) должны были жить только на пожертвования верующих.
Все это в целом было умелой и честной попыткой разорвать отношения с церковью, не превращая республику в преследовательницу верующих. Главные споры возникли по поводу церковных зданий – церквей, соборов, часовен и т. д., которые теоретически были собственностью народа. Они были переданы не самой церкви, а «культурным ассоциациям». В каждом городе такую ассоциацию должны были организовать набожные католики, которые могли обеспечить отправление религиозного культа. Были и другие, довольно сложные, способы обес печить управление большим имуществом, которым и теперь еще продолжала владеть церковь. Короче говоря, действия правительства были продуманными и умеренными, что служит к большой чести господину Бриану, главному из тех, кто составлял закон и проводил его в жизнь.
Большинство французских католиков, несомненно, были за то, чтобы наилучшим образом использовать этот закон и организовать «культурные ассоциации» для совместной работы с правительством. Но вскоре Пий Х создал почти невыносимую ситуацию: он выпустил (в 1906 г.) официальное послание, в котором осуждал отделение церкви от государства как «крайне вредную ошибку» и приказывал всем католикам-мирянам ничего не делать для создания культурных ассоциаций. Возможно, понтифик таким путем рассчитывал довести республику до каких-нибудь жестоких репрессий, которые стали бы для клерикалов рекламой, принесли бы пострадавшим славу мучеников и неизбежно вызвали бы ответные действия в пользу церкви. Новый кабинет министров во главе с Клемансо умело обошел эту западню. В 1907 г. был принят закон, позволявший духовенству продолжать пользоваться церковными зданиями; для этого в каждом отдельном случае местный священник должен был заключить договор с префектом или мэром. Разумеется, власти католической церкви не могли приказать священникам служить мессы в древнем священном здании только потому, что церковь больше не была формально, по закону его владелицей: раз не было никаких препятствий для богослужения, такой запрет был невозможен. Поэтому во Франции тогда не было заметного перерыва в регулярном совершении религиозных обрядов. А такой перерыв был бы «гонением на церковь» – той грубой ошибкой правительства, на которую, вероятно, надеялись крайние клерикалы.
В течение первых девяти лет после отделения французской церкви от государства, конечно, было много разногласий и недовольства. Папа Пий Х по-прежнему был возмущен и изумлен, но в общем и целом страсти заметно остыли. Правительство, несмотря на громкие крики недовольных, продолжало идти вперед: оно взяло в свои руки многие церковные здания (не церкви), например дворцы епископов, дома приходских священников, богословские школы и т. д., и использовало их в светских целях. Например, министр труда разместил свои служебные помещения в бывшем дворце парижского архиепископа. С другой стороны, стали говорить, что теперь, когда церковь избавилась от вмешательства государства в ее дела, французские католики снова станут непритворно благочестивыми и заживут истинно духовной жизнью. В 1914 г. религиозный вопрос еще заставлял французов мрачнеть и хмуриться, но в это время католики, протестанты, евреи, свободомыслящие и атеисты, как один человек, объединились в борьбе против тевтонской угрозы.
Это был всего лишь краткий обзор нескольких из тех кризисов и трудностей, с которыми столкнулась Третья республика. Лубе очень достойно исполнял обязанности президента с 1899 до 1906 г. Одним из последних действий его администрации было принятие (в 1905 г.) закона, по которому срок службы в армии сокращался с трех лет до двух. Позже оказалось, что эта мера была неразумной; она стала слишком большой уступкой антимилитаристам, но по меньшей мере показала, что французы в первое десятилетие ХХ в. были миролюбивыми людьми. Преемником Лубе стал Арман Фальер (годы президентства 1906–1913), «беспечный, веселый и добродушный, с хорошими намерениями, но второразрядный государственный деятель». Правда, ему повезло: ему ни разу не пришлось столкнуться с кризисом, для выхода из которого были бы нужны большие административные способности.
В годы его президентства, кроме последствий религиозного вопроса, было много агитации в пользу рабочих, были законы о социальной реформе, трудности с промышленностью, забастовки на железных дорогах (особенно в 1910 г.) и т. д. Во Франции всего этого было в среднем столько же, сколько в других крупных цивилизованных государствах. Социализм и одно из его проявлений – синдикализм[321] стали так сильны, что начали тревожить буржуазию; в палате возникали неизбежные бурные споры по обычным вопросам экономики, бюджета и налогообложения. Но начиная с 1905 г. мысли граждан Франции уже не были сосредоточены только на давних спорах между республиканцами и роялистами, клерикалами и радикалами. Казалось, будто что-то все сильнее напоминало сторонникам враждующих партий, непримиримым противникам, что они прежде всего французы. И действительно: подрастало новое поколение, для которого события 1870 г. были детским воспоминанием, а чаще – рассказом отцов. Несмотря на это, молодые французы снова стали смотреть в сторону прирейнских земель. Это было не честолюбивое желание отомстить и вернуть утраченные провинции, а опасение, что на их любимую родину будет нацелен новый удар, который может полностью искалечить ее. В 1913 г., после бурных споров во всем народе и в палатах, закон об армии снова был изменен, и военная служба опять стала продолжаться три года. Социалисты и другие радикалы яростно протестовали, но лучшие умы Франции согласились принести эту жертву, потому что на восточной границе появились тревожные признаки, настолько страшные, что их нельзя было оставить без внимания.
В том же году закончился президентский срок Фальера, и Национальное собрание выбрало на его место Раймона Пуанкаре, умеренного республиканца, который уже проявил себя как умелый государственный деятель и заслужил одобрение. Он пробыл в Елисейском дворце меньше полутора лет, когда на Францию обрушилась буря, по сравнению с которой все опасности, которые раньше преодолела Третья республика, показались чем-то давним и призрачным. У ее ворот стояли пангерманцы.
Расширение французской колониальной империи при Третьей республике
Невозможно составить себе полное представление о достижениях Франции и оценить их, не учитывая успех Третьей республики, которая создала великолепную колониальную империю, куда вошла значительная часть Центральной Африки, и другой подобный успех в Кохинхине, менее крупный, но все же очень значительный.
Американцы, по вполне очевидным причинам, знают об этом великом колониальном подвиге меньше, чем о славных делах британских колонизаторов. Но французские завоеватели и исследователи полностью заслужили право на достойное сравнение их результатов с теми, которых добились их говорившие по-английски современники. Накануне Великой войны Франция, несомненно, была второй колониальной страной в мире.
Мы, конечно, не можем здесь рассказать о романтике, героизме и неизбежных великих лишениях, которыми сопровождались эти завоевания. Но нам показалось полезным предложить читателям хотя бы лишенный подробностей сухой рассказ о событиях, благодаря которым трехцветный флаг Франции поднялся над такой большой частью тропиков.
Французские колонии можно рзделить на две категории – те, которые имеют ценность лишь благодаря своим ресурсам, и те, где есть земли, подходящие для заселения французами. В первую группу входят те из них, климат которых не позволяет коренным французам селиться и строить себе дома. Как правило, иностранцы могут жить в большинстве тропических стран, если время от времени могут уезжать в отпуск и проводить его в более прохладном и сухом климате. Однако такие страны являются ценными колониями благодаря своим природным ресурсам, сырью и рынкам. Все это полностью относится к таким странам, как Конго, Судан, Индокитай, и в значительной степени к Мадагаскару.
В группу пригодных для заселения французами вошли те колонии, где климат и условия жизни ближе всего к существующим во Франции, так что французы захотели переехать туда со своими семьями и не слишком желать вернуться на родину. Таковы, например, Алжир и Тунис. Французам необыкновенно повезло: именно эти владения оказались ближе всего к Франции. Ни у одного европейского государства не было таких прекрасных земель для колонизации так близко от метрополии. Алжир и Тунис как бы продолжение родины французов, и там французский народ решил обновиться.
Завоевание Алжира при Третьей республике было дополнено установлением французского протектората над Тунисом (в 1881–1883 гг.) и Марокко (в 1911 г.).
Тунис находился под властью правителя, который носил титул «бей» и формально считался вассалом Турции. Закрепившись в Алжире, Франция почувствовала, что ее положение в этой стране не будет прочным, пока она не распространит свое влияние на Тунис. Первым шагом было добиться дружбы бея. Чтобы приобрести его доверие, для него организовали несколько займов в Париже. Политика французов в значительной степени определялась интересами безопасности Алжира, приграничным областям которого постоянно угрожали налеты из Туниса.
Однако вскоре появилась и другая причина. С начала 1870 г. итальянцы, которые тогда только что завоевали единство своего народа, жадно присматривались к Тунису, который был ближайшим соседом Сицилии и сам в древности был римской колонией. Владея Тунисом, Италия почти стала бы хозяйкой Средиземного моря благодаря тому, что пролив между Сицилией и Северной Африкой очень узок. Итальянцы действовали так активно, что в 1881 г. Жюль Ферри, президент Совета Франции, почувствовал, что его страна срочно должна принять меры, чтобы «ключ к Французской империи» (так он назвал Тунис) не попал в руки другого государства. Постоянные грабительские налеты (больше 2 тысяч за десять лет) на границы Алжира непокорных тунисских горцев-крумиров, которых бей, по его собственному признанию, был совершенно не в силах контролировать, послужили удобным предлогом для введения в Тунис французской армии (в апреле 1881 г.). Почти в это же время из Тулона была отправлена вторая армия, которая высадилась в Бизерте, дошла до Туниса и 12 мая 1881 г. заставила бея подписать во дворце Бардо договор, согласно которому он отдавал себя под защиту французов. По условиям этого договора правитель, в частности, обещал вести все переговоры с иностранцами только при посредничестве французского «резидента», который таким образом стал кем-то вроде министра иностранных дел при бее.
Тунис стал таким покорным, что вскоре французские войска были отозваны оттуда. Их уход послужил сигналом к всеобщему восстанию, центром которого стал Кайруан, один из священных для мусульман городов. Оно было быстро подавлено. Эскадра французских кораблей обстреляла и захватила город Сфакс, и одновременно 35 тысяч солдат, подойдя с трех сторон, окружили Кайруан и захватили его без единого выстрела (25 сентября 1881 г.). Однако французскому правительству хватило благоразумия, чтобы не превратить протекторат в полное присоединение Туниса к Франции. Франция завладела только Бизертой, где была построена большая база для флота. Однако полномочия резидента были увеличены. Теперь он стал главой реорганизованной тунисской администрации, в которой тем не менее только он не был местным жителем.
В первые годы ХХ в. Франция, несмотря на трудности, которые ей создавала Германия (в 1905–1911 гг.), сумела завершить оккупацию Северной Африки и обеспечила полную безопасность своей Алжирской империи, установив свой протекторат над Марокко.
Как много Франция сделала в Алжире за три четверти века и в Тунисе меньше чем за тридцать лет, легко увидеть по данным статистики. В 1881 г. в Тунисе жили всего несколько сотен французов, в 1906 г. их было 35 тысяч только в Тунисе. В 1881 г. там было всего 600 километров (примерно 375 миль) дорог, 200 километров (примерно 125 миль) железнодорожных путей и одна неважного качества гавань для крупных судов. Сегодня там 2500 километров (примерно 1560 миль) дорог, 1900 километров (1190 миль) железнодорожных путей и четыре современных порта. Финансы управлялись так хорошо, что все общественные работы оплачивались без введения новых налогов и доходы фактически были выше расходов. Ежегодный объем торговли в 1881 г. был равен всего 38 миллионам франков (примерно 7 миллионов 660 тысяч долларов). Он увеличился в пять раз и теперь составляет больше 200 миллионов франков (больше 10 миллионов долларов) в год.
В Алжире результаты еще более поразительные. В 1830 г. в прежнем государстве мавров было около 2 миллионов жителей, среди которых практически не было европейцев. Там было всего несколько миль дорог, а объем торговли был равен примерно 8 миллионам франков (1 миллион 600 тысяч долларов) в год. В 1908 г. население Алжира превышало 5 миллионов человек, в том числе не меньше 514 тысяч французов (родившихся там или натурализовавшихся). Город Алжир – один из главных портов на Средиземном море и второй по значению порт Франции. Было построено 14 тысяч километров (8750 миль) железных дорог и 3700 километров (2315 миль) железнодорожных путей, а объем торговли (примерно половина товаров – сельскохозяйственная продукция Алжира) превышает миллиард франков (200 миллионов долларов). Еще тридцать лет назад, когда до этих результатов было далеко, один посетивший эту страну немец написал: «Каждый, кто видел, как много труда французы потратили в Алжире, чувствует лишь презрение к тем, кто, даже видя перед собой эти выдающиеся достижения, смеет по-прежнему утверждать, что французы – плохие колонизаторы».
В Западной Африке Франция создала огромную империю. В эту империю входили (на атлантическом побережье) Сенегал, Гвинея, Берег Слоновой Кости и Дагомея и обширные территории внутри материка, в бассейне могучей реки Нигер. Всю эту богатую империю, которая в семь или восемь раз больше, чем Франция, обычно называют Французский Судан. Разумеется, большинство из 12 или 13 миллионов ее жителей негры (слово «Судан» означает «черная страна»), но по развитию они выше большинства жителей Экваториальной Африки. Как правило, это выносливые, умные, трудолюбивые и мужественные люди. За исключением туземцев Дагомеи, которые остались верны своему прежнему фетишизму, все они были обращены в одну из разновидностей магометанства. Они делятся на многочисленные племена, каждое из которых имеет зачатки собственной политической структуры. Как правило, они живут группами в неукрепленных деревнях, состоящих из круглых хижин, или в городах, окруженных толстыми земляными стенами.
Завоевание этой огромной территории началось при Наполеоне III, около 1855 г., и продолжалось с перерывами больше пятидесяти лет, до 1898 г. Однако французы стали действовать активно только после провозглашения Третьей республики, особенно начиная с 1880 г. С самого начала их продвижение вперед обеспечивали в одинаковой степени маленькие исследовательские экспедиции, каждую из которых сопровождала горсть солдат, и колонизаторские походы регулярных войск. Самой большой экспедиционной армией была та, которая покорила Дагомею, и она насчитывала всего 3 тысячи человек. С другой стороны, Франция широко использовала туземные войска так же, как в XVIII в. пытался делать Дюплеи в Индии и как французское правительство уже делало в Алжире. Это батальоны метких сенегальских стрелков и роты суданских спаги (легкой кавалерии. – Пер.), набранные среди тех племен, которые были покорены раньше остальных. Солдаты этих частей обычно оказывались стойкими и непоколебимо верными воинами.
Первым шагом к завоеванию этих территорий был захват Федербом, будущим командиром Северной Армии в 1870 г., долины реки Сенегал и создание (в 1855 г.) французского укрепленного поста в Медине, возле истока этой реки. Едва этот пост был достроен, на него напал Хадж-Омар, авантюрист-магометанин, который грабил и жег эту страну, убивая всех, кто смел ему сопротивляться. Он хотел создать для себя обширную империю между Сенегалом и Нигером, и ему казалось, что вытеснение французов поможет осуществиться его честолюбивым планам. Однако Медина, которую защищали герой-мулат Поль Холл, восемь морских пехотинцев и сорок сенегальцев, отражала атаки 15 тысяч туземцев и продержалась более трех месяцев, пока Федерб не смог прийти на помощь ее храброму гарнизону.
К 1889 г. Франция почувствовала, что ее власть над Сенегалом стала более или менее прочной. Но ее лидеры все же хотели достичь Нигера и открыть для внешнего мира эту обширную долину, о которой было известно, что она очень богата природными ресурсами. Когда французы прошли половину пути вверх по течению Нигера, им оказал сопротивление сначала Ахмаду, сын и наследник Хадж-Омара. А чуть позже, возле верхнего конца долины, то же сделал еще один дерзкий авантюрист – работорговец Самори, который опустошал все земли, по которым проходил, и всюду проливал кровь. Полковник Аршмар скоро положил конец атакам Ахмаду, а 1890 г. город Сегу, столица этого кровавого деспота, был захвачен французами. Но Самори сумел стать «королем Нигера» и создать себе «империю» размером больше чем половина Франции. Борьба французов против него продолжалась не меньше шестнадцати лет (1882–1898), но в итоге они перехитрили его с помощью отважной атаки и захватили в плен посреди его собственного лагеря.
В ходе этой долгой борьбы Франция завладела городом Тимбукту (15 декабря 1893 г.). Этот город расположен у верхнего конца излучины Нигера и знаменит во всей мусульманской Африке. Когда-то Тимбукту был коммерческим и религиозным центром Восточной Африки, но теперь пришел в упадок. Он сохранил только часть прежней славы и значения, и то лишь потому, что этот город – ворота из Судана в широкую Сахару, начало пути караванов, которые во все эпохи шли через пески к приморским городам Северной Африки.
На юге король Дагомеи Беханзин, известный тем, что практиковал человеческие жертвоприношения, напал на посты, созданные французами вдоль побережья Гвинеи. В результате экспедиционный корпус во главе с полковником Додсом сумел покорить это подвластное тирану чудовищное королевство, правда лишь после достаточно серьезных боев (1893–1894).
В это время также была установлена связь через Сахару между французскими владениями в Северной Африке и западноафриканскими владениями Франции. Для этого французам понадобилось занимать оазисы. Эта работа началась в 1843 г., когда французы завладели Бискрой. Она была закончена, несмотря на сопротивление коварных туарегов – кочевого берберского племени, которое то помогало проходящим караванам, то самым жестоким образом нападало на них. Их грабежам был положен конец после того, как несколько французских экспедиционных корпусов, которые были посланы против туарегов с января 1900 по март 1902 г., сумели захватить для Франции город-оазис Ин-Салах и оазис Туат.
В регионе Конго Франция вела свою любимую политику «мирного проникновения». Огромные территории, богатые природными ресурсами, лежали перед ней на правом берегу реки Конго и ее притока Убанги, и не было никаких признаков того, что французы могут столкнуться там с вооруженными войсками противника или с серьезным сопротивлением. Французы завладели Экваториальной Африкой в значительной мере благодаря договорам, которые заключали с местными вождями, в первую очередь благодаря дипломатическому мастерству и такту отважного авантюриста, лейтенанта Саворньяна де Бразза.
Французы с самого начала стремились расширить свои владения в регионе Конго на север до озера Чад. Им удалось дойти до долины реки Шари. Но когда французы попытались спуститься вниз по течению этой реки, они столкнулись с еще одним деспотом-магометанином по имени Рабах. Этот вождь шайки разбойников и работорговец был, если говорить коротко, центральноафриканским Самори и так же, как Самори, создал свою обширную империю. Он оказал французам сильное сопротивление. Два малочисленных экспедиционных отряда, посланные против него, были зверски изрублены на куски. Но в начале 1900 г. власть Рабаха была сломлена, когда против него выступили с трех сторон три французских отряда. Первый из них, под командованием Фурро и Лами, пришел через Сахару из Алжира; второй, которым командовал Жоаллан, совершил переход из Сенегала, а третий, командиром которого был Жантиль, поднялся вверх по течению из Конго. Соединились отряды на берегах озера Чад (в апреле 1900 г.).
Незадолго до этой победы (21 марта 1899 г.) Франция и Англия в результате «дела Фашоды» заключили соглашение, определившее границы сферы влияния каждой из двух стран в Судане. Франция отказывалась от всех претензий на Восточный Судан и уходила из постов, которые создала на притоках Нила. Англия, со своей стороны, предоставляла ей полную свободу действий в Центральном Судане, в частности в областях, расположенных к северу и востоку от озера Чад.
Встреча трех французских военных отрядов на берегах этого озера была очень важна с политической точки зрения. Успешный переход через внутренние области материка французских солдат, вышедших из каждого из крупных африканских владений Франции, превратил теоретические претензии Франции на эту территорию (уже признанные Великобританией и Германией) в фактическое обладание. Поскольку это препятствие было разрушено, больше уже ничто не мешало Франции начать строительство Транссахарской железной дороги, основные условия для которого уже существовали в Алжире. Единство Французской Африканской империи было обеспечено.
Мадагаскар был завоеван французами в 1895 г. Это большой остров в южной части Индийского океана, по площади превосходящий Францию. С геологической точки зрения он представляет собой высокое плато, окруженное лесами (прекрасное место, чтобы обороняться) и прибрежной полосой, которая очень узка на восточной стороне острова, но значительно шире на западной стороне. Эта прибрежная кромка острова очень плоская, и климат на ней так же, как практически на всем острове, нездоровый для европейцев. Население острова насчитывает около 2 миллионов 500 тысяч человек; большинство их – еще не цивилизованные негры. Их общее название – мальгаши. Но в XII в. на остров вторглись пришельцы с Малайского архипелага, в основном принадлежащие к монголоидной расе. Этот народ, называвшийся хова, поселился на плато. Более высокие качества хова вскоре позволили им стать господствующим народом на острове. Большинство из них были обращены в христианство английскими миссионерами и вследствие этого стали почти цивилизованными. В их столице Антананариву, городе с большими претензиями, где было около 50 тысяч жителей, имелись школы, типографии и газеты. Местное государство было абсолютной монархией. Ко времени завоевания острова Францией там была армия численностью примерно в 40 тысяч человек, вооруженная ружьями и современной артиллерией.
В сущности, первое французское поселение на Мадагаскаре возникло в царствование Людовика XIII и Ришелье (в 1642 г.), когда французы основали укрепление Фор-Дофин в южной части острова. Но тогда они очень мало делали для завоевания острова. На протяжении большей части XIX в. французы и англичане вели спор за главенство в столице: каждая из двух стран боролась с другой за внимание сменявших друг друга королей и королев Мадагаскара. Примерно до 1878 г. английское влияние преобладало. В это время хова – то ли потому, что их подстрекали англичане, то ли решив без всяких на то оснований, что англичане одобряют такие крайние меры, – поверили, что могут безнаказанно напасть на французские посты на побережье. Такая политика неизбежно привела к открытому военному столкновению с французами. Город Таматаве (другое название Туамасина. – Пер.) и главные французские посты были обстреляны и блокированы. В 1885 г. хова сделали вид, что признали Францию своим государством-сюзереном. В Антананариву был назначен французский резидент, который стал управлять иностранными делами государства народа хова и контролировать его внутренние дела. Десять лет хова, видимо, умело вводили французов в заблуждение насчет своих истинных намерений, на самом же деле готовились к новому бою за свою независимость. Но в 1895 г. положение на Мадагаскаре снова стало казаться угрожающим для французов и на остров была отправлена новая военная экспедиция.
Армия в 15 тысяч человек под командованием генерала Дюшена высадилась возле города Маджунга на западном побережье Мадагаскара (март – август 1895 г.). Она должна была идти через плато на восток, к столице. Но проходить нужно было через почти необитаемую местность, и было необходимо построить дорогу, чтобы войска не оказались отрезаны от запасов продовольствия. Более того, эта местность была так заражена малярией, что более 3 тысяч французов умерли в пути от лихорадки. Наконец, отряд из 4 тысяч отборных солдат сумел пробиться через плато, внезапно напал на армию хова и практически достиг Антананариву. Когда 30 сентября 1895 г. они начали штурмовать дворец, королева Ранавало капитулировала. Хова снова согласились на протекторат французов. Но когда бо́льшая часть экспедиционных войск была отозвана, хова снова подняли (в июле 1896 г.) всеобщее восстание, к которому их подстрекали королева и ее министры. Генерал Галлиени (который позже прославился как защитник Парижа в 1914 г.) быстро подавил это восстание; по его указанию два министра были осуждены за государственную измену и расстреляны (это произошло 11 октября 1896 г.). После этого протекторат был отменен, и Мадагаскар стал французской колонией. Коварная королева Ранавало была выслана в Алжир (в феврале 1897 г.).
С тех пор Франция осуществила на Мадагаскаре много прогрессивных мер. Было отменено рабство; повсюду были открыты новые школы и больницы. Были потроены 1000 километров (625 миль) дорог и примерно 200 километров (125 миль) железнодорожных путей. Объем торговли острова увеличился с 27 миллионов франков в 1898 г. (5 миллионов 400 тысяч долларов) до 65 миллионов франков в 1906 г.
(13 миллионов долларов). В Диего-Суаресе была построена большая база для французского военного флота. Таковы главные результаты первых десяти лет господства французов над Мадагас каром.
Французские владения в Индокитае включают в себя страну, которая раньше называлась «империя Аннам». В начале XIX в. в это рыхлое государственное образование входили несколько туземных государств – на севере Тонкин, расположенный в плодородной дельте Красной реки, в центре «собственно Аннам» вдоль побережья Китайского моря, и на юге Кохинхина, расположенная в дельте реки Меконг. Все эти земли вместе по площади равны примерно трем пятым территории Франции. К востоку от Меконга и к северу от Кохинхины Франция установила свой протекторат над маленьким королевством Камбоджа.
Население бывшей Аннамской империи относится к монгольской расе, а основы местной цивилизации в значительной степени китайские. Местные жители (более 30 миллионов человек) энергичны, трудолюбивы и умны для людей, живущих в тропиках. Раньше у них была абсолютная монархия обычного для восточных стран типа, со столицей в Хюэ. «Император» этого государства формально был вассалом Китая, хотя дань, признак своего вассального положения, он платил редко и обычно соглашался признать свое подчиненное положение только в дни опасности или тяжелой беды. Что касается Камбоджи, ее обитатели тоже принадлежат к монгольской расе, но цивилизация у них индийская, и потому они гораздо менее активны, чем их энергичные соседи с другого берега Ме конга.
История завоевания этого региона французами четко делится на две части. Первая часть – захват Кохинхины в 1859–1867 гг. Правда, французы интересовались этим регионом еще с 1787 г., когда Людовик XVI по просьбе аннамского императора послал ему французских офицеров и инженеров для укрепления Хюэ и главных городов Тонкина. Эти неформальные отношения между двумя странами были сохранены: их укрепляло естественное желание Франции иметь базу для своего военного флота и путь в Китай для своей торговли. В 1858 г. репрессии против французских миссионеров и туземцев-христиан послужили честолюбивому правительству Наполеона III удобным предлогом для интервенции. Начались военные действия, которые с 1859 по 1861 г. шли в основном вокруг Сайгона, в Кохинхине. К 1863 г. французы покорили часть этого региона, а в 1867 г. завоевание было завершено. Тем временем Камбоджа, из страха перед своим западным соседом, Сиамом, добровольно отдалась под защиту Франции.
Захват Тонкина – северной части протектората Аннам – оказался более сложным делом. Интерес французов к этому региону возник в результате ряда исследовательских и торговых путешествий, совершенных двумя французами – Франсуа Гарнье и Жаном Дюпюи. Оба путешественника были уверены, что Красная река имеет большую ценность как путь, который откроет перед французской торговлей важные области Южного Китая, в особенности провинцию Юньнань. Однако аннамиты были возмущены проникновением на их землю незваных чужеземцев и попытались перегородить Красную реку. В итоге мирные меры не принесли успеха. В ноябре 1873 г. Гарнье во главе отряда из 175 человек атаковал и захватил Ханой, столицу Тонкина, а затем продолжил путь вверх по дельте Красной реки. Меньше чем через месяц дельта была в руках французов. Но сам Гарнье, к несчастью, попал в засаду и был убит.
Об этих событиях сообщили французскому правительству. Оно не стало развивать свой успех. Память о 1870 г. была еще слишком свежа, и оно не чувствовало себя вправе начинать новую войну. Поэтому оно заключило с туземцами соглашение, по которому отказывалось от завоеванных земель в обмен на привилегию торговать на Красной реке (1873).
Император Аннама плохо исполнял этот договор, чем вскоре дал повод для новых жалоб. В 1881 г. французы послали против него новый отряд (численностью 600 человек) под командованием генерала Ривьера. Тем временем аннамиты, не надеясь на собственные силы, добились помощи у своего сюзерена, Китая, и сумели набрать наемные войска, получившие прозвище «Черные знамена». Тем не менее Ривьер смог снова захватить земли, которые ранее завоевал Гарнье. Но сам он по неосторожности был осажден в Ханое и погиб там во время отчаянной вылазки (в мае 1883 г.). Теперь Франция воевала уже не только с Аннамом, но фактически и с Китаем тоже. Правда, война с аннамитами продолжалась недолго. Французские войска во главе с адмиралом Курбе захватили город Хюэ и навязали императору мирный договор (он был заключен 25 августа 1883 г.), по которому Аннам стал французским протекторатом.
Однако Франции по-прежнему надо было решать проблему с сюзереном Аннама. Война с Китаем была начата, когда французский парламент был на каникулах, и продолжалась без формального объявления. Однако в этой необъявленной войне были достаточно крупные сражения; они происходили и на суше, и на море, поскольку театром военных действий были Тонкин и южное побережье Небесной империи. Для французов это была ожесточенная и дорогостоящая борьба: они сражались в незнакомой им дикой стране и воевали против достаточно хорошо подготовленных и прекрасно оснащенных китайских войск, имевших полное численное превосходство над своими противниками-европейцами. Как многие войны на Востоке, в которых важную роль играет предательство туземцев, эта война делится на два этапа. Во время ее первой части события развивались быстро. В декабре 1883 г. адмирал Курбе напал на крепость Сонтай в Тонкине и захватил ее. Остальные китайские крепости одна за другой пали перед французами, и в мае 1881 г. был заключен мирный договор, по которому Китай был обязан уйти из Тонкина.
По этому договору Франция получала право немедленно занять крепость Лангшон (на границе между Тонкином и Китаем), но французские войска, которым было поручено это сделать, были предательски атакованы возле городка Бакле (23 июня 1881 г.). В результате французское правительство направило пекинским властям грозный ультиматум и боевые действия возобновились. Китайцы по-прежнему упорно сопротивлялись; снова произошло несколько серьезных сражений и на суше, и на море. Курбе захватил арсенал в Фучжоу и блокировал Формозу (прежнее название Тайваня. – Пер.). На суше Домине с отрядом из 600 человек три месяца держался против 15 тысяч китайцев в крепости Туенкуанг (с декабря 1884 по март 1885 г.). В марте произошло самое крупное сражение этой войны – Лангшонская кампания, в результате которой потерял свое политическое влияние тогдашний премьер-министр Франции Жюль Ферри. Генерал де Негрие во главе бригады из 4 тысяч солдат был атакован в Лангшоне (который французы захватили во время более ранних сражений этой войны). Нападавших китайцев было 20 тысяч. Сначала генералу удалось отбить их атаку, но в бою он был ранен, а его преемник, к несчастью не такой уверенный в себе, как он, повел себя глупо: послал во Францию много мрачных и полных уныния сообщений, которые вызвали бурное волнение в палатах и привели к министерскому кризису. Тем временем китайцы, которые еще до лангшонских боев начали переговоры о мире, наконец убедились, что французы сильнее их, капитулировали, и 9 июня 1885 г. в Тяньцзине был подписан второй и окончательный мирный договор. Китай отказался от всех своих претензий на Тонкин и признал протекторат Франции над Аннамом.
Все рискованные колониальные походы французов встречали сильное политическое противодействие во Франции, в основном со стороны консервативных роялистов, которые действовали в странном союзе с крайними радикалами, разумеется проклинавшими «империализм». Теперь они встали в позу обвинителей и заявляли, что поход на Тонкин и война с Китаем были в высшей степени преступным безумием. В адрес Жюля Ферри звучали очень грубые обвинения. В результате действий этой коалиции двух странным образом объединившихся политических сил закон об оплате военных расходов едва избежал поражения: он был принят крошечным большинством в четыре голоса (274 за, 270 против). Вот как равнодушна была тогда Франция к своим новым приобретениям!
С 1885 г. Третья республика вела в Индокитае в основном ту же политику, что в Алжире и Тунисе, и вела ее с таким же успехом. Сайгон и Ханой теперь – процветающие города. В Индокитае проложены железные дороги, разрабатываются месторождения каменного угля, строятся фабрики. Объем его торговли увеличился так быстро, что в 1907 г. был равен более чем 550 миллионов франков (110 миллионов долларов).
То, что было рассказано на предыдущих страницах, можно назвать лишь сокращенным обзором скупой летописи этих выдающихся событий. Если бы деяния французов были описаны полностью, читатель увидел бы, что исследователи и завоеватели Третьей республики были достойными потомками Шамплена, Ла Саля, Монкальма и других французов, которые в более раннюю эпоху так доблестно боролись и были так близки к тому, чтобы сделать Новую Францию, а не Новую Англию господствующим государством Западного полушария. Правда, новые африканские и азиатские владения, завоеванные для Франции под трехцветным знаменем, имеют (кроме Алжира) мало земель, пригодных для заселения белыми людьми. Но они, несомненно, дают Франции богатства тропиков и этим в значительной мере возмещают тот ущерб, который она понесла, утратив власть над Индостаном, почти приобретенную легкомысленным правительством Людовика XV в дни Дюплеи.
Глава 26. Франция снова стала собой
Дружба Франции и Англии. Война между Францией и Германией. Тревожные признаки и предзнаменования. Дух Франции. Оборона Вердена. Немцы отражают атаки Нивеля. Военная программа Клемансо. Фош назначен командующим войсками союзников. Клемансо бросает вызов. Германия капитулирует. Гордый дух французского народа
Снова, в последний раз в этом кратком обзоре того, что произошло за 2 тысячи лет, автор должен напомнить, что мы имеем дело с историей не всей Европы, а только Франции.
До начала ХХ в. отношения Третьей республики с ее соседями были в общем и целом по-прежнему очень мирными. Французские государственные деятели очень ясно осознавали, какие препятствия стоят перед ними, и очень хорошо понимали, какими ужасными были бы последствия, если бы они спровоцировали неудачную войну. Поэтому они не осмеливались вести внутреннюю политику, которая бы поссорила их с Англией, давним «естественным врагом» их страны, или с Германией, на которую французы теперь перенесли прежнюю неприязнь к Англии. С первым из этих государств у Франции, конечно, были серьезные разногласия по поводу Египта, и рана, вызванная утратой Эльзаса – Лотарингии, тоже еще не зажила. Было много хвастливого пустословия в парижской прессе, но ни один умный иностранец во времена популярности Буланже не мог обвинить Францию в том, что она угрожает спокойствию мира. Союз, заключенный между Францией и Россией в 1893 г., служил защитой против грубых актов агрессии (исключением были разве что дни популярности «по расчету» двух очень непохожих государств!), но император отлично понимал, что этот договор был лишь оборонительным. Он не позволял французам затеять ссору с Германией, чтобы вернуть утраченные провинции. А потому в 1904–1905 гг., когда Россия воевала с Японией, Франция честно соблюдала нейтралитет, хотя и оказала московскому царю всю моральную и материальную помощь, которую допускало международное законодательство. Как раз в те дни, когда затухали отголоски «дела Дрейфуса», а сведение счетов между радикалами и клерикалами приближалось к неизбежной развязке, холодный ветер из-за Рейна снова понес на Францию грозовые облака, и французы стали с тревогой думать о защите своей страны.
Разумеется, история заговора пангерманцев, поставивших себе цель завоевать мир и создать новую, более великую Римскую империю, должна быть темой других книг. Но конечно, теперь совершенно ясно, что процветание, и даже само существование Франции было преградой на пути этой политики, достойной времен Тиглатпаласара или Ксеркса. Нельзя сказать, что пангерманцы считали «выродившихся французов» действительно достойными их врагами. Для них Франция была государством, которое раньше, правда, было могущественным, но быстро катилось вниз, к полному упадку и беспомощности, – новой Испанией, более крупной Голландией[322]. Россия, Англия и Америка были государствами, с которыми надо было вести себя осторожно, пока не появилась новая Тевтонская империя. Но на Францию должен был обрушиться первый удар огромной германской военной машины. Империю Гогенцоллернов оскорбляло то, что ее дряхлая соседка создавала себе большую империю в Африке, а немецкие владения там были меньше, стоили дорого и не обещали большой выгоды. Была и другая важная причина для войны: Германия желала получить (путем прямого присоединения или навязанного договора, который сделал бы Францию вассалом Гогенцоллернов) основной контроль над французскими портами Ла-Манша (Кале, Булонью, Дюнкерком и т. д.). В желанный для Германии день войны эти города сыграли бы важнейшую роль при уничтожении военного флота Англии.
Что же касалось богатства Франции, то огромная контрибуция, обескровив и искалечив эту страну, избавила бы фатерланд (отечество) немцев от соперника в коммерции и спасла бы подданных Вильгельма II от оплаты военных расходов. Россия была слишком бедна, чтобы платить контрибуцию. Англию вряд ли удалось бы разгромить одним ударом.
Нужно было вытряхнуть последнее серебро из чулок французских крестьян, чтобы избавить прусского юнкера и вестфальского промышленника от неприятных военных налогов. И наконец, немцы с жадностью смотрели на железные рудники во Французской Лотарингии и на запасы угля во Французской Фландрии. Ни один план пангерманцев не обходился бы без завоевания Франции – разве что Франция смогла бы совершить невозможное, а именно отречься от своего прошлого, забыть о своих умерших героях и стать жалким орудием в руках честолюбивых немцев, сделаться покорной союзницей Германии, открыто помогать ей завоевывать Англию и Россию и этим немного продлить свое существование[323].
Так надвигалась гроза. До 1904 г. отношения между Францией и Британией были не слишком дружественными. В Париже сильно жалели о том, что в 80-х гг. ошибки французских кабинетов позволили англичанам прочно закрепиться в качестве единственных «защитников» Египта, хотя другая политика могла бы привести к тому, что Франция и Британия занимали бы его совместно. Были и другие разногласия по поводу многих границ между колониями по мере того, как два этих великих государства делили Африку между собой и захватывали ее. Но все эти вопросы можно быть легко решить, если обе спорящих стороны – разумные люди. А потому, несмотря на пустое хвастовство в газетах, с 1840 г.[324] ни разу не возникала непосредственная угроза войны между этими двумя давними соперницами. В 1904 г. действительно талантливый министр иностранных дел Франции Делькассе уладил все важные спорные вопросы в отношениях между Третьей республикой и Британской империей. Так родилось Тройственное согласие, или Антанта, по-французски Entente Cordiale («сердечное согласие») (третьей была Россия. – Пер.). Этот блок возник из общности интересов по многим вопросам, но в первую очередь был порожден усиливавшимся страхом перед Вильгельмом II.
В 1905 г. Германия в первый раз показала свои когти. Франция заявляла о своем исключительном праве на Марокко, кайзер заставил Францию передать вопрос об этой стране на рассмотрение Европейской конференции.
Делькассе подал в отставку с поста министра иностранных дел из-за того, что Германия фактически угрожала, что Франции придется пострадать, если он останется на этом посту. Конференция состоялась в 1906 г. в испанском городе Альхесирас, но принесла мало удовлетворения тевтонам. Значительная часть французских требований по поводу Марокко была подтверждена. В 1911 г. после незначительных событий, ставших причиной разногласий, произошел знаменитый когда-то «агадирский инцидент»: немецкий военный корабль был послан в марокканский порт Агадир, видимо, чтобы начать официальную ссору. Однако мир не был нарушен: было очевидно, что Англия поддержит Францию и немцы еще не закончили подготовку к войне.
После этого внимание международного сообщества переключилось на Балканы: стало в достаточной степени ясно, что следующий дипломатический удар пангерманцы, вероятно, нанесут именно там. Но ни один умный француз не предполагал, что туда же будет направлен и первый военный удар. Немцы не могли полностью хранить в тайне свой план мобилизации, по которому первый смертоносный удар их войска должны были направить не на восток, против России, а на запад. Бернхарди, апостол пангерманизма, откровенно писал в своей знаменитой книге: «Мы должны свести счеты с Францией [курсив его], если хотим, чтобы у нас были развязаны руки в международной политике… Франция должна быть разгромлена так, чтобы больше она никогда не могла встать на нашем пути»[325]. Конфиденциальные сообщения компетентных французских дипломатов в 1912 и 1913 гг. не оставляли парижским властям ни малейшего сомнения в том, что затевала Германия, как бы остальной мир ни сомневался в том, что «цивилизованные» люди ХХ в. способны сознательно разжигать огромную войну. Итак, с 1911 по 1914 г. Франция ждала, и ожидание становилось все более тревожным.
Развязка наступила 28 июня 1914 г. В этот день наследник австрийского престола, эрцгерцог Франц-Фердинанд, был убит в Боснии, в городе Сараево. Разумеется, это убийство дало пангерманцам и их венским сообщникам по заговору предлог, чтобы заставить дрожать и корчиться весь мир. И 23 июля Австрия направила Сербии знаменитую Сербскую ноту. Было понятно, что Россия должна будет прийти на помощь Сербии или отказаться от своих претензий на то, чтобы быть великой державой.
Понятно было и то, что в случае нападения на Россию Франция будет обязана сражаться вместе с ней. Разжигатели войны специально выбрали такой момент, когда Францию легко было поставить в трудное положение: президент Пуанкаре и премьер-министр Вивиани были с официальным визитом у царя. Когда кризис достиг наивысшей точки, оба находились на военном корабле, который совершал переход через Балтийское и Северное моря. Всемирная история всегда будет помнить о том, как французские дипломаты доблестно делали все, что было в их силах, помогая Англии в ее стараниях найти какое-либо мирное решение, почетное для России и удовлетворительное для тевтонов.
Президент Пуанкаре вернулся в Париж 29 июля. А 1 августа положение стало таким отчаянным, что кабинет и президент отдали приказ о мобилизации всех войск республики. В этот же день кайзер официально объявил войну царю. Затем, 2 августа, Германия предъявила Бельгии свое знаменитое требование пропустить немецкие войска через ее территорию во Францию, угрожая, что в случае отказа объявит Бельгии войну. И 3 августа, после того как Вивиани наотрез отказался предоставить доказательства нейтралитета, оскорблявшие достоинство Франции, Германия объявила Франции войну. А 4 августа Британия объявила войну Германии после того, как был разорван бельгийский «клочок бумаги»[326].
После этого военный вопрос перешел из рук дипломатов в руки генералов и адмиралов.
Когда для Франции в 1914 г. началось это испытание огнем, мир, вероятно, смотрел на нее с бо́льшим сомнением, чем на любую другую из главных стран – участниц войны. А сражаться ей надо было не ради утраты или возвращения провинций, требования или уплаты огромной контрибуции, приобретения или потери большой славы и престижа. Было поставлено на кон само право французов существовать как свободный по природе и уважающий себя народ. Это прекрасно поняли французы любого общественного положения от Дюнкерка до Марселя, когда на 10 тысячах деревенских стен забелели маленькие листки – приказ о всеобщей мобилизации. Французский народ выжил после мучений 1870 г. Он снова стал богатым. Он вернул себе часть престижа за границей. Он создал для себя огромную империю в Африке. Но второй раз быть растерзанным Пруссией меньше чем сорок четыре года после первого? Случись такое, жизнь этого народа была бы искалечена и увяла; была бы уничтожена надежда на всякое материальное и моральное благополучие; навсегда настал бы конец честному счастью Франции. В Париже в жаркую и душную первую неделю августа 1914 г. молодые солдаты уходили на войну, а старики смотрели на батальоны, которые мерным шагом шли по улицам под гром «Марсельезы». Рассказывают, что солдаты говорили родителям, а старики друг другу: Англия, конечно, может пережить огромное поражение и остаться процветающей страной, и Россия это может, и Германия тоже, но Франция – нет. Страна может возродиться как феникс один раз, но не два. Так что молодежь Третьей республики шла в бой не ради победы своей нации, а ради ее жизни.
Насколько немцы презирали своих западных соседей-противников, об этом уже было сказано. Это презрение было лишь частью колоссального самообмана и мании величия, которая была главной причиной войны. Но и в лагере союзников и доброжелателей Франции были сомнения и звучали вопросы. Их формулировали вежливо, но невозможно отрицать, что они были. В тот день, когда прусские легионы впервые устремились на Льеж, один английский военный писатель в видной ежедневной лондонской газете успокаивал своих читателей, заверяя их в том, что союзники имеют отличные ресурсы, прекрасную стратегическую позицию и достаточное число солдат. Однако в заключение он искренне написал: «Все это правда, но, конечно, основной вопрос: как поведут себя французские солдаты. Заслужат ли их генералы их доверие и заслужат ли они доверие своих генералов? Если французские пехотинцы смогут сражаться в соответствии со своими лучшими традициями, все будет хорошо».
Нельзя отрицать, что до самого момента мобилизации в общественной жизни Франции были явления, которые радовали пангерманцев и тревожили тех французов, которые особенно горячо любили свою родину. Сорок лет существования Третьей республики действительно были годами материального изобилия. Были не только возмещены все эконо мические потери, понесенные во время войны 1870 г., но и богатство страны увеличено в несколько раз. В 1869 г. общая сумма вкладов и платежей, поступавших в Банк Франции, была равна примерно 12 миллиардам 500 миллионам долларов; в 1911 г. этот показатель был немного меньше 59 миллиардов долларов. В 1907 г. процветающая Франция накопила так много капитала, что порядка 7 миллиардов 250 миллионов долларов было вложено в экономику других стран, а иностранные ценные бумаги приносили своим владельцам-французам не меньше 400 миллионов долларов в год. В 1869 г. на депозитах во французских сберегательных банках было 142 миллиона долларов; в 1911 г. на них было 1 миллиард 125 миллионов 200 тысяч долларов. Национальный кредит был таким хорошим, что, несмотря на огромный государственный долг, правительство могло занимать деньги, обычно под 3 процента или меньше. Все эти высокие показатели свидетельство вали не просто о том, что здоровье французской экономики было крепким, а промышленность и торговля Франции крупными по объему и делились на большое число отраслей. Эти цифры означали, что среди населения страны преобладают процветание, умеренность и ум, а эти черты характера являются большим моральным преимуществом для любого народа.
Однако, несмотря на все только что сказанное, было слишком много причин и для мрачных предчувствий. В материальном отношении таким тревожным признаком был почти не изменявшийся уровень рождаемости. В 1870 г. Франция и Германия были почти равны по количеству населения. В 1914 г. население Франции едва достигало 39 миллионов человек, а население Германии превышало 65 миллионов. Казалось, что в любой длительной войне уже одни эти цифры дадут немцам такое преимущество, которое обеспечит Германии победу, если Британия и Россия не помогут Франции. А французские пессимисты считали, что достаточно большую помощь от союзников получить невозможно. Но это была лишь менее серьезная часть выдвинутых ими обвинений. До самого дня Армагеддона политическая жизнь во Франции казалась безответственной, нестабильной и часто грязной и коррумпированной. Так же, как в Америке, во Франции утверждали, что умнейшие люди страны не идут в политику и не руководят государственными делами. Страсти фанатиков накалились настолько, что казалось, даже угроза великой опасности для нации не сможет их остудить. Когда в июле 1914 г. над страной нависла черная тень австро-сербского кризиса, вначале парижан отвлек от него процесс по громкому делу об убийстве – суд над мадам Кайо (женой бывшего премьер-министра[327]), которая застрелила редактора «Фигаро» господина Кальмета, который особенно зло нападал на ее мужа. Во время этого процесса звучали самые мерзкие оскорбительные замечания. Впечатлительные парижские присяжные оправдали красивую ответчицу. Почти в то же время был открыто убит Жан Жорес, талантливый выдающийся лидер французских социалистов: этим его противники хотели показать, как велика их ненависть к нему. Это были достаточно печальные знаки того, в каком настроении Франция может, начать, подобно Иисусу в Гефсиманском саду, приготовления к своему крестному пути.
Но помимо предположений, что Третья республика так же слаба здоровьем, как Вторая империя, продолжало существовать и сковывало французов недоверие к Франции – печальное наследство 1870 г. Мир слишком охотно вспоминал только о Седане, но забывал про Маренго и Аустерлиц. К тому же он принимал за чистую монету слова немцев, когда те говорили, что французы в лучшем случае успешные владельцы кафе, учителя танцев, портные и актрисы. И что намного хуже, было немало французов, которые так же оценивали характер своего народа. Силу врага они знали, а силу своих собственных душ – нет. В тот день 1 августа 1914 г. в Берлине и Мюнхене звучали возгласы «Ура!», гордые и хвастливые слова и яростные крики: «На Париж!» В Париже и Лионе никто не хвастал, не кричал беспечно «На Берлин!», как в 1870 г. Но если бывают минуты, когда нация собирает и проявляет все силы, заключенные в ее духовной сути, то именно это происходило в те горячие дни мобилизации, когда народ Филиппа Августа и Жанны Дарк, Генриха Наваррского и Тюренна, Дантона и Капрала из Лоди вооружался, заявлял о своем старинном праве на испытание в бою и выходил вперед, чтобы встать между западной цивилизацией и новым Сеннахерибом[328].
Итак, войска бились четыре долгих года и больше. «Михаил сражался с драконом, и дракон сражался, и ангелы его – и тому, кто был бы побежден, больше не нашлось бы места на небесах».
А 4 сентября 1914 г. немцы были близко от Парижа. Попытки остановить их на бельгийской границе не удались, и французские армии собирались с силами для боя не на жизнь, а на смерть, чтобы заслонить собой столицу. В те дни одна крестьянская девушка из Пикардии написала своему брату в армию приведенное ниже письмо. Оно более поучительно, чем любая официальная прокламация.
«Мой дорогой Эдуард! Я слышала, что Шарль и Люсьен погибли 28 августа. Эжен тяжело ранен. Луи и Жан тоже погибли. Роза исчезла.
Наша мать плачет. Она говорит, что ты сильный, и просит тебя отомстить за них.
Я надеюсь, что твои офицеры не откажутся дать тебе отпуск. Жан получил орден Почетного легиона, последуй в этом его примеру.
Из одиннадцати наших, которые ушли на войну, восемь погибли. Мой дорогой брат, исполняй свой долг, все, что от тебя потребуют. Бог дал тебе жизнь и имеет право забрать ее обратно. Так говорит наша мать.
Мы обнимаем тебя от всего сердца и очень хотим увидеть тебя снова.
Пруссаки здесь. Молодой Жудон погиб. Они разграбили всё. Я вернулась из Г…, он разрушен. Это звери!
Теперь, мой дорогой брат, жертвуй своей жизнью. Мы надеемся увидеть тебя снова, потому что у меня почему-то есть предчувствие, которое велит мне надеяться.
Мы обнимаем тебя от всего сердца. Прощай и до свидания, если позволит Бог.
ТВОЯ СЕСТРАЗа меня и за Францию. Думай о своих братьях и о дедушке в ’70-м году».
А в книгах написано, что спартанские женщины и их добродетели исчезли из нашего мира больше 2 тысяч лет назад…
3 сентября 1914 г. немцы подошли к Парижу так близко, что гражданское правительство Франции выехало в Бордо. А 4 сентября положение на фронте казалось таким тяжелым, что значительная часть парижан бежала из столицы в южном направлении. 5 сентября школы в Париже были закрыты. Город, где еще не поседевшие мужчины помнили о тяжелых испытаниях 1870 г., ждал, прислушиваясь к приближавшемуся грому орудий.
Первое сражение на Марне началось, строго говоря, 6 сентября. Рассказ об этой битве должен быть вписан в Золотую книгу свободы рядом с рассказами о битвах при Марафоне и Саламине, о поражении Испанской армады и о битвах, которые создали и сохранили Американскую республику. К 10 сентября военная машина, не знавшая поражений после битвы при Садовой, была остановлена. Ее вожди отступали к реке Эна. Линия фронта уже не проходила в 12 милях от столицы; она отодвигалась от Парижа и остановилась в 60 милях от него. Британские войска доблестно внесли свой вклад в этот подвиг, но больше 90 процентов армии, по которой безуспешно бил захватчик, составляли французы. Их душой и руководителем был Жозеф Жоффр. Во время осады Парижа в 1870 г. он был вторым лейтенантом артиллерии, а в 1914 г. – генералиссимусом армий Республики. Это он накануне решающего сражения отдал приказ: «Каждая воинская часть, которая больше не может идти вперед, должна любой ценой удерживать занятые позиции или погибнуть на месте, но не отступить». Армия Третьей республики повиновалась и духу, и букве этого приказа.
В фатерланде уже были готовы медали в честь торжественного въезда Вильгельма Гогенцоллерна в Париж, но чересчур усердные мастера не нашли употребления для своих клише. Высочайший воитель пообещал себе, что пообедает в Люксембургском дворце, но этот обед так и не был съеден. «Выродившиеся галлы» выиграли великую битву.
Так был остановлен первый рывок прусской военной машины. Война не могла закончиться за три месяца, как весело кричали в августе жители Берлина, Гамбурга и Вены. Она замерла на одном месте и становилась долгой утомительной борьбой, которая требовала стойкости на многие дни, на месяцы, на годы.
В первый месяц войны французы ободряли себя большой надеждой на то, что, если только они смогут отбить первое наступление врага, помощь Англии и в первую очередь России сделает их победу несомненной и быстрой[329]. От этой помощи осенью 1914 г., несомненно, зависели победа или поражение французов. Но хотя давление русских на востоке, конечно, мешало немецким планам нового наступления на Париж на западе, надежды французов на Россию все время откладывались на будущее и наконец были разрушены навсегда. Неэффективность промышленности, омерзительная коррупция в финансовой сфере и даже предатели на высоких должностях – из-за всего этого московский царь как помощник очень разочаровывал французов, хотя миллионы славян отважно жертвовали собой на полях сражений в Польше. В 1915 г. французам пришлось узнать, как трудно прорывать линии укреплений, когда их обороняет противник, военное мастерство которого идеально отточил прусский милитаризм. Англия в это время медленно готовилась к борьбе. Армии Третьей республики были должны почти беспомощно стоять и смотреть на то, как русские, неся ужасные потери, отступали из Польши. Болгария предала свободу мира, а Сербия была полностью раздавлена. За победой на Марне не последовал более крупный триумф, на который надеялись французы. Широкая полоса траншей по-прежнему, как глубокая кровоточащая рана, пересекала Францию от Бельфора до моря. Так закончился 1915 г., и республика продолжала стойко держаться без жалоб.
И вот 21 февраля 1916 г., полностью отразив наступление России, немцы бросились на Верден, главную пограничную крепость французов. Захват Вердена, вероятно, стал бы для немцев большим шагом вперед к выходу на новую дорогу до Парижа – уже не через Бельгию, а по прямой линии через Шампань. Верховное командование тевтонов сосредоточило на этом участке столько артиллерии, сколько раньше не концентрировал никто даже в этой войне гигантов. Больше двух месяцев немцы бросали своих солдат на штурм Вердена так же безжалостно, как кочегар бросает уголь прекрасного качества в бушующий огонь топки.
Не однажды, а много раз их атаки были почти успешными, но дух Жанны Дарк развернул свое знамя над защитниками крепости. «Они не пройдут!» – отвечала живая стена французских фронтовиков-пуалю. Тевтонские снаряды могли их искалечить, но тевтонская доблесть не могла их сломить.
Немецкое наступление на Верден продолжалось всю весну и значительную часть лета, несмотря на то что нападающие несли ужасные потери. Командующим немцами формально считался наследник прусского престола. Поэтому открыто признать свое поражение для немцев значило нанести серьезный удар по престижу династии Гогенцоллернов. А потом, в июле 1916 г., недавно сформированные британские армии приготовились сражаться против немцев в Пикардии и Фландрии. Чтобы противостоять их ударам, немцы неохотно были вынуждены прервать боевые действия возле Вердена. В октябре 1916 и в августе 1917 г. французы несколькими быстрыми и сильными ударами вернули себе почти всю утраченную раньше территорию вокруг этой неприступной крепости.
Однако наступление англичан на Сомме в 1916 г. не смогло прорвать немецкий фронт. Французы потеряли под Верденом столько тысяч своих молодых солдат, что не могли помочь своим союзникам так сильно, как те рассчитывали. На востоке Россия все больше превращалась для своих друзей в «надломанный стебель тростника, который, если человек обопрется на него, впивается ему в ладонь и пронзает ее», каким был в древности Египет. Румыния, которую московский царь прельстил коварными обещаниями, вступила в войну, но в результате была только предана и разгромлена. Наступила третья зима войны, а Францию по-прежнему рассекали, словно раны, вспыхивавшие огнем и дымившиеся траншеи. Победа была далека. Начиналась сильная нехватка продовольствия, угля не хватало еще сильнее, чем еды. Гражданское население, даже те, кто жил далеко от линии фронта, начинало испытывать большие трудности из-за полного прекращения обычной жизни. Но республика по-прежнему не теряла веру и мужество.
В 1917 г. сердца всех жителей Фландрии задрожали от радости, когда их собратья-республиканцы из-за моря приняли вызов, брошенный прусским милитаризмом, и Америка вступила в мировую войну. Но американская армия казалась ничтожно малой. Первоначально выгода от этого подкрепления была лишь моральной: французы осознали, что человечество одобряет их борьбу. Потом были финансовая помощь и помощь военного флота в борьбе против похожих на гадюк подводных лодок, почти задушивших экономическую жизнь и Франции, и Англии. Американская армия долгое время шла на помощь с мучительной медлительностью.
Россия свергла царей, но сама быстро погружалась в хаос, который был прямым последствием многих веков деспотизма. Она не только не могла помочь; вскоре она сама стала отчаянно умолять Францию о поддержке. На Западном фронте французы доблестно предприняли попытку помочь своим британским союзникам. Груз войны становился непосильным для французских солдат. Говорили, что эта операция – последнее большое наступление, которое может предпринять республика. Руководство операцией было поручено умному, но, как выяснилось, чересчур умному генералу Нивелю. Во время наступления на немецкие позиции вдоль Эны (16 апреля) французы сражались доблестно, но не без ошибок. Ключевые укрепления противника не были захвачены. Потери среди атакующих, как сообщают, были ужасными. Нивеля вскоре заменили более благоразумным и способным Петеном, но до этого «умник» успел потерпеть поражение, которое на время ослабило боевой дух французской армии. Однако французы дрогнули лишь на короткое время. Предатели (а в их стане были предатели – Боло и др.) были выслежены и вскоре наказаны с суровостью, достойной древних римлян. Но в конце весны и в продолжение всего лета 1917 г. французов, казалось, начал сковывать страх. Они боялись, что Америка вступила в войну слишком поздно. Россия всё больше слабела. Англичане старались прорвать вражеский фронт во Фландрии – как казалось французам, безуспешно. Нехватка еды усиливалась. Казалось, что пацифисты и противники войны из числа социалистов повсюду поднимают головы. Тела и кровь французов кричали о том, что Франция больше не может быть полем сражения для битвы народов и что нужно попытаться заключить «договорной мир», то есть мир, при котором немцы будут победителями во всех отношениях, только не по имени.
Американские войска стали прибывать во Францию, но вначале это были только отдельные батальоны и полки. Сначала Англия готовилась слишком медленно; теперь казалось, что Соединенные Штаты спешат очень медленно. В октябре австро-германская армия нанесла сокрушительное поражение Италии[330], настолько деморализовавшее это королевство, что некоторые из измотанных боями дивизий Петена были срочно отправлены за Альпы, чтобы помочь итальянцам удержать позиции у реки Пьяве, прикрывавшие Венецию и Милан. 7 ноября временное правительство России было свергнуто ультрарадикальными большевиками. Теперь стало совершенно ясно, что Россия не только больше не окажет своим союзникам большой помощи в войне, но и заключит сепаратный мир. Что же удивительного в том, что слабые духом люди и предатели-пропагандисты, казалось, делали все худшее, что могли, среди всех врагов Германии? И разве удивительно, что нигде они не были так активны, как во Франции? Она пострадала больше, чем другие, ей было обещано больше, чем другим, но до сих пор никто не оказал ей настоящую помощь.
В ноябре 1917 г., сразу после краха Италии и России, кабинет премьер-министра Пенлеве, человека с хорошими намерениями, но не слишком решительного, был свергнут. В такое время был нужен Комитет общественного спасения без гильотины, Дантон без сентябрьской резни. И президент Пуанкаре назначил премьер-министром Жоржа Клемансо, одного из самых знакомых французам политиков тогдашней Франции. Новому премьеру было семьдесят восемь лет; он уже когда-то был премьером; он был мастером дебатов; он имел большое влияние в палатах. Но до этих пор его больше знали не как лидера-созидателя, а как безжалостного критика-разрушителя, который «был независим в своем радикализме и не следовал ни за каким вождем, а руководствовался собственными принципами». Как редактор он был еще более выдающимся человеком, чем как парламентарий. В его «Авроре» во время «дела Дрейфуса» было опубликовано знаменитое письмо Золя «Я обвиняю». Под его ударами пали одно за другим несколько министерств. Современники называли его Тигр, и в этом прозвище сочетались ненависть и восхищение. В мирное время он с такими чертами характера иногда могли не внушать доверия, но во время войны они были так же необходимы, как порох и пушки. Этот человек, старый годами, но вечно молодой душой, по воле Бога стал главным спасителем Франции[331].
Когда Клемансо стал премьером, Луи Мальви (бывший министр внутренних дел) находился под обвинением в разглашении государственных тайн. Клемансо привлек его к судебной ответственности. Сенат рассмотрел дело Мальви и приговорил его к изгнанию на пять лет, которые тот провел в Испании. Как раз перед его осуждением был арестован известный предатель – живший в Египте авантюрист-француз Боло по прозвищу Паша. Его Клемансо отдал под суд по обвинению, предусматривавшему смертную казнь; Боло был осужден и казнен. За спиной Боло была смутно видна более зловещая фигура – бывший премьер Кайо, которого обвиняли в тайных переговорах с врагом нации. Ему Клемансо вскоре тоже предъявил обвинение и отправил его в тюрьму.
А 20 октября 1917 г. Тигр впервые предстал перед палатой депутатов и объявил им, какой будет его политика. Это была программа открытой войны как против внешних, так и против внутренних врагов. «Всех обвиняемых будет судить военный трибунал! Больше никаких пацифистских кампаний, никаких немецких интриг! Ни предательства, ни полупредательства! Война, только война!..
Мы не скуем более великую Францию, если не отдадим для этого свои жизни… [Но] однажды от Парижа до самой скромной деревни триумфальные крики будут приветствовать наши победоносные знамена, политые кровью и слезами и разорванные снарядами, величественные символы наших благородных дел. В нашей власти создать этот день, величайший день нашего народа!»
За год после того, как Клемансо вступил в свою должность, печь испытаний Франции стала в семь раз жарче. Крах сопротивления русских позволил тевтонам перебросить большое количество солдат с Восточного фронта на Западный. Казалось, что политическое положение в Англии не позволит этому государству прислать в Пикардию и Фландрию на смену прежним войскам столько новых, сколько, по словам военных экспертов, было нужно. Американские подкрепления по-прежнему не приходили из-за трудностей с их формированием и перевозкой, а из первоначально присланных американцев многие были не бойцами, а обслуживающим персоналом. Такие люди тоже были крайне необходимы, но они не могли ослабить постоянное напряжение на фронтах. Так прошла эта мрачная «зима недовольства», во время которой Людендорф, стальной и бесстрастный мозг германского Верховного командования, готовил свой великий удар. Этот удар должен был раздавить Францию и почти раздавить Англию до того, как американская помощь из обещаний превратится в реальность.
В марте 1918 г. этот ожидаемый удар был нанесен. Британская армия, побежденная численным превосходством сконцентрированных на ее участке немецких войск, была выбита из своих траншей возле Сен-Кантена. Железная дорога, которая вела напрямую из Парижа в Кале, оказалась под огнем тевтонских орудий. Амьен, столица Пикардии, подвергался обстрелам каждый день. На мгновение показалось, что весь Западный фронт вот-вот рухнет, англичане будут отброшены к морю и огромный германский клин будет вбит между ними и защитниками Парижа. Но когда судьбу фронта – уцелеет он или будет прорван – решали несколько часов, образовавшуюся щель заполнили брошенные в бой французские полки. Возле Мондидье атака тевтонов была остановлена.
Но все знали, что это был лишь первый порыв бури. С расстояния 75 миль чудовищная германская пушка, установленная в лесу Сен-Гобен, бросала двухсотфунтовые снаряды на сам Париж. Это «политическое орудие» стреляло почти наугад: оно должно было бессмысленно причинять незаслуженный вред тем, кто не участвовал в боях, и напрягать нервы уже тяжело страдавших гражданских людей. В Страстную пятницу один из его снарядов пробил сводчатый потолок церкви Сен-Жерве и убил множество коленопреклоненных женщин и детей в тот самый момент, когда священник поднимал облатку. В Париже не было паники, но настроение было невеселое. Иначе и быть не могло: немцы, вероятно, скоро должны были снова атаковать город, и многие парижане с согласия и при помощи правительства, сохраняя порядок, покинули столицу.
Но, хотя немцы и не знали об этом, их мартовская победа в Пикардии стала для них одним из самых дорогостоящих сражений за всю войну. Она наконец заставила их врагов поставить свои плохо объединенные армии под начало одного командующего. Фердинанд Фош, один из самых талантливых помощников Жоффра в битве на Марне, генерал, сочетавший научную точность великого хирурга с религиозным пылом крестоносца, встал во главе войск не только Франции, но также Британии, Америки и Италии. Теперь именно он вступил в схватку с Людендорфом и сражался с ним не напрасно.
В первые три месяца после его назначения судьба всех свободных наций и само существование Франции были в руках этого генерала, который никогда бы не смог вписать свое имя в список величайших полководцев Европы, если бы за его спиной не стоял Клемансо, придававший мужество французскому народу. Ведь Франция после четырех ужасных лет по-прежнему несла основное бремя войны на Западном фронте. Более половины тех, кто противостоял Людендорфу в марте, были французами, и, хотя их доля стала постепенно уменьшаться с прибытием американцев, до самого победоносного конца войны французы составляли 40 процентов войск.
В апреле со стороны врага прилетел еще один порыв горячего ветра; на этот раз он ударил по британцам во Фландрии. Именно тогда маршал Хейг сказал своим соотечественникам-британцам, что «они сражались, прижатые спиной к стене», то есть в трудном и почти безвыходном положении. Западный фронт снова пошатнулся и даже был прорван, но снова атака была остановлена, и снова натиск врага остановили французские дивизии, присланные на помощь своим союзникам. В конце мая немцы, оставив англичан восстанавливать силы, бросили тысячи своих солдат на участок фронта Эны между Реймсом и Суасоном. Какие-то младшие по должности французские генералы совершили где-то несколько грубых ошибок, и тевтоны неожиданно добились большого преимущества. Они переправились через реку Вель, захватили Суасон и снова омыли свои мечи в Марне. Снова, как в 1914 г., местные жители уходили от захватчиков. На дорогах появились беженцы, старики и старухи, и запряженные быками телеги с их домашней утварью.
Неудивительно, что в Париже, возможно, дрожали от испуга многие из тех, кто до сих пор не терял веру. Они пережили четыре года тяжелых мучений, а теперь немцы, вероятно, не просто будут иногда выпускать снаряды из нескольких нелепых на вид дальнобойных пушек. Они смогут разбить столицу в пыль всей своей тяжелой артиллерией! И что удивительного в том, что из своих углов, закоулков и укрытий выползла вся отвратительная стая большевиков-социалистов, сторонников Боло и Кайо и пацифистов. Все они начали шептать людям в уши: «Заключайте мир! Зачем продолжать бесполезно проливать реки крови? Спасайте Париж! Заключайте мир!» И французы знали, что в Британии и Америке профессиональные пацифисты, социалисты и деликатные «либералы» громче, чем когда-либо, говорили о том «договорном мире», заключить который означало продать Францию Тевтонии.
И вот 4 июня 1918 г. произошло решающее сражение с наступавшими немцами у Шато-Тьерри. Был бы враг остановлен без помощи американских полков, брошенных в бушующую, беспорядочную стихию боя? Об этом беспристрастная история умалчивает. Если американская помощь была необходима французам в эти дни бедствия, то разве, помогая, они не возвращали с большими процентами ту помощь, которую Лафайет и остальные молодые смельчаки из Бурбонской Франции принесли из-за моря боровшейся молодой республике за сто сорок один год до этого? А 5 июня исход кровавой битвы еще был неясен, ответственные чиновники обсуждали вопрос о новом переезде правительства в Бордо, а управляющие крупными военными заводами размышляли над тем, как и куда они смогут перевезти свое важнейшее оборудование, и мир спрашивал: «Если Париж падет, сможет ли война продолжаться?» Но Клемансо в это время вставал со своего места в палате депутатов, чтобы бросить вызов ворчанью депутатов-социалистов и трусливым вопросам, которыми они его осыпали.
«Я сказал вам с самого начала [когда вступал в должность], что нам придется пережить трудные и суровые времена и жестокие часы. Эти времена наступают, и есть лишь один вопрос: сможем ли мы их выдержать? [Из-за отступничества России] против нас брошен еще миллион германских солдат. Четыре года наши войска тратят свои силы. Линия войск, защищающая наш фронт, становится все тоньше. Сегодня эти [наши] солдаты ведут бой. Они сражались один против пяти и не спали три или четыре дня подряд…
В эту минуту они ведут самый тяжелый бой этой войны с таким героизмом, что я не могу найти слов для его описания. …Я знаю нескольких людей, которые совершили героические подвиги, как, например, те бретонцы, которые всю ночь были в окружении в лесу, а на следующий день сумели послать с почтовым голубем записку, где было сказано: «Вы можете прийти и найти нас. Мы продержимся еще полдня». Из таких людей состоит наша родина, они поддерживают ее существование и продлевают жизнь этой родины, без которой невозможны никакие реформы. Они умирают за идеал, за историю, самую выдающуюся из историй всех цивилизованных народов…
Перед вами – правительство, которое, как я вам сказал, приняло власть не для того, чтобы признать поражение. Пока мы здесь, французы будут оборонять родину до смерти и будут применяться все средства для того, чтобы добиться успеха. «Мы никогда не отступим!» – это приказ правительства. Мы не отступим никогда, ни в какой момент…
Народ Франции выполнил свою задачу. А те, кто пал, пали не напрасно, потому что они сделали историю Франции великой. Живым осталось завершить величественный труд мертвых».
После этого палата подавляющим большинством голосов проголосовала за поддержку правительства Клемансо и этим привела в замешательство пацифистов.
В эти дни говорили, что президент Пуанкаре, когда его спросили, будет ли захват столицы означать конец войны, ответил: «Мы будем сражаться перед Парижем, в Париже и за Парижем». В эти дни Клемансо, по некоторым сведениям, сказал, что войну выиграет тот вождь, который сможет сохранить присутствие духа на пятнадцать минут дольше, чем его противник, и добавил: «Я собираюсь сохранить присутствие духа». В продолжение всех этих дней некоторые самозваные английские и американские «либералы», к своему стыду, настаивали на том, чтобы Франция дала миру мир отказом от своих претензий на Эльзас – Лотарингию. Но люди Третьей республики не смягчали свое требование исправить вред, причиненный в 1871 г., и заявляли, что не уступят Германии в деле, где речь идет «не только о цене победы, но о восстановлении права»[332].
К 11 июня стало очевидно, что продвижение тевтонов вниз по течению Марны пока остановлено. Другие их попытки приблизиться к Парижу с севера были почти безуспешны. Итак, военачальники, премьер-министры и короли в течение долгого месяца напряженно ждали, пока Людендорф сгруппирует свой миллион человеческих единиц для следующего большого наступления; а Фош, который в своих опубликованных большим тиражом теоретических сочинениях был за постоянное наступление и жаркие бои, теперь, казалось, покорно ждал нового удара германской кувалды.
И вот 15 июля произошло то, чего ожидали. Германцы пошли в наступление на фронте длиной 60 миль от Шато-Тьерри на восток до Аргонского леса. Это был еще один из тех ударов гигантского тарана, которые прусское Верховное командование так хорошо умело организовывать. Но на Марне нападающим едва удалось перебросить несколько полков на другой берег, несмотря на упорное сопротивление французов и американцев. Дальше к востоку они медленно и с трудом продвинулись вперед лишь около Реймса. Восточнее Реймса они ударились головами о стену огня и отступили, полностью разгромленные. К ночи 17-го числа они понесли ужасные потери, но едва продвинулись вперед на 1 фут из тех 38 миль, которые еще отделяли их от Парижа. Будь Людендорф действительно мудрым человеком, он бы сообщил своему императору, что нужно начинать переговоры о мире. Он полностью утратил численное преимущество, которое получил благодаря отступничеству России, и не мог надеяться, что организует новое, более грозное наступление[333].
А 18 июля 1918 г. Фош бросил франко-американскую армию против фланга немецких позиций от Шато-Тьерри к северу до Суасона.
Людендорф явно не учитывал в своих расчетах возможность мощного контрудара, применения в наступлении необстрелянных американских солдат и разрешения другим американским частям заменить в резерве французских ветеранов. На значительном участке немецкий фронт просто рассыпался. Когда ценой больших усилий немцы начали стабилизировать его возле рек Эна и Вель, Фош бросил против них реорганизованные в Пикардии английские части (это было 8 августа). С первой июльской атаки три месяца и двадцать четыре дня армии Фоша вели победное наступление. Немцам не удалось нанести ни одного контрудара, который бы дал им хотя бы временный успех. Когда это наступление закончилось, война закончилась тоже.
В ночь 7 ноября 1918 г. возле Ла-Шапели на дороге в Сен-Кантен немецкий трубач подошел к французским позициям и сыграл сигнал «переговоры». За его спиной стояли автомобили с белыми флагами. В них находились делегаты, присланные правительством Германии просить о перемирии маршала Фоша, генералиссимуса государств, объединившихся в союз против Тевтонии. Они встретились с французским военачальником в его штабном вагоне в Ретонде, в 9 часов утра 8 ноября. В этом вагоне он прочел им условия, на которых враги Германии соглашались прекратить кровопролитие. Понадобилось немало времени, чтобы сообщить их в немецкий Генеральный штаб, находившийся в Бельгии, в городе Спа. Однако военное положение тевтонов было таким тяжелым, что они не могли позволить себе спорить из-за мелких подробностей. В 5 часов утра (по парижскому времени) 11 ноября перемирие было подписано. В 11 часов утра артиллерийские орудия, непрерывно гремевшие на Западном фронте более четырех лет и трех месяцев, замолчали: их огонь больше не был нужен.
И в Париже, и в самой маленькой коммуне мужчины, женщины и дети танцевали на улицах. В сенате и в палате депутатов ораторы величавыми фразами предлагали проголосовать за то, что Жорж Клемансо и Фердинанд Фош «имеют большие заслуги перед нацией». В условия перемирия был включен пункт о том, что «захваченная область» Эльзас – Лотарингия должна быть покинута немцами в течение четырнадцати дней.
В Страсбурге нетерпеливые женщины, плача от радости, сшивали из красного, белого и синего лоскутов трехцветный французский флаг.
Когда разбитые немецкие войска мрачно уходили с того маленького клочка Франции, который удерживали до самого перемирия, они оставляли после себя шрам из развалин, который пересекал Фландрию, Пикардию и Шампань. Все контрибуции, которые Франция должна была получать с Германии еще много лет, не могли восстановить и оплатить эти разрушения. Никакая позорная капитуляция врага не могла мгновенно дать французам промышленные изделия вместо увезенных с разграбленных предприятий, возродить задушенную торговлю, вернуть прежнюю красоту обломкам разрушенных ратуш и заброшенным церквям, возвратить былое прославленное великолепие расколотым скульптурам в Реймсе. Никакая расплата не могла снова сделать незапятнанной жизнь десятков тысяч молодых женщин, ставших жертвами солдат вторгшейся армии, и стереть бесчисленные горькие воспоминания о четырех годах ассирийского рабства, которое пережил почти каждый город Северной Франции. Тем более они не могли вернуть к жизни 1 миллион 400 тысяч молодых французов, лежавших в земле своей родины. Они жили бы нормальной счастливой жизнью, если бы порфирородный беглец, живший в Голландии, не решил идти вперед, завоевывая и ради завоеваний.
Материально Франция пострадала больше, чем любой из ее главных союзников. Война шла все время на ее территории. До последних недель перед концом при северо-восточном ветре в Париже был слышен грохот пушек. Республика мобилизовала 6 миллионов 900 тысяч человек при населении всего в 39 миллионов. Прямые расходы на войну превысили 27 миллиардов долларов. Было нужно два года, чтобы разрушенные угольные и железнорудные шахты снова начали работать. И лишь через десять лет (так было сказано в отчете) они могли достичь той производительности, которую имели в 1913 г. Немцы вывезли из Франции добычу стоимостью 800 миллионов долларов. Одному человеку было бы нужно 600 миллионов дней работы, чтобы восстановить 350 тысяч разрушенных домов и фермерских хозяйств в северных департаментах.
Такого длинного перечня материальных потерь мир не знал даже в самые жестокие дни правления Людовика XIV или Наполеона.
Что же касается освященных временем традиций общества, которое, вероятно, было самым старым и самым стабильным в Европе, то они были вырваны с корнем. Фош и Клемансо вернули миру новый народ – новый и телесно и духовно.
И все же Франция скрывала свою скорбь и гордо держала голову, когда 1918 г. победоносно завершался. Она прошла через самое тяжелое испытание, которые когда-либо приходилось вынести свободной стране в современную эпоху, и выдержала его так, что стала духовной наследницей Афин и Марафона. И она верила в будущее, каким бы оно ни оказалось, потому что знала, как она сильна, и ее силу признал весь рукоплескавший ей мир.
Маршал Фош приветствует статую генерала Клебера после входа французов в Страсбург в 1918 г. В руке у маршала сабля, принадлежавшая когда-то тому же генералу Клеберу, предку Фоша
ХХ в. неизбежно принесет с собой перемены. Невозможно предсказать, что он готовит для Франции отдельно от общей судьбы Европы и Америки. Но можно с уверенностью сказать, что эти перемены будут достойны той огромной цены, которую победоносная Третья республика заплатила за свое право на жизнь. Французская нация будет сильной не только потому, что она явно показала себя способной производить на свет великих полководцев и государственных советников, но и потому, что обстоятельства ее победы над Германией доказали всем странам, что НАРОД ФРАНЦИИ обладает силой и духовным благородством, которые, несомненно, сделают его ведущим среди его собратьев. Маршал Жоффр во время торжественной праздничной церемонии, на которой его провозгласили членом Французской академии и восхваляли как одного из освободителей страны, верно сказал: «Это сделал не я, а пуалю!»
В день 11 ноября 1918 г. Клемансо, объявляя в палате депутатов о великой победе, подвел итог многим векам французской истории одной яркой фразой: «Франция вчера была солдатом Бога; сегодня она – солдат человечности; она всегда будет солдатом идеала».
Постскриптум
Было 28 июня 1919 г., когда на Всемирной конференции в Версале послы Германии, которая стала теперь республикой, подписали (после безуспешных отсрочек и протестов) договор, закончивший Великую войну. Значительная часть статей этого объемистого документа, общим числом 446, была посвящена международным делам, которые интересовали Францию не больше, чем другие свободные народы, сражавшиеся рядом с ней. Но было там и несколько статей, которые имели важнейшее значение для французов. Одна из них, в частности, «исправила ущерб, который Германия причинила как правам Франции, так и желаниям Эльзаса и Лотарингии», и торжественно возвратила «утраченные провинции» стране, которая когда-то приняла их в свой состав и которую они любят. Радостью для республики стала также статья о сокращении германской армии. Кроме того, Германия уступила своим недавним врагам, по меньшей мере на пятнадцать лет, Саарский бассейн – ценную область с угольными месторождениями, чтобы возместить Франции разрушение ее собственных угольных шахт. И наконец, тевтоны обещали оплатить (насколько они способны это сделать в своем нынешнем деморализованном состоянии) расходы по восстановлению Пикардии, Фландрии и Шампани после ужасных разрушений, причиненных им войной.
После Версальского договора Франция остается ослабленной. Она похожа на человека, который после сильной тряски покрыт ушибами и ранами. Она еще истекает кровью, хотя после перемирия проделана большая работа. Но она уж точно не сломлена. Поражение Германии и распад России и Австрии сделали ее первой и не имеющей себе равных страной континентальной Европы. Она приобрела новые африканские колонии, принадлежавшие раньше Германии. Она связала себя отношениями близкой дружбы и сотрудничества с Британией и Америкой. Никогда еще со времени Наполеона I слово «француз» не звучало так гордо. И поэтому Третья республика с новой уверенностью встречает зарю новой эпохи.
Примечания
1
Гизо.
(обратно)2
Конечно, в самом начале войны 1914 г. немцы захватили район угольных и железнорудных шахт на северо-востоке Франции, и это значительно усложняло ей жизнь, пока не пришли на помощь англичане и американцы.
(обратно)3
И разумеется, очень заметен кельтский элемент во Французской Бретани.
(обратно)4
Париж (его самое раннее название Лютеция) был очень маленькой крепостью на острове посреди Сены, когда римляне захватили его в 52 г. н. э. Под их властью к 100 г. н. э. он стал превращаться в большой провинциальный город и начал свой путь к величию.
(обратно)5
Эти провинции были: Нарбонская Галлия (прежняя провинция, существовавшая до Цезаря); Аквитания, Лугдунская Галлия; Белгика; Нижняя Германия; Верхняя Германия. В состав трех последних провинций входили обширные территории, которые сейчас обычно не считаются частью Франции.
(обратно)6
Другое произношение этого имени – Кловис. (Примеч. пер.)
(обратно)7
Точное место сражения неизвестно. Вероятно, оно находится ближе к Пуатье, чем к Туру.
(обратно)8
Конечно, константинопольский император Лев Исавр в 717 г. нанес сильное поражение арабам, когда они напали на его столицу, но это не спасло бы западные христианские страны.
(обратно)9
На мозаичном, точно передающем черты оригинала портрете в церкви Святого Иоанна Латеранского в Риме видно, что Карл Великий носил большие усы, а не знаменитую «длинную бороду», которая так часто упоминается в позднейших песнях и легендах.
(обратно)10
Они назывались comites, что буквально означало «спутники» короля или императора.
(обратно)11
Храбрый Эд, граф Парижский, с 888 г. и до своей смерти в 898 г. был почти повсеместно признан как король Франции. После его смерти все признали право на престол Карла Простоватого.
(обратно)12
Конечно, и в XX в. существовали потомки рода Капетов, которые могли бы с большими основаниями претендовать на корону Франции, если бы Третью республику снова сменила монархия. Так что в определенном смысле династия Гуго Капета существует и сегодня – как знатный род, предков которого можно проследить до самого родоначальника.
(обратно)13
К праву лично управлять полученной в держание землей обычно добавлялись различные льготы, например исключение лена из королевской юрисдикции и освобождение от налогов, которые взимал король. Таким образом, новый вассал становился верховным судьей на предоставленных ему землях и сам собирал с них собственные налоги.
(обратно)14
Священнослужителей обвиняли в том, что они, чтобы обойти церковное правило, запрещавшее им пользоваться мечом, часто вооружались тяжелой булавой, удар которой выбивал из врага мозги, не проливая его крови. Кажется, в истории Франции было много таких священнослужителей-воинов.
(обратно)15
То есть каждый человек, который был держателем земли или претендовал на то, чтобы иметь ее в держании как вассал. Другими словами, каждый, кто был стойким воином, не был сыном зависимого крестьянина, не зарабатывал себе на жизнь ремеслом или торговлей и не был служителем церкви.
(обратно)16
Во всяком случае, в более поздние времена братья и младшие сыновья французских королей часто носили титул графа, но, разумеется, занимали при дворе место выше, чем практически все герцоги.
(обратно)17
Конечно, в ленное владение могли предоставить и доходы, например рыночный сбор, и привилегии, например право охоты в каком-либо лесу. Но, как правило, ленным владением была земля.
(обратно)18
Когда король Роберт около 1000 г. женился на южной принцессе Констанции Арльской, северофранцузские монахи-летописцы в ужасе и смятении писали в своих хрониках, что королева привезла с собой в высшей степени аморальный сброд. «Их оружие и одежда были в беспорядке, их волосы коротко острижены и даже выбриты надо лбом [по римскому обычаю], их бороды подстрижены как у шутов, а их огромные сапоги – величайший позор для них».
(обратно)19
У Людовика VI был сын старше этого, Филипп, на которого он возлагал большие надежды. Но в 1131 г., когда этот юноша выезжал на коне из Парижа, «дьявольская свинья» (свиньи в средневековую эпоху постоянно разгуливали на улицах, пожирая отбросы) пробежала между ногами его коня и сбросила принца на землю. Он полученных повреждений Филипп умер.
(обратно)20
Кстати, некоторые из них – нормандцы, эмигрировавшие в Южную Италию и на Сицилию, – основали там герцогства, а затем перешли к более масштабным предприятиям в Сирии и Палестине.
(обратно)21
Ричард Львиное Сердце очень точно сказал: «В нашей семье такой обычай – сыновья ненавидят отцов!»
(обратно)22
Вероятно, на самом деле битву выиграли рыцари, а не ополченцы из коммун, хотя некоторые не в меру старательные писатели настаивают на противоположном. Однако «простые горожане», должно быть, дали королю много доказательств того, что они важны для него на войне.
(обратно)23
Если наемникам аккуратно платили, их можно было использовать в боевых действиях весь год. А феодальные войска трудно было удержать вместе больше чем на два месяца, если только обстоятельства не были чрезвычайными или не было очень большой надежды на хорошую добычу. К тому же от наемников можно было требовать гораздо большей дисциплины, чем от феодальных отрядов.
(обратно)24
В городе Безье некоторые из захватчиков не решались убивать всех без разбора и говорили, что не всегда могут отличить католика от еретика. Тогда фанатичный аббат монастыря Сито отдал приказ: «Убивайте всех. Бог узнает своих!» И этот приказ был исполнен.
(обратно)25
Людовик казался таким безупречным, что его слуги, пытаясь найти в нем какие-нибудь человеческие слабости, были вынуждены довольствоваться замечаниями вроде «С ним было очень трудно иметь дело, когда он болел!».
(обратно)26
Все ремесленники – плотники, ткачи и др. – обычно причислялись к крестьянам и, вероятно, часть своего времени отдавали сельскому хозяйству. Торговля же сократилась до ввоза небольшого числа предметов роскоши – например, шелковых тканей, пряностей для кулинарии, ладана для церкви. Эти восточные товары поставляли странствующие торговцы, изредка заходившие в замки.
(обратно)27
Во многих замках донжоны были выше 100 футов и имели стены толщиной целых 20 футов. В замке Куси (на северо-востоке Франции), который был построен сравнительно поздно и был очень сложным по устройству, была башня высотой 210 футов.
(обратно)28
Вероятно, строители средневековых замков многие свои представления о принципах создания укреплений приобрели благодаря Крестовым походам, позаимствовав что-то из военного искусства восточных римлян (т. е. византийцев. – Пер.) и магометан. Замки становились все сложнее примерно до 1400 г., а затем появление пороха быстро изменило всю систему строительства оборонительных сооружений.
(обратно)29
Это, без сомнения, верно для раннего Средневековья. В позднем Средневековье дворяне, конечно, становились все более образованными, и вскоре среди знатных людей появились ученые и искренние покровители науки.
(обратно)30
Ясно, что вначале звание «рыцарь» означало только признание обществом того, что молодой дворянин является теперь полноценным воином. Религиозная церемония, «рыцарские» обеты и обязанности, а также благословение нового рыцаря церковью и т. п. появились в более позднем Средневековье.
(обратно)31
Однажды был составлен список возможных развлечений средневекового французского сеньора. Их было всего пятнадцать – фехтовать, играть в шахматы, есть и пить, слушать песни, смотреть на бои между медведями, разговаривать с дамами, организовывать свой двор, греться, лечиться банками и кровопусканием и смотреть, как падает снег.
(обратно)32
Вот почему столько любовных историй в средневековом фольклоре рассказывают о недозволенной любви: женщина, едва вырастала из детства, была уже замужем.
(обратно)33
Вассалом мог быть только дворянин. Это слово никогда не применяли к крестьянам и горожанам.
(обратно)34
В первую очередь помогать сюзерену в вынесении судебных решений, за исполнение которых, разумеется, отвечали сюзерен и его советники.
(обратно)35
Один из подобных случаев произошел в XI в. Жоффрей Анжуйский захватил в плен Тибо де Блуа, заставил Тибо отдать ему в ленное владение графство Тур, а потом «оказал почет» своему пленнику.
(обратно)36
Конечно, в истории Средних веков отмечено немало настоящих сражений. Но их явно очень мало в сравнении с общим объемом происходивших тогда боевых действий. Когда же сражения происходили, они обычно велись очень безыскусно. Большие отряды воинов устремлялись один на другой, каждый из нападающих выбирал себе противника, и та сторона, чьи бойцы побеждали в большинстве единоборств, выигрывала бой. Среди средневековых полководцев почти не было великих стратегов.
(обратно)37
Монахи и священники часто подвергались нападениям: их грабили разбойники и бароны, не боявшиеся громовых проклятий церкви. Кажется, что средний мелкопоместный дворянин того времени постоянно ходил в этом отношении по краю и мысленно клал на одну чашу весов выгоды, которые получит сейчас, ограбив богатого священника, а на другую – вероятность того, что оскорбленные силы небесные позже отомстят ему за это. Иногда верх брала алчность, а иногда набожность.
(обратно)38
Лучшее, что было в медицинской науке Средних веков, часто было заимствовано у магометан, главным образом у испанских мавров. Иногда с помощью здравого смысла и примитивных знаний, приобретенных благодаря опыту, средневековый врач мог действительно вылечить больного, но средний врач часто был остававшимся без наказания убийцей. Мы можем заметить, что смертность среди маленьких детей была ужасающей даже в королевских семьях, где младенцы получали самый лучший уход.
(обратно)39
Разумеется, важной причиной узости кругозора было отсутствие удобных путей сообщения. Дороги часто были просто тропами или колеями, вместо мостов были опасные броды, достойных гостиниц не существовало, везде были разбойники. Торговцы были вынуждены везти практически все товары на вьючных лошадях, а не на телегах. В таких условиях обмен идеями мог происходить лишь медленно – так же медленно, как обмен иностранными товарами.
(обратно)40
Часто даже предполагали, что, если человек умеет читать, значит, он из духовенства.
(обратно)41
Аристотель писал на греческом языке, но некоторые его труды были переведены на арабский, а потом, странным обходным путем, с арабского на латынь. Другие его сочинения были доступны в переводах, которые выполнил Боэций в VI в. В Средние века Аристотель считался величайшим авторитетом во всех вопросах светской науки.
(обратно)42
Любое полное повествование о средневековой Франции не обошлось бы без рассказа о Парижском университете. Он окончательно сформировался в конце XII в., но до этого долго существовал как менее организованный учебный центр. Долгое время ни один европейский университет не имел такого престижа, как он. Решения парижских докторов богословия считали нужным обсуждать всерьез, даже когда они противоречили тому, что было сказано папами. А во всех вопросах светской науки мнение ученых соответствующего парижского факультета было почти самым авторитетным. Существование в столице королей-Капетингов такого почитаемого учреждения очень увеличивало их престиж.
(обратно)43
Среди образованных людей, главным образом благодаря влиянию церкви, эта средневековая латынь была гораздо ближе к «всемирному языку», чем любой сегодняшний язык.
(обратно)44
Конечно, собор – главное место пребывания епископа. Часто обычная церковь, построенная в приходе или аббатстве, была по великолепию равна соборам. Можно представить себе много умирающих от голода деревень, их жалкие и неряшливые убогие хижины и в центре всего этого приходская церковь, которая могла бы привлечь к себе всеобщее внимание в любом современном городе. Обычно средневековые соборы задумывались настолько великолепными, что целое поколение могло построить лишь малую часть собора. Верно сказано, что «ни одна готическая церковь никогда не была достроена»!
(обратно)45
Если использовать профессиональные термины, мы можем сказать, что в готических церквях для поддержки каменных сводов используются диагональные ребра и поэтому весь вес крыши держат на себе капители, а стены совсем ее не поддерживают (стены могут быть очень тонкими и иметь окна сложной формы). Правда, в нескольких истинно готических церквях арки круглые.
(обратно)46
Интересно, что часто в средневековых церквях задняя сторона скульптур и других деталей тонко обработана, хотя никто не должен был ее видеть. «Но Бог может увидеть, что наша работа несовершенна!» – сказал бы средневековый ремесленник.
(обратно)47
Это слово означает жителя усадьбы (виллы) или крестьянского хозяйства. Вот почему позже слово villain стало означать жуликоватого деревенского невежу.
(обратно)48
Кажется, вплоть до 1789 г. право бить своих крестьян палкой все время было привилегией среднего французского дворянина.
(обратно)49
Крестьяне, зависевшие от аббатства, могли особенно надеяться, что монахи будут кормить их во время голода.
(обратно)50
Нужно ясно понимать, что эти «города» были крупными лишь по тогдашним меркам, а по нашим маленькими. В Средние века город с тысячей жителей был уже достаточно большим, а с 10 тысячами жителей по-настоящему крупным.
(обратно)51
Совершенно ненаучно называть ее Жанна д’Арк. Это значит «из Арка» или «дворянка из рода владельцев Арка», а возле места, где она родилась, не было деревни под названием Арк, и ее семья была скромным крестьянским семейством, не претендовавшим на дворянскую частицу «де» перед фамилией. Дарк было обычным прозвищем.
(обратно)52
Главными причинами того, что эта, на первый взгляд многообещающая, попытка создать представительное правительство ни к чему не привела, было, во-первых, то, что три сословия собирались каждое отдельно и имели очень разные интересы, то есть среди участников не было единодушия, без которого ничего нельзя было сделать, и, во-вторых, то, что Генеральные штаты никогда не имели полного контроля над казной и не могли действовать на короля принуждением, отказываясь голосовать за налоги.
(обратно)53
Это была знаменитая «осада Ананьи» – маленького города возле Рима, где тогда находился папа.
(обратно)54
Позорным эпизодом царствования Филиппа IV было преследование рыцарей-тамплиеров и их истребление. Этот орден был братством монахов-воинов, давших клятву проявлять свое усердие в вере войной против иноверцев, а не так, как обычно, – аскетической жизнью в монастыре. Он приобрел огромное могущество и соответствующее ему богатство. Орден владел огромной собственностью во Франции и в других европейских странах. Сохранились свидетельства, что в 1306 г. великий магистр тамплиеров, вернувшись во Францию из Леванта, привез с собой 150 тысяч золотых флоринов и десять конских вьюков серебра. К тамплиерам начали относиться с большим подозрением из-за их тайных собраний, возникли слухи, что на этих своих встречах они вели себя очень безнравственно. Высокомерие и алчность тамплиеров давали пищу для этих зловещих рассказов.
Такая богатая, полусекретная и подозрительная организация была очень удобной жертвой для алчного и неразборчивого в средствах короля Филиппа IV. В 1307 г. он внезапно арестовал великого магистра тамплиеров де Моле и шестьдесят виднейших братьев ордена. Чуть позже обвинение было предъявлено и всем остальным тамплиерам, находившимся во Франции. Сломленные угрозами и пытками, де Моле и его собратья признались в том, что «отреклись от Христа и плевали на крест», но все же не признали обвинений в серьезных преступлениях против нравственности. Папа Климент V был полностью в руках Филиппа. После напрасных протестов он приказал запретить орден тамплиеров во всем христианском мире. Филипп же продолжал допрашивать своих несчастных узников по обвинениям в ереси, богохульстве и различным гнусным преступлениям. С 1310 по 1314 г. большинство из них были сожжены на костре. Де Моле был казнен в 1314 г. и, умирая, призвал короля-тирана и сговорчивого папу вскоре явиться вместе с ним на суд Бога. И люди позже вспоминали, что вскоре после этого вызова и король, и папа умерли. Все единодушно считают, что тамплиеры были невиновны в большинстве предъявленных им обвинений. Их признания были вырваны принуждением и пыткой. Филипп желал завладеть их огромным имуществом и не останавливался ни перед чем, чтобы иметь возможность его конфисковать.
(обратно)55
Этот закон кажется еще более странным оттого, что мало было королевств, где женщины имели больше реального влияния на политику, чем во Франции.
(обратно)56
Бретань, с трех сторон окруженная океаном, была последним крупным феодальным государством, перешедшим под власть французской короны. Правда, ее зависимость от Франции оставалась чисто формальной до ее аннексии в 1491 г.
(обратно)57
Этот титул происходит от названия области Дофине, правителем которой считался наследный принц, так же как наследник английского престола именовался принцем Уэльским. Последний феодальный правитель Дофине уступил свою власть королю в 1349 г.
(обратно)58
Наварра находилась в Пиренеях между Францией и Испанией.
(обратно)59
Ее называли так по имени графа Арманьяка, который стал главой этой антибургундской партии.
(обратно)60
Дофин в это время был еще ребенком, но допустил, что порочные придворные убедили его пригласить герцога Бургундского встретиться с ним на мосту Монтеро. Герцог опустился на колени перед принцем и в этот момент был вероломно убит Таннеги-Дюшателем, одним из вождей арманьякской партии.
(обратно)61
Герцог Бедфорд – брат Генриха V и дядя малолетнего короля. (Примеч. пер.)
(обратно)62
Жанна носила мужскую одежду. В тюрьме ей пообещали прощение, если она выполнит некоторые требования, в том числе снова станет одеваться по-женски. Однажды ночью женскую одежду унесли, а на ее место положили прежнюю, мужскую. Жанна, которой больше нечего было надеть, надела ее. Сразу же ее объявили «повторно впавшей в грех» еретичкой.
(обратно)63
Конечно, на самом деле война продолжалась дольше – с 1337 по 1453 г., но за это время были долгие перемирия и периоды номинального мира.
(обратно)64
Копье состояло из шести человек – первоклассного воина в тяжелом вооружении, его пажа, трех лучников и солдата, вооруженного кинжалом. Все были на конях. У Карла VI было 1500 таких копий, то есть 8 тысяч кавалеристов, и еще 16 тысяч «вольных лучников», то есть королевских пехотинцев.
(обратно)65
СОБЫТИЯ В ПЕРОННЕ
Этот знаменитый и унизительный эпизод жизни Людовика XI произошел в Перонне в 1468 г. Из-за своей природной склонности к интригам король несколько раз подряд сам загнал себя в ловушку.
Желая заключить сделку с Карлом Смелым, король сам приехал к герцогу с очень малым числом сопровождающих. Он верил, что его дар льстить и убеждать поможет ему и высокомерный бургундец уступит его королевским требованиям. Карл дал королю пропуск через свои владения и принял своего гостя по видимости дружелюбно, хотя приставил к нему слишком многочисленную «почетную охрану».
Но очень скоро оправдались слова историка Коммина, современника тех событий: «Велико безумие правителя, который отдает себя во власть другого правителя!» Когда Людовик учтиво вел льстивые и вежливые разговоры в Перонне, туда неожиданно пришла новость, что его агенты, которых он послал немного раньше и не приказал перехватить в пути, подняли граждан города Льежа на восстание против их князя-епископа, союзника Карла, и епископ был жестоко убит во время этого бунта. Ярость герцога не знала границ. Три дня он фактически держал Людовика в плену и почти угрожал его жизни. Но вскоре Карл успокоился настолько, что согласился освободить короля при условии, что тот согласится на очень невыгодный для Франции договор, а потом, в качестве главного унижения, поведет свои войска вместе с армией Карла против льежских мятежников. Боясь за свою шкуру, Людовик смиренно согласился на все это и поклялся «на истинном кресте, который носил святой Карл Великий», что сдержит слово.
В результате король со своими воинами появился среди бургундцев во время осады Льежа. Напрасно несчастные грожане поднимали королевские знамена над своими стенами и кричали «Да здравствует Франция!». Вскоре они были побеждены, затем город был жестоко разграблен, и многие из тех, кого Людовик подстрекал к мятежу, были казнены почти у него на глазах, а он ни разу не попытался заступиться за кого-то из них.
Если верить рассказам современников, то король, вернувшись домой, издал указ, в котором велел наказывать тех, кто станет петь «песни, рондо и баллады о его поведении», а также послал своих чиновников конфисковать у хозяев «всех живущих в клетках сорок, попугаев и сов», обученных в насмешку кричать «Перонна!». И все же этому королю удалось сделать для Франции гораздо больше, чем сделали многие сравнительно достойные и почтенные правители.
Разумеется, именно события в Перонне стали основой для прекрасного романа Скотта «Квентин Дорвард».
(обратно)66
Эта смерть случилась настолько вовремя, что враги Людовика обвинили его в отравлении брата. Их предположение не доказано, хотя этот король был совершенно неразборчив в средствах. Но нет ни малейшего сомнения, что он радовался смерти Берри.
(обратно)67
В которых швейцарцы разгромили австрийцев, при Моргартене в 1315 г., при Земпахе в 1386. (Примеч. пер.)
(обратно)68
В то время артиллерия развилась настолько, что была полезна на войне, если боевые действия велись открыто, но лишь при очень благоприятных обстоятельствах.
(обратно)69
Идя по темному переходу в замке Амбуаз, он ударился головой о верх низкого дверного проема. Удар был таким сильным, что король вскоре умер.
(обратно)70
В 1491 г. Карл VIII женился на герцогине Бретонской и этим установил «личный союз» большой и наполовину независимой Бретани с Францией. Полностью это государство было включено в состав Франции лишь через несколько лет.
(обратно)71
Он не был сыном Карла VIII – Карл умер, не оставив прямых наследников, – а внуком брата Карла VI. С Карлом VIII угасла первоначальная ветвь рода Валуа.
(обратно)72
Конечно, вскоре его могущество еще больше возросло: благодаря завоеваниям своих военачальников Кортеса и Писарро в Америке он завладел огромными богатствами Мексики и Перу.
(обратно)73
У французов в то время звание адмирал почти всегда означало военачальника сухопутных войск.
(обратно)74
Генрих IV (не имевший никаких оснований любить ее) сказал о Екатерине уже после того, как взошел на престол вслед за ее сыновьями: «Что было делать несчастной женщине, когда ее муж умер, а у нее на руках остались пять маленьких детей и две семьи, наша и Гизы, интриговали, желая завладеть троном? Я удивляюсь тому, что она не сделала худшего!»
Эти три короля, сыновья Екатерины, были самыми безликими правителями Франции со времени возрождения монархи в XII в. Их даже невозможно считать целостными личностями. В истории они играют важную роль лишь из-за того, что другие люди совершили много дел за или против их «королевской» власти.
Франциску II было только 16 лет, когда он стал королем. Его женой была замечательная женщина и красавица Мария Стюарт, знаменитая королева Шотландии, находившаяся тогда в самом начале своей бурной и в высшей степени трагической жизни. Если бы Франциск (который с самого рождения был болезненным) прожил дольше, его энергичная жена смогла бы сделать его правление достойным упоминания, но он умер, пробыв на троне около года.
Карлу IX было всего 13 лет, когда он унаследовал престол после брата. Этот король был «высокого роста, изящный, с величавыми манерами, чувствительный и умный». Но он был совершенно непоследовательным в своих симпатиях и предрассудках и очень охотно прислушивался к дурным советам. Хотя резня в Варфоломеевскую ночь произошла в его правление, он, вероятно, был лучшим среди этих трех последних королей из рода Валуа.
Генрих III взошел на престол уже взрослым, но, несомненно, был худшим из этих троих братьев-королей. «Он вел постыдный образ жизни, был изнеженным и женоподобным. В его дворце лилась кровь и плелись интриги, этот дворец был местом любви и убийств и разгула самых худших страстей». Разумеется, такой король терпел поражения от протестантов, а знатнейшие аристократы-католики его запугивали и грубили ему.
(обратно)75
Точные мотивы и рассуждения, которые заставили Екатерину совершить такой внезапный и резкий поворот в политике короля, в значительной мере неизвестны до сих пор.
(обратно)76
Согласно другим подсчетам, довольно точным, число жертв достигло 3 тысяч в Париже и 13 тысяч в провинции.
(обратно)77
Реймс, где обычно происходили коронации, в это время находился в руках его врагов.
(обратно)78
Французский ливр (денежная единица, соответствующая английскому фунту) в то время стоил, видимо, ок. 38 центов серебром. Конечно, его покупательная способность была тогда гораздо выше, скажем 1 доллар. Постепенно стоимость ливра уменьшилась до примерно 19,5 цента. Столько он стоил во время Французской революции, когда его переименовали во франк. Приведенная выше цифра «утечек» при сборе налогов может быть преувеличена, но потери для казны, несомненно, были возмутительно огромными.
(обратно)79
Генрих IV, проявляя интерес к сельскому хозяйству, приказал каждый день после обеда читать ему очень разумно написанную книгу лангедокского дворянина Оливье де Серреса «Управление фермами». Благодаря примеру короля книга стала популярной и, несомненно, улучшила методы ведения сельского хозяйства во Франции.
(обратно)80
Французские дворяне считали унизительным для себя служить в пеших войсках; традиция и политика были против того, чтобы слишком легко вооружать обычных крестьян. Поэтому, чтобы иметь нужное количество пехотинцев, часто нанимали иностранцев, главным образом швейцарцев и немцев.
(обратно)81
Конечно, в 1614 г. было много очень могущественных сил, которые своим влиянием не дали демократическим тенденциям внутри Генеральных штатов стать мощными и эффективными. Но и без этого противодействия это собрание по самой своей природе почти не годилось для роли инструмента либерализации и возрождения Франции.
(обратно)82
Вся безответственность лидеров Фронды хорошо видна в этом описании герцогини де Лонгвиль, самой заметной из знатных дам, раздувавших огонь мятежа: «Тщеславие и скука побудили ее восстать против ее короля, предать ее страну и изменить ее мужу. В конце концов ссылка в Пор-Рояль спасла герцогиню от одурманивших ее почестей, тревог и удовольствий этого мира» (Стефен).
(обратно)83
Король, правда, мог преодолеть это вето, если бы собрал торжественное заседание (оно называлось «ложе правосудия») и объявил предложенные законы юридически обязательными без согласия парламента. Но этот способ был громоздким и очень непопулярным. (Первоначально французские короли проводили судебные заседания, сидя на возвышении, похожем на кровать, и окруженные своей знатью. Отсюда название «ложе». – Пер.)
(обратно)84
Падкий на деньги Карл II продал его Франции в 1662 г.
(обратно)85
Это приданое так и не было уплачено, что привело к очень серьезным последствиям. См. с. 225.
(обратно)86
Людовик XIV в своих мемуарах, точнее, наставлениях сыну написал: «Худшее бедствие, которое может выпасть на долю любому человеку нашего ранга, – это опуститься до подчиненного положения, при котором монарх обязан получать законы от народа… Основной порок английской монархии (в отличие от французской) – то, что король не может ввести дополнительный набор или дополнительно набрать солдат без согласия парламента и не может созвать парламент, не ослабляя свою власть».
(обратно)87
Лабрюйер Жан де – знаменитый французский писатель и философ-моралист, прославился книгой очерков «Характеры» и своими афоризмами. (Примеч. пер.)
(обратно)88
Те, кто изучает древнюю историю, с циничным интересом заметят, что умные французы XVII в. позволили себе вернуться к сложному церемониалу, который делал египетских фараонов первыми рабами их «божественности».
(обратно)89
Для практических целей можно считать, что провинции и женералите – одно и то же с этого времени и до отмены тех и других в 1789 г. Но между теми и другими были значительные различия в границах, и их имена далеко не всегда совпадали.
(обратно)90
Разумеется, это были времена, когда экономическая наука была не развита и считалось, что для того, чтобы сделать страну процветающей и богатой, надо сделать бедными ее соседей.
(обратно)91
Чтобы быть честным, скажу, что в своих научных методах ведения войны Тюренн был духовным отцом фон Мольтке-старшего и Фоша. (Фельдмаршал фон Мольтке-старший – знаменитый германский, затем прусский полководец и военный теоретик, один из основателей Германской империи. Фош – французский маршал и военный теоретик времен Первой мировой войны. – Пер.)
(обратно)92
Вобан был больше чем просто инженер и солдат. Он был очень умным и очень гуманным человеком. Перед своей смертью в 1707 г. он частично утратил расположение короля оттого, что осмелился очень резко критиковать некоторые из худших злоупотреблений, существовавших в царствование его повелителя, заступаться за угнетенное крестьянство и делать уместные, но нежеланные предложения относительно реформ.
(обратно)93
Людовик очень старался показать, что это была строго «католическая» армия, которая решала только мирские вопросы. Солдатам было приказано строго соблюдать постные дни, а служащие армейских продовольственных лавок получили распоряжение продавать по пятницам рыбу и сыр вместо мяса.
(обратно)94
Повстанцев назвали так за обычай надевать поверх одежды рубахи, чтобы узнавать друг друга во время ночных атак.
(обратно)95
Многие протестанты были потеряны для Франции в 1871 г., когда Германия завладела Эльзасом. Разумеется, в 1918 г. произошло наоборот: эльзасские протестанты, вернувшись во Францию, укрепили собой французский протестантизм.
(обратно)96
Королевская резиденция стала годна для проживания только в 1682 г. и была полностью достроена лишь в 1693-м.
(обратно)97
Перкинс.
(обратно)98
В частности, французы в 1692 г. проиграли решающее морское сражение возле мыса Ла-Хог (на побережье Бретани).
(обратно)99
Рисвик, иначе Рейсвейк, – голландский городок к югу от Гааги. Он был выбран для подписания договора потому, что находился на полпути между резиденцией представителей Франции в Гааге и резиденцией представителей альянса в Делфте. (Примеч. пер.)
(обратно)100
Он заявил, что неуплата ее приданого отменяет ее отказ от прав на трон. См. с. 180.
(обратно)101
Испанская империя не была отдана дофину или старшему внуку потому, что испанцы не желали, чтобы королем Франции и Испании был один и тот же человек. Однако все верили, что Испания будет полностью подчинена французскому влиянию.
(обратно)102
Кромвель, конечно, был неизмеримо выше и лучше Мальборо как государственный деятель, но можно сомневаться, что он был вполне равен хитрому герцогу как военачальник. В любом случае Мальборо командовал в сражениях гораздо большими по численности армиями.
(обратно)103
Первые сражения в ходе Войны за независимость США. (Примеч. пер.)
(обратно)104
Одним из знаменитых событий эпохи Регентства была попытка финансовой революции, которую предпринял Джон Лоу. Этот умный шотландец, наполовину шарлатан и наполовину финансист, в 1717 г. добился благосклонности регента своими предложениями по организации финансов и своими собственными многочисленными банковскими операциями, рискованными, но успешными. В 1718 г. Лоу получил разрешение создать Королевский банк, который пользовался практически полным кредитом у государства. Дополнением к банку стала восхитительная Компания Миссисипи, задачей которой была эксплуатация недавно приобретенной колонии Луизианы. Начались манипуляции с долями в этой компании, на которых спекулянты зарабатывали огромные деньги. Спекуляции потрясали финансовую систему Франции. В это же время правительство расплачивалось по своим обязательствам банкнотами, которые оно беспечно выпускало, ничем не обеспечивая.
В 1719 г., кажется, французы из всех слоев общества играли на бирже. Сохранилось сообщение о том, что один портной заработал на этой игре 70 млн ливров – больше, чем герцог Бурбон со своей матерью, которые получили только 60 млн. Регент и сам спекулировал наравне с самыми бесчестными выскочками.
К концу 1719 г. банк выпустил банкноты на сумму более 3 миллиардов ливров, что в четыре с лишним раза превосходило все металлические деньги, обращавшиеся во Франции. Благоразумные люди начали забирать свои депозиты или продавать свои акции и приобретать на полученные средства надежное реальное имущество – земли, золото, драгоценности и т. д. Лоу безуспешно пытался отчаянными мерами предотвратить неизбежный крах. В итоге он обеднел и в 1720 г. бежал из королевства. Спекулянты, которые слишком долго держались за свои бумаги, разумеется, тоже разорились. Результатом всей этой авантюры (кроме того, что было сломано много судеб) был рост государственного долга на сумму, равную примерно 2 млн 500 тыс. долларов. Регент после такого урока «высоких финансов» стал, конечно, более печальным и более мудрым правителем.
(обратно)105
Ненавидевший его Сен-Симон писал о нем с язвительной насмешкой: «За господство над ним боролись все пороки – коварство, скупость, разврат, тщеславие и самое низкое подхалимство».
(обратно)106
Это были Война за польское наследство (1733–1735) и Война за австрийское наследство (1740–1748).
(обратно)107
Питт-старший (Чэтем) – великий английский политик; был военным министром в годы Семилетней войны, закончил жизнь на посту премьер-министра. Один из главных создателей Британской колониальной империи; носил титул графа Чэтем. (Примеч. пер.)
(обратно)108
Д’ Аржансон – известный французский государственный деятель, в 1744–1747 гг. был министром иностранных дел Франции, позже занимался науками и был другом многих философов своего времени. В одной из своих книг писал о значении демократии и экономической свободы для государства. (Примеч. пер.)
(обратно)109
Именно в этом сражении, когда французы подошли на расстояние меньше 50 футов к строю англичан, лорд Хей вышел навстречу французам, встал впереди своего полка, снял шляпу перед французскими офицерами (которые сразу ответили ему таким же приветствием) и вежливо сказал: «Прикажите вашим солдатам стрелять». – «Нет, – столь же вежливо ответил граф д’Отрош, – мы никогда не стреляем первыми». Вот какими иногда были обычаи войны в то время. Далеко еще было до дней Гинденбурга и Людендорфа! (Главнокомандующий немецкими войска ми на Восточном фронте Гинденбург и его начальник штаба генерал Людендорф – знаменитые немецкие полководцы Первой мировой войны. – Пер.)
(обратно)110
Пондишери находился на восточном побережье Индостана, на расстоянии 90 миль к юго-западу от Мадраса. Французы владеют им до сих пор (то есть владели в 1920-х гг., когда была написана книга, и продолжали владеть до 1954 г. – Пер.).
(обратно)111
К тому же большинство английских поселенцев в Америке были гораздо предприимчивее и прогрессивнее, чем весьма консервативные канадские поселенцы-французы, и это, разумеется, было дополнительной помехой для развития французской колонии.
(обратно)112
Фридрих не умел держать за зубами свой острый язык и по этой причине приобрел могущественных врагов. Утверждают, что он сказал: «Три старые кошки правят Европой», имея в виду Марию-Терезию Австрийскую, царицу России Елизавету и маркизу Помпадур, королевскую наложницу, правившую Францией. Из-за такой остроты он, разумеется, попал в немилость у этих трех могущественных «кошек».
(обратно)113
На побережье Франции в Бискайском заливе. (Примеч. пер.)
(обратно)114
Генерал Вулф, командовавший англичанами в сражении на равнине Авраама. Он так же, как его противник де Монкальм, погиб в этой битве. (Примеч. пер.)
(обратно)115
Воображение отказывается представить себе, какой была бы судьба Европы, если бы переговоры Шуазёля не удались и Корсиканец вырос скромным подданным Генуи.
(обратно)116
К стыду французской церкви, многие ее служители произнесли хвалебные речи в память этого короля. Епископ Арраса заявил: «Я не буду говорить о великих достижениях этого могущественного короля, о его славе, успехах и победах. Государь, который был так дорог народу, был должен быть так же дорог и сердцу Бога». Епископ города Але поступил более достойно: он сказал о дурном примере, который Людовик XV подавал своему народу.
(обратно)117
Современные авторы критикуют традиционное мнение, что Людовик действительно держал в руке плеть для верховых лошадей, когда гордо вошел в парламент. Но нет сомнения, что король дал парламентариям весьма суровый урок.
(обратно)118
Иезуиты уже были атакованы в Португалии и изгнаны из этого королевства министром-реформатором Помбалем (1759). Иезуитов ненавидели многие другие ветви католического духовенства.
(обратно)119
Лависс.
(обратно)120
Конечно, были и другие выдающиеся авторы, писавшие о политике, например Макиавелли, Локк и др., но они обращались лишь к небольшому количеству читателей – своих современников и уж точно не были частью большого всеобщего литературного движения в своих странах.
(обратно)121
Имя Вольтер он взял себе в 1718 г., когда начал литературную карь еру. Фамилия его отца была Аруэ.
(обратно)122
В любом полноценном исследовании французской политической мысли XVIII в. нужно было бы учесть влияние теорий и политической философии нескольких знаменитых английских философов. Локк (1632–1704) своими экономическими сочинениями и дискуссиями об основе и правомерности власти правительств и т. д. оказал на французских либералов влияние, которое вряд ли можно переоценить. Еще один англичанин, гораздо менее последовательный и честный, чем Локк, но, вероятно, сделавший много для изменения французской мысли, – это блестящий и беспринципный «вольный стрелок» в той же области – деист, философ и политический теоретик виконт Болингброк (1678–1751). Французские исследователи творчества этих писателей, более логичные, чем англичане, и меньше скованные консерватизмом, который от рождения присущ каждому британцу, восприняли теории своих наставников, расширили их и одели в новую, блестящую и совершенно потрясающую форму, которая заставила бы в испуге отшатнуться серьезного и скромного Локка.
(обратно)123
Кажется, он никогда по-настоящему не пытался изучить лучшие разновидности протестантизма, и нужно признать, что в его дни протестантизм имел много слабых мест.
(обратно)124
Какова была в ту эпоху мораль некоторых слоев общества, можно судить по тому, что рассказывали о смерти этой дамы. После того как она скончалась, Вольтер и ее муж открыли медальон, который покойная носила как величайшую святыню. Оба этих странно объединившихся плакальщика взглянули на хранившийся внутри портрет и молча закрыли медальон. На портрете был изображен не тот и не другой, а третий мужчина.
(обратно)125
В своей книге «Эмиль, или Воспитание» Руссо гораздо яснее излагает свои взгляды на возвращение «назад к природе». «Вся наша мудрость состоит из рабских предрассудков. Все наши обычаи – только внушение, тревога и принуждение. Цивилизованный человек рождается, живет и умирает в рабстве». «Карибы в полтора раза счастливей нас». «Наблюдайте Природу и следуйте путем, который она прокладывает для вас».
(обратно)126
Французские писатели того времени регулярно публиковали в Голландии те книги, которые, вероятно, были бы запрещены во Франции, а потом, как и полагается в таких случаях, контрабандой переправляли изданный тираж на родину. Поэтому значительная часть лучших французских книг поступала из Амстердама или Лейдена.
(обратно)127
Мадам Ролан была так полна господствовавшего тогда восхищения «свободой» античных греков классической эпохи, что, по ее словам, «часто плакала при мысли о том, что не родилась спартанской девушкой».
(обратно)128
Мадам Ролан – жена экономиста и министра Ролана, известная умом и обаянием хозяйка литературного салона. Ее салон был центром партии жирондистов, и в итоге она была казнена на гильотине в конце 1793 г. (Примеч. пер.)
(обратно)129
Грант.
(обратно)130
Современные критики, сравнивая ее с несчастной российской царицей Александрой (Аликс), губительно влиявшей на свою страну в 1914–1917 гг., будут не так суровы к Марии-Антуанетте. И все же ее влияние привело Францию к катастрофе.
(обратно)131
Бергойн Джон, иначе Бургойн, – прославленный английский военачальник, в то время командующий британскими войсками в Канаде. 17 октября 1777 г. он и 6 тыс. его солдат, окруженные американцами, сдались американскому командованию. (Примеч. пер.).
(обратно)132
Влияние Локка на движение за просвещение и разум во Франции было очень заметным.
(обратно)133
Джефферсон позже писал о нем: «К доктору Франклину, благодаря его характеру, во Франции проявляли больше уважения и почтения, чем к любому другому человеку, иностранцу или местному уроженцу».
(обратно)134
Правительство открыто запросило информацию о порядке проведения Генеральных штатов, о том, какие полномочия они имели в прошлом, и т. д., чем вызвало целый поток памфлетов.
(обратно)135
См. предыдущую главу.
(обратно)136
Конечно, французы заявляли, что их король не может сам быть судьей по собственному делу, приказать казнить человека без формальностей и без суда или совершать другие поступки, распространенные на Востоке. Но остается фактом, что, если бы король решил так поступать, не было бы никакого законного способа его остановить.
(обратно)137
Эта особенно широко известная семья, кажется, закрепила за собой пенсионы на сумму, равную примерно 400 тыс. долларов в год по современным подсчетам.
(обратно)138
Эта сложная и несовершенная законодательная система была хорошо приспособлена для казуистики и породила огромное множество умных, придирчивых к мелочам адвокатов, которые в 1789 г. и позже оказались в первых рядах общественных деятелей.
(обратно)139
Продажа государственных должностей постоянно применялась в трудные времена для пополнения казны. После того как должность была предоставлена покупателю, он в значительной степени мог распоряжаться ею сам.
(обратно)140
После того как арестанта приковывали к веслу и делали рабом на галерах, его часто оставляли там на много лет после того, как кончался срок приговора. В 1679 г. слушалось дело человека, который был приговорен к пяти годам каторги в 1660 г. и все еще не был освобожден просто из-за инерционности административной системы.
(обратно)141
То есть в деньгах того времени, когда писал автор. (Примеч. пер.)
(обратно)142
Конечно, эти оценки очень приблизительны. Многие недворяне честными или нечестными путями облегчали свою судьбу. Но их доля в налоговом бремени всегда была чрезмерной.
(обратно)143
В теории десятина – это каждая десятая овца, свинья, курица и т. д., но обычно по местному обычаю натуральный платеж заменяли фиксированной суммой денег.
(обратно)144
Эти привилегии были еще отвратительнее оттого, что дворяне не всегда пользовались ими сами, а сдавали их в субаренду жадным спекулянтам, которые безжалостно пользовались полученными правами.
(обратно)145
Французские торговцы были так предприимчивы, что, несмотря на очень плохое управление страной, общий объем внешней торговли в 1716–1787 гг. вырос с 214 млн 900 тыс. до 1 млрд 153 млн 500 тыс. франков.
(обратно)146
Они жили в основном в Бретани, которая долго была автономным княжеством, и в провинции Франш-Конте, долго находившейся под властью Испании. В собственно Франции все крестьяне уже были свободными.
(обратно)147
Конечно, можно представить себе, что какой-то умный адвокат из маленького городка написал перечень жалоб для совершенно невежественных избирателей. «Тетради» (петиции от жителей каждого округа с перечислением зол, которые местное население хотело бы исправить) были частью процедуры выборов в Генеральные штаты.
(обратно)148
Мирабо (1749–1791) родился в Провансе, в дворянской семье и имел титул маркиза. Но он поссорился со своей родней, и его обвиняли в постыдном распутстве. Правда это или нет, но он стал серьезно изучать вопросы экономики и политики и горячо возненавидел деспотизм. В 1789 г. дворянство Прованса не пожелало выбрать его депутатом, но он, хотя сам и был дворянином, был избран представителем от третьего сословия. Во время работы Национального собрания он разработал самые ясные по содержанию и самые конструктивные проекты из всех предложенных. Почти единственный среди французских либералов, он знал, когда нужно дать совет остановиться. Однако ему припомнили его позорное прошлое, и оно разрушило его влияние и лишило силы его советы. Но все же его смерть в апреле 1791 г., возможно, лишила Францию ее величайшего государственного деятеля.
(обратно)149
Так назывались избранные горожанами жители города, делавшие окончательный выбор среди кандидатов в члены Национального собрания. Имея такое поручение, они в какой-то степени имели право считать, что народ уполномочил их взять власть.
(обратно)150
Создание Национальной гвардии, то есть вооруженных сил, которые подчиняются радикалам, а не королю, в практическом отношении было гораздо важнее, чем взятие Бастилии.
(обратно)151
Это был Артур Юнг, наблюдательный английский джентльмен. Записки Юнга о его путешествии по Франции в 1787–1789 гг. стали одной из классических и наиболее авторитетных книг об этом времени.
(обратно)152
Красный и синий были цвета Парижа, белый (цвет Бурбонов) был добавлен к ним из уважения к королю.
(обратно)153
Современные исследователи, сравнив революционную Францию с революционной Россией, станут очень снисходительными к французам 1789–1795 гг.
(обратно)154
Эта Декларация вовсе не была радикальной. В ней были выражены умеренность и здравый смысл буржуазии. В статье XVII было явным образом сказано: «Собственность является неприкосновенным и священным правом», и с ней можно производить какие-либо действия только в случае, если «владелец перед этим получит справедливое возмещение ущерба». Сегодняшние ультрарадикалы вряд ли согласились бы с этим.
(обратно)155
Сумма этого налога могла быть разной в соответствии с местными обычаями. Такая дискриминация беднейших («пассивных») граждан была встречена с негодованием и способствовала тому, что новая конституция не стала популярной.
(обратно)156
Правда, в это время Дантон, который уже становился влиятельным в Париже, начал агитацию за устранение Людовика, но эта попытка была подавлена. Буржуазная Национальная гвардия еще была против республики, и Дантона с его друзьями-радикалами заставили на время замолчать.
(обратно)157
Мале.
(обратно)158
Название он получил от бывшего монастыря якобинцев (монахов ордена Святого Якова), где происходили его собрания.
(обратно)159
Названа так потому, что была подписана в замке Пильниц, летней резиденции правителей Саксонии. (Примеч. пер.)
(обратно)160
Он действительно беспокоился о своей тетке и стремился спасти ее из крайне унизительного и опасного положения, но выбрал для этого самые худшие средства из всех возможных.
(обратно)161
Когда 10 августа 1792 г. монархия была свергнута, Лафайет находился возле Седана. Он попытался поднять свою армию на поддержку конституции 1791 г. и начать войну против якобинцев. Когда эта попытка не удалась, он попытался бежать в Америку, но попал в руки австрийцев и несколько лет пробыл у них в плену.
(обратно)162
Утверждают, что на самом деле этот документ был написан французским дворянином-эмигрантом, но все же Брауншвейг подписал и опубликовал его, возможно действуя наперекор своей совести.
(обратно)163
Минье.
(обратно)164
Позже его перевели в более похожее на тюрьму помещение в замке Тампль под предлогом, что в Люксембургском дворце на него может напасть чернь.
(обратно)165
Короткие штаны были чуть ниже колен, их носили с чулками. А санкюлотами называли бедняков, носивших длинные брюки. Так что буквально это означает «бесштанники», а фактически наоборот – «длинные штаны». (Примеч. пер.)
(обратно)166
Эти «представители» двадцати восьми секций города заставили уйти в отставку первоначальных, законных представителей и заняли их места, не имея на это никаких полномочий, по праву господства толпы.
(обратно)167
Окончательное расчленение Польши произошло в значительной степени из-за Французской революции. Франция была другом Польши. Как только стало очевидно, что Франция слишком занята своими делами, чтобы заступиться за Польшу, началось продвижение планов второго, а затем третьего и завершающего раздела этой несчастной страны между Россией, Австрией и Германией. Второй раздел был в 1793 г., а третий в 1795-м.
(обратно)168
Союз Австрии и Пруссии был совершенно противоестественным и непременно должен был распасться. «Пруссаки и австрийцы – масло и уксус, огонь и вода – объединились, чтобы принести войну 20 миллионам людей!» – саркастически писал Артур Юнг в 1792 г.
(обратно)169
Утверждали, что из-за царившей в то время смуты, запугивания и т. д. к урнам для голосования пришла лишь малая часть от общего числа избирателей (но это были самые радикальные избиратели).
(обратно)170
Эту знаменитую машину для казни изобрел (вернее, возродил, взяв за основу средневековые устройства) некий «доктор Гильотен», предложивший ее правительству в 1789 г. как более милосердное орудие для казни преступников, чем прежние веревка или топор палача. Она, несомненно, убивала быстро и практически без боли.
(обратно)171
С ним обошлись гораздо честнее и при его казни проявили гораздо больше внимания к внешним формам правосудия, чем, кажется, обходились с несчастным царем России Николаем II перед тем, как сообщили о его казни в 1918 г.
(обратно)172
Читатели непременно заметят сходство этого высказывания с тем, что говорили в 1917–1918 гг. русские большевики, оправдывая свою классовую тиранию. Но похоже, что якобинцы 1792 г. были намного храбрее, чем доктринеры, которые отступили перед Германией в 1918 г., заключив договор в Брест-Литовске.
(обратно)173
Любопытно отметить, что Журдан, когда ему было всего шестнадцать лет, кажется, служил во французских войсках, посланных в Америку на помощь Вашингтону.
(обратно)174
Эти месяцы начинались с 22 сентября. Они были названы по характерным для них климатическим признакам: нивоз (месяц снега), флореаль (месяц цветов) и т. д. Пять дополнительных дней года были праздниками.
(обратно)175
По этой причине во французских соборах редко можно было обнаружить старинные витражи хорошей работы. Например, такие были в Реймсе до нового вторжения варваров в 1914 г.
(обратно)176
Часть этого огромного роста могла быть вызвана закрытием некоторых провинциальных трибуналов и отправкой их жертв в Париж для вынесения окончательного приговора.
(обратно)177
Эбер настолько ненавидел христианство, что призывал своих сторонников разрушить все церковные шпили и колокольни, поскольку они «оскорбляют равенство».
(обратно)178
Великая победа французов над австрийцами в Бельгии, в битве при Флерюсе (26 июня) полностью выбила почву из-под ног у диктатора. Зачем теперь был нужен террор? Робеспьер понимал это. Его обвиняют в том, что он приказал не распространять или сократить до минимума радостные новости об этом военном успехе.
(обратно)179
Пьер-Жозеф Камбон, видный депутат и в течение какого-то времени председатель Конвента, крупный специалист в области финансов, управлял по поручению Конвента всеми финансами Франции и боролся со злоупотреблениями. Это ему принадлежит фраза: «Мир хижинам, война дворцам». (Примеч. пер.)
(обратно)180
Рассказывали, что, когда свергнутого тирана привязывали к доске, кто-то крикнул из толпы: «Да, Робеспьер, Верховное существо действительно есть!»
(обратно)181
Здесь нет места для обсуждения рассказов о том, что дофин на самом деле остался жив, был увезен в Америку и там жил и умер в безвестности как частное лицо. Однако эти слухи нельзя просто отбросить как неправдоподобные выдумки. Они заслуживают более серьезного рассмотрения.
(обратно)182
В начале срока, разумеется, выбирали всех пять директоров, а потом определяли путем жеребьевки, в каком порядке они будут уходить.
(обратно)183
Сохранились также сведения, что французы (отчасти благодаря опыту, приобретенному некоторыми их офицерами в Америке под командованием Вашингтона) стали использовать снайперов, укрываться за деревьями, скалами живыми изгородями и т. д., а также применять другие хитрости, которые возмутили бы тактиков старой школы, – и одержали много побед!
(обратно)184
Мюрат, зять Наполеона, в 1808 г. был провозглашен королем Неаполитанским – королем Иоахимом I.
(обратно)185
Эту битву при Абукире называют также битвой на Ниле. Она произошла 1 августа 1798 г.
(обратно)186
Французские войска в Египте остались одни и без подкреплений. Вскоре их атаковал английский экспедиционный корпус и заставил их сдаться. Воображению не хватает сил ответить на вопрос: какой была бы история Франции, если бы фрегат, который вез Бонапарта, был захвачен англичанами и Корсиканец провел бы несколько лет в английском лагере для военнопленных.
(обратно)187
Государственный переворот 18 брюмера, иначе 9 ноября 1799 г.
(обратно)188
Бонапарт не был рад этой победе своего подчиненного. Моро, ставший жертвой зависти своего начальника, был обвинен в заговоре и изгнан в Америку. Какое-то время он жил в Нью-Джерси, затем в 1813 г. поступил на службу в российскую армию, воевавшую против Наполеона, и был убит в битве под Дрезденом.
(обратно)189
Люневильский договор 1801 г.
(обратно)190
Пресбург – немецкое название города Братиславы. (Примеч. пер.)
(обратно)191
Благодарственный гимн «Тебя, Бога, хвалим». (Примеч. пер.)
(обратно)192
Большую часть этого периода Испания была в союзе с Францией, но неохотно поддерживала этот союз и почти не оказывала ей помощи, если не считать несколько неумелых попыток испанского флота.
(обратно)193
Утверждают, что один из этих достойных, но отживших свой век военачальников хвалился: «У его величества короля [Пруссии] есть несколько генералов, которые намного лучше месье Бонапарта».
(обратно)194
Сейчас этот литовский город Клайпеда. (Примеч. пер.)
(обратно)195
Корсиканец, стараясь избавиться от давления со стороны могучего вражеского флота не отвечавшими принятым правилам необычными уловками, только предвосхитил подобные, но более отчаянные попытки Германии – «неограниченные» действия ее подводных лодок (в 1915–1918 гг.). Однако нужно честно признать, что Наполеон был гораздо больше уверен в эффективности своей политики, чем немцы, иначе он никогда бы не применил ее. Наполеон редко бывал жестоким, если не был уверен, что жестокость принесет ему успех.
(обратно)196
Утверждают, что даже сам император был вынужден закрывать глаза на некоторые разновидности контрабанды.
(обратно)197
Несомненно, разводясь с Жозефиной, император действовал хладнокровно и по политическим причинам. Тем не менее, когда ее муж был в Египте (1798–1799), она вела себя так скандально, что предоставила ему убедительный повод для развода. Однако в то время Бонапарт согласился помириться с ней. Это снимает с него часть вины за его позднейшее поведение, но не всю вину.
(обратно)198
Земли на Рейне и Бельгия, разумеется, были присоединены к Франции еще при республике.
(обратно)199
На юге Франции, правый приток Гаронны. (Примеч. пер.)
(обратно)200
Французы очень зло критикуют эту централизацию, и административная реформа при Третьей республике, когда местные органы управления получили больше свободы, стала одной из проблем для республики в конце Великой войны, в 1918 г. То же самое произошло с финансовой системой и системой сбора налогов.
(обратно)201
Камбасерес – видный французский государственный деятель того времени, имел хорошее юридическое образование, его основные достижения в те годы – предложение ввести суд присяжных по гражданским делам и проект Гражданского кодекса. Во время похода Наполеона и его Великой армии в Россию фактически оставался главой правительства. (Примеч. пер.)
(обратно)202
Так называется часть бюджета, которая предоставляется монарху на нужды его и его двора. (Примеч. пер.)
(обратно)203
См. с. 379.
(обратно)204
Он был не просто министром полиции, а талантливым государственным деятелем. Возможно, его роль во французской истории больше, чем считают многие исследователи, но Фуше умел скрывать свое участие в важных событиях, когда ему было выгодно молчать. Известно, что именно Фуше был одним из организаторов упомянутых в этой книге массовых расстрелов в Лионе. Когда Робеспьер готовил расправу над депутатами, именно Фуше угрожала самая большая опасность – а через несколько дней Робеспьер был свергнут и казнен. См. великолепную биографию Фуше, написанную Стефаном Цвейгом. (Примеч. пер.)
(обратно)205
Кажется, до некоторой степени похожая идея была у правительства Германии, когда оно контролировало образование в течение 20 лет перед 1914 г.
(обратно)206
Мильтон Джон – прославленный английский поэт и писатель XVII в. В своих памфлетах защищал права английского народа. В его поэме «Потерянный рай» Сатана – могущественный предводитель духов-мятежников, которого жажда свободы сделала злым. Вместе со своими сторонниками Сатана изгнан Богом из рая, но не теряет мужества и в трудной борьбе обустраивает для себя и для них новое место жительства – подземный мир. (Примеч. пер.)
(обратно)207
Французы потеряли 32 тыс. человек, а русские 47 тыс. Конечно, это очень большие потери, но они кажутся менее ужасными с тех пор, как мы можем сравнить их с огромными жертвами 1914–1918 гг.
(обратно)208
Наполеон сделал грубую ошибку, когда поставил своих генералов в почти полную зависимость от себя самого. Они не проявляли по-настоящему инициативу, когда его не было рядом, и теперь французы терпели поражения почти везде; исключением долгое время были только те места, где император сам командовал войсками.
(обратно)209
Тогда Наполеон отрекся в пользу своего сына. Этот компромисс отвергли, и через несколько дней Наполеон отрекся без всяких условий.
(обратно)210
Очень серьезной причиной для этого была боязнь крестьян, что Бурбоны поставят под вопрос их права на недвижимость, конфискованную у церкви и дворянства в 1789–1793 гг., и вернут ее прежним владельцам.
(обратно)211
Кроме того, его сильно ободрило известие о серьезных разногласиях, возникших между его бывшими врагами на Венском конгрессе. Было похоже, что Россия и Пруссия готовы скрестить клинки с Англией и Францией. Разногласия действительно были большие, но не настолько, чтобы помешать всем четырем странам объединиться против него, как только он вернулся с Эльбы.
(обратно)212
Можно утомить до предела свой ум, пытаясь представить себе, что сделал бы Корсиканец, если бы доплыл до Америки. Благодаря своему личному обаянию он легко мог бы приобрести себе сторонников и быстро испортил бы наши отношения со всей Европой.
(обратно)213
Читатели, знакомые с проблемой решения судьбы немецкого кайзера Вильгельма II после его свержения в 1918 г., знают, как весь мир был озлоблен против него, и будут снисходительнее судить государственных деятелей 1815 г. за их обращение с Наполеоном.
(обратно)214
Разумеется, можно перечислить много восхитительных случаев, когда Наполеон проявлял гениальность, товарищеские чувства и даже великодушие, – но вряд ли, при подробном рассмотрении, можно найти хотя бы один случай, когда он бескорыстно пожертвовал бы для чего-то тем, чего сильно и честолюбиво желал.
(обратно)215
Сеньобос.
(обратно)216
Как известно, значительная часть той «пораженческой» и «интернационалистской», пронемецкой пропаганды, которая едва не погубила Францию в 1917–1918 гг., в самый разгар войны против Германии, лучше всего была принята промышленными рабочими Парижа и имела сравнительно малый успех у крестьян.
(обратно)217
Бывший граф Прованский, старший из братьев Людовика XVI.
(обратно)218
Случалось, что призывников заменяли теми, кто за плату был готов пойти на службу вместо них. Правительство не было против этой практики: дополнительные деньги могли привлечь в армию профессиональных солдат, гораздо более умелых, чем неохотно служащие молодые буржуа.
(обратно)219
При Реставрации пэры иногда были либеральнее депутатов. Среди пэров было немало умных магнатов, унаследованных от наполеоновского режима.
(обратно)220
Вот хороший пример его «либерализма»: в 1814 г. он отказался присягнуть на верность Хартии из-за того, что она гарантировала евреям и протестантам свободу вероисповедания.
(обратно)221
Автор этой статьи был отдан под суд и признан виновным, но на это решение была подана апелляция, и в итоге его оправдали.
(обратно)222
Царь Николай I, крайний абсолютист, советовал королю быть осторожным, поскольку никто не хотел новой революции во Франции. Но Карл X упрямо заявил в ответ: «Уступки погубили Людовика XVI».
(обратно)223
Некоторые парижские улицы были очень изогнутыми и труднопроходимыми.
(обратно)224
Достойно упоминания мнение на этот счет английской королевы Виктории. В 1836 г. она писала в письме королю Бельгии Леопольду I, что Карл Х «из-за своих деспотизма и грубости разрушил все, что создал тот [Людовик XVIII], и утратил трон».
(обратно)225
Французы, как читатель уже, конечно, заметил, очень любят называть политические учреждения и т. д. по дате их возникновения. Июльская монархия, разумеется, началась с Июльской революции 1830 г.
(обратно)226
Это раболепство перед толпой не принесло ему уважения более почтенных якобинцев. Один из них заявил, что будет голосовать за оправдание Людовика XVI, а не за его осуждение (как был намерен сделать вначале), «чтобы не следовать примеру того, кто голосовал передо мной».
(обратно)227
Однако обратите внимание на то, что в это время по французским законам не нужно было единогласия присяжных для вынесения обвинительного приговора: достаточно было голосов восьми человек из двенадцати.
(обратно)228
Однако его знаменитая «История консульства и империи» была издана лишь после его увольнения с должности в 1840 г.
(обратно)229
Его напечатанные лекции по «Истории цивилизации» открыли новую эпоху в том молодом направлении исторической науки, которое развилось в XIX веке.
(обратно)230
Луи-Филипп и его супруга, королева Мария-Амелия, кажется, были верны всем своим буржуазным добродетелям до самого конца. Незадолго до начала 1848 г. одна американская дама, находясь в Париже, зашла к известной портнихе, увидела платье из черного шелка, висевшее на одном из кресел, и сказала: «Я не знала, что вы чините старые платья». «Я делаю это только для королевы», – быстро ответила портниха.
(обратно)231
Стационарные паровые двигатели внедрялись во Франции гораздо медленнее, чем в Англии. До 1815 г. они почти не использовались во французской промышленности. В 1810 г. их было всего 15 или 16 и они применялись только для насосов. В 1830 г. их по-прежнему было мало – всего 625. Но в 1850 г. их стало уже 5322.
(обратно)232
Он также сказал: «Этот мир – не место для всеобщего голосования, нелепой системы, когда всех живых существ призывают осуществлять политические права». И это говорил лидер, который сильно пострадал за либерализм при монархии Бурбонов!
(обратно)233
Абд аль-Кадир был (в нарушение условий капитуляции) отправлен во Францию, где находился в плену, пока к власти не пришел Луи Наполеон. Новый правитель назначил эмиру содержание и позволил ему уехать в сирийский город Дамаск. Там, в уютном изгнании, эмир и умер в 1883 г. Кажется, в 1914 г. один из его внуков служил офицером во французской армии.
(обратно)234
Здесь незачем обсуждать подробности этой семейной интриги, достаточно мерзкой и порожденной корыстью. Основной ее смысл в том, что Луи-Филипп договорился о женитьбе одного из своих сыновей на испанской принцессе, вероятной наследнице престола Испании. Эта свадьба разгневала англичан, решивших, что король нарушил обещание, которое дал им по этому поводу, и не принесла совершенно никакой пользы Франции. Луи-Филипп просто обеспечил будущее неженатого члена своей семьи, а из-за этого испортил отношения с великой державой.
(обратно)235
Современные читатели не могут не заметить сходство этих событий с соглашением между «большинством» и «независимыми социалиста ми» в Берлине в 1918 г., когда был свергнут монархический режим в Германии.
(обратно)236
Гизо, премьер-министр Луи-Филиппа, надолго пережил его. В 1848 г. Гизо бежал в Лондон. В 1849 г. он вернулся во Францию, но вскоре понял, что восстановить Орлеанскую монархию невозможно. Тогда он окончательно ушел из политики и посвятил себя литературе. Его литературный труд был достойным и успешным. В конце жизни Гизо считался «мудрецом» французского народа и этой старостью с избытком возместил зло, причиненное ошибками его министерства. Он был набожным протестантом и занимал высокое положение в обществе как глава французских некатоликов. Умер он в Нормандии в 1874 г.
(обратно)237
Симон Жюль – известный французский философ, публицист и политик. В 1848 г. был избран членом Национального собрания, где примкнул к умеренным республиканцам. В 1870-х гг. был министром народного просвещения, затем премьер-министром и министром внутренних дел. (Примеч. пер.)
(обратно)238
Рамбо.
(обратно)239
Шоссе д’Антен – квартал, где жили богатые буржуа и известные артисты. (Примеч. пер.)
(обратно)240
Сент-Оноре – квартал либеральной аристократии, многие его жители в свое время поддержали Наполеона. (Примеч. пер.)
(обратно)241
Сен-Жерменское предместье – квартал аристократов-легитимистов, один из самых аристократических. (Примеч. пер.)
(обратно)242
Павильон Марсан – одна из частей дворца Лувр. (Примеч. пер.)
(обратно)243
В Авиньоне маршал Брюн был самым подлым и трусливым образом убит толпой роялистов, в Тулузе другой такой же толпой был убит генерал Рамель. Ужасы «белого террора» напоминают террор 1793 г.
(обратно)244
В это время официальными союзниками Франции были ее враги, а не друзья. Беранже иронизировал по этому поводу: «Да здравствуют наши друзья-враги!» Один капитан на половинном окладе был арестован за то, что дал своему коню имя Казак. Чиновник, который допрашивал капитана, спросил его, как тот посмел назвать свою лошадь именем, которое дорого всем хорошим французам!
(обратно)245
В это имущество входили земли церкви и поместья дворян, конфискованные во время революции.
(обратно)246
Существовали и другие подобные братства, например «Дети отца Субиза» и «Добрые кузены», но два, упомянутые выше, были самыми крупными.
(обратно)247
Вероятно, до этого количество его жителей долго не изменялось. До изобретения современных способов перевозки грузов было очень трудно прокормить крупный город, который не находится у моря.
(обратно)248
Луи-Филипп, которого называли скупым за то, что он был очень бережливым, пожертвовал из денег, которые государство выдавало по «цивильному листу» на содержание его самого, его семьи и его двора, 30 миллионов франков. Эти деньги он употребил на реставрацию замков Версаля, Фонтенбло и По, в которых его двор тогда не жил, а потом великодушно открыл их для публики.
(обратно)249
Под руководством инженера Бельграна канализационная система Парижа была расширена настолько, что ее суммарная длина увеличилась до 773 м.
(обратно)250
Водонос-«овернец», торговец древесным углем, продавец хвороста и посыльный были в то время любимыми персонажами романсов, песен и водевилей.
(обратно)251
Так по-французски до сих пор называются уличные торговцы овощами и фруктами. (Примеч. пер.)
(обратно)252
Рабочий день во Франции тогда был отвратительно длинным. Но французы, как правило, были готовы проводить за работой больше часов в день, чем жители некоторых стран. Поэтому такое постановление было очень большим шагом вперед.
(обратно)253
Нужно отметить, что французские рабочие ни тогда, ни позже не были так сильны, как, например, английские. Значительная часть французских промышленных предприятий выпускала изящные вещицы и предметы роскоши, а не грубые изделия, которые производят на огромных покрытых сажей фабриках. Среди населения Франции была велика доля мелких ремесленников, работавших в собственных мастерских, и бережливых крестьян (а эти люди всегда консервативны). За пределами Парижа «рабочий класс» в нашем смысле слова был явно слаб.
(обратно)254
Антони Туре, известный французский писатель и политический журналист того времени, по образованию адвокат. По взглядам был республиканцем и боролся против Июльской монархии, за что провел более двух лет в различных тюрьмах. Тоже был депутатом этого Собрания. (Примеч. пер.)
(обратно)255
Де Морни был женат на русской аристократке – княжне Софье Трубецкой. (Примеч. пер.)
(обратно)256
Заключенные депутаты, проголодавшись, заказали себе в тюрьму завтрак из соседнего ресторана. У них было очень мало стаканов. Депутаты-роялисты и их коллеги-радикалы пили вместе. «Равенство и братство!» – воскликнул аристократ-консерватор, передавая свой стакан «красному» собрату-узнику. «Да, но не свобода!» – ответил тот.
(обратно)257
Разумеется, утверждали, что эти данные были сфабрикованы правительством. Но нельзя отрицать, что весьма значительное большинство голосов было подано за бонапартистов. Итоговые цифры, по разным подсчетам, сильно различаются, но общий вывод во всех случаях один и тот же.
(обратно)258
Так Николай обращался к Наполеону III. Французского императора приводило в ярость то, что царь не писал ему «мой брат». Большинство европейских коронованных особ считали Наполеона III нежеланным выскочкой, не имевшим права на равенство с ними.
(обратно)259
Во Франции только правительственные плакаты и сообщения правительства печатались на белой бумаге; все частные призывы и прокламации нужно было печатать на цветной бумаге.
(обратно)260
Еще более знаменит случай, когда одна газета напечатала, что речь Наполеона III «несколько раз вызвала у слушателей крики «Да здравствует император!» – и сразу же получила предупреждение, поскольку «это сомнительное выражение не подходит для описания бурного энтузиазма, который вызвали слова императора».
(обратно)261
В это время ношение усов и бороды иногда считалось признаком сочувствия республиканским или радикальным идеям. И это несмотря на то, что Наполеон III носил хорошо известную «императорскую» козлиную бородку.
(обратно)262
Говорили также, что возрожденный империализм Луи-Наполеона был не делом (за которое нужно сражаться и умереть), как старая монархия, а (для большинства своих сторонников) спекуляцией. Этих сторонников надо было привлекать и удерживать надеждой на прямую выгоду лично для них, а не обращениями к их патриотизму и личной верности. Для любой власти это была бы гнилая основа!
(обратно)263
То есть Турции. (Примеч. пер.)
(обратно)264
Большой Редан – одно из севастопольских укреплений, которое англичане несколько раз безуспешно штурмовали, неся большие потери. (Примеч. пер.)
(обратно)265
Большинство американцев читают о Крымской войне только то, что написано англичанами. А они неизбежно забывают подчеркнуть, что французы вели основную часть боев и этим завоевали право на соответствующую долю славы как победители.
(обратно)266
Она была сестрой того принца Гогенцоллерна, чья кандидатура на испанский трон ускорила начало Франко-прусской войны. Свадьбы королей редко сохраняют мир, но стоит поразмыслить над тем, случилась бы или нет война 1870 г. – по крайней мере, такая, какой она была на самом деле, – если бы Наполеон женился на принцессе.
(обратно)267
Виктор-Эммануил, король Сардинии-Пьемонта (его государство занимало северо-восточную часть Италии), единственный из всех представителей итальянских династий сопротивлялся давлению австрийцев, желавших, чтобы он был жестким самодержцем и дал своему народу либеральную конституцию.
(обратно)268
Осман – французское произношение немецкой фамилии Хаусман. (Примеч. пер.)
(обратно)269
Многие из этих оппозиционеров на самом деле были орлеанистами или даже настоящими легитимистами – сторонниками прежних Бурбонов. Но они объединили свои усилия в общей вражде к бонапартизму и называли себя либеральной оппозицией.
(обратно)270
Раздел мира на сферы влияния по принципу «США не вмешиваются во внутренние дела европейских стран, а европейские страны – во внутренние дела стран Западного полушария», провозглашенный одним из первых президентов США Джеймсом Монро. (Примеч. пер.)
(обратно)271
Утверждают, что Наполеон III говорил симпатизировавшим ему южанам, что он даже хотел вмешаться в войну на их стороне, но боялся, что в этом случае начнутся мятежи на улицах Парижа.
(обратно)272
Максимилиан – брат императора Франца-Иосифа, умершего в 1916 г.
(обратно)273
Жители Люксембурга, кажется, хотели этой перемены, что было разумно.
(обратно)274
Первая выставка была в 1855 г. Она тоже имела большой успех и стала великолепной рекламой процветания Франции в ранние годы Второй империи.
(обратно)275
Если добавить к ним некоторых бонапартистов, равнодушных к интересам своей партии, это число возрастет до 116.
(обратно)276
Шюке.
(обратно)277
Автор позаимствовал свое толкование военных событий 1870–1871 гг. в книге The Roots of the War («Корни войны») (N. Y., 1918), pp. 3—23, где коротко описаны основные сражения этой войны и т. д.
(обратно)278
Чтобы быть честным, нужно сказать, что маршал Ньель, несомненно талантливый военный министр Франции, энергично пытался реформировать ее вооруженные силы. Если бы он прожил дольше, в этом отношении могло быть сделано много. Но в 1869 г. он умер. Его преемник Лебёф был хвастлив, назойливо вмешивался во все дела, разрушил почти все, что сделал Ньель, и не создал ничего своего.
(обратно)279
Несмотря на свое поражение возле Ворта, Мак-Магон был единственным французским генералом, способным более или менее на равных противостоять фон Мольтке. Если бы ему дали свободу действий и трусливые политики не вмешивались в его дела, он смог бы спасти Францию от худших последствий этой войны.
(обратно)280
Читатели более позднего времени не упустят из виду не лишенное юмора совпадение: у Вильгельма II, короля Пруссии, был зубным врачом проворный американец, доктор Дэвис, и Наполеону III с его семьей тоже оказывал такие же услуги умелый янки, доктор Эванс.
(обратно)281
Ему сказали много дружеских слов насчет сочувствия бедствующей Франции, но ни одно великое государство не пожелало применить единственное средство, которое могло бы остановить пруссаков, – угрозу оружием. После 1900 г., когда стала усиливаться пангерманская угроза, в Лондоне и Санкт-Петербурге немало жалели об этом своем молчаливом разрешении раздавить Францию.
(обратно)282
Нет сомнения, что к ноябрю 1870 г. положение Франции и Парижа было почти безнадежным, и благоразумные люди уже советовали капитулировать. Однако генерал Дюкро (один из главных офицеров в Париже) выразил чувства очень многих людей, когда сказал Тьеру, что столица все-таки должна сражаться и выиграть время, чтобы страна собрала новые армии и опять попыталась идти в бой. «Вы говорите как солдат, а не как государственный деятель», – сказал Тьер. «Я говорю как государственный деятель, – ответил Дюкро. – Такая великая страна, как Франция, всегда возрождается после материального крушения, но никогда не сможет возродиться после морального крушения. Нынешнее поколение пострадает, но следующему принесет пользу честь, которую мы спасем». Дюкро был прав. Сопротивлением после Седана Франция спасла свою честь и сохранила чувство собственного достоинства. В муках зимы 1870/71 г. родился дух, который привел ее к победе 1918 г.
(обратно)283
Позже те, кто оценивал действия Правительства национальной обороны, мудро говорили, что оно сделало большую ошибку, заперев в Париже такой большой гарнизон. Оно могло бы использовать эти войска лучше – для операций по снятию блокады. Не было опасности, что немцы станут штурмовать в лоб форты, защищавшие Париж.
(обратно)284
В результате этого обстрела погибло 300 и было ранено более 2 тысяч гражданских лиц – мужчин, женщин и детей. Именно из-за таких поступков своих новых прусских хозяев эльзасцы так не желали им покориться.
(обратно)285
После завершения боевых действий в 1873 г. Базена судил военный трибунал. Его обвиняли в грубом пренебрежении своим долгом за то, что он сдался так рано. Так и не удалось выяснить, почему он фактически предал Францию, вступив в политические переговоры с Бисмарком, и даже сообщил немцам важнейшую информацию, сказав, что в его армии кончается продовольствие. Вероятно, у него были какие-то злые намерения насчет того, чтобы вернуться в Париж в роли нового «восстановителя порядка». В сущности, он был совершенно бездарным человеком, хотя и обладал авантюризмом, типичным для тех, кого Вторая империя вознесла на вершину власти.
На суде он говорил в свое оправдание, что после пленения императора и бегства императрицы ему больше не за что было сражаться: «Все погибло!» «Оставалась Франция!» – уничтожающе ответил председатель суда.
Базен был приговорен к смерти, но Мак-Магон, который тогда был президентом, пожалел давнего товарища и заменил смерть на двадцать лет тюрьмы. В 1874 г. Базен бежал из заключения и скрылся в Испании. Там он и жил, презираемый изгнанник, до своей смерти в 1888 г. Французы относились к нему примерно так же, как американцы к Бенедикту Арнольду. (Б. Арнольд – американский генерал, который во время Войны за независимость Соединенных Штатов прославился в боях на стороне американских повстанцев, но позже предал их и ради денежной награды перешел на сторону Великобритании. В США к нему относятся противоречиво: считают героем и предателем одновременно. – Пер.)
(обратно)286
Вот пример, который хорошо показывает, каким было положение с едой в Париже в конце осады. Говорили, что один богатый парижанин послал человека в мясную лавку узнать, может ли он купить что-нибудь съедобное для своих двух любимых котов. Ему ответили, что в лавке нет ничего, что стали бы есть коты, но что там охотно купили бы самих котов.
(обратно)287
Бельфор не был захвачен немцами. Он доблестно держался до конца войны. Поэтому французы были вдвойне полны решимости не отдавать его.
(обратно)288
Немцы должны были оставаться в северо-восточных провинциях Франции до тех пор, пока она не уплатит контрибуцию. Они также должны были остаться на какое-то время в некоторых из фортов, господствовавших над Парижем.
(обратно)289
Через сорок лет после этих событий ответственный историк Лависс признает, что парижская чернь в 1871 г. терпела большие бедствия, но торжественно заявляет: «Из всех восстаний, отмеченных в истории, то, которое произошло в марте 1871 г., несомненно, было самым преступным, потому что было поднято на глазах у победившего врага».
(обратно)290
Речь президента Вильсона перед конгрессом 8 января 1918 г.
Утрата этих территорий имела для Франции очень серьезные экономические последствия. Ценность железных и угольных рудников была понята только позже, но в 1871 г. Франция лишилась четверти своих веретен для переработки хлопка и значительной части всей остальной текстильной промышленности.
(обратно)291
La Deuxi`eme Annee d’Histoire de France («История Франции, второй год») Эрнеста Лависса. Книга предназначалась для мальчиков и девочек от одиннадцати до тринадцати лет. Слова, которые здесь выделены курсивом, в оригинале были напечатаны жирным шрифтом. Из отрывка исключены некоторые патриотические призывы. Они совершенно в том же роде, что приведенный здесь текст.
Урок, который ученики должны были усвоить из этой книги, был рассчитан на то, чтобы глубоко врезаться в память даже самого отстающего мальчишки с самой задней парты в каждой маленькой коммунальной школе от Кале до Байона. Этот отрывок показывает, как глубоко лезвие вонзилось в душу Франции.
Этот учебник очень широко использовался в школах.
(обратно)292
Вот список конституционных изменений во Франции с 1789 г.
1. 1791 – ограниченная монархия, свергнута в 1792.
2. 1793 – Якобинская республика (эта конституция так и не вступила в силу).
3. 1795 – республика Директории.
4. 1799 – Консульство (номинальная республика).
5. 1804 – Первая империя.
6. 1814 – «Бурбонская» ограниченная монархия согласно Хартии.
7. 1830 – Июльская, иначе Орлеанская, ограниченная монархия.
8. 1848 – Вторая республика.
9. 1851 – Автократическая «республика» Луи-Наполеона.
10. 1852 – Вторая империя (свергнута в 1870 г.).
11. 1875 – Третья республика (временная республика с 1870 г.).
Разумеется, в конституционном законодательстве различия между консульством и Первой империей были в значительной степени внешними. Различия между режимом Наполеона Малого в 1851 и 1852 гг. были еще меньше. Здесь не упомянуты Сто дней правления Наполеона I в 1815 г.
(обратно)293
В 1869 г. один английский дипломат написал: «Я еще ни разу не встречал человека, который был бы талантлив, образован, с большим опытом и при этом произвел бы на меня такое впечатление тем, какое высокое мнение он имеет о своем значении!» Правда, этот наблюдатель отдал честь искренности Тьера и его честному патриотизму. В тот раз Тьер предсказал гибель Второй империи и пророчески добавил: «Если меня позовут, я не откажусь».
(обратно)294
Сейнтсбери.
(обратно)295
Попытка милитаристов контролировать политическое положение во Франции во время кризиса, связанного с «делом Дрейфуса», разумеется, закончилась полным провалом.
(обратно)296
Тьер продолжал присутствовать в Собрании как депутат от Парижа и ненавязчиво участвовать в общественной жизни. Он умер в 1877 г. перед самым крушением надежды роялистов, в то время когда перспективы врагов республики были уже очень мрачными. После смерти его по справедливости почитали как одного из достойных людей Франции.
(обратно)297
Эти несчастливые кареты долгое время оставались у своих изготовителей. Потом, как говорят, они были проданы и послужили другому отпрыску королевского рода, такому же неудачливому, как Шамбор. Они были использованы на свадьбе наследного принца Греции и сестры Вильгельма II Германского. Женихом был широко известный позже Константин (Тино), который в 1917 г. лишился престола, а перед этим наполовину разорил свое королевство.
(обратно)298
Отвращение Шамбора к трехцветному флагу было настоящей навязчивой идеей. Папа Пий IX, разумеется, хотел видеть на троне Франции друга церкви и потому настойчиво убеждал графа не поднимать вопрос о флаге. Но претендент проявил упрямство, достойное более веской причины, и ответил решительным отказом.
После своей грубой ошибки с флагом Шамбор попытался спасти положение отважным контрударом. Он внезапно появился инкогнито в Версале. Граф хотел добиться, чтобы Мак-Магон во время парада провел его в Собрание или в находившийся рядом военный лагерь, и верил, что потом каким-то образом воодушевление, вызванное присутствием «короля», позволит ему взойти на престол на его собственных условиях. Однако претендент был горько разочарован: Мак-Магон наотрез отказался помочь и сказал ему, что «я всецело предан графу де Шамбору и был бы счастлив пожертвовать ради него своей жизнью, но даже ради него не могу пожертвовать своей честью». Другими словами, он был готов провозгласить Шамбора королем, только если он был избран полностью парламентским образом. Шамбору оставалось лишь одно – уехать обратно в изгнание, став более печальным и более мудрым претендентом.
(обратно)299
Бисмарк в это время занимался своей «борьбой за культуру» против католического духовенства Пруссии. Французские клерикалы громко возмущались политикой канцлера. Бисмарк очень обиделся на комментарии французов по поводу того, что он делал в собственной стране, и ясно дал понять, что не станет спокойно терпеть их навязчивое вмешательство в его дела ради нефранцузского духовенства.
(обратно)300
Рассказывают, что мадам Мак-Магон узнала о результате этого голосования, когда была на званом обеде. Она всплеснула руками и сердито воскликнула: «Наконец мы ее получили – эту подлую республику!»
(обратно)301
Президента Франции окружают такой роскошью, которой американцы не желают для своего главы исполнительной власти. Он живет в Елисейском дворце, а не в Белом доме. Он ходит по городу в сопровождении блестящего военного эскорта. На его содержание выделяют 1 млн 200 тыс. франков (240 тыс. долларов) в год. Но ему не предоставлено даже десятой части той реальной власти, которую имеет живущий в одно время с ним американский президент.
(обратно)302
Пожизненных сенаторов оставили на их местах до конца жизни, но, по мере того как они умирали, их места заполняли людьми, избранными согласно той же процедуре, что и остальные 225 членов сената.
(обратно)303
Метод избрания сенаторов был довольно сложным. Кроме представителей коммун голосовать могли многие должностные лица.
(обратно)304
С 1884 по 1889 г. депутаты избирались по общему списку. Каждый избиратель мог голосовать за стольких кандидатов, сколько выбирал весь департамент. От этой системы отказались потому, что она давала преимущества агитатору-демагогу, примером чего стало «дело Буланже».
(обратно)305
Мале.
(обратно)306
Министр внутренних дел в кабинете Брольи, ловкий «гасконский выскочка» Фурту, особенно усердствовал в этой работе по превращению гражданской администрации в проститутку ради чисто партийных целей. На должности префектов и супрефектов он сажал в основном провинциальных дворян. «Среди них было большое количество маркизов, графов, виконтов и баронов» (Визетелли) (вероятно, это был Эрнест-Альфред Визетелли, писатель и сын знаменитого английского издателя. Визетелли-сын находился во Франции во время Франко-прусской войны и написал книгу воспоминаний об этом времени. – Пер.). Старинные дворяне извлекали всю возможную выгоду из своего кратковременного возвращения на государственные должности. Рассказывают, что редко бывало столько праздников, искусно и сложно организованных развлечений и процессий, когда в большом количестве выставлялись напоказ нарядные официальные мундиры, государственные кареты, слуги в ливреях и т. д., сколько их было в несколько следующих месяцев после пресловутого дня 16 мая. Разумеется, читатель понимает, что после 1870 г. звание дворянина во Франции фактически не было официальным. Почти кто угодно мог называть себя обладателем титула, если не пытался пользоваться им в официальных или юридических делах. После революции сменявшие одна другую власти породили огромное количество новых «дворян». Наполеон создал 9 князей, 32 герцога, 388 графов и 1070 баронов! Бурбоны были почти так же щедры и, кроме того, добавили в число новых дворян 70 маркизов. Луи-Филипп был немного скупее на титулы. Наполеон III ограничился 5 герцогами, 35 графами и «значительным числом» баронов. После 1870 г. незаконные титулы были так широко распространены, что один из министров юстиции при Мак-Магоне издал официальный циркуляр, запрещавший всем правительственным чиновникам подписываться титулами, если они не могли доказать свое право их носить. Все это достаточно свидетельствует о том, что при Третьей республике называть себя дворянином вовсе не значило иметь родословную, восходящую, скажем, ко временам знаменитого Третьего крестового похода.
(обратно)307
За это «оскорбление президента» Гамбетта был осужден на три месяца тюремного заключения и штраф в 2 тыс. франков. Однако вскоре он занял такое положение, что смог бросить вызов своим врагам.
(обратно)308
Республиканцам еще раз повезло в 1879 г., когда несчастный «имперский принц», сын Наполеона III, служивший в британской армии, был убит в бою против туземцев в Южной Африке. Следующий в очереди претендент на престол из семьи Бонапарт, принц Виктор, был в высшей степени отвратительным и неприемлемым кандидатом. Так окончательно исчезли все возможности нового бонапартистского переворота в пользу Наполеона IV. Рассказывают, что один дворянин-орлеанист раздраженно сказал: «Вам, республиканцам, везет во всем. Бонапартисты только что потеряли своего принца, а мы, роялисты, сохранили нашего [Шамбора]».
(обратно)309
Мадам де Витт.
(обратно)310
Конечно, были тревожные моменты, которые вызывали волнение на бирже, в газетах и в палатах. Таким было несчастное «дело Шнобеле», когда арест чиновника французской полиции на границе Эльзаса ускорил гневную переписку между парижскими и берлинскими дипломатами.
А в 1882 г. французское общественное мнение было очень возмущено вторжением англичан в Египет, хотя только робость и грубые ошибки французского кабинета министров помешали Третьей республике принять участие в захвате этой находившейся в беспорядке страны хедивов. В 1898 г. снова были трения, и почти начался серьезный конфликт, когда англичане заставили французскую экспедицию уйти из Фашоды в верхнем течении Нила. После 1900 г. Англия и Франция быстро сблизились перед лицом опасности со стороны Германии.
(обратно)311
К этому времени легитимисты и орлеанисты почти слились в одну партию. У бонапартистов, конечно, были свои честолюбивые замыслы, но по тактическим причинам они иногда голосовали и действовали вместе с республиканцами.
(обратно)312
В течение всех 80-х гг. надежды и пыл монархистов были по-прежнему очень сильны. Третья республика казалась слишком хрупкой, чтобы просуществовать долго. Один друг автора, американец, говорил ему, что в 1885 г., обедая с другом-соотечественником в одном парижском ресторане, он случайно сказал по-английски: «Я думаю, мы видели во Франции последнего члена ее королевской семьи». При этих словах очень высокий и элегантный метрдотель подошел к ним и произнес торжественно и почтительно на прекрасном английском языке: «Джентльмены, я самым убедительным образом заверяю вас, что граф Парижский обязательно взойдет на трон своих предков».
(обратно)313
Он умер, вероятно, от случайного выстрела из-за неосторожного обращения с револьвером. Нет доказательств того, что он покончил с собой.
(обратно)314
Это не значит, что тогда не было честных по натуре государственных деятелей с хорошими практическими способностями. Это значит, что как класс и друзья и враги Третьей республики были, несомненно, посредственными людьми. Возможно, в это критическое для французской нации время для нее было даже хорошо, что она не пострадала от слишком одаренных правителей. Чересчур умные люди могут делать огромные ошибки.
(обратно)315
Разумеется, поражение кабинета министров не означало, что все его члены уходили со своих должностей. Премьер-министр часто подавал в отставку, новый партийный вождь занимал его место, происходило еще несколько перестановок, но большинство министерских портфелей возвращались к своим прежним обладателям.
(обратно)316
Никто не может сказать, как бы они отреагировали на такой призыв. Однако нет сомнения, что Буланже был очень популярен в полиции и во многих армейских кругах. Но он так и не дал своим сторонникам возможности показать их мужество и верность.
(обратно)317
Чтобы понять, как важен был вопрос о «чести армии» (о котором шла речь в агитации по поводу «дела Дрейфуса»), надо помнить, что «армия в те годы, когда ни Законодательное собрание, ни правительство не вызывали уважения, а церковь была предметом полемики, оставалась единственным общественным учреждением во Франции, которое объединяло народ, обращаясь к его воинственным и патриотическим инстинктам. Именно этим объясняется восхищение публики генералами и другими офицерами, которые во время суда над Дрейфусом и последующих событий вели себя отвратительно с точки зрения людей, которым не нравится произвол военной диктатуры» (Бодли).
(обратно)318
Ее издавал знаменитый Жорж Клемансо, будущий «организатор побед» Франции в 1917–1918 гг.
(обратно)319
Очень многие монашеские учреждения на самом деле по поручению своего руководства занимались прибыльной деятельностью, например изготавливали спиртные напитки. Разумеется, радикалы потешались над этим. Торгующие монашеские общины были вынуждены прекратить свое существование или эмигрировать в Англию или другие страны.
(обратно)320
Протестантским пасторам и еврейским раввинам государство до этого также платило жалованье. Теперь их тоже бросили на произвол судьбы, хотя их паства не протестовала так бурно, как клерикалы.
(обратно)321
Слово «социализм» стало очень обобщенным обозначением многих разновидностей французского радикализма. Существование в этой стране большого числа крестьян, владевших землей, мелких капиталистов и т. д. стало мощной преградой для «ортодоксального» учения Карла Маркса и не позволило этой доктрине победить. Некоторые французские «социалисты» были крайними коммунистами, другие были лишь чуть левее, чем явные республиканцы.
(обратно)322
Презрение немцев к Франции в это время можно, разумеется, подтвердить бесчисленным множеством свидетельств. Автор с 1902 по 1914 г. несколько раз побывал в Германии, и не однажды, а много раз типичные немцы убеждали его, что Франция погрязла в коррупции и вряд ли может считаться достойным внимания противником.
(обратно)323
Автор вспоминает, что в 1905 г. встречал немцев, которые надеялись, что можно было бы убедить Францию забыть о 1871 г. и объединиться с ними против Англии, «ее самого давнего врага»; но он не думает, чтобы какой-нибудь ответственный немецкий государственный деятель считал это возможным.
(обратно)324
В деле Мехмет-Али.
(обратно)325
Bernhardi. Germany and the Next War.
(обратно)326
То есть германские войска вторглись в Бельгию, нарушив международный договор, гарантировавший этой стране нейтралитет, хотя этот документ был подписан и Германией. Клочком бумаги договор назвал немецкий канцлер. (Примеч. пер.)
(обратно)327
Того самого, который в 1918 г. был обвинен в предательском сговоре с немцами после начала войны.
(обратно)328
Сеннахериб – упомянутый в Библии ассирийский царь, который захватил многие города Иудеи и наложил на нее большую дань. (Примеч. пер.)
(обратно)329
Французские военные были так уверены, что война скоро завершится так или иначе, что, кажется, большинство квалифицированных рабочих, изготавливавших боеприпасы, были мобилизованы. Военные предполагали, что бои закончатся до того, как будут расстреляны все снаряды из арсеналов!
(обратно)330
Италия, конечно, вступила в войну в мае 1915 г., но в основном сосредоточила свои силы на действиях против Австрии.
(обратно)331
Господин Ллойд Джордж, премьер-министр Британии, хвалил господина Клемансо (19 января 1919 г.) такими словами: «Его неизменное мужество, его неутомимая энергия, его вдохновение помогли союзникам достичь триумфа, и я не знаю никого, кому мы больше можем приписать эту победу, чем ему… В нем больше, чем в любом живущем сейчас человеке, воплотились героизм и дух неукротимого и упорного народа его страны».
(обратно)332
Декларация эльзасских изгнанников, 14 мая 1918 г.
(обратно)333
Фон Хертлинг, который был канцлером Германии во время этой битвы, незадолго до своей смерти в начале 1919 г. говорил, что Верховное командование тевтонов было введено в большое заблуждение донесениями своих шпионов из Парижа. Эти агенты лгали о том, насколько население деморализовано мирной пропагандой, которую они вели среди социалистов, пацифистов и т. д. По словам фон Хертлинга, он действительно ожидал, что к 1 сентября его противники попросят мира. «Разумеется, наше положение было крайне опасным, потому что мы разыгрывали свою последнюю карту. Но что это значило, раз мы были уверены, что побеждаем!..
Мы ожидали серьезных событий в Париже [восстания пацифистов?] в конце июля. Так было 15-го числа. А 18-го числа даже самые большие оптимисты среди нас поняли, что все пропало. История мира была доиграна до конца за три дня».
(обратно)


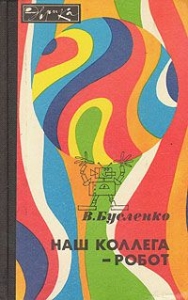
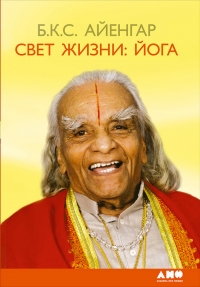

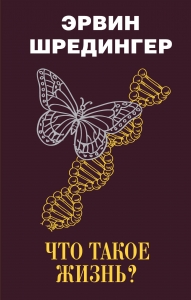



Комментарии к книге «История Франции. С древнейших времен до Версальского договора», Уильям Стирнс Дэвис
Всего 0 комментариев