Джереми Тейлор Здоровье по Дарвину: Почему мы болеем и как это связано с эволюцией
Переводчик И. Евстигнеева
Руководитель проекта А. Василенко
Корректор Е. Аксёнова
Компьютерная верстка К. Свищёв
Дизайн обложки Ю. Буга
Использованы иллюстрации из фотобанка shutterstock.com
© 2015 by Jeremy Taylor
This edition published by arrangement with The Science Factory, Louisa Pritchard Associates and The Van Lear Agency LLC
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2016
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
* * *
Линусу и Барбаре
Введение
Почему люди не живут вечно? Почему мы не можем навсегда избавиться от болезней? Почему человечеству не удается победить рак? Такие на первый взгляд наивные вопросы постоянно задают ученым и популяризаторам науки в телевизионных шоу и на научно-популярных сайтах, но оттого эти вопросы не становятся менее интересными. Средняя продолжительность жизни быстро растет по всему миру и в некоторых странах уже превысила 80 лет. Недавнее исследование показало, что разница в уровне смертности между современными жителями развитых стран и первобытными охотниками-собирателями больше, чем между охотниками-собирателями и дикими шимпанзе. Значительная часть этого снижения смертности была достигнута всего за четыре последних поколения, притом что на земле в общей сложности жило примерно восемь тысяч поколений людей. Достаточно посмотреть на невероятный прогресс в таких областях, как фармакология, общественное здравоохранение, хирургия, иммунология и трансплантология, чтобы оценить масштабы успеха современной медицины.
Но такая оптимистичная статистика скрывает один вызывающий недоумение и беспокойство факт – а именно то, что сегодня мы наблюдаем не снижение, а, наоборот, рост заболеваемости. Распространение болезней, общая картина заболеваемости, постоянно меняется. Поэтому к перечисленным выше обманчиво наивным вопросам мы можем добавить следующие: «Почему сегодня так много людей страдает аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз, диабет 1-го типа и воспалительные заболевания кишечника? Почему многих преследуют аллергические заболевания, наподобие экземы и астмы? Почему в последнее время мы наблюдаем буквально эпидемию сердечно-сосудистых заболеваний? Почему нашему зрению все чаще угрожают пигментный ретинит и влажная макулярная дегенерация? Почему нас допекают боли в спине, межпозвоночные грыжи, смещение межпозвоночных дисков и гипермобильность тазобедренных суставов? Если аппендикс – бесполезный рудимент, почему он не исчез в процессе эволюции, что навсегда избавило бы нас от опасности развития аппендицита? Почему женщины так часто страдают бесплодием и преэклампсией? Почему так широко распространены психические заболевания? И почему многих из нас в старческом возрасте поджидают сумерки сознания – болезнь Альцгеймера?»
Традиционно в медицине человеческий организм было принято рассматривать как хорошо сконструированную машину, которая время от времени может ломаться. Эта машина нуждается в регулярном обслуживании, а также в периодическом ремонте, когда происходит какая-то поломка или сбой в работе. Студентов-медиков учат тому, что врач, по сути, – это высококвалифицированный механик, который умеет отремонтировать машину и обеспечить ее нормальное функционирование на протяжении как можно более длительного времени. Но тут есть одна загвоздка: человеческое тело – не машина. Это скопление живой материи, которое представляет собой продукт эволюции и естественного отбора, как и все живое на нашей планете, и между человеческим телом и любым творением инженерной и архитектурной мысли существуют фундаментальные различия.
Например, когда архитектору поручают разработать новое офисное здание, он первым делом задает вопрос: «Каким будет техническое задание?» Другими словами, какие основные требования предъявляются к этой конструкции? В числе параметров могут быть: высота здания, размещение лифтов (к примеру, с наружной стороны), обеспечение энергопотребления за счет солнечных панелей, соответствие окружающему архитектурному ансамблю, срок эксплуатации (не менее двухсот лет, скажем) и т. д. и т. п. Архитектор разрабатывает проект, который строго соответствует указанным требованиям. Если возникают какие-то проблемы, он возвращается к чертежной доске и переделывает проблемный компонент.
В эволюции мы сталкиваемся с «техническим заданием» совсем иной природы. При создании человеческого организма действуют критерии, в корне отличные от тех, которые можно встретить в мире архитектуры и технологии. Эволюцию вовсе не интересует наше здоровье, счастье или долголетие. Если говорить дарвиновским языком, ее интересует только максимизация репродуктивности индивидов. Это означает, что она продвигает только такие изменения в живых организмах, которые позволяют им адаптироваться к изменениям окружающей среды и размножаться. Если некое генетическое изменение у определенных представителей вида обеспечивает их репродуктивное преимущество, ответственные за него гены распространяются внутри популяции. Другими словами, эволюция озабочена бессмертием генов, но не бессмертием тел. Если она и позволяет индивидам выживать за пределами репродуктивного возраста, то оставляет им только такие качества и способности, которые повышают шансы на выживание генов, переданных ими детям и внукам. Кроме того, в отличие от любого хорошего архитектора эволюция слепа и неразумна. Она не разрабатывает никаких предварительных проектов и планов, она не способна заглядывать в будущее, видеть истинную причину проблемы и находить идеальное решение для ее устранения. Иначе говоря, когда какое-либо изменение окружающих условий требует соответствующего изменения конструкции или функции организма, эволюция не пытается решить проблему успешного выживания представителей данного вида путем фундаментального усовершенствования «проекта», а ищет самое быстрое и легкое решение.
Таким образом, уподобление человеческого организма машине глубоко ошибочно и не позволяет понять, почему мы так подвержены болезням и дегенерации. К счастью, в последнее время четверо пионеров эволюционной (или, как ее еще называют, дарвиновской) медицины – Рэндольф Несс, Стивен Стирнс, Диддахалли Говиндараджу и Питер Эллисон начали поход против этой инженерной аналогии, глубоко укоренившейся в нашей медицине. Во-первых, эти ученые утверждают, что, поскольку цель эволюции – репродуктивность, а не здоровье, наш организм изобилует неоптимальными компонентами и процессами, являющимися результатом неизбежных компромиссов и ограничений. Во-вторых, так как биологическая эволюция происходит гораздо медленнее, чем изменение условий жизни, многие современные болезни возникли из-за несоответствия наших организмов современной среде. А благодаря тому, что патогенные организмы способны эволюционировать гораздо быстрее, чем мы, в своей способности инфицировать нас они всегда идут на шаг впереди нашей иммунной системы. В-третьих, представление о том, что многие человеческие заболевания возникают в результате наследования нескольких дефектных генов, в большинстве случаев неверно. Как правило, болезнь – результат взаимодействия множества вариантов генов друг с другом и с факторами окружающей среды. Таким образом, заболевания – фактически неизбежный спутник нашей жизни и их весьма трудно предотвратить.
Эволюционная медицина позволяет взглянуть на человеческий организм под совершенно другим углом и зачастую дает нам довольно-таки неожиданное понимание болезней, которое идет вразрез с устоявшимися представлениями. Простой и наглядный пример – роль лихорадки при инфекциях. Когда мы заболеваем гриппом, у нас повышается температура, что мешает нам вести привычный образ жизни. Бóльшая часть продающихся в аптеке безрецептурных препаратов направлена на то, чтобы облегчить симптомы лихорадки. Но, поскольку патогены предпочитают температуру ниже, чем температура человеческого тела, лихорадка в действительности является сложным, приобретенным в результате эволюции механизмом, призванным сделать среду внутри человеческого тела максимально неблагоприятной для болезнетворных микроорганизмов.
Питер Глукмен из Оклендского университета приводит более сложный пример. По его словам, эволюционная теория позволяет пролить свет на то, почему в течение последних десятилетий стремительно растет заболеваемость раком молочной железы и яичников и почему рак молочной железы сегодня стал одной из пяти ведущих причин смерти среди женщин в развитых странах мира. Установлено, говорит Глукмен, что такие факторы, как позднее наступление первой менструации, быстрое рождение первого ребенка, за которым следует относительно большое количество беременностей с длительными периодами лактации, и довольно ранняя менопауза, защищают женщин от рака молочной железы. Все это было характерно для женщин в эпоху палеолита. У современных женщин мы видим совершенно иную картину: раннее начало менструаций, длительный промежуток между первой менструацией и первой беременностью (что означает большое количество менструальных циклов); небольшое число детей и короткие периоды лактации, если таковые вообще имеются. На протяжении репродуктивного периода у современной женщины происходит около 500 овуляций, что является рекордным показателем по сравнению даже с недавним прошлым. Проблема в том, что каждая овуляция вызывает механическое повреждение клеток наружного слоя яичников, что в сочетании со значительными локальными колебаниями уровней половых гормонов повышает риск развития рака яичников. Именно поэтому, полагает Глукмен, использование оральных контрацептивов, сокращающее количество менструальных циклов у женщин, ведет к снижению этого риска. Точно так же незрелость тканей молочной железы у нерожавших женщин (полное созревание молочной железы достигается во время первой беременности) на фоне постоянной регенерации эпителиальных клеток груди, стимулируемой циклическими колебаниями секреции эстрогена и прогестерона, при отсутствии длительных периодов аменореи в результате нескольких беременностей, ведет к повышению риска развития рака молочной железы. А отсутствие или сокращение периода грудного вскармливания лишает женщин благотворного эффекта вымывания предраковых клеток вместе с грудным молоком.
Таким образом, современные женщины живут вразрез со своей репродуктивной биологией в результате значительного изменения репродуктивного поведения, связанного с использованием контрацепции и заместительной гормональной терапии, уменьшением количества детей или их отсутствием, сокращением периода лактации, ранним началом менструации и более поздним наступлением менопаузы. Все эти факторы способствуют увеличению длительности репродуктивного периода и, следовательно, более многочисленными менструальным циклам с более резкими колебаниями гормональных состояний – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но как мы можем объяснить существование мутаций генов, обуславливающих предрасположенность к раку, например таких, как BRCA1 и BRCA2? Некоторые мутации этих генов теряют свою способность подавлять развитие опухолей в эпителиальной ткани молочной железы. Хотя большинство женщин заболевают раком молочной железы в пожилом возрасте, отмечает Глукман, это заболевание относительно часто встречается и у более молодых. Логично было бы предположить, что специфические варианты этих генов, значительно повышающие риск развития рака молочной железы, должны были бы отсеиваться в ходе эволюции и встречаться в современных популяциях довольно редко. Но почему-то ничего подобного не произошло. Согласно Глукмену, это говорит о том, что данные мутации генов обеспечивают определенные преимущества в молодом возрасте, которые компенсируют их пагубное воздействие в более поздний период. Этот феномен называется антагонистической плейотропией и довольно часто обнаруживается в эволюционных моделях человеческих заболеваний. Недавнее исследование показало, что для носителей мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 характерны и более высокая плодовитость, и более высокая пострепродуктивная смертность. Создается впечатление, будто эволюция заплатила за повышенную плодовитость в репродуктивный период повышенным риском смерти от рака молочной железы после наступления менопаузы.
Учитывая привлекательность и пользу объяснительной силы такого эволюционного мышления, вы можете подумать, что оно должно было бы занимать куда более значимое место в медицинской теории и практике. Почему же оно не укоренилось в медицине или же в какой-то момент впало в немилость? Глукмен объясняет это так: первые эволюционно настроенные мыслители, появившиеся в начале XIX века, происходили, как правило, из медицинской среды, однако в те времена эволюционное учение вступало в противоречие с религиозными догмами, поэтому оно сумело дать ростки лишь в наиболее либеральных частях Европы. К концу века эволюционная теория столкнулась с конкуренцией за интеллектуальное пространство со стороны новых наук, таких как физиология, так что даже самые ярые дарвинисты, наподобие «бульдога Дарвина» Томаса Гексли, считали, что эволюционное мышление совершенно нерелевантно с точки зрения тех проблем, с которыми приходится сталкиваться докторам. С тех пор медицина достигла впечатляющего прогресса в физиологии, гистологии и многих других -логиях, а также биохимии, и в этих сферах, надо признать, и впрямь не нашлось места для эволюции. Казалось, эволюция стала таким же бесполезным пережитком прошлого, как аппендикс.
Отчасти проблема заключается в том, что многие медицинские специалисты продолжают враждебно относиться к самой идее эволюции. Если вы хотите найти креационистов в университетском кампусе, шутит философ Майкл Рьюз, прямиком направляйтесь на медицинский факультет! Или же врачи считают понимание человеческих болезней, почерпнутое из эволюционной теории, бесполезным для своей повседневной практики, когда им приходится иметь дело с тяжело больными или умирающими пациентами, нуждающимися в немедленном лечении или хирургическом вмешательстве. Врачи живут в реальном мире человеческих страданий, а не в абстрактном мире эволюционных механизмов.
Еще одна проблема состоит в том, что, как только речь заходит о человеческой биологии и поведении, значительная часть эволюционной теории и ее языка, как кажется, вступает в противоречие с глубоко укоренившимися в нас представлениями о моральных, этических и эмоциональных нормах, определяющих человеческую природу. Я помню очень неприятный разговор, состоявшийся у меня на вечеринке с одной симпатичной собеседницей. Я всего-навсего попытался объяснить ей результаты исследований, которые показывают, что в хорошие времена матери кормят сыновей более питательным грудным молоком, чем дочерей, а в плохие – наоборот. Идея состоит в том, что существует определенный эволюционный механизм, который ограничивает родительскую заботу о сыновьях при неблагополучных условиях жизни, когда они могут вырасти на дне социальной пирамиды и быть непривлекательными как партнеры, что снижает вероятность рождения внуков. Моя знакомая сердито фыркнула, пожелала мне «получше разобраться с фактами и собственной головой» и отправилась на поиски более приятного собеседника. Ей показалась отвратительной и сексистской сама мысль о том, что приличная женщина может сознательно лишать младенца питательного грудного молока. Она не смогла провести различие между сознательным решением навредить ребенку в духе ужасающей практики женского инфантицида в сельских районах Индии и бессознательным физиологическим механизмом, направленным на повышение шансов на выживание родительских генов через сыновей или дочерей. Этот механизм реагирует на окружающие условия и соответствующим образом регулирует питание ребенка при грудном вскармливании без каких-либо осознанных намерений со стороны матери.
Эволюционный язык часто бывает настолько беспристрастен, что звучит откровенно оскорбительно. Разве приятно людям узнать о том, что соотношение полов может бессознательно регулироваться самими родителями в зависимости от их условий жизни; что частые ночные пробуждения и требование груди младенцем может быть приобретенным в процессе эволюции механизмом, призванным предотвратить овуляцию и беременность у матери, чтобы снизить вероятность конкуренции со стороны других детей. Легко ли человеку примириться с тем, что радужные картины – счастливая пара, занимающаяся любовью; женщина, вынашивающая младенца; мать, кормящая ребенка грудью, – на самом деле являются эволюционным полем битвы с участием конкурирующих между собой самца, самки и плода.
Каковы бы ни были причины, потребовался целый век, чтобы вернуть эволюцию на арену науки. Вышедшая в 1994 году книга Рэндольфа Несса и Джорджа Уильямса «Почему мы болеем? Новая теория дарвиновской медицины» (Why We Get Sick: The New Science of Darwinian Medicine) открыла шлюзы и повлекла за собой поток значимых работ со стороны таких ученых, как Питер Глукмен, Венда Треватан, Стивен Стирнс, Пол Эвальд и многих других. (Если вы хотите более подробно узнать, кто есть кто в области эволюционной медицины, загляните на веб-сайт издания Evolution and Medicine Review.) Эти авторы на богатом и конкретном практическом материале исследуют основные концепции эволюционной медицины, такие как компромиссы и несоответствия; однако я хочу избрать немного другой путь, на который меня натолкнула очень важная мысль, высказанная одним из отцов эволюционной медицины Рэндольфом Нессом.
Несс утверждает, что значение эволюционного учения для медицины состоит в том, что оно может непосредственно привести к изменениям в медицинской практике или даже к появлению новых методов лечения. Но его главная ценность заключается в способности объяснить, почему вещи являются такими, какие они есть. В этом смысле эволюционное учение в медицине подобно физике в инженерном деле. На самом деле самый известный афоризм Несса гласит: «Медицина без эволюции как инженерия без физики». Без физики и, в частности, без ньютоновской механики и доскональных знаний об электромагнитном спектре было бы невозможно построить космический аппарат «Розетта» и отправить его за 500 миллионов километров на встречу с кометой 67P / Чурюмова – Герасименко, а также успешно посадить на нее зонд «Филы», экипированный множеством инструментов для отбора проб. Подумайте, возможно ли добраться до сути сложнейшей иммунной системы человека и разработать действительно эффективные лекарства для лечения аллергии и аутоиммунных заболеваний без понимания того, как и по каким причинам развивалась эта система? Таким образом, утверждает Несс, эволюционная биология должна стать фундаментом и краеугольным камнем для медицины, как и для всей биологии. Я лично знаком с Рэнди Нессом вот уже более четверти века и восхищаюсь той настойчивостью, энергией и отточенностью аргументации, с которыми он пытается вернуть эволюционное учение в и без того перегруженные учебные планы медицинских факультетов. Недавно появились признаки, свидетельствующие, что ситуация меняется в его пользу. В своей книге я стараюсь облечь в плоть и кровь идею Несса, что эволюционное учение является «физикой» медицины. Моя книга не научный труд, рассказывающий о том, как при помощи эволюционного учения разрешить все проблемы современной медицины, и не основанное на эволюционной теории практическое руководство в стиле «исцели себя сам». Я постарался описать глубокую эволюционную предысторию некоторых человеческих болезней и объяснить, почему они вообще существуют – почему вещи таковы, каковы они есть. И я надеюсь, моя книга подарит читателям новый взгляд на эволюцию как на главную движущую силу в формировании нашего организма – пусть тот далеко не всегда оказывается идеальным и время от времени требует срочного медицинского «ремонта»!
Итак, в следующих главах я поставил перед собой несколько ключевых задач: во-первых, дать достаточно глубокий уровень понимания эволюционных факторов, лежащих в основе патогенеза ряда заболеваний; во-вторых, развеять некоторые мифы, например связанные с дискуссией о взаимосвязи между прямохождением и заболеваниями позвоночника, ног и суставов; в-третьих, рассказать о том, как понимание болезней с эволюционной точки зрения уже привело к появлению захватывающих новых идей касательно способов медицинского вмешательства для лечения слепоты, болезней сердца, аутоиммунных заболеваний, заболеваний репродуктивной системы, рака и болезни Альцгеймера. «Но каким образом заболевания сердца, рак или деменция могут быть результатом эволюционной адаптации?» – спросите вы. Разумеется, таковыми они не являются. Но я хочу показать, в чем состоит ценность эволюционного учения: оно дает нам в руки аналитический инструмент, позволяющий задавать фундаментальные вопросы, которые дают нам возможность составить гораздо более полное представление о болезни и найти новые, порой неожиданные ответы.
Например, когда мы смотрим на рентгеновский снимок коронарных артерий, трудно отделаться от мысли, что эти узкие сосуды, которые так подвержены сужению и закупорке, являются грубой «конструкторской» ошибкой эволюции. Мы забываем, что сердце – одна из самых мощных и плотных мышц в человеческом организме, которая нуждается в огромном количестве кислорода и питательных веществ. По иронии судьбы, чем плотнее делается сердечная мышца, тем менее проницаемой она становится для нормального кровоснабжения. Когда мы поймем, что коронарные артерии стали ответом эволюции на необходимость обеспечивать богатой кислородом кровью все более мощную и плотную сердечную мышцу у активных позвоночных животных наподобие нас с вами, мы сможем смириться с таким «инженерным решением». Аналогичным образом «техзадание» с требованием совместить прямохождение с рождением все более крупных детей заставило эволюцию пойти на компромисс в конструкции женского позвоночника и таза.
Мир наших предков был гораздо грязнее, чем наш с вами. Эволюция пошла хитрым путем: поскольку в доисторическую эпоху люди не умели уничтожать микроорганизмы, она помогла людям приспособиться и жить вместе с ними, а не вести постоянную борьбу. Она сумела избавить нас от тяжелых побочных издержек в виде самопричиненного вреда, наносимого организму постоянно бушующей иммунной системой, путем передачи ответственности за ее регулирование живущим внутри нас микробам, так что мы в конечном итоге стали к ним вполне толерантны. Эволюция не могла предвидеть мир, где личная и общественная гигиена, антибиотики и химические вещества убивают 99,9 процента всех бытовых микробов и настолько истощают микробную популяцию внутри нас, что наша иммунная система не достигает должного уровня зрелости или теряет способность должным образом регулироваться. Именно это и ничто иное привело к наблюдаемому сегодня резкому росту аллергических и аутоиммунных заболеваний – одной из новых эпидемий XXI века.
Пожалуй, нет более убедительного аргумента в пользу эволюционного подхода к медицине, чем нынешняя волна роста устойчивости к антибиотикам. Биологи уже давно предупреждали нас об этой опасности на основе того простого факта, что бактерии способны размножаться в пределах нескольких часов или даже минут (тогда как людям на это требуются десятилетия), поэтому могут эволюционировать с головокружительной скоростью. Но мы были глухи к их предостережениям и фактически пустили коту под хвост десятилетия упорного труда исследователей, необдуманно прописывая антибиотики людям при малейшем чихе и еще больше усугубляя ситуацию тем, что начали – и продолжаем – тоннами скармливать антибиотики домашнему скоту и другим животным. Сегодня мы стоим перед реальной опасностью оказаться совершенно безоружными перед полчищами высокопатогенных и резистентных к лекарствам микроорганизмов. Некоторые эксперты в области здравоохранения уже предрекают скорое возвращение к больничным палатам 1950-х годов с рядами широко расставленных кроватей, легионами вооруженных карболкой медсестер и распахнутыми окнами для проветривания помещения, в то время как правительства при помощи щедрых налоговых льгот пытаются соблазнить сопротивляющиеся фармацевтические компании возобновить поход против непобедимых микроорганизмов. А многие онкологи не желают усвоить тот урок, что раковые клетки во многом похожи на бактерии и, следовательно, также способны быстро эволюционировать, развивая устойчивость к химиотерапии. Хотя показатели выживаемости для многих форм рака постепенно улучшаются, частым следствием лечения становится развитие устойчивости опухоли к медикаментам, что угрожает пациентам летальным исходом.
Что касается репродукции, то очень трудно объяснить низкую плодовитость человека по сравнению с другими видами животных вкупе с высокой частотой самопроизвольных выкидышей и патологических состояний при беременности, таких как преэклампсия, без парадигмы эволюционной теории, принимающей во внимание конкурирующие интересы материнских и отцовских генов и эволюционное регулирование заботы матери о своем потомстве.
Существует, однако, один аспект в эволюционистском описании человеческого тела и его склонности к болезням, который вызывает у меня беспокойство. Я всегда стараюсь останавливаться на нем отдельно, поскольку считаю, что он уводит нас в сторону от дарвиновского подхода к эволюции человека (и эволюции в целом). Этот аспект связан с вековой битвой за сердца и умы между дарвинистами и сторонниками креационизма и теории разумного замысла. Как вы знаете, креационисты исходят из фундаментальной идеи, что Бог создал людей по своему образу и подобию. Дарвинисты опровергают это представление, утверждая, что человеческое тело изобилует неоптимальными компонентами и процессами, с которыми не мог бы смириться никакой божественный инженер. Многочисленные недостатки, говорят они, являются доказательством того, что человек есть творение рук эволюции, а не бога. Чтобы вкратце передать суть этого столетнего спора между эволюционистами и креационистами, позвольте рассказать мою версию одного бородатого анекдота:
Ежегодное собрание Американской медицинской ассоциации. Место проведения – город Чаттануга, штат Теннесси, расположенный в самом сердце Библейского пояса и известный своими религиозными умонастроениями. Группа врачей отдыхает в холле между заседаниями, наслаждаясь хорошими напитками. Постепенно разговор переходит к удивительной конструкции человеческого организма.
– Не может быть лучшего свидетельства того, что Бог приложил руку к созданию человека, чем человеческое колено, – заявляет хирург-ортопед. – Это самый сложный сустав в нашем теле. Три длинные кости ноги – бедренная кость, большеберцовая кость и малоберцовая кость – соединяются вместе в виде идеально продуманного механизма, который защищается коленной чашечкой и приводится в движение сложной системой сухожилий и связок, дополненной хрящевым амортизатором и заполненными жидкостью сумками, чтобы обеспечить плавность движений. Это настоящее чудо!
– Да, это чудо, – подхватывает нейрофизиолог. – Но я считаю, что именно человеческий мозг со всей его потрясающей сложностью позволяет в полной мере оценить дело рук Божьих. Только подумайте: 86 миллиардов нейронов, посылающих друг другу нервные импульсы со скоростью 420 километров в час внутри сети, образованной 125 триллионами синапсов! В настоящее время я работаю над компьютерным моделированием активности головного мозга, и, по нашим оценкам, нам требуется 300 миллиардов гигабайт компьютерной памяти, чтобы сохранить данные измерений всего за один год!
– Ну, не знаю, как там у вас, – вступает в разговор уролог, – но в том месте, где работаю я, дела обстоят иначе. Порой мне кажется, что всю эту систему соорудил какой-то сумасшедший сантехник. Как можно додуматься проложить семявыводящий проток по такому длинному и извилистому пути, да еще и заложить петлю вокруг мочевого пузыря?! А расположить предстательную железу на самом выходе из мочевого пузыря, чтобы та своей толщей плотно охватывала уретру?! Небольшое воспаление простаты – и на тебе: ты не можешь даже нормально помочиться! Не вижу я тут никакого божьего замысла – каким нужно быть идиотом, чтобы проложить канализационную трубу посреди спальни! Да, наша мочеполовая система – это чудо. Чудо эволюционного идиотизма!
Эволюционистская литература изобилует массой других примеров. Глотка, которая используется для дыхания и приема пищи, что значительно повышает риск асфиксии. Наличие такого рудиментарного органа, как аппендикс, который может воспаляться и вызывать аппендицит – заболевание, убивавшее тысячи людей до появления современной медицины. Плохой отток жидкости из придаточных пазух носа, вызванный тем, что мы стали прямоходящими, а наши лица сделались более плоскими: если раньше носовые пазухи выводили жидкость по направлению вперед, то теперь они вынуждены выбрасывать ее по направлению вверх. Еще один излюбленный пример эволюционистов – путь, по которому пролегает возвратный гортанный нерв у некоторых животных. Этот нерв соединяет гортань с головным мозгом, но по пути он опускается в грудную клетку и огибает дугу аорты, делая петлю (поэтому он и называется возвратным). Чем длиннее шея, тем длиннее нерв. У жирафов его длина может превышать шесть метров, притом что расстояние от гортани до мозга составляет всего несколько сантиметров. Неужели божественный перфекционист не убрал бы эту нелепую петлю и не направил бы нерв по самому короткому пути? Проблема с таким доказательством «от противного» состоит в том, что оно стремится представить эволюцию как бестолкового изобретателя, которому не хватает ума разработать продуманную и элегантную в своей простоте и функциональности конструкцию, поэтому он берет все, что попадается под руку, и сооружает чрезвычайно замысловатый и запутанный, но при этом весьма нефункциональный механизм в духе карикатур Руба Голдберга или Хита Робинсона. Например, Несс и один из самых известных эволюционистов в мире Ричард Докинз критикуют устройство человеческого глаза с его перевернутой сетчаткой и нелепым расположением фоторецепторов в глубине сетчатки – позади пролегающих по ее поверхности нервных волокон, несущих сигналы от рецепторов к мозгу. Это означает, что свет, вместо того чтобы свободно проходить к светочувствительным клеткам, должен продираться сквозь лес нервных волокон. Что за странное инженерное решение!
На мой взгляд, подобные аргументы с акцентом на «неразумности дизайна», которые обычно используются в споре с креационистами, притом что звучат весьма убедительно, оказывают эволюционному учению медвежью услугу. Вместо того чтобы подчеркивать уникальность эволюционной инженерной мысли, они представляют эволюцию как неэффективного «бестолкового умельца», нередко забывая напомнить о том, что придуманные эволюцией решения являются по-своему изысканными и функциональными. Да, поскольку эти решения искались вслепую, путем перебора в процессе мутаций и естественного отбора без какого-либо учета будущего, зачастую они являются довольно причудливыми и даже эксцентричными, особенно с точки зрения настоящих инженеров. Тем не менее наши тела не могут быть просто мешаниной всевозможных эволюционных нелепостей и ошибок. Будь это так, человеческий род давным-давно бы погиб на полях кровопролитных эволюционных сражений с другими видами. В этом смысле эволюция больше напоминает мне находчивого секретного агента Ангуса Макгайвера из телесериала «Секретный агент Макгайвер», который часто попадает в угрожающие жизни ситуации и придумывает из них выход при помощи простых предметов, таких как скотч или скрепки, а вовсе не врача-шарлатана Доктора Ника из мультсериала «Симпсоны» – как вы помните, этот невежда совершенно не знал анатомии и однажды пришил пациенту ногу вместо руки и руку вместо ноги!
Я сожалею, что эволюционисты часто не находят другого способа убедить нас в том, что человека создал не Бог, а эволюция, кроме как делая акцент на «неудачном решении». Возьмем, например, устройство глаза. Если бы некоторые эволюционисты копнули чуть глубже, они бы обнаружили весьма разумные причины, заставившие эволюцию сконструировать наш глаз так, а не иначе. Такое строение сетчатки, на первый взгляд представляющееся нелепым, на поверку оказывается в высшей степени красивым и эффективным решением, позволяющим обрабатывать огромные объемы зрительных сигналов. Я считаю, что аргументы о «неразумности дизайна» пора выбросить в мусорную корзину. В нашем случае – в разговоре об эволюционной медицине – такие аргументы не столько помогают, сколько мешают делу.
Найденные эволюцией решения часто гениальны, а не абсурдны. Но миллионы лет эволюции оставили на наших телах неизгладимые отпечатки, и не все они сегодня воспринимаются нами как положительные. Мы выжили и процветаем как вид, но наши тела изобилуют компромиссами, подчас фаустовского масштаба, на которые пришлось пойти эволюции; придуманными на скорую руку решениями; механизмами антагонистической плейотропии в духе «живи сейчас, плати потом», цель которых – помочь людям выжить в молодом и репродуктивном возрасте за счет негативного воздействия на здоровье в более позднем возрасте; различными непреднамеренными последствиями эволюционных изменений и несоответствиями между нашими организмами и современными условиями жизни. Все эти эффекты сегодня мы рассматриваем как болезни и патологии. В последнее время на нас обрушивают поток популярной оздоровительной литературы в стиле «идеальное тело благодаря…» – вегетарианству, Богу, науке или какому-либо фитнес-тренеру с его уникальной системой тренировок. Следуя в русле этой тенденции, я предлагаю вам познакомиться с вашим, пусть и не идеальным, телом, созданным эволюцией и естественным отбором – или, если ассоциировать теорию с ее создателем, – вашим «телом по Дарвину».
Подлинная трагедия состоит в том, что за всеми этими эволюционными компромиссами и несовершенствами стоят люди. Я включил их голоса в эту книгу, чтобы, рассуждая об абстрактных проблемах эволюционной теории, мы не забывали о них – о реальных людях, которые страдают от реальных болезней и немощи и которые проявляют огромную силу духа, борясь с этими болезнями сами или помогая бороться другим. Многие люди, с которыми я разговаривал, мужественно соглашаются стать «подопытными кроликами» для испытания новаторских методов лечения, основанных на эволюционном подходе. Я хочу искренне поблагодарить их всех за эту неоценимую помощь.
Наши старые друзья Как гигиеническая гипотеза объясняет аллергию и аутоиммунные заболевания
В 1990-е годы семья Джонсонов столкнулась с бедой: их сынишка Лоренс делался все более и более неуправляемым и постоянно демонстрировал самоповреждающее поведение, причем с течением времени положение только усугублялось. Лоренс был эмоционально неустойчивым ребенком и быстро приходил в состояние возбуждения; он разбивал себе лицо, бился головой об стену, пытался выдавить себе глаза, до крови кусал руки. В два с половиной года ему поставили диагноз аутизм, и с возрастом его состояние ухудшалось. Если во время прогулки по улице светофоры загорались не тем светом, на который он рассчитывал, он впадал в ярость. Он не мог находиться в людных местах, таких как рестораны или кинотеатры, к нему часто приходилось применять силу, чтобы он не причинил себе вреда. Врачи пытались лечить его антидепрессантами, противосудорожными и нейролептическими препаратами, литием, но безрезультатно.
Родители не знали, что делать. К счастью, отец Лоренса Стюарт был сильным и энергичным человеком, «решателем проблем», поэтому он принялся самостоятельно искать способ справиться с болезнью сына и стал настоящим экспертом по аутизму. Вскоре он сделал интересное наблюдение. «Мы заметили, что, когда у Лоренса начинался жар, все симптомы аутизма исчезали. Так было в 100 процентах случаев. Стоило подняться температуре – из-за простуды, гриппа или синусита, – он прекращал причинять себе вред, становился спокойным и вел себя как совершенно нормальный ребенок. Мы разговаривали с родителями других детей-аутистов, и все они сказали то же самое».
Может быть, все дело было в плохом самочувствии и слабости, которые умеряли проблемное поведение Лоренса? Некоторые ученые предполагали, что лихорадка влияет на передачу нервных импульсов в головном мозге, другие ссылались на изменения в иммунной системе. Никто не знал, что происходит на самом деле. Но все, кто имел дело с Лоренсом, в один голос заявляли: «Мы счастливы, когда он заболевает. Тогда жизнь становится прекрасной!» Тем не менее, как только лихорадка отступала, патологическое поведение возвращалось. В 2005 году, когда Лоренсу исполнилось пятнадцать лет, его родители поняли, что больше не способны заботиться о сыне сами. И пока Лоренс находился в специальном летнем лагере, они, скрепя сердце, подали заявление о помещении мальчика в специализированное учреждение на всю оставшуюся жизнь. «Лоренс должен был уйти, потому что он убивал всю нашу семью», – сказал Стюарт.
И в этот самый момент, когда решалась печальная судьба Лоренса, раздался телефонный звонок из летнего лагеря. «Мы приготовились к худшему, – рассказывает Стюарт. – Но нам сказали: "Мы не знаем, что происходит, но Лоренс ведет себя совершенно нормально. У него хорошее настроение, он спокоен, не психует, не бьет себя, не бросает еду, активно участвует во всех мероприятиях, общается…"» Стюарт немедленно поехал в лагерь и с удивлением обнаружил, что это действительно так. Его сын выглядел умиротворенным, с удовольствием играл с другими детьми и обрадовался приезду отца. Они сели в машину и поехали домой. Мало того, что Лоренс спокойно выдержал двухчасовую поездку на машине, так по приезде еще и заявил, что хотел бы сходить куда-нибудь поужинать. Они не были в ресторане два или три года. «Всю его жизнь мы старались избегать шумных и многолюдных мест, а теперь он сам захотел туда пойти! Раньше он не мог выдержать в очереди и минуты, а тут спокойно прождал сорок пять минут, пока принесут наш заказ, потом мы не спеша поели и поболтали – в общем, это был замечательный ужин!»
Стюарт был в полном недоумении. В тот же вечер, помогая Лоренсу раздеться перед сном, он увидел, что ноги мальчика, от щиколоток до бедер, были покрыты многочисленными укусами чиггеров (личинок клещей-тромбикулидов, широко распространенных в регионах с теплым климатом). Эти личинки заползают на траву и при контакте с любым позвоночным, включая человека, прикрепляются к его коже. Могла ли существовать взаимосвязь между укусами личинок клещей и полным исчезновением симптомов аутизма у Лоренса? Обратившись к медицинской литературе, Стюарт узнал, что укусы чиггеров вызывают очень мощный иммунный ответ, поскольку личинки прокалывают кожу человека и выделяют пищеварительные соки для разжижения клеток тканей, которыми они питаются в течение нескольких дней. Затем личинки отпадают, а на месте укуса образуется сильно зудящая папула. Те десять дней, пока иммунная система Лоренса боролась с токсинами чиггеров, были для их семьи счастливым временем. Но, как только зуд прекратился и иммунная реакция стихла, насильственное и саморазрушительное поведение вернулось. «Я сказал себе: "Вот оно! Я знаю, что решение здесь! По крайней мере какая-то часть симптомов аутизма у Лоренса вызвана его искаженной иммунной реакцией"».
Стюарт знал, что лечащий врач его сына, специалист по аутизму доктор Эрик Холландер из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, провел исследование, которое показало, что у близких родственников детей, страдающих аутизмом, аутоиммунные заболевания встречаются в девять раз чаще, чем у близких родственников нормальных детей. У Лоренса была аллергия на арахис; Стюарт страдал тяжелой миастенией – аутоиммунным заболеванием, вызывающим слабость мышц и быструю утомляемость, а его жена была астматиком. Медицинская история их семьи полностью соответствовала результатам этого исследования, которое связывало аутизм с аутоиммунными заболеваниями и аллергией. Еще в 1971 году исследователи из Университета Джонса Хопкинса описали семью, где у младшего сына был диагностирован аутизм, болезнь Аддисона (аутоиммунное заболевание, затрагивающее надпочечники) и кандидоз (грибковая инфекция, вызываемая дрожжевыми грибами Candida albicans). У одного из его старших братьев был диагностирован гипопаратиреоз – заболевание, которое может иметь аутоиммунное происхождение, а также болезнь Аддисона, кандидоз и сахарный диабет 1-го типа. Другой брат страдал гипотиреозом, болезнью Аддисона, кандидозом и тотальной алопецией – аутоиммунным заболеванием, приводящим к полному облысению. А вот самый старший сын, первенец, не болел никакими болезнями, как и родители.
В 2003 году Тейн Свитен из Медицинской школы Университета Индианы сообщил о результатах исследования, которое показало, что в семьях детей с аутизмом распространенность аутоиммунных расстройств была даже выше, чем в семьях детей с аутоиммунными заболеваниями. Эти расстройства включали гипотиреоз, тиреоидит Хашимото (когда щитовидная железа атакуется собственными антителами и иммунными клетками) и ревматическую лихорадку. Свитен говорит, что это открытие более высокой распространенности аутоиммунных расстройств среди бабушек, дядей, матерей и братьев детей-аутистов «свидетельствует о возможной передаче предрасположенности к аутоиммунным заболеваниям по наследству от матери к сыну». Он также предполагает, что аутоиммунность или хроническая активация иммунной системы может объяснить некоторые биохимические аномалии, обнаруживаемые у больных аутизмом, в том числе высокие уровни мочевой кислоты и железодефицитную анемию, которые также наблюдаются при аутоиммунных расстройствах. Результаты исследования, проведенного среди датских детей в период между 1993 и 2004 годами доктором Йёрдис Атладоттир, согласуются с выводами Свитена, показывая более высокую частоту случаев аутизма среди детей, рожденных матерями с целиакией (непереносимостью глютена). Исследование также обнаружило связь между аутизмом и наличием в семье диабета 1-го типа, а также ревматоидного артрита у матерей.
Укусы клещей, исчезновение симптомов аутизма и аутоиммунные реакции – все это начало складываться в аналитическом уме Стюарта Джонсона в единую картину. Если аутизм его сына был вызван нарушением работы иммунной системы – ее гиперактивностью – значит, нужно каким-то образом ее утихомирить. Дальнейшее расследование привело его к работе Джоэла Вайнстока, Дэвида Эллиотта и их коллег из Университета Айовы. Команда исследователей под руководством Вайнстока сообщила об успешно проведенном клиническом эксперименте, в ходе которого им удалось вылечить небольшую группу пациентов с болезнью Крона (аутоиммунное воспалительное заболевание кишечника) при помощи яиц кишечного паразита – свиного власоглава (Trichuris suis). Группе из 29 пациентов через трубку в желудок вводились живые яйца этих глистов; разовая доза приема составляла 2500 яиц, процедура проводилась раз в три недели в течение 24 недель. К концу курса лечения у 79 процентов пациентов наблюдалось значительное улучшение состояния; яйца власоглава привели к ремиссии этого хронического заболевания. «Я был просто поражен, – говорит Стюарт. – Это были настоящие ученые, которые делали реальную работу и получали реальные результаты. Если это сработало с болезнью Крона, подумал я, возможно, это поможет и нам. Поэтому я написал своего рода научную мини-статью со ссылками на исследования и отправил ее Эрику Холландеру».
Холландер был заинтригован: «Стюарт очень умный парень и проделал замечательную исследовательскую работу. Его гипотеза показалась мне вполне правдоподобной, поэтому мы решили попробовать». Холландер получил необходимое разрешение на применение этого метода лечения и помог Стюарту доставить из Германии партию яиц власоглава. Они начали с небольшой дозы, опасаясь побочных эффектов. Стюарт тоже начал принимать яйца – он не собирался испытывать столь странный метод лечения на собственном сыне, не разделив его участь. Первоначальные результаты были обескураживающими. За все 24 недели терапии у Лоренса в общей сложности набралось всего четыре «хороших» дня. Стюарт позвонил производителю, и ему сказали, что в действительности эти результаты указывают на то, что человек реагирует, но будет реагировать гораздо сильнее, если увеличить дозу. Таким образом, Стюарт вышел на ту же дозировку, которую использовала команда Вайнстока для пациентов с болезнью Крона, – 2500 яиц за один прием. В течение восьми дней симптомы Лоренса полностью исчезли и с тех пор больше не появлялись. Они возвращались всего четыре раза на короткое время, когда Стюарт пытался экспериментировать и на несколько дней прекращал лечение. Но пока Лоренс регулярно принимает яйца власоглава, симптомы аутизма не дают о себе знать.
Так Стюарт Джонсон на практике применил «гигиеническую гипотезу», которая связывает бактерии, грибки и гельминтов (паразитических червей), обитающих в нашем кишечнике, дыхательных путях, влагалище и на коже, с широким спектром аутоиммунных и аллергических расстройств. Исследователи находят все больше доказательств того, что популяции микроорганизмов, живущих на нас и внутри нас, – которые все вместе называются микробиотой – могут защищать нас от множества серьезных аутоиммунных заболеваний, в том числе воспалительных заболеваний кишечника (болезни Крона и язвенного колита), диабета 1-го типа, ревматоидного артрита, рассеянного склероза, и, как мы увидели, даже поддерживать наше психическое здоровье. Некоторые исследования показывают, что микробиота также может защищать нас от целого ряда распространенных атопических или аллергических заболеваний, таких как экзема, разные виды аллергии (на пищу, пыльцу и домашних животных); сенная лихорадка, ринит и астма. Тем не менее следует особо подчеркнуть, что аутизм является сложным, многофакторным заболеванием; что же касается терапевтического применения гипотезы гигиены для лечения различных аутоиммунных и аллергических заболеваний, то сегодня в этой области делаются только первые шаги, поэтому все используемые методы являются непроверенными и неподтвержденными. Например, вышеописанный способ лечения Лоренса Джонсона лишь единичный эксперимент, не прошедший необходимые клинические испытания. Но в целом исследования в этом направлении дают весьма убедительные и обнадеживающие результаты, поэтому, если их удастся перевести в конкретные методы терапии, уже в ближайшем будущем они могут произвести настоящую революцию в медицине.
Значительные улучшения в области гигиены, санитарии и качества воды, произошедшие за последние сто лет, в сочетании с широким использованием антибиотиков и вакцинацией населения повысили качество и продолжительность жизни во всем развитом мире. Но, фактически искоренив эпидемии полиомиелита, коклюша, дизентерии, кори и многих других потенциально смертельных или инвалидизирующих инфекционных болезней, развитое постиндустриальное общество стало жертвой новых набирающих силу эпидемий аутоиммунных и аллергических заболеваний. Возьмем, например, болезни кишечника. Согласно исследованию Вайнстока, до начала XX века воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) были фактически не известны. С 1884 по 1909 год в больницах Лондона регистрировалось в среднем два случая язвенного колита в год, а первый случай болезни Крона был описан только в 1932 году. Но во второй половине XX века ВЗК стали стремительно распространяться. В настоящее время в Соединенных Штатах воспалительными заболеваниями кишечника страдает от 1 миллиона до 1,7 миллиона человек. По текущим оценкам, в Западной Европе и Великобритании количество больных ВЗК достигает 2,2 миллиона человек, причем в Великобритании, Франции и Швеции число заболевших постоянно растет. В Восточной Европе, Азии, Африке и Южной Америке уровень заболеваемости ВЗК намного ниже, но по мере того, как эти регионы развиваются в социально-экономическом плане, этот показатель также начинает расти. Более того, когда люди переезжают из страны с низкой распространенностью ВЗК в страну с высокой распространенностью, их дети подвергаются более высокому риску развития этих заболеваний.
Или возьмем диабет 1-го типа. Хотя эта болезнь была известна на протяжении многих веков, сегодня уровень заболеваемости растет быстрыми темпами – слишком быстрыми, чтобы здесь могли быть замешаны генетические изменения. Аналогичная связь между одержимостью «чистотой и гигиеной» и аутоиммунными реакциями проявляется в заболеваемости рассеянным склерозом, который относительно редко встречается в тропических регионах, но становится все более распространенным при продвижении от экватора на север. В Соединенных Штатах к северу от 37-й параллели это заболевание встречается в два раза чаще, чем к югу от нее. Конечно, здесь играют роль и инфекционные агенты, и генетика, и уровни витамина D, но, что интересно, люди, иммигрирующие из Европы в Южную Африку взрослыми, подвергаются в три раза более высокому риску развития рассеянного склероза, чем те, которые переезжают туда в возрасте до пятнадцати лет. Таким образом, как можно предположить, защитный эффект окружающей среды в принимающей стране действует только на молодых. Противоположная тенденция наблюдается среди детей иммигрантов, переезжающих в Великобританию из Индии, Африки и стран Карибского бассейна (т. е. регионов с низкой распространенностью рассеянного склероза): эти дети подвергаются более высокому риску развития рассеянного склероза, чем их родители, но сопоставимому с риском у их ровесников, рожденных в Великобритании. Хорхе Корреале, невролог из Буэнос-Айреса, указывает, что заболеваемость рассеянным склерозом неуклонно растет во всех развитых странах. В Германии заболеваемость рассеянным склерозом в период между 1969 и 1986 годом выросла в два раза, а в Мексике начиная с 1970 года – в 29 раз, вместе со стабильным повышением уровня жизни. Корреале также указывает на наличие поразительной обратной связи между заболеваемостью рассеянным склерозом и распространением одного из самых известных кишечных паразитов – власоглава Trichuris trichiura, который раньше был широко распространен на юге США, а сегодня характерен для всех развивающихся стран. Распространенность рассеянного склероза, объясняет он, резко снижается, когда доля инфицированного населения превышает критический порог 10 процентов. Аналогичным образом такие типичные атопические заболевания, как экзема и астма, относительно редко встречаются в развивающихся странах, где уровни инфицирования гельминтами относительно высоки.
Вайнсток вспоминает, как на него «снизошло озарение», когда однажды в ожидании бесконечно откладывающегося рейса из чикагского аэропорта он размышлял о причинно-следственных связях – сначала вы что-то делаете, а потом что-то происходит. И вдруг он понял, что ответ на загадку всплеска заболеваемости кишечными и аутоиммунными заболеваниями очень прост: «Перестало происходить что-то, что происходило всегда». Другими словами, дело не в том, что новые аспекты окружающей среды способствуют развитию аутоиммунных заболеваний, а в том, что из современной среды исчезло что-то важное, в результате чего мы стали уязвимыми перед этими болезнями. «В прошлом у нас были грязные улицы, заваленные в том числе и конским навозом, и многие люди ходили босиком или в дырявой обуви. Теперь мы построили дороги и тротуары и носим хорошую обувь, так что возможности для передачи яиц гельминтов значительно сократились. Мы тщательно стерилизуем продукты питания, моем руки и т. п. – все стало чистым и стерильным. В результате гельминты практически исчезли из нашей жизни. Но стоит посмотреть на уровень дегельминтизации и уровень иммуноопосредованных заболеваний в разных странах, как обратная зависимость между ними становится очевидной. Конечно, эта отрицательная корреляция не доказывает, что гельминты полезны, но это косвенное свидетельство».
Современная санитария и гигиена оказались катастрофическими для большинства гельминтов, говорит Вайнсток. Унитазы со сливом, системы канализации и очистки сточных вод убирают яйца гельминтов, прежде чем те успевают распространиться. В том же направлении действуют частое мытье и стирка одежды. Чистящие средства дезинфицируют посуду и бытовые поверхности, также препятствуя передаче яиц. Тротуары и хорошая обувь препятствуют распространению анкилостом, в частности анкилостомы Нового Света (Necator americanus), кривоголовки двенадцатиперстной (Ancylostoma duodenale) и угрицы кишечной (Strongyloides stercoralis). А современные способы обработки пищевых продуктов убивают личинки лентецов (Diphyllobothrium), цепней (Taenia) и трихинелл (Trichinella). Эти изменения практически искоренили гельминтов в промышленно развитых странах. До 1960-х годов трихинеллез был эндемическим заболеванием в северо-восточной и западной части Соединенных Штатов, распространяясь через употребление в пищу зараженной свинины. Сегодня мы имеем менее двадцати пяти случаев заражения в год. Безусловно, в такой массовой дегельминтизации есть свои плюсы, но вместе с водой мы выплеснули и младенца – а именно ту защиту, которую обеспечивали нам эти организмы. Классический пример такой палки о двух концах демонстрирует Восточная Африка. Анализируя причины значительного прогресса, достигнутого за последние годы в школах Кении, исследователи, к своему удивлению, обнаружили, что гораздо более важным фактором, чем снабжение школ учебниками и учебными пособиями, отсутствие которых предположительно тормозило успеваемость в прошлом, были гельминты. После того как благодаря масштабным программам дегельминтизации были практически искоренены такие гельминты, как шистосомы и анкилостомы, успеваемость школьников резко пошла вверх. Однако нежелательным побочным эффектом дегельминтизации стал резкий рост заболеваемости экземой и другими аллергиями среди кенийских и угандийских детей. В Тропической Африке такие раздражения кожи, как правило, остаются без лечения, и постоянное расчесывание детьми зудящей кожи повышает риск инфекций и сепсиса.
Доктор Хорхе Корреале занимается лечением больных рассеянным склерозом в Аргентине. Несколько лет назад у двенадцати из двадцати четырех пациентов, которых он вел, обнаружилась легкая степень заражения кишечными паразитами. Он наблюдал за всеми пациентами на протяжении чуть более четырех лет, регулярно проверяя их иммунологическую функцию и отслеживая распространение очагов поражения в головном и спинном мозге при помощи МРТ. У инфицированных пациентов было значительно меньше рецидивов и меньше очагов поражения, а также гораздо лучшие показатели по всем параметрам оценки степени инвалидизации. Тогда Корреале решил увеличить период наблюдений до семи лет, но через пять лет четыре инфицированных пациента прошли антигельминтную терапию, потому что паразиты вызывали боли в кишечнике и диарею. Как только их организмы были очищены от гельминтов, все признаки и симптомы рассеянного склероза тут же усилились, и в скором времени их состояние сравнялось с состоянием неинфицированных пациентов.
Эрика фон Мутиус, специалист по аллергиям из Мюнхенского университета, в период объединения Восточной и Западной Германии получила уникальную возможность проверить свою теорию, согласно которой высокие уровни загрязнения воздуха и плохие условия жизни, включая высокую скученность людей, способствуют распространению астмы, сенной лихорадки и других атопических заболеваний. Она предполагала, что у детей из более богатой Западной Германии – с ее лучшей экологической обстановкой, высоким уровнем санитарии и меньшим количеством загрязняющих предприятий тяжелой промышленности – атопические заболевания должны встречаться гораздо реже, чем у детей из Восточной Германии. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила совершенно обратную ситуацию. Восточногерманские дети, которые жили в тесных квартирах вместе со множеством родственников и домашних животных и целые дни проводили в детских садах в переполненных группах, намного реже страдали аллергиями и астмой, чем их западногерманские сверстники. Таким образом, фон Мутиус пришла к выводу, что контакт в раннем детстве с разнообразными микробными инфекциями (со стороны других детей, взрослых и животных) тренирует иммунную систему, делая ее более устойчивой к потенциальным аллергенам в дальнейшем.
Затем она решила сравнить городское и сельское население по всей Европе. Оказалось, что дети, которые растут на традиционных фермах, где они с рождения контактируют с домашним скотом и его кормом и пьют непастеризованное молоко, лучше защищены от астмы, сенной лихорадки и других видов аллергической сенсибилизации. Фон Мутиус отмечает, что в Швейцарии, Австрии и Германии, где фермерство традиционно было основным источником средств к существованию, сегодня большинство фермеров занимаются не только производством молочной продукции, но и разводят других животных, таких как лошади, свиньи, овцы, козы и домашняя птица, а также выращивают кукурузу, траву и зерно на корм скоту. Во многих фермерских хозяйствах животные, корма и люди находятся под одной крышей. Кроме того, женщины работают в хлеву и амбарах до, во время и после беременности и уже через несколько дней после рождения ребенка берут его с собой, чтобы присматривать за ним во время работы. Фон Мутиус подчеркивает, что несколько факторов, судя по всему, играют ключевую роль в развитии толерантности к аллергенам. Это «общение» с микробами в раннем детстве, даже в период внутриутробного развития, и разнообразие видов животных – а отсюда и разнообразие видов микробов и их количество, – с которыми контактируют дети.
Из всех аутоиммунных заболеваний диабет 1-го типа (и его все более раннее начало) стремительно становится главным бичом нынешнего одержимого гигиеной западного мира. По прогнозам, уровень заболеваемости среди европейских детей в возрасте до пяти лет в течение следующего десятилетия должен удвоиться. Но печальным рекордсменом здесь является Финляндия с самым большим процентом диабетиков 1-го типа в мире. В попытке выяснить причины такого положения дел, Микаэль Книп и его коллеги из Университета Хельсинки провели широкомасштабное исследование, чтобы определить, какую роль играют генетические, а какую внешние факторы в развитии этого угрожающего жизни заболевания, при котором иммунная система организма атакует бета-клетки поджелудочной железы, ответственные за производство инсулина, что приводит к хронически высокому уровню сахара в крови. Несмотря на то, что инсулиновая терапия позволяет стабилизировать состояние и устранить угрозу жизни, у многих больных со временем развивается слепота и поражение почек.
Карелия – территория на севере Европы, где традиционно проживает карельская народность. Эта территория разделена на две части: одна часть находится в Финляндии, а другая во время Второй мировой войны была присоединена к России. Таким образом, с тех пор существует финская и российская Карелия. Несмотря на то, что российские и финские карелы имеют одинаковый генетический профиль, включая одинаковую предрасположенность к диабету, их социально-экономическое положение и состояние здоровья существенно разнятся. Согласно Книпу, один из самых резких в мире перепадов в уровне жизни существует на границе между российской и финской Карелией, поскольку по объему ВНП последняя опережает первую в восемь раз. Это даже больше, чем разница между Мексикой и Соединенными Штатами. Тем не менее распространенность диабета 1-го типа, а также множества других аутоиммунных заболеваний на финской стороне гораздо выше. Среди финских карелов диабет встречается в шесть раз чаще, целиакия – в пять раз чаще, аутоиммунные заболевания щитовидной железы – в шесть раз чаще, а также наблюдаются более высокие уровни различных аллергий, чем среди российских карелов.
Книпу удалось наладить сотрудничество с российской стороной и собрать медицинские данные, образцы стула, пробы крови и мазки с кожи и из носа у нескольких тысяч детей по обе стороны границы. Исследователи обнаружили, что к двенадцати годам российские карелы подвергаются более высокой микробной нагрузке и имеют более разнообразные по своему составу колонии микробов в кишечнике, где шире представлены полезные виды бактерий, известные своей активной ролью в защите и поддержании оболочки кишечника. Исследователи также нашли биохимические свидетельства более точной отрегулированности иммунной системы. Кроме того, хотя дефицит витамина D часто указывается как важный фактор развития диабета 1-го типа, исследователи обнаружили с российской и эстонской стороны в целом более низкие уровни витамина D, чем с финской. Грубо говоря, российские карелы живут беднее и грязнее, чем их финские собратья, но с точки зрения иммунозависимых заболеваний гораздо здоровее.
Может ли раннее знакомство с широким кругом бактерий, грибков и гельминтов (которые в прошлом атаковали детей с самого рождения) действовать так же, как детские прививки, – например, как тройная вакцина против кори, краснухи и паротита – т. е. стимулировать иммунитет? Гигиеническая гипотеза в ее первоначальном варианте утверждает, что так оно и есть. Эта гипотеза впервые появилась в XIX веке в контексте изучения аллергии. В 1873 году Чарльз Харрисон Блэкли заметил, что сенная лихорадка, или поллиноз, причиной которой является аллергическая реакция на пыльцу, крайне редко встречается у фермеров. Чуть позже, в 1980-х, Дэвид Стрэкен из Госпиталя святого Георгия в Лондоне установил, что наличие в семье нескольких старших братьев и сестер также ассоциируется с более низким риском развития сенной лихорадки. Он предположил, что от развития аллергии младших детей защищает так называемый «синдром грязного брата», т. е. большое количество постнатальных инфекций в многодетных семьях. Таким образом, гипотеза Стрэкена гласила, что в результате таких ранних инфекционных атак дети приобретают иммунитет к этим заболеваниям, точно так же как это происходит при детской вакцинации, и что наша почти патологическая одержимость гигиеной лишает нашу иммунную систему столь важного стимулирования. Между тем за последние десять лет был обнаружен ряд важных свидетельств того, что здесь могут существовать куда более глубинные взаимосвязи.
Первое свидетельство касается того факта, что на протяжении значительного периода нашей эволюции мы, люди, подвергались воздействию некоторых видов бактерий, грибков и гельминтов, причем этот период существенно больше того, который мы имеем в случае более современных патогенов, таких как холера и корь. Джордж Армелагос из Университета Эмори считает, что на протяжении палеолита (более 2,5 миллиона – 10 тысяч лет назад) наши предки постоянно контактировали с сапрофитными микобактериями, в изобилии живущими в почве и разлагающейся растительности. Поскольку в то время люди ели необработанную пищу и хранили продукты в земле, их питание, вероятно, содержало в миллиарды раз больше сапрофитных и других непатогенных бактерий, таких как лактобактерии, чем питание современных людей. Кроме того, они были хронически инфицированы различными гельминтами. Молекулярный анализ ленточных червей, объясняет Армелагос, показывает, что 160 тысяч лет назад, до исхода человека из Африки, они повсеместно паразитировали в кишечнике человека. Хотя тяжелая форма гельминтозов ведет к ухудшению здоровья человека, паразиты редко убивают хозяина. После того как гельминты поселялись в организме, избавиться от них в те времена, когда не было современных лекарственных препаратов, было почти невозможно, поэтому хроническая гиперактивная иммунная реакция принесла бы человеческому организму гораздо больше вреда, чем пользы. У человеческого организма был только один выход – научиться жить вместе с ними.
Только после появления первых городов примерно шесть тысяч лет назад, когда люди начали жить в условиях многолюдия и скученности, появилось новое поколение тяжелых эпидемических заболеваний, таких как холера, тиф, корь, паротит, оспа и многие другие. Эти более современные болезни существуют недостаточно давно, чтобы обусловить такие же эволюционные изменения в людях, как более древние инфекции. Гельминты, грибы, микобактерии и синантропные бактерии жили бок о бок с нами – и внутри нас – на протяжении сотен тысяч лет. Мы эволюционировали вместе с ними, т. е. мы коэволюционировали. Неудивительно, что Грэм Рук из Университетского колледжа в Лондоне, авторитетнейший специалист в своей области, назвал эти организмы «старыми друзьями» и переименовал гигиеническую гипотезу в «гипотезу старых друзей», тем самым акцентировав ключевой аспект нашей долговременной коэволюции.
Второе свидетельство наших глубинных связей заключается в том, что мы нуждаемся в раннем воздействии этих «старых друзей» не только для того, чтобы активировать нашу иммунную систему, но и для того, чтобы ее создать, сформировать и довести до состояния зрелости. Пожалуй, самый убедительный пример, доказывающий, что мы, люди, коэволюционировали вместе с микроорганизмами внутри нас, – это взаимодействие человеческих детей с бактериями во время родов и в первые критические месяцы жизни.
Во время беременности в бактериальной флоре влагалища происходят важные изменения. Число видов и общее количество бактерий уменьшается, однако некоторые виды, наоборот, расширяют свое присутствие. Большинство из них относятся к лактобактериям (Lactobacillus) – роду бактерий, которые обычно используются для приготовления пробиотических йогуртов – конкретно, это бактерии L. crispatus, L. jensenii, L. iners и L. johnsonii. Они поддерживают во влагалище кислую среду, которая защищает его от патогенных микроорганизмов, но, кроме того, являются важными представителями постоянной микрофлоры кишечника. Во время родов ребенок невольно заглатывает эти бактерии, которые затем быстро заселяют его кишечник и защищают его от патогенных микроорганизмов, таких как энтерококки. Кроме того, когда ребенок выходит из влагалища, он «заражается» бактериями, присутствующими в остатках фекалий у анального отверстия матери. Как правило, это бывают определенные виды факультативных анаэробов – бактерий, которые могут существовать как в присутствии, так и в отсутствии кислорода. Эти бактерии способны выжить в кишечнике новорожденного, где есть кислород, но быстро создают в нем такую среду, которая позволяет поселиться там бактериям из числа «старых друзей», таким как бифидобактерии.
Ребенок рождается с практически стерильным кишечником, который должен быть немедленно заселен правильными бактериями. Если он находится на грудном вскармливании, то начинает получать один из самых удивительных продуктов, существующих в природе. Человеческое грудное молоко содержит сложный набор жиров и сахаров – быстрое питание, – а также иммуноглобулин А, антитела, которые защищают слизистую оболочку кишечника от повреждения вирусами и бактериями и не дают им проникать в организм. По оценкам, с грудным молоком младенец получает более 100 миллионов иммунных клеток в день, в том числе макрофагов, нейтрофилов, лимфоцитов, вместе с большим количеством цитокинов, хемокинов и колониестимулирующих факторов – веществ, которые обеспечивают передачу сигналов между клетками иммунной системы и способствуют их росту. Всего в человеческом грудном молоке обнаружено более 700 видов бактерий, многие из которых – такие как лактококки, лейконостоки и лактобактерии – способны переваривать молочный сахар (лактозу). Также в молоке находится большое количество бифидобактерий, одного из самых мощных пробиотиков.
Один из основных твердых компонентов грудного молока – сложные длинноцепочечные сахара, называемые олигосахаридами. В литре грудного молока их находится около десяти граммов, и их количество в человеческом молоке в 10–100 раз больше, чем в молоке любых других млекопитающих. Между тем ребенок не способен усваивать эти молекулы – у него попросту нет необходимых для этого ферментов. На протяжении многих лет ученые недоумевали, почему человеческое молоко содержит такое большое количество неперевариваемых веществ, но не так давно было выяснено, что олигосахариды предназначаются вовсе не для самого ребенка. Они служат питанием для тех бифидобактерий, которые содержатся в грудном молоке. Например, бифидобактерии B. longum имеют 700 уникальных генов, которые кодируют выработку ферментов, участвующих в переработке олигосахаридов. Эти дружественные микроорганизмы доставляются в детский кишечник вместе с собственным эксклюзивным ланчем. Таким образом, бифидобактерии получают хорошую фору в агрессивной бактериальной конкуренции в детском кишечнике. Младенцы быстро переваривают и усваивают более простые сахара, так что практически единственными молекулами сахара, которые остаются не расщепленными к тому моменту, когда еда достигает толстой кишки, являются олигосахариды. Это означает, что все виды присутствующих там бактерий вынуждены конкурировать за этот единственный источник углеводов, и эксклюзивная ферментативная способность бифидобактерий дает им важное конкурентное преимущество. Говоря языком дарвиновской медицины, находящиеся на грудном вскармливании младенцы являются экологическими нишами для бифидобактерий. В свою очередь, в процессе эволюции дети научились в полной мере использовать эти дружественные микроорганизмы. Так, одно исследование, выполненное в Финляндии, показало, что бифидобактерии составляют 90 процентов кишечной микрофлоры у младенцев в возрасте 3–5 дней.
Пробиотические бактерии выполняют важнейшие функции. Незрелый, стерильный кишечник новорожденного беззащитен перед агрессивными патогенами, а его неразвитая иммунная система еще не умеет распознавать и уничтожать захватчиков. Пробиотические бактерии могут действовать как рецепторы-ловушки, обманывая патогенные микроорганизмы и не давая им прикрепляться к стенке кишечника. Например, они могут защищать младенцев от такого потенциально смертельного заболевания, как некротический энтероколит. Oни также участвуют в образовании биопленки из насыщенной пробиотической слизи, которая защищает внутреннюю поверхность кишечника, и помогают сформировать хорошо регулируемую иммунную систему. Кишечник имеет свою собственную иммунную систему, распределенную вдоль его стенок и известную как лимфоидная ткань кишечника, и было установлено, что пробиотические бактерии играют важную роль в ее нормальном развитии. Эксперименты показали, насколько мощным влиянием обладают пробиотики. Когда в ходе контролируемых исследований в детскую питательную смесь добавляли олигосахариды, это приводило к снижению уровней циркулирующего иммуноглобулина Е (IgE), который является важным маркером аллергических реакций. Кроме того, было зафиксировано уменьшение количества случаев атопического дерматита, диареи и инфекций верхних дыхательных путей. Таким образом, система ребенок – богатое олигосахаридами грудное молоко – пробиотические бактерии является одним из самых красивых примеров коэволюции, известных науке, и уникальным механизмом, помогавшим человеческому потомству выживать на протяжении тысячелетий.
Рискуя предъявить еще одно обвинение современному развитому миру, все большее количество исследований демонстрирует отрицательные аспекты кесарева сечения и искусственного вскармливания. Кишечники детей, рожденных с помощью кесарева сечения, с большей вероятностью изначально колонизируются бактериями, которые обычно обитают на коже, и испытывают нехватку «дружественных» бактерий, таких как бифидобактерии. Таким детям требуется не менее пяти месяцев, чтобы сформировать в кишечнике устойчивую, здоровую микробиоту (микрофлору). В кишечниках искусственно вскармливаемых младенцев обнаруживаются более многочисленные популяции таких условно-патогенных бактерий, как клостридии, энтеробактерии, энтерококки и бактероиды. Доктор Кристина Коул Джонсон из Госпиталя Генри Форда в Детройте наблюдала за более чем тысячью младенцев с рождения до двух лет. Дети, рожденные в результате кесарева сечения, были в пять раз более склонны к развитию аллергий, чем дети, родившиеся естественным путем. Другие исследования добавляют в список риска такие заболевания, как целиакия, ожирение, диабет 1-го типа и даже аутизм. Одним из очевидных решений этой проблемы может быть целенаправленное «заражение» детей, появившихся на свет путем кесарева сечения, бактериями-пробиотиками при рождении. Именно это и делает Мария Домингес-Белло вместе со своими коллегами из США и Пуэрто-Рико. Они выдерживают марлевые тампоны в течение одного часа во влагалище женщин, которым предстоит кесарево сечение, и, как только ребенка извлекают из матки, обтирают его этими тампонами – сначала внутри ротовой полости, затем лицо и все тело. Анализы показывают, что после такой «обработки» младенцы населяются бактериальными популяциями из влагалищ своих матерей и после рождения имеют более богатое разнообразие видов бактерий в кишечнике, которое немного уменьшается после начала грудного вскармливания, пока не придет в соответствие с микробным профилем материнского молока.
По всей видимости, через грудное молоко также может происходить передача хороших и плохих черт непосредственно от матери к ребенку. Например, установлена взаимосвязь между материнским ожирением и разнообразием видов бактерий в грудном молоке. Страдающие ожирением женщины производят молоко с более бедным видовым составом по сравнению с худыми матерями. Их молоко содержит меньше полезных пробиотических видов бактерий и больше потенциально патогенных бактерий, таких как стафилококки и стрептококки. Существуют данные о том, что при приобретении детьми кишечной микробиоты, ассоциируемой с ожирением, у них повышается риск развития ожирения, а также резистентности к инсулину. Страдающие аллергией матери также могут передавать свои неправильные иммунные «настройки» детям. Установлено, что грудное молоко таких матерей содержит меньше пробиотических бифидобактерий. Хотя через несколько месяцев после рождения все дети, находящиеся как на грудном, так и на искусственном вскармливании, приобретают примерно одинаковую по своему видовому составу кишечную микробиоту, характер ранней колонизации в первые несколько дней после рождения, по всей видимости, играет ключевую роль в формировании иммунной системы.
Но каким образом «дружественные» бактерии попадают в грудное молоко? Швейцарский исследователь Кристоф Шассар говорит, что в кишечнике матери, ее грудном молоке и кишечнике ребенка обнаруживается одинаковый видовой состав бактерий. Судя по всему, бактерии перемещаются из кишечника в материнскую грудь следующим образом: они проникают через стенки кишечника и попадают в мезентериальные (брыжеечные) лимфатические узлы, из которых транспортируются через лимфатическую систему в молочные железы. Таков полный цикл вертикальной передачи от матери к ребенку, который, помимо прочего, означает, что ребенок в значительной степени зависит от состояния материнского кишечника. Если мать имеет здоровую кишечную микрофлору, ребенок будет здоров; если же ее микрофлора значительно обеднена, ее ребенок будет страдать аналогичными нарушениями.
Одному владельцу ресторана в лондонском Ковент-Гардене пришла в голову идея, что человеческое грудное молоко может быть отличной приманкой для покупателей. Он начал продавать новый вид мороженого под названием Baby Gaga, изготовленного из женского грудного молока с добавлением мадагаскарской ванили и лимонной цедры. Первым щедрым донором стала кормящая мать Виктория Хайли, остальные женщины-доноры были найдены через интернет-форумы. Как сообщает BBC News, по желанию покупателей к мороженому могут добавлять сухарики или ложку «Калпола» (детского обезболивающего средства) или «Бонджела» (геля для прорезывания зубов). «Некоторые люди, услышав об этом, говорят "Фу!", но на самом деле это экологически чистый, органический и абсолютно естественный продукт», – говорит Хайли, а владелец ресторана Мэтт О'Коннор добавляет: «За последние сто лет никто не делал с мороженым ничего интересного!» Но у этой истории есть продолжение. Инспекция по контролю за качеством пищевых продуктов Лондонского городского совета Вестминстера потребовала убрать мороженое из продажи: у них, видите ли, нет гарантий, что оно пригодно для потребления человеком!
Примерно через неделю после рождения изначально стерильный кишечник ребенка заселяется колонией микроорганизмов, насчитывающей до 90 триллионов бактерий. Вот несколько удивительных фактов: общее количество бактерий в нашем кишечнике на порядок превышает общее количество клеток в нашем теле; вся микрофлора кишечника весит намного больше, чем наш мозг или печень; а совокупное количество бактериальных генов в сто раз превосходит количество генов в геноме человека. Эти микробы вовсе не туристы, а «местные жители» в нашем организме. Хотя ученые уже давно признали, что бóльшая часть микробиоты является безвредной и даже полезной, предполагалось, что мы и живущие внутри нас микроорганизмы просто питаемся с одного стола. Считалось, что мы позволяем им забирать часть питательных веществ, проходящих через наш кишечник, и обеспечиваем их теплой и бескислородной средой обитания, а они взамен снабжают нас отходами своего пищеварения, такими как витамины B, H и K, которые мы не можем производить сами, а также расщепляют сахара и жирные кислоты наподобие бутирата, помогая нашему метаболизму. Но теперь стало ясно, что наши отношения со «старыми друзьями» выходят далеко за рамки такого симбиоза. Мы эволюционировали в столь тесной взаимозависимости с нашей микробиотой, что разделять наши с ней геномы больше нет смысла. Отныне ученые говорят о метагеноме, представляющем собой совокупность геномов человека и его микробиоты, – суперорганизме, в котором мы, люди, являемся младшими партнерами и без которого мы уже не можем существовать. Ученые задают два фундаментальных, связанных между собой вопроса. Во-первых, каким образом наш организм отличает «старых друзей» (синантропные бактерии, грибки и кишечные гельминты) от опасных патогенов, чтобы мирно уживаться с первыми и атаковать вторых? Во-вторых, что происходит со здоровьем человека, когда эти «старые друзья» ослабевают или полностью исчезают? Ответы на эти вопросы позволяют нам приблизиться к более глубокому пониманию процессов, протекающих в нашем организме, и получению более точного представления о работе нашей иммунной системы, а также обещают привести к появлению в недалеком будущем нового поколения фармакологических средств, которые помогут побороть масштабные эпидемии аллергических и аутоиммунных заболеваний, терзающие сегодня развитые страны.
Чтобы понять, как «старые друзья» манипулируют нашей иммунной системой, чтобы замаскироваться под «своих», нам понадобится знание некоторых основополагающих фак тов о том, как устроена и как функционирует эта система. Человеческая иммунная система состоит из двух подсистем: врожденной иммунной системы, которая есть у всех животных, включая позвоночных и беспозвоночных, и адаптивной иммунной системы, которая имеется только у позвоночных. Врожденная иммунная система реагирует на патогены неспецифическим образом – она не может обеспечить длительной, надежной защиты, поскольку не обладает иммунологической памятью и не запоминает патогены, с которыми сталкивается. Как только иммунная система обнаруживает патоген, она немедленно начинает действовать, запуская в месте повреждения или проникновения инфекции воспалительную реакцию. Она «оцепляет» зараженный участок, расширяет окружающие кровеносные сосуды и стягивает к этому месту иммунные клетки для борьбы с инфекцией. За воспалительную реакцию отвечают цитокины – вещества, обеспечивающие передачу сигналов между иммунными клетками, а также гистамины и простагландины. Наиболее важными «провоспалительными» цитокинами являются фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α), гамма-интерферон (интерферон γ) и интерлейкины 1, 6, 7 и 17. Система врожденного иммунитета также включает вспомогательную систему белков плазмы крови, которая помогает другим иммунным клеткам или дополняет их действие: атакует и разрушает патогены, специально маркирует их, чтобы сделать распознаваемыми для иммунных клеток, и привлекает на поле боя еще больше провоспалительных факторов.
Основные клетки врожденной иммунной системы – это лейкоциты (белые кровяные клетки). Существует множество разных видов лейкоцитов. Тучные клетки (мастоциты) присутствуют во всех слизистых оболочках, например, кишечника и легких, и вырабатывают гистамин, цитокины и хемокины – вид цитокинов, которые действуют как дорожные указатели для других иммунных клеток, направляя их к месту действия. Наиболее важными среди лейкоцитов являются фагоциты – группа клеток, которые активно захватывают и поглощают чужеродные организмы. Эта группа включает макрофаги (буквально «большие поедатели»); нейтрофилы, которые вырабатывают токсичные для болезнетворных организмов химические вещества, такие как перекись водорода, свободные радикалы и гипохлорит (природный отбеливатель), и дендритные клетки, особенно распространенные в стенке кишечника, чья основная задача – захватывать чужеродные белки (антигены) из оболочки болезнетворных бактерий и вирусов и затем «презентовать» их на своей поверхности в такой форме, чтобы клетки адаптивной иммунной системы могли распознать их и запустить иммунный ответ. Дендритные клетки играют роль связующего звена между врожденной и адаптивной иммунной системой.
Ключевыми агентами адаптивной иммунной системы являются два типа белых кровяных клеток, называемых лимфоцитами. Первый тип – B-клетки (B-лимфоциты), которые образуются в костном мозге и в незрелом виде поступают в различные лимфоидные ткани, такие как селезенка, лимфатические узлы и иммунологически активная ткань стенки кишечника. Зрелые В-лимфоциты синтезируют на своей поверхности специальные рецепторные молекулы, предназначенные для распознавания антигенов чужеродных микроорганизмов. Эти рецепторы представляют собой молекулы иммуноглобулина с гипервариабельным «наконечником». Гены, кодирующие этот гипервариабельный участок, способны очень быстро мутировать, производя почти бесконечное число комбинаций, с тем чтобы создать рецептор, точно соответствующий антигенам конкретного патогенного организма. Таким образом, наивные В-клетки могут быстро произвести правильный замок для любого антигенного ключа. После связывания антигена с рецептором В-клетка либо трансформируется в плазматическую клетку и превращается в фабрику по выработке антител – она штампует миллионы копий данной рецепторной молекулы и выпускает их в свободное плавание в кровяное русло, где они находят и связывают соответствующие антигены; либо она превращается в В-клетку памяти, которая может долгое время жить в организме, сохраняя информацию об активировавшем ее антигене, и при новой встрече со старым врагом немедленно запускать иммунную реакцию.
Второй ключевой агент адаптивной иммунной системы – это Т-клетки, или Т-лимфоциты. Их незрелые предшественники мигрируют из костного мозга в тимус (отсюда и название Т-клетки), где они проходят несколько этапов созревания. Одна группа Т-лимфоцитов, эффекторные Т-лимфоциты, также имеют на своей мембране гипервариабельные рецепторы, которые могут быть трансформированы под любой антиген, находящийся на оболочке вторгшегося вируса или бактерии. Они не вырабатывают антитела, а непосредственно атакуют захватчиков и уничтожают их. Т-лимфоциты быстро производят целую армию клонов, специфических по отношению к конкретному антигену, которая бросается на уничтожение микроорганизмов с данным антигенным профилем. Часть этих специфических Т-лимфоцитов может оставаться в крови и лимфе двадцать лет и больше, отвечая за так называемую полупостоянную иммунологическую память. Именно эта память обеспечивает нас приобретенным иммунитетом, благодаря которому мы быстрее и легче справляемся с последующими вторжениями уже знакомого патогена, поскольку наши В-клетки памяти и Т-клетки уже наготове, как ружье с взведенным курком. Этот же принцип лежит в основе вакцинации, когда в организм вводятся мертвые, инактивированные или ослабленные вирусы и бактерии или же извлеченные из их внешней оболочки антигены, чтобы заставить организм выработать клоны лимфоцитов памяти, готовые немедленно дать отпор при проникновении настоящего, активного патогена. Таким образом, адаптивная иммунная система распознает конкретные антигены, производит специфические рецепторы и антитела для борьбы с ними, запоминает врагов «в лицо» и мгновенно дает отпор при следующей встрече с ними. Оба вида лимфоцитов – В-клетки и Т-клетки – проходят процесс созревания в костном мозге или тимусе, где отсеиваются те новобранцы, которые слишком сильно реагируют на «свои» антигены – белковые маркеры, находящиеся на собственных клетках организма. Другими словами, их «учат» проводить различие между «своими» и «чужими» и действовать соответственно.
Решающее значение для понимания аллергических и аутоиммунных заболеваний имеют два других вида Т-лимфоцитов. Первые – это Т-хелперы, или Тх (от английского helper – помощник). Они называются так потому, что помогают другим белым кровяным клеткам организовать защиту от патогенов. После активизации антигенами, «презентованными» другими клетками, они вырабатывают сигнальные молекулы – цитокины, которые могут либо подавлять, либо, наоборот, запускать иммунный ответ. Нас интересуют три типа Т-хелперов – это Tх1, задействованные в аутоиммунных заболеваниях; Tх2, которые участвуют в реализации ответа на кишечных гельминтов и типичные аллергены (и, следовательно, замешаны во всех аллергических и атопических расстройствах), и Tх17. Все трое обеспечивают защиту от целого ряда микробных захватчиков, против которых бессильны другие Т-хелперы, и продуцируют очень мощные провоспалительные цитокины – вследствие чего они также способны вызывать широкий спектр аутоиммунных заболеваний. Второй вид Т-лимфоцитов, который интересен в контексте нашего разговора, – это регуляторные Т-лимфоциты (Treg). Их задача – подавляя или регулируя активность хелперов Тх1 и Тх2 и других иммунных клеток-убийц, не давать им выходить из-под контроля. В частности, они отвечают за прекращение воспалительной цитотоксической реакции, как только вторгшийся патоген уничтожен.
На момент появления гигиенической гипотезы предполагалось, что клетки Тх1 и Тх2 являются антагонистами, функционируя по принципу качелей – т. е. факторы, способствующие выработке клеток Тх1, ингибируют выработку клеток Тх2, таким образом предотвращая аллергические реакции. И наоборот, факторы, приводящие к увеличению популяции клеток Тх2, подавляют выработку клеток Тх1, что предотвращает аутоиммунные реакции. Однако вскоре стало очевидно, что при некоторых видах аутоиммунных расстройств пациенты одновременно страдают и атопическими заболеваниями (как семья Джонсонов), и, кроме того, неспроста в развитых странах мира наблюдается одновременный рост аутоиммунных и аллергических заболеваний. Это заставило ученых пересмотреть свои представления о динамике иммунной системы, и в настоящее время считается, что именно регуляторные Т-клетки выполняют функцию главного переключателя, который запускает выработку всех эффекторных клеток – в том числе Тх1 и Тх2 – в иммунной системе. Для того чтобы наша иммунная система не рассматривала их как угрозу и не бросалась в бой, наши «старые друзья» используют хитрый прием – они стимулируют выработку регуляторных Т-лимфоцитов, которые сдерживают штурмовые батальоны эффекторных Т-клеток и, таким образом, вызывают состояние иммунологической толерантности. Например, микробиологи Джун Раунд и Саркис Мазманян исследовали пробиотические бактерии группы Bacteroides fragilis, которые присутствуют в кишечнике большинства млекопитающих. Они обнаружили, что эти бактерии синтезируют специфическое симбиотическое вещество, называемое полисахаридом А (PSA), которое связывается непосредственно с одним из рецепторов регуляторных Т-лимфоцитов. PSA действует как «паспорт», благодаря которому эти лимфоциты принимают бактерий за «своих» и подавляют воспалительную реакцию. Когда же исследователи блокировали выработку полисахарида А у Bacteroides fragilis, регуляторные лимфоциты немедленно распознавали в них «чужаков» и активизировали клетки Тх17, которые запускали воспалительную реакцию и уничтожали захватчиков.
Здесь действует один общий принцип. Иммунной системе человека пришлось научиться быть толерантной к широкому спектру микробов и грибов, которые присутствовали в пище и воде – и, следовательно, инфицировали людей – на протяжении миллионов лет. То же самое касается и гельминтов – как только они поселялись в организме, избавиться от них было почти невозможно, поэтому иммунная атака на них принесла бы непропорционально больше вреда, чем пользы. Например, упорные попытки иммунной системы уничтожить личинки нитевидного гельминта Brugia malayi могут приводить к развитию воспалительных уплотнений в стенках лимфатических сосудов и их закупорке, что вызывает слоновую болезнь. Тысячелетия совместного существования привели к развитию состояния взаимозависимости. Этим синантропным организмам нужно было научиться манипулировать нашей иммунной системой таким образом, чтобы иметь возможность спокойно существовать внутри нас, не подвергаясь постоянным атакам, а нашей иммунной системе нужно было научиться не реагировать чересчур интенсивно на этих долгосрочных резидентов, чтобы не причинять вреда своему же организму. Это означает, что в определенном смысле мы передали контроль над нашей собственной иммунной системой обитающей внутри нас микробиоте. Но тут есть одна опасность: дело в том, что подобная схема иммунной регуляции прекрасно работает при наличии в нашем кишечнике богатого ассортимента «дружественных» бактерий, грибов и гельминтов; но, как только «старые друзья» исчезают, эта схема быстро дает сбой. Наша мощная иммунная система, привыкшая функционировать в присутствии относительно безвредных эндопаразитов, выходит из-под контроля и лишается тормозов, вызывая хронические воспалительные процессы, что и является причиной сегодняшних эпидемий аллергических и аутоиммунных заболеваний.
Исследователь Маттео Фумагалли из Калифорнийского университета в Беркли считает, что паразитические черви оказывали довольно значительное давление отбора на человека на протяжении всей его истории. Даже сегодня, говорит он, свыше 2 миллиардов человек инфицированы гельминтами, что является распространенной причиной детской заболеваемости. Паразитарные инфекции замедляют рост, повышают подверженность другим инфекциям, вызывают преждевременные роды, служат причиной низкого веса при рождении и материнской смертности. Так было всегда. Фумагалли утверждает, что давление отбора, оказываемое на человеческий род гельминтами, было гораздо сильнее, чем давление, оказываемое бактериями, вирусами или даже климатом, и что свидетельство этого можно увидеть в наших геномах, особенно среди генов, отвечающих за иммунные реакции. Используя данные из Проекта по определению разнообразия человеческого генома, он взял образцы геномов 950 человек со всего мира и соотнес присутствующие в них генные мутации с видовым разнообразием гельминтов в соответствующих частях планеты. Почти у трети человек была обнаружена по меньшей мере одна генная мутация, в значительной степени ассоциирующаяся с видовым разнообразием гельминтов, а в общей сложности было найдено более восьмисот таких генных мутаций. Многие из этих генов отвечают за функционирование регуляторных Т-лимфоцитов и активацию макрофагов врожденной иммунной системы. Другие задействованы в продуцировании цитокинов клетками Тх2, которые мобилизуются в случае паразитарных инфекций.
Обнаруженные исследователями генные мутации дают нам важный ключ к пониманию характера отношений любви-ненависти между людьми и гельминтами. В то время как многие из генов, развившихся под давлением гельминтов, связаны с агрессивными, провоспалительными реакциями, направленными на борьбу с паразитарными инфекциями, другие гены действуют в противоположном направлении и стимулируют иммунологическую толерантность через регуляторные Т-лимфоциты, противовоспалительные цитокины и другие вещества, подавляющие иммунный ответ. Гельминты – мастера в манипулировании иммунной системой. Вот почему они способны долгое время существовать в организме любого хозяина и на протяжении многих тысячелетий остаются основной человеческой инфекцией. Грэм Рук рассматривает отношения между людьми и гельминтами как шахматную партию – или же с точки зрения динамического напряжения между паразитом и иммунитетом хозяина. Там, где паразитарная нагрузка была особенно высока, считает он, эволюцией был сделан выбор в пользу провоспалительных вариантов генов – либо для того, чтобы противостоять мощному иммунорегуляторному действию гельминтов, либо для того, чтобы сделать иммунную систему более эффективной против других вирусных и бактериальных инфекций в условиях гельминтоза. Когда же гельминты полностью исчезают, это динамическое равновесие нарушается, что приводит к чрезмерно интенсивной иммунной реакции – феномен, последствия которого мы и наблюдаем в сегодняшнем всплеске аллергических и аутоиммунных заболеваний.
Джим Терк – директор по биологической безопасности в Висконсинском университете. Он отвечает за то, чтобы все университетские лаборатории соблюдали правила безопасного обращения с патогенными и рекомбинантными организмами. Джим всегда поддерживал хорошую физическую форму и даже принимал участие в марафонских забегах. Но весной 2005 года у него внезапно нарушилась речь. Его жена испугалась, что это могло быть признаком скрытого инсульта, и заставила пойти к врачу, который обследовал его и не нашел ничего плохого. «Вы просто перенапряглись, – сказал врач. – Вы много работаете, часто задерживаетесь на работе допоздна, к тому же у вас семья, дети. Это результат усталости и стресса». Джим также заметил периодически возникающие проблемы с равновесием и онемение ног, но, успокоенный заключением врача, отмел все тревоги. В феврале 2008 года он начал серьезно готовиться к очередному марафону. Он вспоминает: «После трех-четырех минут интенсивного бега на крытом стадионе я терял над собой контроль. Я спотыкался и был вынужден хвататься за ограждения. Но я упрямо закрывал глаза на эти симптомы и продолжал тренировки. "Я нахожусь в плохой форме, – сказал я себе, – поэтому мне нужно тренироваться еще упорнее!"» Джим продолжал ходить на стадион, и каждый день повторялось то же самое, пока однажды он не упал лицом на дорожку.
По-прежнему не желая признавать, что с ним что-то не так, Джим начал тренировать бейсбольную команду своего сына. Но вскоре он заметил, что вынужден все шире расставлять ноги только лишь для того, чтобы удерживаться в вертикальном положении. От малейшего наклона вперед у него сильно кружилась голова. Тогда он снова пошел к врачу. Высокое кровяное давление было быстро исключено из списка возможных причин – сердце у Джима было как у подростка. Но магнитно-резонансная томография показала ужасающую картину. «Мой мозг был усеян этими бляшками. Их было штук двадцать», – говорит Джим. Следующее МРТ-обследование показало, что очаги поражения затронули даже спинной мозг, и в августе 2008 года ему был поставлен диагноз «рассеянный склероз с возвратно-ремиттирующим течением», т. е. его начальная стадия.
Так Джим присоединился к более чем 2 миллионам человек по всему миру, страдающих этим заболеванием. Эти люди живут в основном в развитых странах и, на удивление, очень молоды – средний возраст начала заболевания составляет всего двадцать пять лет. Хотя к развитию этого заболевания причастны более пятидесяти генов, недостаток солнечного света и витамин D, вирусы и курение, нельзя не обратить внимание на два поразительных факта – а именно на существование значительной отрицательной корреляции между распространением рассеянного склероза и распространением гельминтных инфекций, а также на дисрегуляцию функционирования Т-лимфоцитов, которая часто встречается у больных рассеянным склерозом. Так называемые склеротические «бляшки» представляют собой небольшие очаги воспаления, где происходит разрушение миелиновой оболочки, покрывающей и изолирующей нервные волокна. При возвратно-ремиттирующей форме рассеянного склероза за год обычно образуется от пяти до десяти новых бляшек, при этом в среднем лишь одна из десяти затрагивает критически важный участок центральной нервной системы – зрительный нерв, мозжечок или сенсорные нервные волокна.
Через несколько дней после постановки диагноза Джим с женой смотрели еженедельную передачу о рассеянном склерозе на местном телеканале. «Выступал доктор Флеминг из нашего Висконсинского университета. Он рассказал, что планирует провести испытания своего нового метода лечения – гельминто-индуцированной иммуномодулирующей терапии – с использованием яиц власоглава. Я уже кое-что слышал о гигиенической гипотезе, поэтому сразу заинтересовался этой идеей. Однако я понимал, что люди вряд ли выстроятся в очередь, чтобы глотать яйца глистов, учитывая, как отвратительно это звучит. Я знал, что эти яйца имеют микроскопический размер, их не увидишь невооруженным глазом. Но если вы попросите людей их проглотить…» На следующий же день Джим связался с Флемингом и стал первым добровольцем в этом исследовании. Он принимал яйца гельминтов в течение трех месяцев, после чего прошел двухмесячный период очищения.
Интерес Джона Флеминга к возможностям свиного власоглава (Trichuris suis) был подогрет успешным экспериментом Джоэла Вайнстока и его коллег по лечению воспалительных заболеваний кишечника, в ходе которого, как мы уже говорили, у примерно 79 процентов пациентов, принимавших яйца власоглава, на первой стадии клинических испытаний наблюдалось явное улучшение. Хотя яйца свиного власоглава не проходят в человеческом организме полный жизненный цикл (из них могут даже не вылупляться личинки) и находятся в нем всего несколько недель, после чего выводятся с калом, многократный прием яиц, по-видимому, обеспечивает им достаточное присутствие в кишечнике, чтобы оказать влияние на иммунную систему. Вайнсток считает, что они могут делать это напрямую, путем секреции иммунорегуляторных веществ, или косвенно, влияя на состав кишечной микробиоты, которая затем уже делает свое дело. Флеминг утверждает, что существуют убедительные свидетельства в пользу того, что в основе развития рассеянного склероза лежит именно сбой в иммунной регуляции. Иммунная регуляция, объясняет он, обеспечивается путем взаимодействия между регуляторными Т-лимфоцитами, дендритными клетками, регуляторными В-лимфоцитами, цитокинами и другими видами эффекторных клеток. У больных рассеянным склерозом вся эта сложная система приходит в беспорядок, и уже обнаружено более двадцати механизмов, посредством которых гельминты влияют на иммунную регуляцию.
Флеминг также обратил внимание на работу аргентинского невролога Хорхе Корреале, который сообщил о снижении тяжести симптомов рассеянного склероза у пациентов, инфицированных кишечными гельминтами. Как показал Корреале, паразитарная инфекция обладала специфическим действием в случае рассеянного склероза, поскольку регуляторные Т-лимфоциты, продуцируемые у зараженных пациентов, были специфическими по отношению к миелиновым антигенам, что означало, что они защищали миелиновую оболочку нервных волокон. Флеминг получил разрешение провести первую фазу испытаний на небольшой группе, включающей всего пять пациентов, которым диагноз был поставлен совсем недавно и которые еще не получали никакого лечения от рассеянного склероза. Хотя испытание специально было сделано коротким и нацеленным в первую очередь на проверку безопасности, а не эффективности, Флеминг обнаружил, что на фоне приема яиц власоглава у всех пяти добровольцев существенно сократилось образование новых очагов поражения в головном мозге, притом что после прекращения лечения темпы образования очагов выросли.
В настоящее время Джим принимает традиционные лекарства от рассеянного склероза и старается держать болезнь под контролем при помощи тщательно подобранной диеты и физической активности. «Если бы у меня не было рассеянного склероза, сейчас я бы находился в лучшей форме за всю мою жизнь!» – говорит он. Джим научился так хорошо контролировать свои симптомы, особенно нарушения речи, что большинство его коллег даже не догадываются о его болезни. Но занятия спортом с детьми стали делом прошлого. «Моим сыновьям сейчас девять и тринадцать лет. Конечно, я бы хотел играть с ними в футбол на заднем дворе, или в баскетбол, или совершать длинные велосипедные прогулки. Я могу немного побросать мяч в корзину – но не могу бегать с ним по площадке. Да, пожалуй, больше всего я тоскую о беге. Я очень люблю бег, но мне пришлось отказаться от него шесть лет назад».
Наша местная кишечная микробиота имеет очень сложный состав – это более двух тысяч видов бактерий, обитающих внутри нас на постоянной основе. Наши отношения с ними настолько близки и тесно переплетены, что многие метаболические сигнатуры, обнаруживаемые в человеческой крови, поте и моче, на самом деле принадлежат нашим синантропным бактериям, а не нам. Реакция человека на конкретное медикаментозное лечение, которую мы видим, вполне может быть не реакцией его организма, а реакцией микробных колоний в его кишечнике. Только позвоночные обладают такими разнообразными и устойчивыми колониями микроорганизмов. У беспозвоночных эти колонии очень малы, иногда всего несколько видов, и зачастую носят транзитный характер. Существует и еще одно интересное различие между позвоночными и беспозвоночными. У последних нет адаптивной иммунной системы – у них есть только примитивная система врожденного иммунитета.
Это наблюдение побудило Маргарет Макфолл-Нгай, специалиста по медицинской микробиологии из Висконсинского университета, перевернуть современную иммунологию с ног на голову. Она утверждает, что адаптивная иммунная система развивалась не только для того, чтобы защищать нас от внешних патогенных микроорганизмов, но и для того, чтобы контролировать постоянное микробное сообщество внутри нас. Новаторские микробиологические исследования XIX века, за которые мы должны благодарить Коха и Пастера, проводились в контексте человеческих болезней. Они задали направление для дальнейших исследований, где микробы рассматривались только как захватчики, которые вторгаются извне в человеческий организм и могут вызывать болезни. Патогенные бактерии и вирусы способны мутировать гораздо быстрее, чем мы, и быстро менять антигенные маркеры на своей поверхности, при помощи которых наша иммунная система распознает в них врагов. Чтобы успешно противостоять им, утверждает традиционная иммунология, нам требуется адаптивная иммунная система с долговременной памятью и способностью генерировать практически бесконечное разнообразие антител.
И хотя это сущая правда, что без адаптивной иммунной системы мы не могли бы эффективно противостоять инфекциям, также верно и то, говорит Макфолл-Нгай, что сложность внешней патогенной среды затмевается невероятной сложностью микробных сообществ внутри нас. Так, было установлено, что всего двадцать пять инфекционных заболеваний являются причиной подавляющего большинства человеческих смертей и случаев приобретенной инвалидности, причем десять из них могли появиться в нашей жизни только с началом урбанизации около шести тысяч лет назад, поскольку они передаются от человека к человеку. Эти патогены не могли бы выжить в те времена, когда люди жили небольшими, географически рассредоточенными общинами. В то же время наша кишечная микробиота может насчитывать тысячи видов микроорганизмов, и, хотя большую часть времени они могут быть дружелюбными, бактерии коварны по своей природе: они являются условно-патогенными и легко мутируют, превращаясь из полезных в болезнетворные, когда им представляется такая возможность. Например, когда из-за повреждения стенки кишечника они могут сбежать из своего надежного «заточения» и проникнуть во внутреннюю среду организма.
Таким образом, наша микробиота не только присутствует в нашей жизни гораздо дольше, чем большинство внешних патогенных микроорганизмов, но и значительно превосходит их по численности и видовому разнообразию. Без нее «кишечная полиция» нашей адаптивной иммунной системы никогда бы не развилась в столь невероятно гибкую систему, способную проводить различие между дружественными микробами и периодически проникающими в их ряды патогенами или же выявлять среди дружественных микробов тех, которые вдруг превратились во враждебных изгоев. Как утверждает Саркис Мазманян, взаимоотношения с микробиотой – это серьезный вызов для нашей адаптивной иммунной системы, поскольку микробиота несет с собой огромную чужеродную антигенную нагрузку, которую иммунной системе нужно либо игнорировать, либо терпеть для поддержания здоровья человека. В свою очередь, в интересах микробиоты поддерживать здоровье своего хозяина. Да, довольно унизительно осознавать, что мы являемся всего лишь подходящей средой обитания для миллионов микроорганизмов – домом, который они «подстраивают» под себя и свои потребности. В процессе коэволюции мы вместе с нашей микробиотой научились давать отпор внешним патогенам, поскольку это отвечает нашим общим интересам. Например, недавно было установлено, что мыши, страдающие системной бактериальной инфекцией, начинают вырабатывать особый вид сахара, благоприятствующий росту популяции дружественных бактерий в кишечнике, которые помогают им бороться с этой инфекций.
Жерар Эберль из Института Луи Пастера считает, что в этом суперорганизме, образованном человеком и микробами, иммунная система никогда не отдыхает – она работает по принципу пружины. Чем больше микробы колонизируют ниши внутри нас или проявляют патогенное поведение, тем сильнее сжимается пружина иммунитета, и чем сильнее сжимается эта пружина, тем более интенсивный отпор микробам она дает. Другими словами, иммунная система постоянно находится в динамическом напряжении, и это напряжение необходимо для поддержания гомеостаза – состояния равновесия внутри организма. Например, если уничтожить кишечную микробиоту при помощи антибиотиков, мы можем стать уязвимыми для инфекций, вызываемых энтерококками. Дело в том, что дружественные бактерии, обитающие на стенке нашего кишечника, производят антибактериальные пептиды, которые в нормальных условиях уничтожают эти патогены. Слишком слабая иммунная система, объясняет Эберль, с одной стороны, делает суперорганизм уязвимым для условно-патогенных старых друзей, которые внезапно «переходят на сторону зла»; с другой – слишком сильная иммунная система дестабилизирует нашу микробиоту и запускает развитие аутоиммунных заболеваний.
Макфолл-Нгай считает, что мы должны начать рассматривать микробиоту внутри нас как самостоятельный орган, аналогичный, но намного более сложный, чем сердце, печень или почки. По своей сложности она скорее сопоставима с головным мозгом. Наш мозг состоит из более чем 80 миллиардов нейронов, соединенных в общую сеть; наша микробиота насчитывает более чем 80 триллионов микроорганизмов, активно взаимодействующих между собой посредством сигнальных молекул. У обоих есть память, оба способны учиться на собственном опыте, и оба могут предвидеть будущие неопределенности. Недаром кишечник называют «вторым мозгом», и он имеет свою собственную нервную систему, распределенную по кишечной стенке. Становится все более очевидным, что кишечная микробиота способна напрямую общаться с нашим головным мозгом и, более того, она участвует в развитии мозга, оказывает влияние на мозговую химию, ментальные процессы, поведение и психические расстройства. Она производит сотни нейрохимических веществ, в том числе бóльшую часть всего вырабатываемого в организме серотонина, и в настоящее время найдены свидетельства существования двусторонней связи – т. е. состав бактерий в кишечнике может влиять на головной мозг, и наоборот.
Это показывают, в частности, многочисленные исследования на мышах. Например, Пржемысл Берчик сравнил две линии мышей – более робких и более активных и смелых. Животные из обеих групп выращивались со стерильным кишечником. Затем стерильные кишечники робких мышей были засеяны кишечным материалом из кишечников смелых мышей, выращенных в нормальных условиях. И наоборот, стерильные кишечники смелых мышей были засеяны микрофлорой из кишечников нормальных робких мышей. Их поведение немедленно изменилось. Робкие мыши стали более смелыми, а смелые мыши – более робкими. Другой исследователь, Джон Биненсток, кормил робких мышей бульоном с большим содержанием распространенной пробиотической бактерии Lactobacillus rhamnosus. Через двадцать восемь дней эти мыши начали гораздо смелее входить в лабиринт, чем их собратья из контрольной группы, и реже сдавались в принудительном плавательном тесте. Было обнаружено, что в их головном мозге снизилась активность гормонов стресса. Этот результат подтверждается и другим экспериментом: мыши, выращенные со стерильным кишечником в условиях замкнутого пространства, испытывали высокий уровень стресса. У них наблюдалась повышенная активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, что приводило к высоким уровням кортикостерона и аденокортикотропина – двух гормонов стресса. Но как только кишечники этих мышей были засеяны еще одним распространенным пробиотиком Bifidobacterium infantis, все признаки стресса немедленно исчезли. Разумеется, может происходить и обратное. Майкл Бейли обнаружил, что детеныши макаки, рожденные матерями, которые во время беременности испытывали стресс из-за высокого уровня шума, имели в своих кишечниках меньше дружественных бактерий, таких как лактобактерии и бифидобактерии. А еще один исследователь обнаружил снижение содержания лактобактерий в кале студентов во время экзаменационной недели.
Но как могут бактерии в нашем кишечнике «общаться» с нашим головным мозгом и наоборот? Что служит каналом коммуникации между ними? Недавно Эмеран Майер и Кирстен Тиллиш провели интересное исследование: они попытались определить влияние пробиотических бактерий на настроение и мозговую активность людей. Исследование было проведено на группе здоровых женщин-добровольцев с использованием функциональной МРТ. Одна группа женщин принимала ферментированный пробиотический питьевой йогурт два раза в день в течение четырех недель, вторая группа была контрольной. Женщин обследовали при помощи функциональной МРТ до и после курса терапии: в состоянии покоя и во время просмотра изображений лиц, выражающих различные эмоции. Исследователям удалось идентифицировать тот самый «коммуникативный канал» между кишечником и мозгом: им оказался пучок нервных волокон в стволе головного мозга, известный как ядро одиночного пути (или ядро солитарного тракта). Это ядро получает сигналы от блуждающего нерва, который иннервирует кишечник и, в свою очередь, активирует нейронные контуры, которые проходят через высшие мозговые центры, включая миндалину (отвечает за страх и другие эмоции), островковую долю и переднюю поясную кору, т. е. все те зоны, которые участвуют в обработке эмоциональной информации. У добровольцев, принимавших пробиотический йогурт, наблюдалось снижение активности в данных нейронных контурах, что свидетельствует о более низких уровнях возбуждения и тревоги. Эти женщины демонстрировали более спокойные эмоциональные реакции. Хотя результаты данного исследования следует интерпретировать с осторожностью, разумно предположить, что пробиотические бактерии в кишечнике способны посылать сигналы в головной мозг через посредничество блуждающего нерва – в буквальном смысле слова позволяя нам «чувствовать нутром».
В недавно опубликованной статье Джо Элкок, Карло Мейли и Афина Актипис приводят множество свидетельств того, что обитающие в наших кишечниках бактерии способны влиять на наше питание, порождая тягу к тем продуктам, которые дают им конкурентное преимущество в толстой кишке. При этом они вызывают состояние неудовлетворенности и беспокойства, пока мы не съедим нужные им продукты, например, шоколад, который не только доставляет удовольствие нам через стимулирование центра вознаграждения в нашем мозге, но и удовлетворяет питательные потребности бактерий. Через блуждающий нерв кишечные бактерии манипулируют нашим поведением. Это открывает перед нами фантастические возможности – путем изменения видового состава кишечной микрофлоры менять наши привычки в питании и даже предотвращать ожирение.
Что происходит при нарушении функционирования головного мозга? Например, установлено, что в развитии аутизма замешаны воспаление и кишечные патологии. У детей, страдающих аутизмом, часто обнаруживаются признаки воспалительного процесса в головном мозге, и появляется все больше доказательств того, что это воспалительное состояние передается детям от матерей во время беременности. Алан Браун, профессор клинической психиатрии из Колумбийского университета, использовал данные Финского когортного исследования, в рамках которого было собрано 1,6 миллиона образцов крови у более чем 800 тысяч женщин во время беременности. Исследователи сопоставили уровни С-реактивного белка (важнейшего индикатора воспаления, присутствующего в крови) с риском развития аутизма у детей. У детей, матери которых по уровню С-реактивного белка в крови во время беременности находились в верхнем двадцатом процентиле, риск развития аутизма был выше на 43 процента, а у детей, матери которых попадали в верхний десятый процентиль, – на 80 процентов выше. Поскольку уровень С-реактивного белка также повышается при иммунной реакции на инфекции, можно предположить, что в некоторых случаях инфекции во время беременности, а также воспаления, вызванные аутоиммунными заболеваниями, могут способствовать развитию воспалительного состояния у плода. Этот вывод подтверждается и результатами широкомасштабного популяционного исследования, проведенного в Дании, которое показало, что у матерей с целиакией риск рождения ребенка-аутиста возрастает на 350 процентов, а у матерей, страдающих ревматоидным артритом, – на 80 процентов. Специалист по аутизму Эрик Холландер, лечивший Лоренса Джонсона, считает, что даже такая простая инфекция, как грипп, у будущей матери может спровоцировать развитие у ребенка воспалительного состояния в результате воздействия материнских провоспалительных цитокинов через плаценту. Аналогичная реакция также наблюдается у плода, если мать страдает системной красной волчанкой – воспалительным аутоиммунным расстройством, вызывающим лихорадку, опухание суставов и кожные высыпания.
Аутичные дети также могут наследовать (в генетическом смысле) гиперактивную иммунную систему, что делает их предрасположенными к развитию аутоиммунных заболеваний. Около 70 процентов детей с расстройством аутического спектра страдают тяжелой формой раздражения кишечника. У них часто встречаются такие симптомы, как диарея и болезненное вздутие живота, что может усугублять их раздражительность, агрессивность и склонность к самоповреждающему поведению. Эндоскопическое обследование часто показывает наличие воспалительной патологии, очень похожей на болезнь Крона и язвенный колит. Стивен Уокер из Института Уэйк Форест сравнил паттерны экспрессии генов в биопсическом материале из кишечника аутичных детей, страдающих синдромом раздраженного кишечника, и взрослых людей с воспалительным заболеванием кишечника. Несмотря на существенные различия в затронутых паттернах генов, было обнаружено значительное совпадение по ряду генов, которые были либо включены, либо выключены в обоих случаях. Это говорит о том, что аутичные дети с раздраженным кишечником и взрослые не-аутисты с воспалительными заболеваниями кишечника страдают от аутоиммунной реакции. Мышиные модели аутизма показывают, что материнская инфекция во время беременности делает Т-хелперы хронически гиперчувствительными и уменьшает количество регуляторных Т-лимфоцитов у потомства.
А что по поводу депрессии? Нельзя с уверенностью утверждать, что депрессия не является воспалительным заболеванием как таковым. Да, многие люди, страдающие депрессией, не имеют очевидных признаков воспаления, а многие из тех, кто имеет высокие уровни воспалительных маркеров в крови, не впадают в депрессию. Тем не менее существует большая подгруппа людей, которые склонны реагировать на фоновое воспалительное состояние развитием депрессии. Интересный пример взаимосвязи между воспалением и депрессией демонстрирует действие альфа-интерферона (ИФН-α) – мощного воспалительного цитокина, – который используется, в частности, в терапии гепатита С и рака. При приеме больших доз ИФН-α почти у 50 процентов пациентов наблюдается развитие депрессии в течение трех месяцев после начала терапии. Дело в том, что ИФН-α запускает выработку целого каскада других воспалительных цитокинов, таких как интерлейкин 6 и фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α), которые также коррелируют с депрессией. Но может ли происходить обратное? Если удалить цитокины, можно ли устранить и депрессию? В одном из исследований была взята группа пациентов, проходивших лечение от болезни Крона при помощи моноклонального антитела, известного как инфликсимаб. Часть этих пациентов также страдала клинической депрессией. Инфликсимаб снял депрессивные симптомы, но только у тех, кто имел высокие уровни С-реактивного белка в крови, указывающие на сильный воспалительный процесс. Инфликсимаб является мощным агонистом ФНО-α, поэтому вполне вероятно, что одновременно с лечением болезни Крона он нейтрализовал указанный цитокин, стимулировавший воспаление, и, таким образом, облегчил симптомы депрессии.
У восприимчивых лиц депрессия является всего лишь одним из заболеваний, которые, по всей видимости, развиваются под влиянием низкого уровня хронического воспаления. В этот список входят сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабеты, рак и деменция. Небольшое повышение уровня хронического воспаления позволяет с достаточной долей вероятности предсказать развитие всех этих современных заболеваний у людей, которые на данный момент не демонстрируют никаких соответствующих симптомов. При обследовании британских государственных служащих было установлено, что уровни циркулирующего в крови С-реактивного белка и интерлейкина 6 находятся в обратной зависимости с рангом сотрудников, т. е. чем ниже положение в служебной иерархии, тем выше уровень воспаления. Психолог Эндрю Стептоу, используя этот градиент, с достаточной точностью предсказал вероятность развития депрессии на протяжении последующих двенадцати лет. Между тем дальнейшие исследования показали, что люди с депрессивным состоянием, пережившие травмы и недостаток внимания в детском возрасте, вырабатывают в стрессовых тестах больше интерлейкина 6. Таким образом, корень проблемы может быть не столько в том, что высокий уровень стресса, сопряженный с современным образом жизни в развитых странах, вызывает воспаление и, как следствие, депрессию, а в том, что нарушение иммунной регуляции у современных людей обуславливает чрезмерную реакцию на стресс, приводя к бесконтрольной выработке воспалительных цитокинов. Но какую роль в этом сценарии может играть гипотеза «старых друзей»?
Том Макдейд из Северо-Западного университета провел развернутое исследование, сравнивая население развивающихся стран и население США в попытке разобраться с такими феноменами, как инфекции, воспаление, стресс, депрессия и заболеваемость. Он отмечает, что у индейских племен Амазонии на территории Эквадора наблюдаются временные повышения уровня С-реактивного белка, которые соответствуют частым вспышкам инфекций. Но, как только инфекция отступает, уровни этого белка также снижаются. Таким образом, в данном случае мы видим череду перемежающихся пиков и спадов. В отличие от этого уровни С-реактивного белка у жителей США являются стабильными и довольно высокими даже в отсутствие высокой частоты инфекционных заболеваний. Это хроническое устойчивое воспаление указывает на плохую иммунную регуляцию. Макдейд также изучил сельское население на филиппинском острове Себу. Он измерил уровни микробного разнообразия внутри и вокруг каждого деревенского дома, исследовав фекалии животных, а также учел такие показатели, как распространенность детской диареи и рождаемость в период сухого сезона, когда инфекционная нагрузка является наиболее высокой. Он установил, что все эти факторы свидетельствуют о высокой микробной нагрузке в начале жизни и обуславливают низкие уровни С-реактивного белка у взрослых.
Макдейд также изучил влияние на детей сепарации (расставания с матерью). Все дети, как и следовало ожидать, испытывают стресс в результате потери матери, однако этот стресс не приводит к повышению уровня С-реактивного белка у тех из них, кто живет в условиях значительного микробного разнообразия. Он не повышается даже в тех случаях, когда дети остро переживают боль разлуки. Так, в сельских районах Филиппин благодаря присутствию разнообразной микробной нагрузки с раннего детства временная депрессия, социальный стресс и несчастья никогда не приводят к развитию повреждающего воспаления. Макдейд также обнаружил, что в целом у населения Филиппин наблюдаются более низкие уровни провоспалительного цитокина интерлейкина 6 и, наоборот, чрезвычайно высокие уровни противовоспалительного цитокина интерлейкина 10. Даже тучные филиппинские женщины не имеют высокого уровня интерлейкина 6, который характерен для тучных американок. То же самое касается и мужчин: у филиппинских мужчин с большой толщиной кожной складки не было обнаружено высокого уровня С-реактивного белка, который присущ их американским собратьям. Макдейд пришел к выводу, что филиппинцы хорошо защищены от воспаления по всем фронтам и главным фактором защиты, по всей видимости, является разнообразная микробная среда, окружающая их с самого рождения.
Возможно, мы вступаем в эпоху, когда микробиология и иммунология, и в частности, гипотеза «старых друзей», начнут оказывать реальное влияние на политику общественного здравоохранения. Так, микробиолог Мартин Блейзер выражает глубокую обеспокоенность в связи с чрезмерным использованием антибиотиков. Все мы знаем об опасностях распространяющейся сегодня множественной устойчивости к антибиотикам, которая ведет к появлению «супермикробов», практически не поддающихся уничтожению. Но стандартная практика лечения антибиотиками широкого спектра действия также уничтожает дружественные и полезные синантропные бактерии в нашем организме, приводя к катастрофическим последствиям. К 18 годам, отмечает Блейзер, американские дети в среднем проходят от десяти до двадцати курсов лечения антибиотиками, которые убивают не только врагов, но и «старых друзей». В некоторых случаях кишечная микробиота так никогда и не восстанавливается, поэтому нынешние эпидемии диабета 1-го типа, ожирения, воспалительных заболеваний кишечника, аллергии и астмы – в значительной степени дело наших же рук. Так, риск развития воспалительных заболеваний кишечника возрастает вместе с количеством курсов антибиотиков. Еще хуже, что антибиотики используются в промышленных масштабах при выращивании сельскохозяйственных животных только лишь для того, чтобы стимулировать быстрый набор веса. Антибиотики стандартно назначаются почти половине беременных женщин в Соединенных Штатах, а поскольку дети получают кишечную микрофлору от своих матерей, каждое следующее поколение начинает жизнь с более бедным наследством в виде дружественных микробов, чем предыдущее.
Страшный сценарий возможной катастрофы представил нам Свен Петтерссон из Каролинского института в Стокгольме. Как известно, объясняет Петтерссон, существует специальный кишечный барьер, который не дает триллионам микробов ускользать из нашего кишечника. На самом деле этот барьер создается и поддерживаются живущими внутри нас дружественными бактериями. В экспериментах на мышах он обнаружил, что микробиота кишечника аналогичным образом контролирует и непроницаемый гематоэнцефалический барьер, который защищает наш мозг от проникновения микроорганизмов и разнообразных вредных агентов. Детеныши мышей, рожденные от матерей с безмикробным кишечником, имели более проницаемый гематоэнцефалический барьер, который сохранялся на протяжении всей их жизни. Хотя результаты этого исследования еще не подтверждены на людях, они вызывают серьезную тревогу. Если обедненная кишечная микробиота у матери действительно может вести к формированию неполноценного гематоэнцефалического барьера у ребенка, это может серьезно нарушать правильное развитие головного мозга и его защиту. Таким образом, нам следует задуматься о стандартной практике лечения антибиотиками беременных женщин и применения кесарева сечения, поскольку, как мы уже знаем, оба этих вмешательства лишают детей полноценной микробиоты, которую они традиционно наследуют от своих матерей.
Огромное количество исследований наглядно показывает, насколько важную роль играет дружественная микробиота в защите нашего здоровья. Однако один из исследователей утверждает, что не меньший вклад в сохранение нашего здоровья вносят микробы, живущие в окружающей нас среде. Илкка Хански из Хельсинского университета считает, что при городском планировании, особенно при планировании зеленых насаждений, необходимо принимать во внимание микробиологию – и конкретно гипотезу «старых друзей». Он сообщил, что недавно проведенное им исследование показало наличие значимой взаимосвязи между кожными аллергиями, характером землепользования и растительностью, в гетерогенной группе из 118 финских подростков, живущих в разных видах «среды обитания», включая города, деревни и фермы. Исследователь взял у подростков мазки с кожи, чтобы измерить видовое разнообразие кожных бактерий, выполнил кожные тесты на аллергическую реакцию для установления склонности к атопии, и определил характер землепользования и растительного покрова в непосредственной близости от их домов и в радиусе до трех километров. Он обнаружил выраженную взаимосвязь между склонностью к атопии и группой бактерий под названием гамма-протеобактерии: у склонных к атопии подростков на кожном покрове обитало значительно меньше видов этих бактерий. Затем Хански измерил уровни противовоспалительного цитокина интерлейкина 10 в крови и обнаружил, что тесная связь одного из видов гамма-протеобактерий – ацинетобактера (Acinetobacter) – с высоким уровнем интерлейкина 10 в крови была характерна для здоровых подростков, но не для страдающих аллергическими реакциями.
Эти «защитные» бактерии обычно встречаются на растениях и в пыльце, а также в почве. Вот почему Хански обнаружил значимую связь между разнообразием кожных бактерий и отсутствием склонности к атопии, с одной стороны, и богатством окружающего растительного покрова, особенно наличием менее распространенных видов цветущих растений, – с другой. Подростки «подхватили» эти бактерии при контакте с почвой и растительностью или через пыльцу, переносимую ветром. Сегодня все больше людей по всему миру переезжает жить в города, где очень мало зеленых насаждений. Если мы зависим от определенных бактерий, которые стимулируют выработку противовоспалительных цитокинов, тем самым обеспечивая иммунную толерантность, и если эти бактерии, в свою очередь, зависят от богатства окружающей растительности, то зеленые насаждения – нечто гораздо большее, чем просто приятный элемент городского декора. Как отмечает Хански, зеленые насаждения – важнейший фактор в профилактике аллергических заболеваний и обеспечении общественного здоровья в целом, а их отсутствие может иметь далекоидущие последствия.
Аналогичным образом карельское исследование Микаэля Книпа показало, что микробиота играет важную роль в деле защиты от диабета 1-го типа. Российские карельские дети имели не только более разнообразную микробиоту, но и более высокие уровни регуляторных Т-лимфоцитов в крови. Книп продолжает свое исследование, надеясь выявить конкретные виды бактерий, противостоящих развитию аутоиммунных и аллергических заболеваний, с тем чтобы разработать метод медицинского вмешательства, способный уже в ближайшем будущем помочь детям из группы риска. Две другие метаболические пандемии, диабета 2-го типа и ожирения, как было установлено, также связаны с нарушением иммунной регуляции и потерей микробного разнообразия в кишечнике.
Большое количество все новых исследований подчеркивает отрицательное влияние на здоровье людей негативных жизненных событий, одиночества и социальной изоляции. Несмотря на то, что эти долгосрочные эпидемиологические исследования показывают существование корреляции между воспалением, стрессом, социальной изоляцией и социально-экономическим статусом, на сегодняшний день всего одно или два из них отметили такой важный фактор, как разнообразие кишечной микробиоты. Между тем Грэм Рук готов держать пари, что при более пристальном изучении этого фактора исследователи обнаружили бы интересную закономерность: люди, которые проявляют недостаточную устойчивость к превратностям современной жизни, имеют хронические высокие уровни воспаления и более других подвержены физическим или психическим болезням, в большинстве своем имеют менее разнообразную кишечную микробиоту и, как следствие, нарушенную иммунную регуляцию. Гипотеза «старых друзей», считает Рук, может быть ключевой «отсутствующей переменной» во всех этих исследованиях в области общественного здравоохранения.
Следующие несколько примеров позволяют понять, сколь важную роль играют «старые друзья» в нашей жизни – от самой колыбели до могилы. Например, Пер Густафссон установил, что изоляция и субъективное ощущение своей непопулярности в школе негативно влияют на здоровье людей несколько десятилетий спустя, коррелируя с психиатрическими проблемами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Грегори Миллер и Стив Коул пошли еще дальше и непосредственно связали пережитые в детстве стрессы и невзгоды с низкоуровневым хроническим воспалением. Используя данные по большой группе подростков из Ванкувера, они показали, что депрессия и воспаление (проявляющееся в высоких уровнях циркулирующих в крови С-реактивного белка и интерлейкина 6) идут руку об руку, но только у тех подростков, которые страдали от невзгод в детстве. У таких детей уровень С-реактивного белка не снижается после окончания депрессивного эпизода, что в долгосрочной перспективе может способствовать развитию устойчивых расстройств настроения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и аутоиммунных заболеваний.
Брюс Макьюэн вводит понятие «аллостатической нагрузки» – совокупного изнашивания организма, пытающегося адаптироваться к условиям жизни. Он показал, что стрессы, связанные с низким социально-экономическим статусом, ведут к хроническому воспалению, которое нарушает функционирование нейроэндокринной системы и, в свою очередь, может вести к развитию проблем с сердцем, остеопорозу, метаболическим расстройствам наподобие диабета и даже к снижению когнитивной функции. Томас Бойс и Кэтлин Зиол-Гест еще более определенно заявляют о взаимосвязи между бедностью в детстве и болезнями в дальнейшем. Хотя питание, безусловно, играет свою роль, хронические воспалительные процессы, запускаемые в детстве под воздействием негативных жизненных событий, являются еще одним фактором, способствующим развитию ряда хронических заболеваний. Хроническое воспаление управляется тем, что происходит в головном мозге, утверждают они, – взаимодействием между гипоталамусом, гипофизом, надпочечниками и клеточной иммунной системой, которая в результате заставляет Т-лимфоциты дифференцироваться в клетки-хелперы Тх1 и Тх2, что может вести к обширному повреждению тканей, если воспалительные условия сохраняются. Низкий социально-экономический статус в детстве ассоциируется с более высокими уровнями в крови С-реактивного белка, цитокина интерлейкин 6 и еще одного провоспалительного цитокина ФНО-α, что делает этих детей более подверженными риску развития воспалительных заболеваний, таких как атеросклероз, аутоиммунные заболевания и рак. Вот где на сцену выходит исследование Тома Макдейда, который на примере филиппинских детей показал, что ключевым защитным фактором при негативных событиях в начале жизни, таких как потеря матери, которые в современном западном мире могут вести к метаболическим и ментальным заболеваниям в будущем, является высокая микробная нагрузка в раннем детстве.
И без гипотезы «старых друзей» мы знаем, что необходимо обеспечивать более качественный уход за пожилыми людьми в домах престарелых. Однако исследование, недавно проведенное Маркусом Клессоном и его коллегами из Университета Корка, наглядно показало, насколько неблагоприятными могут быть условия жизни в этих учреждениях. Исследователи взяли 178 пожилых людей со средним возрастом 78 лет, проживающих на юге Ирландии, и разделили их на три группы: продолжающих жить в обществе, проходящих краткосрочные курсы восстановительного лечения в больницах и живущих в домах престарелых. Опираясь на такие данные, как результаты бактериального анализа кала, информация о питании и показатели иммунного статуса, исследователи установили, что живущие в домах престарелых имеют гораздо менее разнообразную кишечную микробиоту, чем те, кто продолжает жить в обычных условиях, и это коррелирует с высокими уровнями хронического воспаления и распространенностью старческой астении. Когда мы стареем, мы хуже пережевываем пищу, производим меньше слюны, отчего наше пищеварение ухудшается, и мы чаще страдаем запорами. Все это вредит обитающим в нашем кишечнике микробам. Неполноценное питание и, вероятно, социальная изоляция в домах престарелых еще больше усугубляют ситуацию, лишая пожилых людей значительной части «старых друзей», вызывая хроническое воспаление, ухудшая здоровье и ускоряя старение. Учитывая стремительный рост доли пожилого населения в западных странах, говорит Клессон, вопрос правильного питания должен стать приоритетным в свете борьбы с ростом заболеваемости и преждевременной смертности.
По всему миру исследователи пытаются превратить открытия, сделанные в рамках гипотезы «старых друзей», в методы терапии конкретных заболеваний. На заре любой прикладной науки находятся самоотверженные ученые, готовые испытать новые методы на себе, прежде чем применять их к другим, а также люди, готовые пойти на такие эксперименты от отчаяния. Взять, к примеру, Дэвида Притчарда из Ноттингемского университета, который во время полевых исследований в Индонезии был настолько заинтригован тем, что зараженные нематодами-анкилостомами люди, кажется, защищены от аллергических заболеваний, что заразил сам себя личинками анкилостомы через царапины на коже и к своему огромному удовлетворению доказал, что негативные последствия гельминтной инфекции являются вполне терпимыми по сравнению с ее потенциальным положительным воздействием на иммунную регуляцию. В настоящее время Притчард проводит крупное клиническое испытание в Ноттингеме, цель которого – установить, могут ли анкилостомы замедлить прогрессирование рассеянного склероза.
В 2004 году один молодой человек, имя которого мы сохраним в тайне, поехал в Таиланд, чтобы намеренно заразить себя яйцами человеческого власоглава из фекалий инфицированной девушки. Он хотел узнать, не помогут ли ему гельминты вылечить язвенный колит, который был настолько устойчив к терапии циклоспорином, что перед молодым человеком стояла реальная угроза полного удаления толстой кишки и ее замены колостомным мешком. До этого он обращался к Джоэлу Вайнстоку с просьбой испытать на нем лечение яйцами свиного власоглава (Trichuris suis), но Вайнсток отказал ему из этических соображений. Через три месяца такого самолечения кишечник, который до того производил более десятка кровавых испражнений в день, вернулся к нормальному функционированию. Оказалось, что заражение гельминтами привело к повышению уровня интерлейкина 22 в крови, который, помимо прочего, способствует заживлению слизистой оболочки кишечника. В настоящее время этот молодой человек добровольно помогает Пьенг Локу из Нью-Йоркского университета исследовать влияние гельминтов на воспалительные заболевания кишечника.
Путь от научных озарений до создания проверенных и надежных методов лечения зачастую бывает весьма тернистым и долгим. Чтобы вывести на рынок новый метод лечения, он должен быть тщательно протестирован в ходе крупномасштабных, рандомизированных, двойных слепых испытаний, способных учесть любой эффект плацебо и отделить его от подлинной эффективности тестируемого метода. До сих пор клинические испытания методов терапии при помощи яиц свиного власоглава давали в этом плане разочаровывающие результаты. Так, недавно было прекращено крупномасштабное клиническое исследование терапии с использованием яиц власоглава у пациентов с болезнью Крона, поскольку та показала нулевую эффективность. Такая же неудача постигла и вторую фазу клинических испытаний Джона Флеминга, который изучал возможности лечения яйцами власоглава рассеянного склероза. Проблема может быть в том, что выбранный для этих испытаний вид власоглава попросту не подходит для человека. Свиной власоглав Trichuris suis паразитирует на свиньях, а не на людях. В человеческом кишечнике из его яиц зачастую даже не вылупляются личинки, и вся «инфекция» выходит вместе с калом в течение нескольких недель. Вот почему сын Стюарта Джонсона должен постоянно принимать яйца этих гельминтов, чтобы лечение давало результаты. Другими словами, поскольку люди не являются естественным домом для свиного власоглава, он может быть не способен регулировать иммунную систему человека так же эффективно, как это делают специфические для людей виды гельминтов.
Или же причина может быть в том, говорит Грэм Рук, создатель гипотезы «старых друзей», что мы используем не тех гельминтов не на тех людях. Случаи ремиссии, обнаруженные Хорхе Корреале у зараженных гельминтами больных рассеянным склерозом, возможно, объясняются тем, что данные гельминты являются эндемичным видом для этих регионов Южной Америки и пациенты могли перенести бессимптомную гельминтную инфекцию в раннем детстве, когда развивалась их иммунная система. Эта ранняя инфекция могла повлиять на развитие их иммунной системы или оказать эпигенетический эффект, посредством которого гельминты регулируют ключевые гены, отвечающие за иммунную систему. В случае пациентов с болезнью Крона или рассеянным склерозом в Северной Америке такое предшествующее воздействие, как правило, отсутствует.
Между тем Эрик Холландер все-таки добился успехов, хотя и довольно скромных, в лечении аутизма при помощи яиц свиного власоглава у немногочисленной группы взрослых пациентов. Было достигнуто небольшое снижение показателей по нескольким психологическим тестам, измеряющим различные симптомы аутизма, однако это снижение во всех случаях было ниже порога статистической значимости. По словам Холландера, пациенты были менее подвержены резким перепадам настроения и реже поддавались вспышкам гнева, были менее компульсивными и более терпимыми к изменениям. В настоящее время Холландер испытывает метод лечения с использованием яиц свиного власоглава на более многочисленной группе детей и молодых людей, больных аутизмом.
Каковы бы ни были окончательные результаты, полученные Холландером, Роза Крахмалник-Браун из Аризонского университета признает существование взаимосвязи между аутизмом, нарушением иммунной регуляции и расстройствами желудочно-кишечного тракта. Она исследовала микробиоту у аутичных детей и обнаружила, что в целом она менее разнообразна и лишена некоторых важных видов «дружественных» бактерий по сравнению с кишечной микробиотой у здоровых детей. В настоящее время она проводит исследование, вводя аутичным детям фекальные трансплантаты из кишечников здоровых людей, чтобы заселить их кишечники разнообразной и полезной микробиотой. Фекальная трансплантации – более эффективный способ быстро восстановить микробную популяцию кишечника, чем оральный прием пробиотиков, который имеет ограниченный эффект, поскольку очень трудно улучшить микробиоту в нижних отделах желудочно-кишечного тракта, где живут триллионы бактерий, вводя всего по несколько миллионов микроорганизмов через рот при помощи пилюль или йогурта. Кроме того, типичные пробиотические продукты содержат в основном лактобактерии и бифидобактерии, которые, хотя и играют важнейшую роль при формировании иммунной системы у младенцев, в кишечниках взрослых людей отступают на задний план. Нам нужны другие пробиотики.
Исследователи «старых друзей» с надеждой смотрят в будущее, уверенные в том, что их усилия в конечном итоге приведут к появлению «новой фармацевтики». Они понимают, что не могут вечно кормить людей яйцами власоглава или вводить под кожу личинки анкилостом. Работая с бактериями Bacteroides fragilis, Саркис Мазманян показал путь, по которому следует идти. Он обнаружил, что может обойтись без живых бактерий, поскольку выделенные из них молекулы полисахарида А способны регулировать иммунную систему точно так же, как и сами бактерии. Аналогичным образом Джоэл Вайнсток продолжает исследовать механизмы, используемые гельминтами для того, чтобы манипулировать нашей иммунной системой. Он надеется, что в будущем сумеет идентифицировать вещества, при помощи которых они это делают, и, таким образом, сможет на базе достижений эволюционной теории заложить фундамент для разработки нового поколения лекарств, способных помочь при лечении широкого диапазона болезней.
Большие надежды на этот подход возлагает и Стюарт Джонсон, чья героическая и в конечном счете успешная исследовательская работа спасла его сына Лоренса от пожизненного пребывания в специализированном психиатрическом учреждении. Как говорит Стюарт: «Я не знал, сработает это или нет. Я просто удовлетворял своего внутреннего ученого, который говорил мне "Давай, пробуй! Не сиди сложа руки! Иди вперед!" Я буду бороться и искать до самой смерти». Вероятно, Стюарт сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы пробудить интерес общественности к терапии с использованием «старых друзей», и он надеется, что в ближайшем будущем появятся препараты на основе гельминтов, более удобные и простые в применении. «Что если подобные вещи способны эффективно регулировать нашу иммунную систему? – рассуждает Стюарт. – Это поможет справиться не только с аутизмом, но и с любым аутоиммунным заболеванием, причем без всякого побочного риска. Может быть, я слишком заинтересованное лицо, но каждый раз, когда делается очередное открытие, мне кажется, что оно соответствует этой модели и позволяет нам сделать важный шаг вперед».
Заманчиво поддаться ажиотажу, окружающему сегодня это новое направление в медицинской науке, и вслед за Джонсоном провозгласить тост «За старых друзей!», будь то паразитические черви, дружественные бактерии или армии микроорганизмов из окружающей среды. Затем поднять стаканы с пробиотическим йогуртом или яйцами власоглава и осушить их до дна, пополнив обитающие внутри нас популяции «старых друзей». Однако я призываю вас к мудрости и осторожности. Еще не пришло время для триумфального пира. Несмотря на открывающиеся перспективы, нам, скорее всего, предстоит долгий и тернистый путь, прежде чем гипотеза «старых друзей» воплотится в надежную, эффективную и проверенную практикой эволюционную медицину будущего.
Прекрасный роман Как эволюционная теория объясняет бесплодие и патологии беременности
Прекрасный роман без поцелуев, Это прекрасный роман, мой друг. Мы должны быть, как пара горячих помидоров, Но ты холодна, как вчерашнее картофельное пюре. Прекрасный роман, но ты не прильнешь ко мне…Давайте посмотрим правде в глаза: вряд ли что-то еще побуждает нас с такой готовностью натягивать на себя розовые очки, как вид влюбленной пары, которая скрепляет свои отношения узами брака и начинает делать детей. Тайный вздох восторга, когда тест на беременность показывает две заветные полоски; сообщение радостной новости любимому партнеру, а потом и всем многочисленным родственникам и друзьям; расцветающая во время беременности женщина; успешные роды; детская комната в розовых или голубых тонах, прильнувший к материнской груди ребенок – короче говоря, прекраснейший роман о воспроизводстве человеческого рода.
Но попробуйте продать эту романтическую картину тысячам женщин, у которых мечты о беременности превращаются в настоящие кошмары с дикими скачками давления, постоянными желудочными болями, повреждением почек и страдающими младенцами, – и все это из-за возникновения малопонятного на сегодняшний день состояния, называемого преэклампсией беременных. Если преэклампсическое состояние перерастает в тяжелую форму, единственный способ спасти мать – избавить ее организм от ребенка, и многие беременные женщины теряют детей потому, что из-за преэклапсии врачи вынуждены стимулировать у них преждевременные роды.
Наши розовые очки вдребезги разбиваются о судьбу Прийи Тейлор, для которой рождение ребенка стало настоящим подвигом: после восьми выкидышей подряд, шести самопроизвольных выкидышей после процедуры ЭКО, потери на ранней стадии беременности одного из двоих близнецов, ей наконец удалось перенести самую тяжелую беременность, которую только можно себе представить, и успешно родить оставшегося близнеца – девочку Майю. Ее мужество и стойкость перед лицом таких тяжелейших испытаний не поддаются описанию.
Если посмотреть на нашу перенаселенную планету с ее 7 миллиардами обитателей, у вас может сложиться преувеличенное представление о репродуктивных способностях человека. На самом же деле мы, люди, отличаемся поразительно низкой плодовитостью. Как замечает Ник Маклон, профессор в области репродуктивной медицины из Саутгемптонского университета: «Если рассматривать человеческое воспроизводство с точки зрения его эффективности, становится ясно, что рост населения происходит несмотря на нашу репродуктивную способность, а вовсе не благодаря ей». Это было наглядно продемонстрировано, говорит он, когда исследователи сравнили количество детей, рожденных в Англии в 1970 году, с количеством рождений, которые можно было бы ожидать, исходя из численности населения и предполагаемого количества фертильных овуляторных циклов, сопровождавшихся коитусами, за тот же год. У людей этот показатель составил удручающе мизерные 22 процента по сравнению с 70 процентами у коров, 60 процентами у кроликов и более чем 50 процентами у собак и многих видов обезьян. Если перевести эту цифру на язык нормальной сексуальной активности, это означает, что, несмотря на значительные индивидуальные различия, в среднем пара должна совершить около сотни совокуплений или на протяжении семи-восьми месяцев вести регулярную половую жизнь без контрацепции, чтобы партнерша успешно забеременела. Отчасти проблема заключается в большой частоте выкидышей, что является самой распространенной причиной неудачной беременности. Около 30 процентов эмбрионов теряются еще до имплантации, и еще 30 процентов погибают в течение первых шести недель беременности, в основном до наступления очередной менструации. Эти беременности настолько короткие, что женщины могут их даже не замечать – они просто какое-то время испытывают небольшое ухудшение самочувствия. Кроме того, более 10 процентов беременностей заканчиваются медицинским абортом, в основном до двенадцатой недели беременности, а 1–2 процента пар сталкиваются с привычным невынашиванием беременности, которое в Соединенных Штатах определяется как две и более неудачные беременности подряд.
Даже если беременность успешно развивается дольше двенадцати недель, она несет с собой множество опасностей. Гестационный диабет затрагивает от 4 до 20 процентов беременных женщин по всему миру, а 10 процентов из них страдает от зашкаливающего кровяного давления, особенно в третьем триместре. Это может привести к повреждению нежной клубочковой структуры почек с выходом больших количеств белка в кровь. Это состояние может перерасти в синдром HELLP (расшифровывается как Hemolysis – гемолиз или склонность к кровотечениям, Elevated Liver enzimes – повышенный уровень энзимов печени, Low Platelet count – низкое содержание тромбоцитов), при котором повреждается печень, и эклампсию с судорожными припадками и потерей сознания. В прошлом, до появления современной медицины, эти состояния могли приводить к летальному исходу для матери и ребенка; такая опасность сохраняется и сегодня в тех частях мира, где отсутствует доступ к качественной медицинской помощи. На самом деле кесарево сечение стало использоваться в Древнем Риме около двух тысяч лет назад именно как попытка спасти жизнь ребенку, мать которого умирала от эклампсического судорожного припадка. Даже сегодня преэклампсия является главной причиной материнской смертности по всему миру, на ее долю приходится до 20 процентов всех случаев смерти.
Афина Байфорд перенесла тяжелую преэклампсию во время первой беременности в 1998 году. Она помнит, как однажды ночью на двадцать шестой неделе беременности проснулась от мучительной боли в желудке, а на следующий день чувствовала тошноту и испытывала сильную головную боль. Это были типичные симптомы преэклампсии. Из-за рождественских праздников ее врач не работал, поэтому Афина смогла попасть на прием только в начале января. Медсестра взяла у нее кровь и измерила артериальное давление, потом измерила его еще раз, после чего выскользнула из кабинета и быстро вернулась вместе с врачом, который измерил ей давление еще раз. Пытаясь скрыть обеспокоенность, чтобы не встревожить беременную пациентку, он сказал ей: «Сейчас я напишу вам записку. Отправляйтесь домой, соберите вещи и сразу же езжайте в больницу. Не нужно беспокоиться. Все будет в порядке». Врач в приемном отделении прочитал записку, посмотрел на Афину и сказал: «Наверное, здесь какая-то ошибка. Этого не может быть». Он попросил ее сесть на стул, снова измерил давление, а потом, по словам Афины, начался настоящий ад: «Меня окружили медсестры, акушерки и врачи и отвезли на каталке в палату интенсивной терапии. Мне строго-настрого запретили выходить одной из палаты. Вот когда я начала по-настоящему волноваться». За несколько минут ее подключили к множеству разных аппаратов и вставили катетеры. Пришел врач-консультант и объяснил ей: «У вас чрезвычайно высокое кровяное давление. При таком давлении возникает опасность судорог. Чтобы предотвратить приступ эклампсии, мы дадим вам противосудорожный препарат – сульфат магния – и морфин». Проснувшись среди ночи, она увидела вокруг себя толпу врачей и медсестер, которые внимательно следили за мониторами. Было видно, что все встревожены. Они сказали, что ребенок испытывает недостаток кислорода, поэтому нужно срочно сделать кесарево сечение. Таким образом, ее дочка появилаь на свет на двадцать восьмой неделе весом всего два фунта (около 900 грамм). «Она была очень, очень маленькой. Я мельком увидела ее сразу после рождения, потому что была в сознании во время операции, а потом ее немедленно унесли в отделение неонатальной интенсивной терапии».
Поскольку давление у Афины по-прежнему оставалось опасно высоким, ей не разрешили посетить ребенка. И персонал больницы, и родственники показывали ей фотографии и видеозаписи с дочкой, но на следующий день пришли плохие новости. Малышка подхватила какую-то инфекцию, и ее состояние начало резко ухудшаться. Ей давали столько кислорода, сколько могли выдержать крошечные легкие, но в конце концов врачи порекомендовали отказаться от мер по поддержанию жизнедеятельности. «Они сделали это. И вечером принесли мне ее в детской корзине. Они оставили ее со мной, чтобы я могла держать ее на руках, когда она сделает свой последний вздох. После того как она умерла, они предложили мне искупать ее и сменить ей подгузник, и сделали много фотографий – по их словам, это должно было помочь мне справиться с горем. Но это не помогло. Единственное, что я видела на этих фотографиях, – это мертвый ребенок. Я отдала их своей родственнице, потому что не могла больше на них смотреть».
Биологи-эволюционисты, как и женщины, перенесшие болезни и осложнения при беременности, не верят в романтику воспроизводства человеческого рода. Они отказываются от розовых очков, глядя на отношения между женщиной и мужчиной, и на женщину, вынашивающую ребенка, и видят за внешней романтической картиной жесткую, рациональную логику генетических интересов, которые стоят на кону в процессе воспроизводства и проливают свет на его мрачные тайны: почему женщины имеют такую низкую плодовитость; почему погибает так много оплодотворенных яйцеклеток и эмбрионов; почему у столь многих женщин беременность омрачена опасными для жизни осложнениями и потенциально смертельным патологическим состоянием плода. Исследователь Дэвид Хейг из Гарвардского университета объясняет все эти проблемы в рамках сформулированной им теоретической парадигмы, которую он назвал «конфликт между родителями и потомством».
На первый взгляд деторождение кажется процессом, построенным на совместных усилиях и общих интересах, но в реальности генетические интересы матери, отца и плода вовсе не идентичны. Разумеется, любой плод наследует 50 процентов своих генов от матери, а другие 50 процентов от отца. Однако во всем животном мире, но особенно у людей, на плечи самок и женщин ложатся основные обязанности по вынашиванию потомства, а после рождения – по его выкармливанию и выращиванию. Вложения со стороны самцов (в виде спермы) в буквальном смысле слова микроскопичны. Кроме того, дети, произведенные матерью на свет, несут ее гены, но отцы у них могут быть разными. Следовательно, в генетических интересах матери умерить свои вложения в любого отдельно взятого ребенка, чтобы распределить силы среди всего предполагаемого количества детей, которых она может родить на протяжении активного репродуктивного периода. Другими словами, природа программирует мать на то, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. В то же время в эгоистических интересах отцовских генов, чтобы несущий их плод и затем детеныш/ребенок требовал от матери больше того, что она склонна ему давать. И если для матери потеря одного ребенка, хотя и, безусловно, болезненна, может быть компенсирована рождением других детей от любых других партнеров, то перед самим плодом стоит одна задача – выжить. Все это создает условия для конфликта.
Эволюционисты считают, что отцовские гены в виде спермы и затем своей доли в эмбрионах благоприятствуют механизмам, которые стимулируют восприимчивость матки и способствуют неразборчивой имплантации всех подряд эмбрионов независимо от их жизнеспособности. И наоборот, материнские гены способствуют запуску механизмов, которые отсортировывают качественных эмбрионов от некачественных, с тем чтобы не растрачивать материнские силы на потомство, имеющее генетические дефекты или проблемы совместимости. Если плод все же закрепляется в матке, отцовские гены в плоде и плаценте принимаются манипулировать матерью, стараясь заставить ее дать плоду больше ресурсов, чем это отвечает ее долгосрочным интересам. Разумеется, материнские гены стараются противостоять этой манипуляции. Хейг сравнивает этот конфликт интересов с перетягиванием каната. Представьте себе две команды нацеленных на победу мускулистых мужчин. Если силы с обеих сторон равны, флажок в середине каната не сдвигается с места, несмотря на все их усилия. Так происходит при нормальной беременности – ни одному из наборов генов не удается одержать победу в скрытой борьбе интересов, и беременность развивается успешно и для плода, и для матери. Но если одна из сторон дает слабину, вся система рушится.
В 1940–1960-х годах великий иммунолог-новатор сэр Питер Медавар, занимаясь фундаментальными исследованиями в области иммунологии и трансплантации, пролил свет на то, как иммунная система принимает или отторгает кожные трансплантаты и пересаженные органы. При этом Медавара заинтересовал один странный вопрос, связанный с беременностью: почему иммунная система автоматически распознает и атакует антигены (чужеродные белки), присутствующие в пересаженной ткани, но материнская иммунная система принимает и терпит эмбрионы, несмотря на присутствие в них чужеродных отцовских антигенов? Почему организм матери не отвергает «наполовину чужеродный» плод? Медавар предположил, что материнская иммунная система не обращает внимания на отцовские антигены, что может происходить по нескольким причинам: во-первых, потому что физически плод отделен от иммунной системы матери; во-вторых, потому что плод является незрелым в иммунологическом плане или же, наконец, потому что иммунная система матери почему-то перестает реагировать на эмбриональные антигены.
Наблюдения Медавара за последние полвека легли в основу многочисленных исследований в области толерантности матери к плоду, и в настоящее время ученые приблизились к исчерпывающему объяснению того, как работает этот сложнейший механизм. При этом они опровергли все предположения Медавара, поскольку стало очевидным, что между матерью и плодом не существует непроницаемого барьера, а происходит постоянный обмен. Отцовские антигены, присутствующие в продуктах клеточного распада от плода и плаценты, обнаруживаются в организме матери во время беременности и даже после нее. Более того, материнская иммунная система «знакомится» с отцовскими антигенами еще до того, как эмбрион пытается закрепиться в стенке матки.
Давно было замечено, что женщины чаще страдают преэклампсией, если они забеременели после короткого периода сожительства с данным сексуальным партнером, чем в том случае, если они сожительствовали с ним более шести месяцев перед зачатием. Последующие беременности от того же партнера, как правило, несут более низкий риск развития преэклампсии, который, однако, возрастает, если женщина меняет партнера между беременностями или если между двумя беременностями проходит несколько лет. Риск развития преэклампсии при первой беременности выше, если до зачатия пара регулярно пользовалась презервативами или занималась сексом относительно редко. Также этот риск значительно возрастает, если беременность наступила в результате ЭКО, особенно если использовалась донорская сперма, и снижается в том случае, если пара часто занималась незащищенным сексом до и после процедуры ЭКО. Есть даже данные о том, что женщины, которые проглатывают сперму партнера во время орального секса, сталкиваются с более низким риском развития преэклампсии. Все это говорит о том, что компоненты семенной жидкости и/или сперматозоидов могут взаимодействовать с женской иммунной системой, которая благодаря регулярным контактам с эякулятом партнера учится распознавать его антигены и развивает толерантность к ним. Это в некоторой мере облегчает дальнейший процесс «перетягивания каната», включающий попадание спермы в репродуктивный тракт, оплодотворение яйцеклетки, имплантацию эмбриона и развитие плода, на протяжении которого отцовские и материнские гены реализуют различные стратегии – первые стремятся во что бы то ни стало передать себя следующему поколению, а вторые хотят правильно выбрать партнера и эмбрион, которые заслуживают того, чтобы потратить на них время и силы.
Сперма представляет собой не просто смесь сперматозоидов и питательной семенной жидкости, а сложнейший коктейль из активных биохимических агентов. Психолог Гордон Гэллап из Университета штата Нью-Йорк в Олбани вместе со своими коллегами Ребеккой Бёрч и Лори Петриконе исследовал биохимический состав спермы и выявил активные ингредиенты, которые манипулируют женской репродуктивной системой и реакцией женского организма.
Влагалище, говорит Гэллап, это идеальный путь для проникновения компонентов спермы в кровяное русло женщины. Влагалище снабжено густой сетью кровеносных сосудов, и кровь от него напрямую идет к сердцу через подвздошную вену, минуя печень, которая обычно отфильтровывает чужеродные вещества. Это означает, что в течение одного-двух часов после осеменения в крови женщины можно обнаружить вещества, присутствующие в сперме партнера, – причем действие многих из этих веществ направлено на то, чтобы способствовать оплодотворению яйцеклетки и имплантации оплодотворенного эмбриона в матке. Вот почему при искусственном оплодотворении, когда используется «промытая» сперма, объясняет Гэллап, вероятность оплодотворения и имплантации эмбриона значительно снижается. Гэллап также сообщает об одном исследовании, в процессе которого женщинам была проведена процедура искусственного оплодотворения, известная как перенос гаметы в маточную трубу (процедура GIFT). При этом половину женщин попросили воздержаться от занятий сексом до и после процедуры, а вторую половину, наоборот, попросили активно заниматься сексом в этот период. В результате в первой группе забеременело всего пять из восемнадцати женщин, а во второй – пятнадцать из восемнадцати.
Семенная жидкость содержит удивительное количество гормонов, которые мы обычно ассоциируем с женским организмом. Она включает эстроген; фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), который стимулирует рост и созревание фолликулов в яичниках; лютеинизирующий гормон (ЛГ), резкий выброс которого вызывает овуляцию. Человеческая семенная жидкость также содержит ряд сигнальных молекул – цитокинов, в том числе интерлейкины 1, 2, 4, 6 и 8, фактор некроза опухоли альфа, гамма-интерферон и гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ), причем все эти вещества обладают иммуноподавляющими свойствами и делают матку более восприимчивой к имплантации оплодотворенного эмбриона. Гэллап сообщает, что содержание этих гормонов в семенной жидкости часто превышает их уровни, обнаруживаемые у небеременных и даже у некоторых беременных женщин. Главным среди них является хорионический гонадотропин человека (уровень которого и измеряется в стандартных тестах на беременность), который поддерживает нормальную работу желтого тела в яичнике после овуляции, таким образом способствуя поддержанию высокого уровня прогестерона, что является жизненно важным для сохранения беременности.
Наконец, семенная жидкость содержит тринадцать типов простагландинов и липидных посредников, которые снижают активность лимфоцитов Т-киллеров, одного из главных штурмовиков иммунной системы. Эти присутствующие в сперме цитокины и простагландины, говорит Гэллап, воздействуют на рецепторы клеток-мишеней в матке и шейке матки, где они влияют на экспрессию генов, изменяя женские репродуктивные ткани. Цель этого, объясняет Гэллап, повысить выживаемость сперматозоидов и вероятность оплодотворения, повлиять на женский иммунный ответ, обеспечив толерантность к сперме и оплодотворенной яйцеклетке, и вызвать изменения в эндометрии (внутренней слизистой оболочке) матки, чтобы способствовать развитию эмбриона и его имплантации.
Сара Робертсон и ее коллеги из Университета Аделаиды решили узнать, как именно эти компоненты спермы взаимодействуют с материнской иммунной системой. Исследования в области репродуктивной биологии проводятся в основном на мышах, и было установлено, что у мышей семенная жидкость вызывает умеренную воспалительную реакцию в половых путях самок, что запускает иммунные реакции, повышающие вероятность оплодотворения и беременности. Робертсон и ее сотрудники задались вопросом, не происходит ли то же самое у людей. Поскольку медицинская этика запрещает инвазивные исследования на матке, они использовали шейку матки, предположив, что иммунные реакции в шейке отражают реакции в самой матке.
Исследователи отобрали группу фертильных женщин и разделили ее на три подгруппы. Всех женщин попросили использовать презервативы за пять дней до первой биопсии и воздерживаться от секса за два дня до нее, чтобы гарантировать полное отсутствие спермы в половых путях. Затем была проведена игольчатая биопсия шейки матки в период овуляции и два дня спустя. В промежутке между этими исследованиями одной группе женщин было разрешено заниматься незащищенным сексом, вторая группа должна была использовать презервативы, а третья группа – воздержаться от секса. Исследователи обнаружили множество иммунных событий в пробах ткани, взятых у женщин, занимавшихся незащищенных сексом, – т. е. тех, у которых шейка матки контактировала со спермой. В этой группе они обнаружили классическую воспалительную реакцию, которая включала мобилизацию различных видов иммунных клеток, изменения в активности генов, ассоциируемых с путями развития воспаления, а также повышенные уровни ряда активных провоспалительных цитокинов. Этого не было обнаружено в пробах тканей у женщин, использовавших презервативы или не занимавшихся сексом вообще. Среди белых кровяных клеток, наполнивших эпителий шейки матки после контакта со спермой, присутствовали макрофаги, дендритные клетки, нейтрофилы и Т-лимфоциты – клетки памяти иммунной системы, призванные распознавать чужеродные антигены.
Работа дендритных клеток, как мы узнали в первой главе, состоит в том, чтобы обрабатывать антигены (чужеродные белки), находящиеся на поверхности бактерий, зараженных вирусом клеток или (в данном случае) сперматозоидов и компонентов семенной жидкости, а затем «презентовать» их таким образом, чтобы они могли быть распознаны эффекторными Т-клетками адаптивной иммунной системы. В зависимости от сигнала, подаваемого презентующими антиген дендритными клетками, иммунная система может мобилизовать либо цитотоксические Т-лимфоциты, которые атакуют и уничтожают чужеродные клетки; либо провоспалительные Т-лимфоциты, создающие враждебную среду для пытающегося имплантироваться эмбриона; либо регуляторные Т-лимфоциты, обеспечивающие благоприятную среду. Эта слабая воспалительная реакция в матке, индуцируемая химическими посредниками хемокинами и цитокинами, присутствующими в семенной плазме, привлекает иммунные клетки в матку и шейку матки, где и происходит ключевое взаимодействие между спермой и иммунной системой, в результате которого последняя «знакомится» с этими мужскими антигенами и запоминает их. Благодаря иммунной памяти впоследствии, когда женская иммунная система встречает эти отцовские антигены на оплодотворенной яйцеклетке и эмбрионе, она реагирует на них толерантно и делает возможной имплантацию. Вот почему регулярный и длительный контакт со спермой партнера может обеспечивать надежную защиту от осложнений в ходе беременности. Более того, без такой «толеризации» женской иммунной системы невозможно и само возникновение беременности.
Также было установлено, что сперма разных мужчин значительно варьируется по содержанию в ней цитокинов, известных как трансформирующий фактор роста бета (ТФР-β). Эти цитокины оказывают модулирующее действие на иммунную систему, т. е. они способны менять материнский иммунный ответ с враждебной воспалительной реакции на создание благоприятной толерантной среды, где преобладает популяция регуляторных Т-лимфоцитов. Однако такое хорошее «знание» материнской иммунной системой отцовских антигенов является палкой о двух концах, поскольку оно также помогает женскому организму отсортировывать эмбрионов по параметру качества и совместимости. Чтобы отличить «своих» от «чужих», иммунные клетки используют главный комплекс гистосовместимости (ГКГС). Главный комплекс гистосовместимости представляет собой группу расположенных на поверхности клеток белков (которые также называют человеческими лейкоцитарными антигенами), кодируемых 160 высоковариабельными генами. Каждый человек обладает уникальной сигнатурой ГКГС. Когда речь идет о трансплантации органов, близкое сродство (аффинность) ГКГС является ключевым фактором, предотвращающим отторжение (вот почему в качестве доноров предпочтительно использовать близких родственников). Однако в матке цель игры – различие. Установлено, что, если иммунные клетки матери распознают в сперматозоидах сигнатуру ГКГС, очень сходную с материнской, они отвергают эти клетки. Дело в том, что одна из функций белков ГКГС – активно презентовать чужеродные антигены на клеточных поверхностях. Значительное совпадение между материнским и отцовским ГКГС сужает круг антигенов, на которые может реагировать получившееся потомство – что имеет очевидные негативные последствия для его устойчивости к заболеваниям. Кроме того, близкое соответствие сигнатур ГКГС может свидетельствовать о наличии общих потенциально опасных рецессивных генов, которые у потомства могут перейти в гомозиготное состояние и стать активными – таким образом делая потомство подверженным генетическим болезням. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, как показали некоторые исследования, близкое сродство ГКГС у женщины и ее партнера увеличивает вероятность самопроизвольного выкидыша.
Давайте представим, что же происходит в тот момент, когда яйцеклетка оплодотворяется, начинает делиться и пытается прикрепиться к стенке матки. Здесь противостояние женских и мужских генетических интересов приобретает поистине макиавеллиевский характер. Несколько лет назад исследователи обнаружили, что первые несколько циклов клеточного деления развивающегося эмбриона, или бластоцисты, полученной в результате ЭКО, подвержены высокой хромосомной нестабильности. Это считалось одним из главных сдерживающих факторов для успеха ЭКО, и было высказано предположение, что такая хромосомная нестабильность возникает вследствие предшествующей химический гиперстимуляции яичников, призванной способствовать развитию фолликулов и производству яйцеклеток. Таким образом, репродуктивная медицина кинулась искать новые методы, которые позволили бы ей создавать идеальных эмбрионов.
Но в 2009 году Йорис Вермес из Лёвенского католического университета решил разработать высокочувствительный скрининг-тест для выявления хромосомных аномалий у эмбрионов на ранних сроках беременности. Он взял вполне нормальные, зачатые естественным образом эмбрионы у молодых женщин в возрасте до тридцати пяти лет, в прошлом не страдавших бесплодием. К своему удивлению, он увидел в них ничуть не меньше «генетического хаоса». Изучив все клетки, или бластомеры, образующие 3–4-дневные эмбрионы, он обнаружил, что более 90 процентов человеческих эмбрионов несут в себе генетические аномалии. Примерно 50 процентов из них вообще не имели нормальных диплоидных клеток. Хромосомная нестабильность варьировалась от анеуплоидии, когда клетки содержат больше или меньше хромосом, чем должно быть в нормальном наборе, и однородительской дисомии, когда обе хромосомы в паре наследуются от одного родителя, а не по одной хромосоме от каждого родителя, до полной мешанины из хромосомных делеций, дупликаций, фрагментаций и амплификаций. Можно подумать, что при таком изобилии хромосомных дефектов эмбрион не может быть жизнеспособным. Однако, хотя совокупный процент гибели плода у женщин вследствие его неприкрепления к стенке матки, самопроизвольного или клинического выкидыша является чрезвычайно высоким и составляет порядка 70 процентов, этот показатель значительно ниже, чем доля генетически аномальных эмбрионов, составляющая 90 процентов. Таким образом, количество рожденных здоровых детей значительно превышает количество нормальных эмбрионов.
Здесь может быть несколько возможных объяснений. Некоторые генетически хаотичные эмбрионы могут быть в состоянии исправлять себя путем уничтожения аномальных бластомеров, оставляя только нормальные бластомеры, из которых затем образуется плод и плацента. Например, сообщалось, что один замороженный и оттаявший человеческий эмбрион содержал всего одну нормальную клетку, однако продолжил формироваться в совершенно здорового ребенка. Или же эмбрион может быть способен самостоятельно исправлять генетические ошибки. Однако возникает вопрос: если определенное количество таких хаотичных эмбрионов систематически выживает, почему они вообще проходят через период генетической нестабильности? Ян Бросенс, профессор в области репродуктивной медицины из Уорикского университета, и его коллега Ник Маклон из Саутгемптонского университета считают, что это преднамеренная стратегия, призванная сделать эмбрион более агрессивным. Единственный схожий пример таких высоких уровней генетической нестабильности мы можем увидеть в раковых опухолях, где это ведет к агрессивному поведению раковых клеток, в том числе к более высокой миграционной активности, инвазивности и склонности к метастазированию, в результате чего раковые клетки распространяются на другие органы. Исследователи предполагают, что эмбрионы на очень ранней стадии развития могут представлять собой репродуктивный эквивалент злокачественной опухоли. Тем не менее, несмотря на все эти объяснения, высокие уровни «генетического хаоса» в эмбрионах по-прежнему остаются настоящей медицинской загадкой, настоятельно требующей дальнейших исследований.
Одна часть клеток раннего эмбриона развивается в плод, а другая часть образует плаценту, причем люди имеют одну из самых инвазивных плацент в животном мире. Эта так называемая гемохориальная плацента глубоко внедряется в стенку матки и в конечном итоге так сильно меняет материнское кровообращение, что мать не может лишить плода питания, не уморив голодом саму себя. Плод – идеальный паразит. Как указывает Маклон, эмбрионы настолько агрессивные захватчики, что им даже не нужна матка. Недаром так распространены случаи внематочной беременности, когда эмбрионы имплантируются буквально где угодно, включая маточные трубы, шейку матки, яичники и даже брюшную полость. Большинство из них нежизнеспособны, однако они представляют опасность для матери, поскольку агрессивно внедряются хорионом (ворсинками) в стенки кровеносных сосудов и могут вызвать обширные кровотечения. Зафиксированы чудесные случаи, когда внематочная беременность заканчивалась рождением здоровых детей. Пожалуй, самый известный из них – это рождение Сейдж Далтон в 1999 году. Эмбрион смог нормально развиваться за пределами матки, поскольку его плацента закрепилась в брюшной полости матери на доброкачественной фиброзной опухоли, богато снабженной кровеносными сосудами. Пузырный занос – еще один пример агрессивного вторжения. В редких случаях сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, лишенную материнской ДНК. Присутствующий в сперматозоиде набор хромосом удваивается, формируя диплоидный набор из сорока шести хромосом, однако все эти хромосомы отцовские. В результате из оплодотворенной яйцеклетки в матке развивается большая, неупорядоченная клеточная масса – по сути представляющая собой плаценту без плода.
Благодаря относительно низким метаболическим затратам на производство спермы мужчины могут позволить себе продвигать свои генетические интересы, стимулируя имплантацию как можно большего количества эмбрионов независимо от их качества или жизнеспособности – азартная игра с малыми шансами на победу, но высоким призовым фондом. Один из примеров этого – троянский конь в виде генетически хаотичных эмбрионов. Теория конфликта между родителями и потомством утверждает, что в ответ женщины развили эффективные контрмеры, поскольку задача матери – не дать закрепиться некачественным эмбрионам, чтобы не тратить на них драгоценное время и силы, и выбрать из генетически аномальных эмбрионов те, которые все-таки имеют шансы нормально развиваться. В результате эволюции гемохориальной плаценты мать несет огромные метаболические затраты, сопряженные с развитием каждого эмбриона, поэтому она должна тщательно отбирать, на кого сделать ставку. Бросенс и его коллеги считают, что именно отбор эмбрионов и есть главная причина появления механизма менструаций и образования очень узкого окна в менструальном цикле, когда может произойти эффективная имплантация. Предыдущие теории пытались объяснить адаптивное значение менструации, предполагая, что она развилась как способ защиты женского репродуктивного тракта от присутствующих в сперме патогенов или же что менструация является менее дорогостоящий с метаболической точки зрения, чем постоянное поддержание толстой стенки матки. Однако Бросенс и его коллеги утверждают, что менструация идет рука об руку с процессом, называемым спонтанной децидуализацией, который позволяет женщинам контролировать качество пытающихся закрепиться эмбрионов.
Более ста видов животных, включая грызунов, медведей, оленей и кенгуру, имеют в своем репродуктивном процессе так называемую эмбриональную диапаузу, когда после попадания в матку эмбрион на какое-то время останавливается в своем развитии, пока ему не будет дан «зеленый свет» на имплантацию. Например, у некоторых видов оленей эмбрион попадает в матку осенью, а имплантируется только весной. В этот период эмбрион запускает материнскую реакцию на беременность в форме процесса, называемого децидуализацией. Эндометрий матки трансформируется в децидуальную ткань, образуя децидуальную или отпадающую оболочку, называемую так потому, что она отделяется вместе с плацентой при родах, а также во время менструации. Людей – а также обезьян Старого Света, длинноухих прыгунчиков и плотоядных летучих мышей-крыланов – отличает от других представителей животного мира то, что эта реакция запускается независимо от присутствия эмбриона. Она называется спонтанной децидуализацией и возникает спустя пять-семь дней после овуляции в каждом менструальном цикле. Бросенс называет это окном имплантации или окном восприимчивости.
Эндометрий матки снабжается кровью через специальные кровеносные сосуды, называемые спиральными артериями, и на 5–7-й день после овуляции окружающие эти артерии клетки, фибробласты стромы, претерпевают значительные изменения – они дифференцируются в децидуальные клетки и становятся секреторными. После того как этот процесс запущен, для его поддержания требуется непрерывная подача прогестерона, который вырабатывается желтым телом яичника. Если беременность не возникает, желтое тело снижает выработку прогестерона, и у женщины начинается менструация. Если же происходит имплантация эмбриона, уровень прогестерона остается высоким, и децидуальные клетки начинают действовать – они мигрируют, чтобы инкапсулировать эмбрион, и стягивают на место действия иммунные клетки, чтобы начать его проверку. Точно так же в жизни поступают и полицейские, когда заключают подозреваемого в тюремную камеру для проверки его личности.
Некоторые особенности этого процесса предполагают, что адаптивное значение менструации состоит в том, что она обучает матку проходить через эти децидуальные изменения и помогает подготовиться к эффективному взаимодействию с эмбрионами в будущем. У новорожденных девочек менструации часто случаются в первые несколько дней жизни, после чего матка переходит в состояние покоя до наступления менархе. Кроме того, от начала менархе до начала овуляций у молодых женщин обычно проходит около двух лет. Бросенс и его коллеги считают, что неслучайно такой длительный период менструаций предшествует периоду, когда становится возможным возникновение беременности: интенсивное кровотечение и воспаление, сопровождающие менструацию, «тренируют» матку. Многократные регулярные менструации также приводят к тому, что временная воспалительная реакция в ответ на попытку имплантации ослабляется в достаточной степени для того, чтобы запустить в матке все необходимые морфологические и иммунные изменения, но при этом не быть чересчур интенсивной, чтобы не повредить эмбрион. Это слабое воспаление, которое также было обнаружено Сарой Робертсон, позволяет объяснить, почему тяжелая преэклампсия чаще всего возникает при первой беременности и преимущественно у молодых женщин. Корень проблемы, объясняет Бросенс, – в недостаточной менструальной подготовке матки.
В медицинских учебниках, замечает Бросенс, по сей день рисуется ошибочная картина, где присутствуют активные, агрессивно вторгающиеся эмбрионы и абсолютно пассивный эндометрий (внутренняя слизистая оболочка матки). У такого медицинского взгляда долгая история. Дэвид Хейг приводит в пример типичные фразы из лексикона специалистов по репродуктивной медицине в первые два десятилетия XX века. Эти фразы несут на себе явный отпечаток настроений того времени – духа надвигающейся войны. Например, Эрнст Грефенберг в 1910 году назвал яйцеклетку 'Ein frecher Eindringling' – «жестоким интервентом», проедающим себе путь вглубь стенки матки, а Оскар Полано, описывая антагонизм между материнским организмом и зародышем, написал, что зародыш «возводит форпосты на вражеской территории». «В предчувствии пожара войны, который вот-вот охватит Европу, – пишет Хейг, – Джонстон рисует устрашающую пророческую картину: „Вместо четкой границы мы видим широкую линию фронта, где происходит кровопролитное сражение между материнскими тканями и вторгшимся эмбрионом, и груды погибших клеток с обеих сторон, которые никто не уносит с поля боя“».
Однако децидуальная оболочка матки играет очень активную роль – хотя и не в военных действиях, а в процессе отбора. Аномальный эмбрион подает четкие химические и иммунологические сигналы, предупреждающие о его непригодности для дальнейшего развития, однако материнский организм может распознать эти сигналы, только пройдя через процесс децидуализации. Таким образом, у людей существует не только окно восприимчивости, когда может произойти имплантация эмбриона, но и окно распознавания и селекции эмбрионов. Более того, тот же самый процесс, утверждает Бросенс, в конечном итоге влияет на формирование плаценты. Следовательно, нарушенный процесс децидуализации ведет к плохому отбору эмбрионов, формированию дефектной плаценты (даже в случае качественного эмбриона) и либо к ранней гибели эмбриона в результате самопроизвольного аборта, либо к преэклампсии на более поздних сроках беременности.
В своей повседневной работе Бросенсу приходится иметь дело со множеством женщин, у которых возникают проблемы с фертильностью. Они могут быть бесплодными или, наоборот, сверхфертильными, но в любом случае они не могут выносить ребенка. Он вспоминает, как несколько лет назад обследовал одну женщину из Шотландии, у которой было восемь выкидышей подряд. Поскольку раньше считалось, что бесплодие и выкидыши тесно связаны, он спросил, сколько времени потребовалось ей на то, чтобы забеременеть. Он думал, что услышит печальную историю, и был в шоке, когда она ответила: «Примерно месяц». У этой женщины не было никаких проблем с фертильностью; она беременела как по часам, каждый раз, когда пыталась это сделать, но так ни разу и не смогла родить из-за раннего выкидыша.
В 1999 году исследователь Аллен Уилкокс, который первым обнаружил очень высокую долю ранних выкидышей при нормальной беременности, составляющую выше 30 процентов, опубликовал в журнале New England Journal of Medicine статью, в которой сообщил, что успешность имплантации зависит от количества дней, прошедших со дня овуляции. Он набрал довольно многочисленную группу пытающихся забеременеть женщин и убедил их заполнить свои холодильники образцами мочи, которые они должны были собирать каждый день до тех пор, пока не наступит успешная беременность. Его команда проанализировала пробы мочи и по повышенному содержанию лютеинизирующего гормона определила примерный день овуляции. Затем исследователи измерили уровни хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), который является одним из первых индикаторов имплантации. У большинства женщин имплантация произошла в узком окне продолжительностью всего шесть-семь дней после овуляции, хотя у некоторых это случилось намного позже, вплоть до одиннадцатого дня после овуляции. Уилкокс показал, что поздняя имплантация сопряжена с экспоненциальным ростом вероятности выкидыша. Бросенс объясняет это тем, что поздняя имплантация не попадает в критически важное окно восприимчивости, во время которого в стенке матки происходят изменения, готовящие ее к тому, чтобы инкапсулировать и тщательно изучить пытающегося имплантироваться эмбриона. Поздно имплантирующиеся эмбрионы пропускают эту ограниченную по времени проверку, поэтому материнский организм считает, что они ее не прошли, независимо от их подлинного качества, и избавляется от них. Таким образом, женщины, у которых произошло подобное нарушение в этом развившемся в ходе эволюции механизме контроля эмбрионального качества, сталкиваются с такой репродуктивной проблемой, как сверхфертильность вкупе с привычным невынашиванием беременности – все последствия которой в полной мере испытала на себе Прийя Тейлор.
Прийя вышла замуж в 2003 году и сразу же решила родить ребенка. Она забеременела уже в медовый месяц, но примерно на десятой неделе у нее начались периодические кровянистые выделения, которые продолжались до двадцатой недели. Прийя вспоминает: «Это было на двадцать второй неделе. Я проснулась оттого, что у меня сжимался желудок. Муж сказал: "Что-то не в порядке". Мне показалось, что я обмочилась в постель. Это отошли воды». В конце концов, она родила недоношенного ребенка на двадцать пятой неделе беременности. «На самом деле это очень печальная история. Александр кричал, когда родился. Они не предупредили, что заберут его от меня. За занавеской я даже не видела, что происходит. Его поместили в палату интенсивной терапии. Он был крошечным, весом всего один фунт (меньше 500 граммов), и не мог сам дышать. Он прожил два дня, а потом умер».
Не утратив присутствия духа, Прийя снова забеременела спустя два месяца после потери Александра, но на десятой неделе врачи не смогли услышать сердцебиение плода. Ей сделали операцию, известную как дилатация и кюретаж (выскабливание матки), чтобы удалить плод и плацентарную ткань. За этой неудачной беременностью последовало еще шесть, каждая из которых длилась от четырех до десяти недель. «Я видела, как трудно моему мужу провожать меня на очередную операцию по выскабливанию матки. И я видела, что все наши друзья уже обзавелись детьми. Это было поистине страшно. Я очень эмоциональный человек и легко расстраиваюсь по любому поводу, но тут я понимала, что мне нельзя сдаваться. Мне трудно смириться с тем, что есть вещи, над которыми я не властна».
Все попытки Прийи забеременеть естественным образом заканчивались неудачей. Поэтому спустя два месяца она прошла первый цикл ЭКО – первый из шести, пять из которых привели к краткосрочным беременностям. В промежутке между этими процедурами ей даже удалось забеременеть естественным путем, но эта беременность продолжалась всего семь недель. В этот момент она обратилась к Яну Бросенсу. Лабораторный анализ тканей ее пятого плода показал, что он имел серьезную хромосомную аномалию и у него не было шансов выжить. Прийя возлагала большие надежды на шестую искусственную беременность, но та превратилась в сплошной кошмар: отмененный из-за выкидыша отпуск на Карибах, неудачная операция, тяжелая инфекция матки, кровотечение и недельное пребывание в больнице. Ее муж Мэтт, человек со стоическим характером, в эту неделю не мог удержаться от слез и в конце концов сказал: «Все, хватит попыток. Ничто не заставит меня сделать это снова». Прийя тоже была совершенно сломлена, но в годовщину свадьбы два месяца спустя она попросила: «Пожалуйста, давай попробуем еще раз. Дай мне еще один шанс, и я обещаю, что у меня получится». Потребовался целый месяц, чтобы уговорить Мэтта.
Бросенс считает, что Прийя находится на крайнем конце спектра сверхфертильности и страдает дисфункцией матки, которая характеризуется удлиненным периодом восприимчивости, нарушением процесса децидуализации и отбора эмбрионов. Другими словами, у нее нарушен механизм контроля эмбрионального качества, что приводит к таким клиническим последствиям, как быстрое зачатие – и ранние выкидыши.
При следующем – и последнем – цикле ЭКО удалось получить удивительные двадцать яйцеклеток, четырнадцать из которых были оплодотворены. Ей ввели два шестидневных эмбриона и в скором времени позвонили и сказали, что ее тест на беременность дал положительный результат и все показатели были высокими, что свидетельствовало об успешной имплантации. Но через три дня их уровни начали падать. Даже когда шесть недель спустя врачи услышали сердцебиение плода, она не могла поверить в то, что плод выжил. Бросенс, который на этот раз наблюдал за ее беременностью, между шестой и двенадцатой неделями каждую неделю проводил сканирование, чтобы показать Прийе, что ее ребенок успешно растет. На самом деле она вынашивала два плода, один из которых погиб примерно на седьмой неделе, но девочка Майя продолжала упорно цепляться за жизнь. На шестнадцатой неделе Прийе ушили шейку матки, чтобы предотвратить выкидыш, но на восемнадцатой неделе у нее началось кровотечение. «Я снова проснулась среди ночи и обнаружила, что моя постель полна крови. Мы встали, и я спокойно сказала Мэтту: "Собери мою сумку. Я поеду в больницу. Видно, судьбой нам не предназначено иметь детей". Но когда они добрались до больницы, выяснилось, что у плода прослушивается сердцебиение. Обследовав ее на следующий день, Бросенс увидел рядом с плацентой довольно большой сгусток крови. На двадцать второй неделе ребенок почти перестал расти из-за значительной аномалии плаценты, которая была недостаточно хорошо подсоединена к материнской системе кровообращения в матке. Кроме того, плацента покрывала всю шейку матки, что делало естественные роды невозможными. Тем не менее беременность продолжалась, пока, наконец, на тридцать пятой неделе врачи не решили, что низкая скорость роста и плохое кровообращение в плаценте создают угрозу для жизни ребенка. В результате кесарева сечения родилась девочка Майя – здоровый ребенок весом почти два килограмма. Через пять дней пребывания в больнице врачи согласились выписать мать и ребенка домой. «Они спросили у меня, все ли готово у меня дома к принятию ребенка. У меня не было готово ничего! Не было даже ни одного подгузника! Они спросили, почему я не подготовилась, и я объяснила им, что после всего, что со мной было, я уже не надеялась вернуться домой с ребенком».
Клеточные и иммунные изменения в стенке матки, которые определяют успех или неудачу имплантации, представляют собой чрезвычайно сложный феномен, который в настоящее время вызывает пристальный интерес исследователей – и немалые разногласия в их среде. Значительная часть наших знаний об этих явлениях получена благодаря экспериментам на мышах, и не всегда известно, в какой степени их можно экстраполировать на людей. Тем не менее становится очевидным, что нарушение процесса децидуализации, затрагивающее нарушение дифференциации фибробластов стромы в децидуальные клетки, не только влияет на способность женского организма обеспечить надлежащую проверку и имплантацию эмбриона, но и создает предпосылки для дальнейших патологий беременности, таких как ранний выкидыш и преэклампсия.
Бросенс и его коллеги Мадхури Салкер, Шивон Квинби, Гейс Текленбург и другие постарались изучить процесс децидуализации в мельчайших подробностях. Оказалось, что важнейшую роль в нем играет один из представителей семейства провоспалительных цитокинов, известный как интерлейкин 33 (ИЛ-33). Как мы уже знаем, высокий уровень прогестерона запускает дифференциацию стромальных клеток в децидуальные. Когда клетки начинают дифференцироваться, они секретируют интерлейкин 33 и связывают его с рецепторной молекулой STL2, что позволяет им запустить в стенке матки выработку целого коктейля из хемокинов, цитокинов, С-реактивного белка и других воспалительных факторов. Это временное воспаление является необходимой прелюдией к имплантации, поскольку оно включает целый ряд генов, отвечающих за восприимчивость матки. Данное воспаление носит самоограничивающийся характер, поскольку, как только процесс децидуализации завершается, эти клетки активируют петлю обратной связи и начинают производить рецептор-ловушку для интерлейкина 33, который называется sST2. Такой маневр позволяет эффективно нейтрализовать интерлейкин 33 и прекратить воспалительную реакцию. Когда исследователи сравнили активность генов, кодирующих рецепторную молекулу STL2, в стромальных клеточных культурах, взятых у здоровых женщин и женщин, страдающих привычным невынашиванием беременности, они обнаружили одну интересную вещь: первоначально уровень продуцирования STL2 повышался во всех случаях, но у здоровых женщин он снижался через два дня после начала децидуализации, тогда как у второй группы женщин он оставался высоким на протяжении восьми дней после запуска децидуализации, а уровень производства рецепторов-приманок sST2, наоборот, был значительно ниже. Хотя у этих женщин происходила имплантация эмбрионов, кумулятивные воспалительные эффекты, вызванные более продолжительной выработкой воспалительных цитокинов и STL2, создавали очень враждебную среду для эмбрионов, поскольку децидуальная ткань была повреждена и наполнена иммунными атакующими клетками.
При трансформации стромальных клеток в децидуальные также меняется тип продуцируемых ими сигнальных молекул – цитокинов, что позволяет этим клеткам служить привратниками в важнейшей зоне соприкосновения между матерью и эмбрионом. Через секрецию интерлейкинов 11 и 15 они запускают мобилизацию и дифференциацию специализированного типа белых клеток крови, называемых натуральными (естественными) киллерами или NK-клетками. Как правило, эти клетки циркулируют в периферической крови и, как следует из их названия, обладают высокой цитотоксичностью, уничтожая клетки, зараженные вирусами, и опухолевые клетки. Однако маточные натуральные киллеры (uNK-клетки) действуют совершенно иначе: вместо того чтобы вырабатывать клеточные токсины, они продуцируют ряд цитокинов, которые, судя по всему, очень важны для продолжения беременности. Маточные NK-клетки составляют 70 процентов популяции всех белых кровяных клеток, присутствующих в децидуальной оболочке, и способствуют формированию плаценты, стимулируя рост новых кровеносных сосудов и проникновение эмбриона в материнскую ткань. В то же время децидуальные клетки защищают плод – аллогенный (чужеродный) в силу несомых им отцовских генов – от нападения цитотоксических Т-клеток. Они делают это путем отключения своих собственных ключевых генов, кодирующих цитокины, которые в ином случае они могли бы производить, натравливая Т-киллеров на эмбриональную цель.
Эмбрион, которому удалось успешно выдержать материнскую проверку, начинает более глубоко вторгаться в стенку матки, чтобы сформировать плаценту. По мере того как клетки эмбриона продолжают делиться, часть из них образует внешний клеточный слой, называемый трофэктодермой, из которого далее формируются клетки трофобласта с чрезвычайно высокой инвазивной активностью, а другая часть образует внутреннюю клеточную массу – эмбриобласт и затем сам плод. Проникая все глубже в стенку матки, трофобласт формирует древовидно-разветвленные структуры, называемые хорионическими ворсинками. Эти ворсинки богаты кровеносными сосудами и прикрепляют плод к матке. Далее трофобласт, который на этом этапе называют вневорсинчатым трофобластом, дорастает до спиральных артерий в стенке матки и образует в них открытые устья, которые открываются в большой просвет между материнской и фетальной тканью, известный как межворсинчатое пространство. Таким образом, из открытых устьев артерий кровь начинает свободно изливаться в межворсинчатое пространство и циркулировать между разветвленными ворсинками хориона. Хорионические ворсинки и межворсинчатое пространство покрыты специальным слоем клеток, называемым синцитиотрофобластом. Спиральные артерии претерпевают значительную перестройку. Гладкие мышечные и эластические волокна, образующие стенку артерий, разрушаются и заменяются клетками трофобласта. В результате из мышечных структур малого объема с высоким давлением артерии превращаются в объемные сосуды с низким сопротивлением – биологический эквивалент обвисших, растянутых рейтуз.
К двадцатой неделе нормальной беременности завершается формирование такой удивительной структуры, как плацента. На момент рождения ребенка общая площадь ее поверхности достигает одиннадцати квадратных метров, что делает ее почти такой же эффективной с точки зрения газообмена, как и легкие. Кроме того, перестройка материнских спиральных артерий означает, что мать не может ограничить приток крови к плаценте путем их сужения. Еще одним важным следствием такой глубокой плацентации является то, что плацента может выпускать вещества непосредственно в кровоток матери, чтобы манипулировать ее метаболизмом, тогда как мать не может делать того же самого в отношении эмбриона, поскольку поступающие с кровью вещества должны сначала пройти через синцитиотрофобласт, а затем и через эпителий плода, прежде чем они смогут попасть внутрь плода.
Стенки матки, плод и плацента образуют привилегированную в иммунном отношении зону, где действуют особые правила. Вместо того чтобы немедленно начинать атаку на вторгшиеся клетки, подающие сигнал «чужой», матка в процессе эволюции приобрела способность внимательно проверять «захватчиков» и затем запускать либо враждебный, либо, наоборот, благоприятный ответ. Плаценты впервые появились у млекопитающих около 120 миллионов лет назад, а такая сложная и глубокая форма плацентации, как гемохориальная плацента, развилась только у нас, людей, а также у человекообразных обезьян и некоторых других видов животных. Гемохориальная плацента дала возможность млекопитающим вынашивать своих детенышей на протяжении более длительного срока, эффективно снабжая их большим количеством питательных веществ и кислорода, но в то же время она потребовала огромных затрат со стороны матери, включая глубокую и значительную перестройку матки в результате вторжения эмбрионального трофобласта, и необходимости локальной модуляции нормальной активности иммунной системы. В этом процессе участвуют и врожденная, и адаптивная иммунная система в форме специализированных маточных натуральных киллеров и Т-клеток соответственно, которые ведут себя совершенно иначе, чем их собратья в периферической системе кровообращения. Чтобы развился такой тип плацентации, в геномах млекопитающих должны были произойти значительные изменения, и некоторые из них носили явно случайный характер.
С регуляторными Т-лифмоцитами мы уже встречались в предыдущей главе, где говорили о «старых друзьях» и о том, как эти лимфоциты защищают нас от аллергических и аутоиммунных реакций посредством ингибирования перепроизводства эффекторных Т-лифмоцитов. Они также играют важнейшую роль в обеспечении иммунной толерантности к плоду. Раньше эти клетки называли супрессорами, поскольку первые эксперименты с пересадкой тканей показали, что они могут предотвращать отторжение, однако они впали в немилость из-за того, что их предполагаемые побочные эффекты преувеличивались, а возможности их количественного анализа имели серьезные технические ограничения. Открытие в Т-клетках важного гена-маркера, транскрипционного фактора FOXP3, заставило исследователей вновь обратить на них внимание. Было установлено, что мыши и люди, у которых отсутствует фактор FOXP3, не имеют регуляторных Т-клеток и подвержены различным аутоиммунным заболеваниям.
Непосредственно перед овуляцией происходит значительное увеличение популяции регуляторных Т-клеток в периферической крови. Предположительно это вызывается повышением уровней эстрогена и прогестерона и помогает объяснить, почему беременные женщины с таким аутоиммунным заболеванием, как ревматоидный артрит, часто испытывают ремиссию во время беременности. Группа исследователей под руководством Тамары Тилберг из Гарвардского университета показала, что Т-клетки могут распознавать специфические варианты человеческих лейкоцитарных антигенов – молекулы HLA-C, единственные из этой группы антигенов, которые являются полиморфными в том плане, что могут существовать в 1600 потенциальных версиях. Это один из примеров механизма гистосовместимости, о котором мы говорили выше. Данные варианты HLA-C присутствуют в эмбриональной и фетальной ткани, и способность распознавать их позволяет Т-клеткам запускать либо враждебную, либо благоприятную реакцию в зависимости от того, что они узнают о совместимости с отцовскими генами. При несовместимости HLA-C, когда отцовские антигены HLA-C значительно отличаются от материнских антигенов HLA-C, начинают увеличиваться популяции продуцирующих цитокин Т-клеток и регуляторных Т-клеток. Именно присутствие регуляторных клеток сдерживает потенциально враждебную реакцию со стороны эффекторных Т-клеток, а ряд исследований также показал, что недостаточная популяция регуляторных Т-клеток связана как с привычным невынашиванием беременности, так и с преэклампсией.
Роберт Самстейн из Онкологического центра Слоун-Кеттеринг в Нью-Йорке помог нам взглянуть на вклад регуляторных Т-клеток в обеспечение иммунной толерантности к плоду под совершенно новым, эволюционным углом зрения. Бóльшая часть регуляторных Т-клеток производится в вилочковой железе, или тимусе, отсюда и буква Т в их названии. Однако было обнаружено, что отдельная популяция регуляторных Т-клеток может продуцироваться из наивных Т-клеток в периферической кровеносной системе. Именно эта популяция Т-регуляторов участвует в обеспечении иммунной толерантности к плоду, и Самстейн считает, что она появилась в ходе эволюции специально для того, чтобы смягчать конфликт между матерью и плодом, который неизбежно возникает у плацентарных млекопитающих вследствие более тесного контакта между отцовскими антигенами и материнским организмом. Самстейн показал, что дифференцирование этих периферийных регуляторных Т-клеток требует наличия гена FOXP3 в паре с некодирующим генетическим элементом CNS1, который усиливает его действие. В то же время CNS1 не требуется для созревания тимусных Т-регуляторов. Самстейн изучил наличие генетического элемента CNS1 у широкого спектра видов животных и обнаружил, что он неожиданно появляется только у плацентарных млекопитающих. Оказалось, что CNS1 относится к разряду «прыгающих генов» (ученые называют их транспозонами), которые были впервые исследованы Барбарой Макклинток в 1950-х годах. Судя по всему, элемент CNS1 появился в какой-то части генома и затем «перепрыгнул» на другую хромосому, где приземлился чуть ниже гена FOXP3 таким образом, что в ходе совместной эволюции стал усиливать экспрессию этого гена. Самстейн сообщил о серии экспериментов на самках мышей, которые показали, что CNS1-дефицитные мыши продуцировали гораздо меньше регуляторных Т-клеток в децидуальной оболочке. У CNS1-дефицитных самок, даже когда они спаривались с самцами с несовпадающим ГКГС (главным комплексом гистосовместимости), наблюдался ранний некроз спиральных артерий, воспаление и отек – и резорбция плода.
Эта новая, эволюционная модель специализированных регуляторных Т-клеток, отвечающих за иммунную толерантность к плоду, представляется весьма убедительной, поскольку позволяет объяснить упомянутый выше факт – женщины, которые быстро беременеют от нового партнера, более склонны к преэклампсии. Причина может быть в том, что они попросту не успевают приобрести толерантность к специфическому типу молекул HLA-C, которые предварительно презентуются им в сперме партнера. Эта модель также объясняет, почему риск преэклампсии возрастает при длительном интервале между беременностями от одного и того же партнера – причина может быть в ослаблении иммунной памяти. Наконец, эта модель помогает объяснить значение очень высоких уровней цитокина, известного как трансформирующий фактор роста бета (TGF-β), в человеческой сперме, о чем сообщила Сара Робертсон и ее коллеги. TGF-β необходим для дифференциации специализированных регуляторных Т-клеток, которые в конечном итоге мобилизуются в матке. Если бы во время развития плаценты в стенке матки не собиралась армия таких Т-регуляторов, ничто бы не мешало материнскому организму начать атаку на чужеродный вторгающийся плод.
Когда плод начинает развиваться, перетягивание каната между матерью и плодом начинает идти в полную силу, поскольку, по словам Дэвида Хейга, теперь в интересах матери сдержать необузданный рост и прожорливость плода, а в интересах плода – получить от матери как можно больше питательных веществ. Поскольку плод несет две копии (аллели) всех генов, одна из которых достается ему от матери, а другая от отца, его ДНК содержит представителей геномов обоих родителей. Эволюция нашла решение этому материнско-отцовскому конфликту у млекопитающих в форме механизма геномного импринтинга, который состоит в подавлении экспрессии материнских или отцовских аллелей определенных генов посредством метилирования ДНК – попросту говоря, к этим аллелям присоединяются так называемые метильные группы и «выключают» их. Когда импринтируется материнский аллель гена, у плода экспрессируется отцовский аллель, и наоборот, когда импринтируется отцовский аллель, активным становится материнский. На настоящий момент у млекопитающих обнаружено примерно 150 генов, подверженных импринтингу (и, вероятно, в скором времени будет открыто множество других), и многие из этих генов связаны с плацентой и плодом. Как вы могли догадаться, эти гены, как правило, обладают взаимно противоположным действием – в полном соответствии с теорией перетягивания каната, выдвинутой Хейгом. Исследователи провели ряд экспериментов, в ходе которых они выключали либо материнский, либо отцовский аллель в импринтируемых генах, чтобы увидеть, что происходит, когда нарушается обеспечиваемая импринтингом симметричность. Другими словами, они намеренно вмешались в процесс перетягивания каната, чтобы узнать, что произойдет, если одна из сторон перестанет тянуть канат.
Например, одна из пар генов, которая импринтируется на очень раннем этапе, – ген, кодирующий синтез инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF2). Этот белковый гормон способствует росту плода, поэтому в норме импринтингу подвергается материнский аллель, а отцовский остается активным. Когда исследователи отключили у мышей отцовскую копию гена, отвечающего за синтез IGF-2, тем самым они склонили баланс сил в пользу матери, в результате чего родившиеся детеныши весили на 40 процентов меньше, чем обычно. В нормальной ситуации материнский организм уравновешивает воздействие IGF2 при помощи гена с противоположным действием – IGF2R, который кодирует соответствующие рецепторы (понятно, что отцовский аллель этого гена предусмотрительно отключается). Когда же исследователи заблокировали материнский аллель этого гена, баланс сил сместился в пользу отца, что привело к увеличению выработки плацентарных гормонов на 35 процентов и, как следствие, к рождению более крупных детенышей, которые весили на 25 процентов больше нормы.
Недавно ученые из Университета Бата дополнили эту картину антагонистического генетического контроля роста плода еще двумя генами, находящимися на противоположных концах каната, – это ген Dlk1 (кодирующий вещество, известное как дельта-подобный гомолог), у которого экспрессируется отцовский аллель и отключается материнский, и ген Grb10 (кодирующий белок, связывающий гормон роста 10), у которого, наоборот, экспрессируется материнский аллель и блокируется отцовский. Мышата с отключенным материнским аллелем гена Grb10 при рождении весили на 40 процентов больше, чем их нормальные собратья, а также имели больший процент жировых отложений. И наоборот, мышата, у которых блокировали отцовский аллель гена Dlk1, были на 20 процентов легче нормального потомства. Оба этих гена действуют через один и тот же метаболический путь, поэтому их антагонистические эффекты обеспечивают нормальный, сбалансированный рост.
Ген PHLDA2 (кодирующий плекстрин-гомологичный домен) экспрессирует материнский аллель, который ограничивает рост плаценты. Это объясняет, почему гиперактивность этого гена ведет к задержке внутриутробного развития плода. Одно исследование также связало его гиперактивность с повышенным риском невынашивания беременности и рождения мертвого плода, что может быть связано с тем, что он нарушает способность плаценты перестраивать спиральные артерии в стенке матки. Эффектам гена PHLDA2 противостоит ген под названием PEG10 (Paternally Expressed Gene 10), который кодирует определенный вид белка и экспрессируется только в отцовской копии. Этот ген малоактивен в начале беременности, но на десятой-двенадцатой неделе резко увеличивает свою активность и сохраняет ее на высоком уровне вплоть до родов.
Ген CDKN1C (кодирующий синтез белка – игнибитора циклин-зависимой киназы 1С) в норме имеет активный материнский аллель и отключенный отцовский, и отключение материнского аллеля приводит к чрезмерному росту плаценты. Валария Романелли и ее коллеги исследовали группу женщин, у которых вследствие генной мутации был дезактивирован ген CDKN1C. Во время беременности эти женщины перенесли тяжелую форму синдрома HELLP (см. выше), а рожденные ими дети имели избыточный вес и страдали синдромом Беквита-Видемана, который приводит к рождению младенцев с непропорционально большими конечностями и органами, а также с целым рядом других дефектов. Похоже, что в этом случае баланс смещается в пользу отцовских генетических интересов, способствуя ненормальному росту плода и повышенным потребностям в питании.
Два других связанных между собой дефекта в импринтируемых генах как нельзя нагляднее демонстрируют, какое значение имеет правильный геномный баланс для нормального развития плода. Синдром Ангельмана вызывается генетическими мутациями, при которых теряется или инактивируется материнская часть генома в 15-й хромосоме (в норме она является активной, тогда как отцовская часть отключается). Для детей с этим синдромом характерно нарушение сна, длительные периоды сосания при грудном вскармливании и частый смех. Их ангельский внешний вид вместе с доверчивостью и улыбчивостью (недаром таких детей называют «счастливыми куклами») с головой выдает стремление отцовских генов манипулировать материнским вниманием. И наоборот, дефект отцовской части генома в 15-й хромосоме ведет к рождению детей с синдромом Прадера-Вилли (в норме активируются отцовские аллели этих генов и инактивируются материнские). Для таких детей характерна низкая подвижность, повышенная сонливость и плохой сосательный рефлекс. Однако ко второму году жизни, когда детей обычно отлучают от груди, у них развивается повышенный аппетит, и они часто страдают склонностью к перееданию и ожирению. В этом случае мы наглядно видим материализацию материнских интересов, поскольку этот синдром – из-за нарушения сосательного рефлекса – ограничивает потребление ребенком молока в период грудного вскармливания, когда питательные ресурсы ограничены, но резко повышает его прожорливость, когда ребенок переходит на обычное питание и может порадовать маму «хорошим аппетитом».
Недавно Дэвид Хейг продолжил эту линию рассуждений, чтобы объяснить явление, с которым хорошо знакомы многие матери, – частые пробуждения ребенка среди ночи с требованием груди. Поскольку прерывистый сон и длительные периоды сосания характерны для детей с синдромом Ангельмана, при котором из-за инактивации материнских генов верх берут в норме молчащие отцовские гены, Хейг предполагает, что, возможно, те же самые отцовские копии генов у нормальных детей вызывают этот вид адаптационного поведения, который позволяет малышам получить более частый доступ к материнской груди и питанию. Кроме того, интенсивное грудное вскармливание тормозит восстановление нормальных овуляторных циклов и задерживает рождение следующего ребенка – таким образом снижая вероятность возникновения соперничества за материнское питание, уход и внимание. Такая вот теория Дарвина в духе Макиавелли!
Примерно на двадцатой неделе беременности завершается перестройка спиральных артерий в стенке матки. С этого времени и вплоть до рождения ребенка у матери увеличивается частота пульса и количество красных кровяных клеток, поскольку ее метаболизм адаптируется к тому, чтобы обеспечивать всем необходимым и ее саму, и ребенка. У многих женщин повышается кровяное давление, поскольку даже нормальные плаценты выбрасывают в материнскую систему кровообращения клеточный мусор, что вызывает умеренное воспаление в кровеносных сосудах. Ян Сарджент и Крис Редман с факультета акушерства и гинекологии Колледжа Наффилда Оксфордского университета утверждают, что ранняя преэклампсия, которая обычно начинается именно на этом сроке беременности и сопровождается дефектами плацентации, является всего лишь результатом интенсификации этого воспалительного процесса. Некоторые исследователи предполагают, что корень проблемы кроется в том, что из-за недостаточной перестройки спиральных артерий уменьшается приток крови к плаценте и развивается гипоксия плода, что и провоцирует возникновение преэклампсического состояния. Однако Сарджент и Редман считают, что ключевым фактором является не сам по себе объем кровотока, а его прерывистость из-за не перестроившихся узких артерий. Эта прерывистость вызывает временную ишемию в плаценте, и, когда кровоток восстанавливается, в ней развиваются точно такие же дополнительные реперфузионные повреждения, как и в сердечной мышце (миокарде) при сердечном приступе, когда происходит сначала закупорка, а затем внезапное возобновление кровотока по коронарной артерии. Резкий приток крови, кислорода и питательных веществ, вместо того чтобы оказывать благотворное действие, вызывает воспаление и окислительный стресс в результате выброса свободных радикалов. Поврежденная плацента сбрасывает в кровяное русло матери воспалительные белки и мусор в виде поврежденных и мертвых клеток, что быстро индуцирует системную воспалительную реакцию в материнских артериях, повреждая их внутреннюю эндотелиальную оболочку и резко повышая кровяное давление.
Из теории Хейга следует, что, когда плод и плацента подвергаются вышеописанной опасности, они должны дать отпор материнскому организму и восстановить достаточное кровоснабжение, используя специфическое биохимическое оружие. Хейг предполагает, что первым делом плацента старается увеличить сердечный выброс, но, если этого оказывается недостаточно, следующим шагом она пытается повысить сопротивление и, следовательно, кровяное давление в периферической кровеносной системе матери, что обеспечивает приток крови к ее основным органами, в том числе к матке и плаценте. Это предположение было подтверждено Анантом Каруманчи, специалистом по нефрологии из Гарвардской медицинской школы.
В 2000 году Каруманчи начал наблюдать за группой беременных женщин, которые страдали высоким кровяным давлением вкупе с почечной недостаточностью. Заинтригованный отсутствием глубоких исследований и консенсуса в отношении причин преэклампсии, он начал собственную исследовательскую программу, используя отделяемые после родов плаценты для того, чтобы узнать, какие гены – из тех, которые кодируют белки, способные попадать в систему кровообращения матери, – увеличивали свою активность в поврежденных плацентах. Безусловным лидером оказался ген sFlt1, который кодирует белок, называемый растворимой fms-подобной тирозинкиназой. И, когда Каруманчи исследовал кровь женщин, страдающих тяжелой формой преэклампсии, он обнаружил, что уровень sFlt1 в их крови в пять раз превышает уровень sFlt1 у женщин с нормальной беременностью. Более того, когда он ввел белок sFlt1 крысам, у них развились типичные симптомы преэклампсии. Он опубликовал результаты своих исследований в 2003 году, и в скором времени с ним связался Дэвид Хейг, который был очень рад тому, что его теория нашла еще одно реальное подтверждение. С тех пор Каруманчи стал убежденным сторонником Хейга, поскольку тот обеспечил его убедительной теоретической парадигмой, позволяющей в том числе объяснить, почему создание подобного хаоса в кровеносной системе матери может отвечать интересам плаценты и плода.
Рост новых кровеносных сосудов и повседневное поддержание эндотелиальной выстилки существующих кровеносных сосудов регулируются белком, известным как фактор роста сосудистого эндотелия (vascular endothelial growth factor или VEGF). Здоровая артериальная стенка поддерживает нормальное артериальное давление. Однако вышеописанный белок sFlt1 является антагонистом белка VEGF; он связывается с ним и инактивирует его. Это приводит к росту кровяного давления в периферической кровеносной системе матери, обеспечивая приток крови к плаценте, как и предполагал Хейг. Но белок VEGF также необходим для поддержания эндотелия в тончайших капиллярах, образующих клубочки в почках, которые отфильтровывают отходы из крови, а также активен в печени и мозге. Это объясняет, почему преэклампсия ведет к повреждению почек и вызывает протеинурию. Но белок sFlt1 действует не в одиночку. Испытывающая стресс плацента также выпускает в кровеносную систему матери растворимый эндоглин, еще один белок, повышающий кровяное давление. Он может действовать согласованно с sFlt1 и ассоциируется с крайне тяжелой формой преэклампсии, синдромом HELLP, при которой у беременных женщин наблюдаются сильные головные боли, изжога и повышенная активность ферментов печени.
Когда еще в 1990-х годах Хейг впервые сформулировал свою теорию конфликта между родителями и потомством, в качестве базового примера он привел сражение между матерью и плодом за глюкозу. Не менее 10 процентов беременных женщин страдают гестационным диабетом (особенно в третьем триместре беременности), который спонтанно исчезает после родов. У них повышается уровень сахара в крови, поскольку клетки становятся устойчивыми к действию инсулина – т. е. их инсулиновые рецепторы почему-то вдруг становятся менее восприимчивыми и эффективными. В ответ материнский организм начинает производить все больше и больше инсулина, чтобы попытаться стабилизировать уровень сахара в крови. Это явление озадачило Хейга. Поскольку резистентность к инсулину и производство инсулина в здоровом организме уравновешивают друг друга, гораздо более экономичным способом обеспечить такое равновесие было бы снизить инсулиновую резистентность и выработку инсулина. Но эта точка зрения не принимает в расчет такую важную заинтересованную сторону, как плацента. Если ей не противодействовать, она всегда будет стремиться забрать из материнской крови больше глюкозы, чем в интересах матери ее дать. Таким образом, при помощи повышенного производства инсулина мать пытается ограничить уровень глюкозы в своей крови.
После каждого приема пищи, говорит Хейг, между матерью и плодом происходит «драка» за долю глюкозы, которую получит каждый из них. Чем больше времени требуется матери на то, чтобы абсорбировать глюкозу из крови, тем больше глюкозы достается плоду. Логично предположить, что цель плода – помешать попыткам матери уменьшить достающуюся ему долю глюкозы через повышенную выработку инсулина. И действительно, тот использует хитрую макиавеллиевскую стратегию, позволяющую снизить эффективность инсулина. Плацента синтезирует такое вещество, как человеческий плацентарный лактоген, который взаимодействует с инсулиновыми рецепторами в клетках материнского организма, нарушает связывание инсулина и, таким образом, обеспечивает повышение уровня сахара в крови. Помимо этого, он стимулирует синтез ряда провоспалительных цитокинов, которые также препятствуют действию инсулина и способствуют развитию инсулинорезистентности и гипергликемии. В качестве контрмеры материнский организм наращивает производство инсулина, и в тех случаях, когда ему не удается успешно противостоять плаценте, развивается гестационный диабет.
Сколько времени должна длиться нормальная беременность и почему она, в конце концов, завершается? Что именно запускает процесс родов? Беременность у людей длится в среднем около сорока недель, хотя преждевременные роды могут происходить и на более ранних сроках. До появления современной акушерской практики дети могли рождаться на сорок второй и даже сорок третьей неделе, хотя повышенные потребности таких неторопливых младенцев, как правило, обрекали их матерей на тяжелую преэклампсию. В 1995 году Роджер Смит и его коллеги из австралийского Госпиталя Джона Хантера предположили существование особых «плацентарных часов», которые включаются на раннем этапе беременности и определяют ее продолжительность и время родов. Работа этих часов основана на действии гормона, называемого кортикотропин-рилизинг-гормон, который продуцируется в плаценте и выпускается в материнскую кровеносную систему начиная примерно с двадцатой недели беременности. В последнем триместре беременности его уровень в крови экспоненциально растет.
Кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ) поступает в организм матери на протяжении всей беременности, однако продуцируемый ее печенью специальный связывающий белок немедленно его инактивирует. Таким образом, несмотря на повышение концентрации циркулирующего КРГ, он находится в неактивной форме. Но примерно за три недели до родов плацента резко увеличивает выработку этого гормона, так что тот не успевает связываться белком, в результате чего уровень активного КРГ в материнской крови резко возрастает. Когда австралийские ученые измерили концентрацию КРГ в плазме крови беременных женщин, они обнаружили, что те женщины, которые впоследствии родили преждевременно, в среднем на тридцать четвертой неделе, имели гораздо более высокие уровни циркулирующего КРГ, чем женщины, родившие в нормальный срок, на сороковой неделе. И наоборот, женщины, родившие позже нормального срока, в среднем на сорок второй неделе, имели значительно более низкие уровни КРГ. Таким образом, плацентарные часы функционируют посредством регулирования выработки КРГ. Исследователи пришли к выводу, что уровень КРГ является надежным индикатором продолжительности беременности, а его резкое повышение служит ранним сигналом, предупреждающим о возможности преждевременных родов.
Смит и его коллеги также предложили, что именно высокий уровень активного КРГ в конце беременности запускает механизм родов, поскольку в плодных оболочках имеются рецепторы КРГ, а этот гормон стимулирует выработку простагландинов и окситоцина, которые вызывают мышечные сокращения матки, выталкивающие ребенка наружу. Это может быть каким-то образом синхронизировано с развитием ребенка, поскольку КРГ также стимулирует у плода выработку гормонов надпочечников, участвующих в созревании органов. Таким образом, предложенная австралийскими исследователями модель предполагает, что мать и ребенок эффективно «согласуют» друг с другом время родов.
Но у этой истории может быть совсем другой поворот. Известно, что КРГ вырабатываются не только у беременных женщин, но и у всех людей как важнейший компонент реакции на стресс. Он синтезируется в гипоталамусе и стимулирует выработку в гипофизе адренокортикотропного гормона (АКТГ). Этот гормон воздействует на надпочечники, которые, в свою очередь, вырабатывают кортикостероиды, особенно кортизол (иногда его называют гидрокортизоном). Этот механизм называется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) осью. Когда наступает беременность, производство гормонов КРГ, АКТГ и кортизола в ГГН-системе снижается. Традиционно считалось, что таким образом мать старается защитить плод, обладающий высокой чувствительностью к кортизолу.
Между тем некоторые странности модели плацентарных часов, предложенной Смитом и коллегами, озадачили Стива Гангестада, руководителя программы исследований в области эволюции и развития в Университете Нью-Мексико. Он решил посмотреть на эту ситуацию с позиции теории Хейга. Во-первых, если мать намеренно подавляет выработку КРГ в своем гипоталамусе, чтобы снизить уровень кортизола и защитить от него плод, почему плод вредит сам себе, выпуская плацентарный КРГ в материнский организм? Во-вторых, если конечными мишенями КРГ являются рецепторы в плаценте и плодных оболочках, запускающие механизм родов, почему плацента не продуцирует этот гормон локально, а вместо этого наводняет им кровяное русло матери на протяжении всей беременности? Гангестад предположил, что здесь существует альтернативное и более логичное объяснение.
Кортизол воздействует на печень, повышая уровень сахара в крови, чтобы обеспечить быстрый приток энергии для реализации стрессовой реакции «бей или беги». Согласно Гангестаду, выработка плацентой такого количества КРГ может быть еще одной попыткой плода получить от матери больше глюкозы, поскольку КРГ опосредованно стимулирует выработку кортизола. Мать дает отпор, пытаясь нейтрализовать КРГ при помощи связывающего белкового комплекса и сокращая свое собственное производство КРГ и кортизола. В поддержку такой интерпретации модели плацентарных часов говорит и тот факт, что при задержке внутриутробного развития плода, как и при преэклампсии, наблюдается повышенный уровень КРГ. Это происходит потому, что находящийся в опасности плод и плацента используют этот гормон в качестве средства борьбы за выживание. Уровень КРГ увеличивается при повышенном сосудистом сопротивлении спиральных артерий, ограничивающем кровоток к плаценте (что происходит из-за недостаточной перестройки спиральных артерий). А кортизол, помимо прочего, вызывает сужение материнских кровеносных сосудов, повышая их чувствительность к адреналину и норадреналину – что повышает сосудистое сопротивление в периферической кровеносной системе матери и, как правило, улучшает приток крови к плаценте.
Никто не оспаривает тот факт, что высокий уровень КРГ во втором триместре является предвестником преждевременных родов, но Гангестад считает, что это может быть связано с тем, что в какой-то момент растущие потребности плода в питательных веществах начинают превышать ту скорость, с которой они могут транспортироваться через плаценту. В результате плод начинает страдать от голода и принимается потреблять собственные жировые запасы. В конце концов он достигает критического метаболического порога, когда ему лучше родиться и начать получать питательные ресурсы от матери через грудное кормление, чем оставаться в материнской утробе и пытаться извлечь больше питательных веществ из ее кровеносной системы. Таким образом, плод резко увеличивает выработку КРГ, чтобы отобрать у матери больше глюкозы, но, если эта мера оказывается недостаточной, устойчиво высокий уровень КРГ стимулирует активную выработку кортизола, который запускает механизм родов.
Эта гипотеза также хорошо согласуется с гипотезой «энергии и роста», объясняющей продолжительность беременности и наступление родов, которая была выдвинута Питером Эллисоном и Холли Дансуорт. Продолжительность беременности, утверждают они, определяется не столько ограничениями размера женского таза и того, что может через него пройти, – как утверждает так называемая акушерская гипотеза – сколько балансом между метаболизмом матери и плода. Согласно их гипотезе, роды наступают в результате метаболического стресса, который развивается, когда мать больше не может удовлетворить потребности плода. Кроме того, исследователи считают, что, тогда как большинство известных на сегодня импринтируемых генов проявляют свою активность в плаценте, есть основания полагать, что многие из таких генов влияют и на работу головного мозга. Таким образом, геномный импринтинг после родов продолжает военную кампанию между матерью и ребенком, но теперь целью сражения является материнское внимание и доступ к питательным веществам через грудь, а средствами борьбы – привлекательность ребенка для матери, механизм формирования привязанности к ребенку и стимулирование лактации.
Этот эволюционный взгляд на беременность и роды кажется чересчур суровым: конфликт интересов, жесткое соперничество, агрессивный и ненасытный эмбрион, которого матка может приютить, но чаще всего безжалостно уничтожает. Он лишает нас романтического представления о человеческом размножении как о процессе, полном любви, сотрудничества и взаимопомощи. К сожалению, эти естественные, бессознательные механизмы часто путают с сознательным и в высшей степени аморальным поведением, направленным на причинение вреда ребенку или манипулирование своим партнером. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть: когда эволюционисты говорят о конфликтах интересов и стратегиях борьбы, они говорят о биологических механизмах, которые заложены в наши тела природой и эволюцией и над которыми мы не имеем никакого сознательного контроля. Например, женщина вовсе не преднамеренно ограничивает растущему внутри нее ребенку доступ к запасам жиров и углеводов в своем организме – таким образом эволюция попыталась примирить противоположные интересы отцовских и материнских генов и генов самого плода. Сара Робертсон сравнивает предшествующий возникновению беременности процесс иммунной регуляции и контроля качества с отношениями между продавцом и покупателем, где мужчины выступают в качестве недобросовестных продавцов, пытающихся любыми способами продать свой товар в виде своего генетического вклада в низкокачественных или несовместимых эмбрионов, а женщины выступают в роли дотошных покупателей, не желающих покупать крайне дорогостоящий некачественный товар.
Робертсон говорит, что мужчины различаются между собой по содержанию в сперме активных ингредиентов, которые стимулируют благоприятный иммунный ответ и восприимчивость стенки матки, тем самым увеличивая шансы на успешную имплантацию зачатых ими эмбрионов. Однако повышенная восприимчивость стенки матки также дает женскому организму шанс оценить качество эмбриона и избавиться от него в том случае, если он будет признан неполноценным. Логично предположить, что этот механизм, обеспечивающий женщине возможность выбора, сохраняется на протяжении всей беременности. Точно так же как некачественный эмбрион, если он успешно имплантируется, будет потреблять дорогостоящие женские ресурсы, по крайней мере до тех пор, пока не погибнет и не будет исторгнут из тела в результате самопроизвольного выкидыша, даже нормально развивающийся плод, потребляя все больше ресурсов, может оказаться непосильным бременем для матери, если внешняя среда вдруг становится для нее враждебной. Это может быть инфекция, недоедание из-за дефицита продовольствия или стресс, вызванный каким-либо стихийным бедствием, войной или, как это часто бывает, разрывом со своим партнером-мужчиной. В этом смысле плод находится на постоянном «испытательном сроке» – хотя Робертсон и не употребляет данное выражение – вплоть до самого рождения, и даже после.
Возможность женского выбора, утверждает Робертсон, распространяется на эмбрион, плод и плаценту. Материнская иммунная система всегда готова сменить благоприятную реакцию на враждебную под влиянием негативных внешних факторов. «Эволюция предусмотрела мощный механизм для изгнания гестационной ткани, если возникает такая необходимость», – говорит она. Тогда как биохимический состав спермы играет важную роль для запуска благоприятного иммунного ответа через стимулирование выработки регуляторных Т-лимфоцитов в начале беременности, объясняет она, впоследствии ответственность за поддержание благоприятной иммунной реакции переходит к сигналам, поступающим от плода и из внешней среды. Дендритные клетки и Т-лимфоциты очень чувствительны к внешним стрессорам – сигналам, которые иммунная система получает из внешнего мира через посредничество гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Этот связующий механизм между внешней средой и иммунной системы матери объясняет, каким образом иммунная система может реагировать на острый стресс и провоцировать выкидыш. Такое предположение согласуется с недавними исследованиями, которые показали взаимосвязь между выкидышем и высоким уровнем воспринимаемого психологического стресса, снижением выработки прогестерона и запуском воспалительной иммунной реакции. По словам Робертсона, признание функции контроля качества, выполняемой иммунной системой, может изменить широко распространенное сегодня представление о том, что все случаи невынашивания женщинами беременности являются «патологией». «Очень вероятно, что иммунообусловленное прекращение беременности при определенных обстоятельствах может быть нормальным и важным аспектом оптимальной репродуктивной функции», – говорит Робертсон. Я уверен, что Дэвид Хейг охотно подписался бы под ее словами.
На сегодняшний день имеется довольно мало доказательств в поддержку этой дерзкой теории, хотя совершенно ясно, что эмбрион является особенно уязвимым в ключевые моменты беременности, такие как имплантация и развитие плаценты. Известно также, что психическое состояние матери может передаваться плоду через ГГН-ось. Дэниел Крюгер из Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета изучил записи о рождении детей в 2000 году более чем в 450 округах США и сравнил количество детей, родившихся с низкой массой тела, и преждевременных родов с данными Бюро переписи США о количестве матерей-одиночек и социально-экономическом статусе рожавших женщин. Он обнаружил свидетельства того, что отсутствие рядом с беременной женщиной мужчины было плохой новостью для ребенка, и стресс, вызванный отсутствием мужской поддержки, приводил к сокращению продолжительности беременности и более низкому весу при рождении. Отсутствие мужчины, говорит Крюгер, может приводить в действие подсознательные механизмы, ограничивающие материнский вклад в ребенка. Являются ли эти механизмы настолько мощными, чтобы привести к гибели плода, еще предстоит изучить.
Между тем на горизонте появляются первые ласточки, свидетельствующие о том, что жестокая логика эволюционной репродуктивной медицины, разрушившая наши радужные представления о беременности, может привести к важным прорывам в лечении осложнений беременности. Например, Анант Каруманчи показал, что развитию преэклампсических симптомов предшествует повышение концентрации белка sFlt1 в крови беременных женщин, и таким образом контроль за уровнем sFlt1 на протяжении всей беременности может быть использован как система раннего предупреждения. Его коллеги продемонстрировали на небольшой группе женщин с преэклампсией, что удаление sFlt1 путем диализа крови стабилизирует кровяное давление и протеинурию и увеличивает продолжительность беременности. Сотрудничество между австралийскими исследователями Сарой Робертсон и Гасом Деккером дает надежду на то, что использование TGF-β может помочь в лечении кажущегося бесплодия, и, кроме того, Робертсон сотрудничает с одной биотехнологической компанией, исследуя возможности использования цитокина ГМ-КСФ (гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора) для улучшения качества бластоцисты и повышения вероятности успешной имплантации. Ян Бросенс считает, что интерлейкин 33 может оказаться полезным в терапии привычного невынашивания беременности.
Эволюционная медицина лишает феномен производства потомства всякой романтики, но взамен дает нам гораздо более глубокое понимание скрытых процессов, позволяющих объяснить те ранее необъяснимые и мучительные проблемы репродукции, которые очень долго оставались в стороне от внимания ученых. Основой для исследований, проводимых сегодня Бросенсом, Робертсон и многими другими, служит эволюционная теория, сформулированная Робертом Триверсом, величайшим из ныне живущих теоретиков в области эволюционной и социальной биологии, который в 1974 году представил миру свою теорию конфликта между родителями и потомством. Впоследствии Дэвид Хейг распространил эту теорию на область репродукции и патологий беременности. Об успехе эволюционного подхода в медицине может свидетельствовать и тот факт, что в настоящее время ведущие специалисты по репродуктивной биологии в мире используют его в качестве теоретической парадигмы для своих исследований.
Обратная сторона прямохождения Как хождение на двух ногах связано с ортопедическими проблемами
Позвольте мне рассказать вам одну старую историю о легендарном конгрессмене от штата Массачусетс и бывшем спикере палаты представителей ныне покойном Типе О'Ниле. Будучи очень коммуникабельным человеком, О'Нил любил обмениваться рукопожатиями со своими избирателями. Но, несмотря на свою прекрасную зрительную память, он был попросту не в состоянии запомнить многие тысячи людей, с которыми ему приходилось встречаться во время предвыборных поездок. Поэтому он использовал хитрый прием. Он пожимал человеку руку и тихо спрашивал: «Как ваша спина?» Поскольку почти 80 процентов присутствующих в аудитории страдали теми или иными проблемами со спиной, такой «личный вопрос» практически гарантировал ему вздох изумления и восторга: «Поразительно – он меня вспомнил!»
Без сомнения, одна из главных особенностей современных людей – это наша способность к прямохождению. Вертикальное положение тела освободило наши руки, сделало нас более эффективными охотниками и собирателями и дало нашему мозгу возможность расти. Прямохождение быстро распространилось среди наших далеких предков и изменило их – хотя и не всегда к лучшему – во многих отношениях. Во всем животном мире только люди и птицы являются облигатно двуногими, хотя некоторые приматы, например гиббоны, предпочитают становиться на две ноги, когда передвигаются по земле. Большинство птиц перемещаются прыжками, хотя некоторые, такие как страус и его родственники, являются превосходными ходоками и бегунами. Но только у людей обязательная двуногость (бипедия) сочетается с абсолютно вертикальным положением позвоночника, при котором весь вес тела давит непосредственно вниз, на таз и ноги. Некоторые эволюционные антропологи считают, что эксперимент, который осуществили над нами природа и эволюция, неслучайно остался единственным в своем роде, так как у этих горе-экспериментаторов есть весьма весомые причины не повторять его на других представителях животного царства. Достаточно посмотреть на печальные последствия этого эксперимента – а именно на широчайший спектр проблем и заболеваний, которые угрожают нашему опорно-двигательному аппарату в результате того, что мы повернули наши позвоночники на девяносто градусов относительно земли.
Возьмем, например, грустную историю Розалинды Мичел. В 1951 году, когда Розалинде было одиннадцать лет, она почувствовала, что с ее позвоночником что-то неладно. У нее начала болеть поясница и ноги, и, к своему огорчению, она обнаружила, что стала терять силу в ногах, которые раньше легко вносили ее с остановки школьного автобуса на вершину крутого холма, где стоял ее дом. Осмотрев ее, семейный врач списал все проблемы на «болезни роста» и не назначил никакого лечения, сказав, что она их перерастет. Но состояние Розалинды только ухудшалось. Подъем от автобусной остановки до дома давался ей все труднее, а боль стала настолько сильной, что, добравшись до дома, она немедленно ложилась, чтобы дать боли утихнуть.
Наконец ее мать не выдержала и отвела девочку к специалисту. «Он посмотрел на мою спину и сказал: "Наклонись и коснись руками пальцев ног". Моя мать ахнула, потому что я не смогла опустить руки ниже колен! – рассказывает Розалинда. – Врач сказал, что, по его мнению, у меня в позвоночнике что-то сместилось, и мне может потребоваться операция». На самом деле самый нижний, пятый позвонок поясничного отдела (L5), вместо того чтобы надежно опираться на основание крестца, соскользнул вперед относительного него и потянул за собой весь позвоночник. Это состояние известно как спондилоптоз. Никто точно не знает, почему происходит такое катастрофическое смещение, хотя предположительно тут замешана генетика. Розалинда считает, что причиной этого были чересчур активные игры: «Я была очень подвижным ребенком, и мне нравилось прыгать с высоты. По дороге в школу было много отличных построек, и мы с друзьями соревновались, кто спрыгнет с самой высокой. Так что это могло произойти по моей вине!»
Первые девять дней в больнице ей пришлось выдержать процедуру вытяжения позвоночника. Эта процедура состоит в том, что к телу пациента прикрепляются различные ремешки или грузы, которые мягко растягивают позвоночник в вертикальном направлении, чтобы поставить сместившийся позвонок на место. Но Розалинде это не помогло, и ей сделали операцию. Поскольку в те времена еще не было титановых стержней и болтов, врачи взяли костные трансплантаты из подвздошных костей таза и жестко соединили основание позвонка L5 с основанием крестца – в надежде на то, что это позволит предотвратить его соскальзывание в дальнейшем. Следующие три месяца Розалинда провела в больнице, лежа на спине, замурованная в гипсе, чтобы дать возможность срастись костным трансплантатам. Когда ее выписали, она продолжила учебу, затем поступила в медицинский институт и стала анестезиологом. Со временем такой хирургический «ремонт» позвоночника привел к тому, что ее поясничный отдел, который в норме должен выгибаться вперед, образуя физиологический лордоз, выгнулся в обратную сторону – состояние, которое называется поясничным кифозом.
Так Розалинда Мичел присоединилась к многомиллионной армии людей, жизнь которых сопровождают боли в спине, смещения позвонков, чрезмерные изгибы позвоночника и множество других проблем, затрагивающих наше тело от шеи до самых пят. Многие специалисты по физической антропологии и эволюционной биологии объясняют этот внушительный перечень недугов одной фундаментальной причиной – прямохождением. Это та цена, которую мы платим за возможность передвигаться на двух ногах с гордо поднятой головой – при этом сгибаясь под бременем огромных издержек, которые повлекла за собой подобная фундаментальная перестройка всей нашей системы опорно-двигательного аппарата. Первым такую идею высказал Уилтон Крогман, специалист по судебно-медицинской антропологии из Пенсильванского университета, которого за его энциклопедические знания человеческого скелета филадельфийские полицейские прозвали «костный детектив». В том же 1951 году, когда Розалинда лежала в больнице в гипсе, он опубликовал новаторскую работу под названием «Шрамы человеческой эволюции», в которой написал следующее: «Мы, люди, имеем чудовищно непродуманную, кустарно состряпанную конструкцию, так что это вообще чудо, что мы можем двигаться – причем довольно ловко».
Крогман сравнивает четвероногих животных с «ходячими мостами», потому что их позвоночник работает как арка, опирающаяся на четыре ноги, с подвешенными под ней грудью и животом. Начав опираться на две ноги, говорит Крогман, мы потеряли все преимущества этой надежной конструкции, и нашему позвоночнику пришлось приспосабливаться к вертикальной нагрузке путем формирования трех арок. При рождении наш позвоночник имеет форму простой дуги, но как только мы начинаем поднимать голову, у нас начинает развиваться изгиб, обращенный выпуклостью вперед, который называется шейным лордозом, а когда начинаем ходить, такой же изгиб, называемый поясничным лордозом, формируется в нижней части туловища. Образующийся между ними изгиб с выпуклостью назад называется грудным кифозом. Эти нормальные физиологические изгибы придают человеческому позвоночнику характерную S-образную форму. Чтобы позволить всевозможные скручивания и наклоны, которые приходится делать двуногим человеческим существам, отдельные позвонки приобрели немного клиновидную форму с более узкой задней частью, как сегменты у игрушечной змейки. Такая конструктивная подвижность несет с собой определенные недостатки, особенно в нижней части спины, на которую приходятся максимальные нагрузки, поскольку позвонки могут легко соскальзывать вперед или назад по наклонным поверхностям своих соседей.
Самые пагубные последствия прямохождения мы пожинаем в том месте, где нижняя часть позвоночника соединяется с крестцом и тазом, говорит Крогман. Наш таз расположен под углом к позвоночнику, а не на одной линии с ним. Подвздошные кости таза стали короче и шире, чтобы помочь мышцам поддерживать наши провисающие внутренности. Максимальное напряжение, вызванное весовой нагрузкой, сосредоточено в месте сочленения подвздошных костей и клиновидного крестца. У людей это крестцово-подвздошное сочленение удлинилось по сравнению с четвероногими, так что в некоторых случаях крестец может доходить до родового канала и сужать его, затрудняя процесс деторождения. Именно эта область, по словам Крогмана, является наиболее нестабильной в силу своих конструктивных особенностей и служит главным источником болей в пояснице.
Значительный вес органов брюшной полости, давящих вниз под действием силы тяжести, создает риск образования грыж. Расположение сердца высоко над землей означает, что венозной крови приходится больше метра преодолевать земную гравитацию, поднимаясь от ног к грудной клетке, что создает угрозу варикозного расширения вен. А предрасположенность вен толстой кишки к застою крови в прямом смысле обеспечивает нас геморроем.
Далее Крогман спускается вниз, к нашим ногам. За очень короткий эволюционный период они трансформировались из цепких и хватких конечностей в основной несущий нагрузку механизм передвижения. «Мы переместили ранее противопоставленный большой палец параллельно другим пальцам ноги и удлинили комбинацию костей предплюсны, образующих пятку, голеностопного сустава и подъема ноги, до половины всей длины нашей ступни по сравнению с одной пятой у шимпанзе. Кроме того, мы сформировали жесткую арку и две поперечные оси, одна из которых проходит через предплюсну, а другая через основания пальцев». Такая конструкция не совсем удачна, утверждает Крогман и делает вывод: «Все эти шишки на ногах и мозоли, плоскостопие, вывихи и другие многочисленные недуги ступней говорят о том, что эволюция и адаптация не сумели превратить их в эффективные устройства, идеально приспособленные для выполнения их новой функции».
В феврале 2013 года группа последователей Крогмана выступила на заседании Американской ассоциации содействия развитию науки с докладом, который в знак признания заслуг выдающегося антрополога также озаглавила «Шрамы человеческой эволюции». Энн Гиббонс, ветеран научной журналистики, корреспондент журнала Science, вспоминает, как Брюс Латимер из Университета Кейс Вестерн Резерв, который в свое время перенес серьезную операцию на спине, «хромая, поднялся на сцену; в руках он нес искривленный человеческий позвоночник, на который и смотреть-то было больно». Латимер начал с заявления о том, что прямохождение есть корень всех зол, поскольку именно оно является причиной целого ряда травм и заболеваний, уникальных для человека. С возрастом наш S-образный позвоночник накапливает стресс, что приводит к патологическому усилению его физиологических изгибов, сгорбленной спине и сколиозу (боковому искривлению). Особую проблему, по словам Латимера, представляет собой большой поясничный изгиб, который необходим для предотвращения обструкции родового канала и уравновешивания верхней части тела на ногах и ступнях. Эта конструкция чрезвычайно подвержена изнашиванию и травмам. «Если вы заботитесь о своем позвоночнике, он может худо-бедно прослужить вам лет до сорока – пятидесяти, – говорит он. – Но потом будьте готовы к проблемам». Постоянное скручивание, которое возникает при ходьбе вследствие того, что мы ставим одну ногу впереди другой, да еще и размахиваем при этом руками в противоположном направлении, со временем истирает и выдавливает наши межпозвоночные диски. Из всего животного царства только люди, подчеркивает Латимер, страдают от переломов шейки бедра, шишек на ступнях, плоскостопия, порванных менисков, межпозвонковых грыж, синдрома расколотой голени, спондилолиза (повреждения в месте сращения дуги позвонка с его телом в результате чрезмерного растяжения или выгибания спины назад), сколиоза и кифоза.
Когда мы ходим и бегаем, говорит Латимер, нагрузка, которую испытывают наши суставы, в несколько раз превышает вес нашего тела. При ходьбе это не создает большой проблемы, поскольку естественное сгибание коленей на пятнадцать градусов позволяет амортизировать значительную часть этой нагрузки. Если бы при ходьбе мы сгибали колени еще больше, амортизация была бы еще эффективнее, но если вы попробуете это сделать, то увидите, что такой способ ходьбы довольно утомителен. К сожалению, когда мы бежим, наши нижние конечности полностью выпрямляются – причем именно в тот момент, когда на них приходится максимальная нагрузка. У шимпанзе бедренная кость свисает из тазобедренного сустава прямо вниз, и кости голени продолжают эту прямую линию ниже колена, что обеспечивает симметричную нагрузку на коленный сустав. Однако у людей из-за расположения ног непосредственно под центром тяжести тела коленный сустав сгибается немного под углом внутрь, что приводит к неравномерному изнашиванию хряща.
Джереми Десильва из Бостонского университета согласен с утверждением Крогмана, что у эволюции не было достаточно времени, чтобы создать идеальную человеческую ногу. Если бы у наших ног была совершенная конструкция, говорит он, разве подиатрия превратилась бы в индустрию стоимостью миллиарды долларов? Ноги страуса гораздо лучше приспособлены для бега. Его лодыжка слита с костями стопы в одну жесткую кость, напоминая специальные устройства, которые используют для бега современные паралимпийцы, а его длинные и толстые сухожилия гораздо лучше сохраняют энергию упругой деформации при перемещении на двух ногах. Страусы и их предки совершенствовали конструкцию своих ног на протяжении 250 миллионов лет; мы, люди, – на протяжении всего лишь 5 миллионов лет. В нашей стопе до сих пор имеется двадцать шесть костей, потому что мы произошли от живших на деревьях приматов, которые использовали все эти кости в очень гибких, мускулистых стопах, идеально приспособленных для хватания веток. Конечно, говорит Десильва, эволюция не так уж плохо поработала, приспосабливая обезьянью стопу к выполнению новых функций, таких как ходьба и бег: «Человеческая стопа довольно хорошо выполняет свою работу, и естественный отбор способствовал интенсивной перестройке стопы в функциональную структуру, которая эффективно амортизирует удар о землю, делается жесткой во время отталкивания и даже снабжена такими упругими компонентами, как свод стопы и ахиллово сухожилие».
Тем не менее, отмечает Десильва, вряд ли можно назвать человеческую стопу продуктом «интеллектуального проектирования», поскольку никакого «проектирования» не было и в помине – наша стопа представляет собой результат огромного количества небольших, случайных, сделанных наспех модификаций уже существующей структуры. Эти модификации являют собой биологический эквивалент скотча и скрепок. В отличие от инженеров, разрабатывавших современные беговые протезы для паралимпийцев (помните злополучного Оскара Писториуса?), эволюция не может вернуться к чертежной доске и разработать новую конструкцию с чистого листа. Ей приходится иметь дело с тем, что есть, – в данном случае с очень гибкой и абсолютно плоской обезьяньей стопой с длинным противопоставленным большим пальцем, идеально подходящим для захвата веток. «Естественно, – объясняет Десильва, – эта наспех переделанная система оказалась не совершенной: растяжение связок голеностопного сустава, подошвенный фасциит, плоскостопие…» К этому можно добавить пяточные шпоры, воспаление подошвенного апоневроза (длинной сухожильной пластинки, соединяющей пятку с основанием пальцев) и болезненный бурсит большого пальца стопы («шишка»), который может развиваться при постоянном отклонении большого пальца от физиологически правильной осевой линии.
Боли в спине стали эпидемией мирового масштаба. В одних только Соединенных Штатах 20 миллионов человек ежегодно обращаются к врачам с жалобами на боль в спине, а ежегодные расходы на лечение позвоночника превышают 85 миллиардов долларов. В Великобритании из-за болей в спине теряется свыше 81 миллион рабочих дней в год, а ежегодные расходы только Национальной службы здравоохранения на лечение заболеваний спины превышают 350 миллионов фунтов стерлингов. Столь высокая заболеваемость породила гигантскую индустрию, ориентированную на диагностику и облегчение болей в спине и ногах. В июле 2014 года эта индустрия продемонстрировала свои достижения на специализированной выставке «Боли в спине», организованной в Выставочном зале Лондонского олимпийского центра. Чего там только не было: вертикальные аппараты МРТ для сканирования спины, массажеры и тренажеры, стулья, кровати и подушки, кинезиология, йога, индуцирующая мозговые альфа-волны музыка, микротоковая терапия, ортопедическое оборудование для вытяжения позвоночника, магнитотерапия, альтернативное питание для облегчения болей в спине и капсулы с экстрактом бамбука для восстановления поврежденных позвоночных дисков.
Пит Мей – типичный представитель этого миллионного сообщества несчастных страдальцев. По иронии судьбы, он работает спортивным журналистом, но для него самого двери в спорт навсегда закрыты. Сейчас ему пятьдесят лет, и последние тридцать лет он страдает болями в спине. В молодости он увлекался мини-футболом и впервые почувствовал проблемы во время игры. «Я помню, как однажды пытался добраться до своего остеопата, который живет на холме в северной части Лондона. Мне пришлось взять такси, чтобы подняться на холм, а потом моему врачу пришлось отвезти меня вниз! Я едва переставлял ноги! В последний раз моя спина дала серьезный сбой, когда я гулял по побережью в Корнуолле. Там было очень грязно, я поскользнулся и приземлился прямо на задницу. На следующий день я мог передвигаться только скрючившись». Остеопат заботится о его спине, как автомеханик о старом изношенном двигателе на винтажном автомобиле. Как правило, диагнозы при болях в спине довольно расплывчаты: вроде бы ни переломов, ни повреждений нет, но болит. Питу говорят, что его боли вызваны механическим фактором, таким как раздражение деликатных фасеточных суставов в задней части позвонков. И его состояние вряд ли когда-нибудь улучшится.
Да, люди платят высокую цену за свою горделивую осанку. И хотя замечание Брюса Латимера о том, что чем дольше мы живем, тем меньше у нас шансов иметь здоровую спину и нижние конечности, совершенно справедливо, существует также широкий спектр серьезных медицинских проблем, связанных с опорно-двигательным аппаратом, которые никак не связаны со старением. Но если прямохождение действительно достается нам такой дорогой ценой, логично будет предположить, что оно несет с собой ощутимые преимущества, с лихвой компенсирующие эти издержки. Научный мир предложил нам множество возможных объяснений того, как и почему наши далекие предки перешли к прямохождению; и большинство этих теорий предполагает, что ареной для эволюции прямохождения стала жаркая африканская саванна с ее открытыми пространствами, которая в определенный момент нашей истории начала вытеснять тропические леса. К сожалению, ни одна из этих теорий не представляется в полной мере убедительной.
Первой ласточкой стала гипотеза об «ориентировочно-исследовательском поведении», которая предполагает, что стойка на двух ногах позволяла нашим предкам смотреть поверх высокой травы, чтобы лучше наблюдать за происходящим и ориентироваться на местности. Однако полевые исследования шимпанзе и гелад показали, что они очень редко, если вообще когда-либо, встают на задние лапы, чтобы провести осмотр местности. Известный палеоантрополог Дон Джохансон, чья экспедиция обнаружила скелет Люси, также однозначно указывает на то, что для ранних гоминидов, таких как афарские австралопитеки, которые были всего около метра ростом, весили 25–30 кг и имели абсолютно плоские стопы, выдавать свое присутствие вертикальной стойкой в окружении множества быстрых и сильных хищников было очень плохой идеей!
Гипотеза об «освобождении верхних конечностей» казалась неопровержимой на протяжении многих лет, и в качестве главных причин назывались такие факторы, как использование орудий труда, обращение с оружием, собирательство и самозащита. Однако, как замечает Джохансон, между появлением первых двух видов деятельности и развитием бипедии прошло более миллиона лет, а шимпанзе и другие человекообразные обезьяны успешно собирают пищу и защищают себя без облигатного прямохождения. Также было выдвинуто предположение, что встать на ноги гоминидов заставила необходимость носить на руках детенышей, поскольку из-за потери волосяного покрова те больше не моги цепляться за шерсть, как это делают детеныши обезьян. Чтобы проверить эту гипотезу, двое исследователей из Манчестерского университета попросили здоровых молодых женщин носить десятикилограммовый груз, который был либо симметрично распределен в жилете или в двух гантелях, либо смещен на одну сторону, как это происходит при ношении ребенка на руках или на бедре, и сравнили их энергозатраты. При асимметричной нагрузке энергозатраты были настолько выше, что исследователи сочли маловероятным, чтобы ношение детенышей на руках могло послужить толчком к прямохождению.
Джохансон также категорически отвергает гипотезу о «терморегуляции», которая предполагает, что наши далекие предки встали на две ноги, чтобы уменьшить количество тепловой энергии, получаемой от прямых солнечных лучей. «Почему бы просто не спрятаться в тени деревьев в жаркий полдень?» – спрашивает он. Наконец, «акватическая» гипотеза утверждает, что отсутствие волосяного покрова, эффективное потоотделение и толстый слой подкожного жира свидетельствуют о том, что важную роль в эволюции человека сыграла вовсе не саванна, а водная среда. Эта теория также была опровергнута, включая и вполне разумную версию немецкого антрополога Карстена Нимица, который предположил, что мелководная среда глубиной до середины бедра не только вынуждала, но и помогала нашим предкам овладеть навыком прямохождения, обеспечивая им дополнительную поддержку. Но насколько хорошей «тренировочной площадкой» для наших безоружных предков с их неумелой, шаткой походкой могло быть теплое мелководье, кишащее крокодилами, бегемотами, змеями и гигантскими выдрами?
Джохансон считает, что вопрос поставлен неправильно. Не существует одного-единственного правильного ответа на вопрос: «Почему наши предки стали ходить на двух ногах?» Вместо этого мы должны спрашивать: «Где, когда и какие именно преимущества подтолкнули ранних гоминидов к такому фундаментальному изменению поведения, как переход от передвижения на четырех конечностях к прямохождению?» Некоторое время назад ответ на этот вопрос казался недостижимым из-за малого количества ископаемых останков наших предков и – до появления относительно современных методов изотопных исследований – трудностей, связанных с воссозданием их среды обитания. Между тем сейчас картина постепенно проясняется и новые открытия преподносят один сюрприз за другим.
Все ранние виды рода Homo – такие как человек прямоходящий (Homo erectus), человек умелый (Homo habilis) и гейдельбергский человек (Homo heidelbergensis) – уже были полноценными двуногими. Но когда наши предки начали вставать на две ноги? Знаменитая «дорожка» из отпечатков ног афарских австралопитеков, найденная в танзанийской местности Лаэтоли, однозначно доказывает, что уже 3,5 миллиона лет назад наши предки уверенно передвигались на своих двоих. Эти следы очень похожи на следы современного человека: наличие свода стопы, правильное расположение большого пальца стопы и гораздо бóльшая по размеру пяточная кость по сравнению с шимпанзе. Брюс Латимер шутит, что, если бы один из таких парней сегодня прогулялся по пляжу во Флориде, никто бы не обратил на него внимания! Робин Кромптон и его коллеги из Ливерпульского университета при помощи средств функциональной МРТ создали трехмерное изображение всех лаэтольских следов. Затем при помощи компьютерного моделирования они определили распределение давления на стопу во время ходьбы и смоделировали примерную походку. Раньше считалось, что афарские австралопитеки ходили сильно согнувшись и отталкиваясь от земли средней частью стопы, как сегодня перемещаются человекообразные обезьяны. Однако исследователи установили, что они ходили с полностью выпрямленной спиной, опираясь в основном на переднюю часть стопы, в частности на большие пальцы ног, что больше напоминает манеру ходьбы сегодняшних людей.
Но могли ли они по-прежнему лазить по деревьям? Проанализировав найденные фрагменты ног австралопитеков, Джереми Десильва пришел к выводу, что у большинства представителей этого рода голеностопный сустав был очень похож на человеческий, т. е. был расположен под прямым углом, тогда как у шимпанзе этот сустав имеет трапециевидную форму, благодаря чему может сгибаться под гораздо бóльшим углом. Когда шимпанзе взбираются на деревья, они сгибают ноги в лодыжке так сильно, что их голень почти касается подъема стопы. Австралопитеки уже не могли этого делать, поэтому были довольно неуклюжими лазальщиками. Таким образом, хотя австралопитеки продолжали забираться на деревья, чтобы добраться до фруктов, спастись от хищников или свить гнездо для ночевки, их основной дом был на земле. Но, разумеется, и здесь не обошлось без исключений. В 2012 году Йоханнес Хайле-Селассие, Брюс Латимер и их коллеги представили фрагменты ног австралопитека, датирующиеся примерно 3,4 миллиона лет назад. Хотя эти останки пока не идентифицированы, не исключено, что они могут принадлежать к одному из ранних видов – австралопитеку рамидус (Australopithecus ramidus), который существовал одновременно с австралопитеком афарским. Фрагменты стопы четко показывают наличие противопоставленного большого пальца. Исследователи пришли к выводу, что этот вид, получивший временное кодовое название BRT-VP-2/73, более ловко передвигался по деревьям, чем по земле. Эта находка предполагает, что переход к прямохождению не был прямолинейным процессом и первые двуногие гоминиды существовали одновременно с «древесными» представителям того же рода.
Ученые также отметили, что у этих ископаемых останков есть много общего с еще более древним видом гоминидов – ардипитеком рамидус (Ardipithecus ramidus), который существовал на Земле не менее 4,4 миллиона лет назад, т. е. почти в то самое время, когда предположительно началось расхождение эволюционных линий человека и шимпанзе. Найденные останки женщины-ардипитека, которую окрестили Арди, заставили нас серьезно пересмотреть наши представления о возникновении прямохождения. Мы все знакомы с изображением «парада» человеческой эволюции из школьных учебников, где за стоящей на четырех лапах шимпанзе следует сутулый австралопитек, затем человек прямоходящий и, наконец, самый высокий и грациозный человек разумный (Homo sapiens). Но сегодня все больше палеоантропологов сходятся во мнении, что эту красивую картинку можно выбросить в мусорную корзину. Дело в том, что таз Арди гораздо больше напоминает широкий и плоский таз австралопитеков и современных людей, что вместе с характерными особенностями бедренной кости, ребер и задней части грудного позвонка однозначно свидетельствует о том, что Арди передвигалась на двух ногах с вертикальной спиной. И при этом она имела длинную, узкую стопу с противопоставленным большим пальцем!
Оуэн Лавджой, Тим Уайт и их коллеги пришли к выводу, что Арди была двуногим, хорошо приспособленным для жизни на деревьях, поскольку такое строение стопы с оттопыренным большим пальцем позволяло ей ловко хвататься даже за тонкие ветки. Она также была способна передвигаться на двух ногах по земле, хотя и не так грациозно, как более поздние австралопитеки. «Таким образом, Ardipithecus ramidus с его промежуточной конструкцией опорно-двигательного аппарата оказался тем самым недостающим звеном в процессе перехода от древесного образа жизни к наземному, сопровождавшегося развитием бипедии, – утверждают они, и едко добавляют: – Следовательно, все теории возникновения прямохождения, основанные на наблюдениях за локомоцией человекообразных африканских обезьян, больше не являются полезной парадигмой».
Некоторые антропологи утверждают, что, поскольку люди и их прямые предки имеют такое же строение запястья и пальцев, как шимпанзе и гориллы, они произошли от общего предка, для которого был характерен способ перемещения с опорой на костяшки пальцев. Однако Трейси Кивелл и Дэн Шмитт показали, что шимпанзе и гориллы используют для такой «кулачной ходьбы» разные части кисти и запястья, а также указали на то, что многие виды обезьян, у которых запястья и пальцы устроены как у шимпанзе, не используют способ перемещения с опорой на костяшки пальцев, и наоборот, многие виды обезьян с другой морфологией запястий и пальцев перемещаются так же, как шимпанзе.
Обнаружение ардипитека усилило интерес к другим странным гоминидам, выбивающимся из общей картины. Ситуация начинает выглядеть так, будто вскоре нам придется переместить этих маргинальных персонажей с задворок человеческой эволюции в самый ее центр, поскольку они могут представлять собой самые первые попытки наших предков экспериментировать с прямохождением, датирующиеся примерно 9 миллионов лет назад! Возьмите, например, ореопитека. Этот примат, чей скелет, несмотря на отсутствие родства, имеет сильное сходство со скелетом ардипитека, обитал на островах Сицилия и Сардиния. Он имел широкую грудную клетку, длинные и тонкие пальцы рук и ног, очень гибкие суставы и физиологический поясничный лордоз – признак того, что он мог стоять в вертикальном положении. Он ловко передвигался по деревьям и был способен худо-бедно ковылять на двух ногах. Его большой палец был расположен под углом 100 градусов к остальной части стопы, так что его нога действовала подобно треножному штативу. На островах у него не было естественных врагов, но примерно 6,5 миллиона лет назад между островами и Африканским континентом образовались сухопутные перемычки. Среду обитания ореопитеков наводнили жестокие хищники, и в скором времени ореопитеки были полностью уничтожены.
В 2001 году французский палеоантрополог Мишель Брюне обнаружил в Чаде расколотый череп гоминида, которому он дал имя Тумай (на чадском наречии это означает «надежда на жизнь»). На его основе он описал новый, самый древний из известных видов гоминидов, названный им сахелантропами (Sahelanthropus). Череп представляет собой смесь из человеческих и обезьяньих черт, но Брюне убежден, что его владелец был двуногим, из-за сдвинутого вперед положения большого затылочного отверстия – места, где спинной мозг выходит из черепа. В 2000 году в местности Туген-Хиллс в Кении были обнаружены ископаемые останки одного из первых гоминидов, названного оррорином. У него были маленькие зубы по сравнению с австралопитеками и ардипитеками, а вертел бедра – место, где бедренная кость переходит в шейку бедра и присоединяется к тазобедренному суставу, – очень похож на человеческий. Это наводит на мысль о том, что, хотя оррорины обитали на деревьях, они также были двуногими.
Ученые пока не решили, был ли кто-то из этих ранних двуногих нашим прямым предком, однако становится очевидно, что эксперименты с прямохождением были отнюдь не редкостью среди гоминоидов (группы, включающей больших человекообразных обезьян, наших прямых предков и нас самих). Тем самым, согласно Робину Кромптону, весьма маловероятно, что человеческое прямохождение развилось из способа перемещения шимпанзе – с опорой на костяшки пальцев. В этом случае наши предки должны были бы эволюционировать из более ранних четвероногих приматов в так называемых коронных гоминоидов (таких как сахелантропы, оррорины и др.), которые были двуногими, затем обратно – в четвероногих обезьян, таких как шимпанзе и гориллы, и, наконец, – в австралопитеков и род Homo, которые уже однозначно были прямоходящими двуногими! Тут Кромптону и его единомышленникам понадобилась бритва Оккама. Они предпочли бы более простой сценарий, предполагающий, что мы произошли от некоего раннего вида гоминоидов со сформировавшимся навыком прямохождения, который был общим предком для наших предков и предков шимпанзе. Затем наша линия продолжила идти по пути развития прямохождения, а линия шимпанзе и горилл пошла в другую сторону – по пути развития своеобразной формы четвероногости со случайным использованием прямохождения или даже передвижения на трех конечностях для таких целей, как добывание пищи, защита и нападение, сексуальное демонстрационное поведение и перемещение под пологом леса.
На первый взгляд теория Кромптона кажется парадоксальной, но вот как он ее объясняет:
После изучения ископаемых останков, поведения обезьян и результатов экспериментов нами был сделан логический вывод, что прямохождение первоначально развилось как адаптация к жизни на деревьях. Но каким образом? Дело в том, что почти все обезьяны усиливают сгибание суставов верхних и нижних конечностей при перемещении по тонким, гибким ветвям. Это позволяет им сместить центр тяжести своего тела вниз и таким образом уменьшить вероятность падения и раскачивание ветвей. Наша гипотеза состоит в том, что перемещение на двух ногах по деревьям дает большим древесным обезьянам преимущество, поскольку позволяет им держаться за тонкие ветки с помощью длинных и цепких пальцев ног, увеличивая их устойчивость, и при этом освобождает одну или обе руки для поддержания равновесия, кормления и переноса веса с ветки на ветку. Мы обнаружили, что орангутанги передвигаются на четырех конечностях по одиночным толстым и устойчивым ветвям; на менее толстых ветвях они используют брахиацию (перемещение при помощи рук); но, попадая на тонкие и гибкие боковые ветки, они тут же встают на задние конечности и выпрямляют их почти так же, как люди.
Наши предки выпрямились гораздо раньше, чем мы думали. Около 4 миллионов лет назад большинство австралопитеков были двуногими с хорошо сформировавшимся навыком прямохождения. Их поясничные позвонки по количеству и форме были очень похожи на наши. Они не сутулились, не наклонялись вперед и не переваливались неуклюже при ходьбе. Их грудная клетка, как и наша, была более бочкообразной, чем у шимпанзе (у тех грудная клетка имеет конусообразную форму), чтобы вместить их большие внутренности внизу и занимать меньше места наверху, где находится мощная мускулатура плечевого пояса, позволяющая им легко передвигаться по ветвям на руках. Шимпанзе также имеют меньше поясничных позвонков, чем мы, поэтому они не могут принять полностью вертикальное положение.
Эта революционная гипотеза о происхождении бипедии у человека в последнее время приобретает все бóльшую поддержку в результате кардинального пересмотра вероятного времени эволюционного расхождения человека и шимпанзе. До 2013 года считалось, что это произошло около 4–6 миллионов лет назад, что, принимая во внимание открытие Арди, означает, что гоминины (подсемейство приматов, к которому относятся предшественники человека) должны были перейти к прямохождению с молниеносной скоростью. Теперь ученые рекалибруют молекулярные часы, по которым они датируют эволюционные события. Опираясь на новые предположения о продолжительности жизни одного поколения наших далеких предков и о количестве новых мутаций, которые могут быть привнесены с каждым поколением, исследователи отодвинули дату расхождения человека и шимпанзе примерно до 7,5 миллиона лет назад – и это по самым консервативным оценкам. Эта новая дата немедленно включила древних двуногих, таких как сахелантропы и оррорины, в человеческое семейное древо, а шимпанзе и горилл лишило статуса наших прямых предков, сделав их боковой ветвью, которая пошла по собственному пути развития намного раньше, чем мы считали.
Хотя локомоция австралопитеков не была такой же энергетически экономичной, как наша, при ходьбе на двух ногах они тратили гораздо меньше энергии, чем шимпанзе. Майкл Сокол, Дэвид Рейчлен и Герман Понтцер провели расчеты и показали, что из-за коротких задних конечностей при передвижении на двух ногах шимпанзе вынуждены тратить гораздо больше сил на отталкивание от земли. Это приводит к высоким энергетическим затратам. Кроме того, из-за согнутых тазобедренных и коленных суставов центр тяжести их тела находится впереди тазобедренных суставов, что требует значительных усилий мышц-разгибателей для поддержания равновесия. Такое согнутое положение также означает, что они используют гораздо больше мышечной силы в области колена. Все это делает любой способ передвижения для шимпанзе, будь то на двух или четырех конечностях, гораздо более энергозатратным, чем для людей – общие затраты на локомоцию у современного человека на 75 процентов ниже, чем у шимпанзе. Этот вывод предполагает, что ранние гоминины могли получать выигрыш в энергии благодаря небольшому увеличению длины ноги или разгибания бедра, что обеспечивало им преимущество в процессе естественного отбора. Возможно, это позволяло им лучше находить пищу в условиях ее нехватки.
Дон Джохансон считает, что это заложило основу для постепенного перемещения наших предков с деревьев на землю:
Я считаю, что наши предки, еще до Люси, начали осваивать прямохождение под покровом леса, в привычной для них среде, где они сталкивались с меньшим числом опасностей. Приобретенный навык прямохождения преадаптировал их для жизни в саванне, куда они и принялись постепенно переселяться, расширяя свою территорию обитания. На открытых пространствах саванны бипедия обеспечила нам множество важных для выживания преимуществ: руки были свободны, чтобы изготавливать и использовать орудия труда, они могли проходить пешком большие расстояния, собирать и переносить еду, осматривать окрестности, возвышаясь над травой, и т. д. Прямохождение было ключевой поведенческой инновацией, которая открыла путь для дальнейшей эволюции, даже несмотря на то, что этот навык далек от совершенства. Современные люди по-прежнему страдают от плоскостопия, грыж, болей в спине и других негативных побочных эффектов прямохождения. Но именно этот шаг в далеком прошлом поставил нас на путь, который впоследствии привел к появлению и развитию орудий труда, увеличению размеров головного мозга и развитию интеллекта – всему тому, что сделало нас доминирующим видом на нашей планете.
Так что же представляет собой наш позвоночник? Действительно ли это, как утверждают некоторые эволюционисты, переделанная наспех, несовершенная конструкция, предназначенная служить главной цели – освободить наши руки? Обсуждение этого вопроса со многими хирургами-ортопедами и специалистами по сравнительной анатомии убедило меня в том, что здесь требуется более тонкий подход и что человеческий позвоночник был (во многом беспочвенно) оклеветан антропологами-эволюционистами. Возьмем, например, боли в пояснице. Джон О'Дауд, консультирующий хирург-ортопед в Лондонской больнице святого Томаса и всемирно известный эксперт в области заболеваний позвоночника, не оспаривает тот факт, что боли в пояснице являются поистине эпидемией мирового масштаба, но объясняет, в чем заключается сложность ситуации с медицинской точки зрения. Проблема в том, что повреждения позвоночника могут не сопровождаться болями в пояснице, и наоборот, боли в пояснице могут не сопровождаться явными признаками патологии. Многие исследования показывают, что боли в пояснице одинаково часто встречаются у людей как с нормальным, так и с больным позвоночником. Источник боли может находиться в какой-нибудь мышце или связке, которую трудно увидеть при помощи МРТ или других методов диагностики, или, как отмечает О'Дауд, за боль может нести ответственность не столько спина, сколько мозг. Хотя настоящие психосоматические боли в спине – явление редкое, психологический фактор тоже может играть свою роль. Представьте, что вы живете с партнером, который вынужден заботиться о вас из года в год, потому что у вас больная спина. Однажды вы идете к врачу, и он говорит вам, у вас нет никаких патологий в спине. Ваши отношения с партнером будут поставлены под угрозу. Точно так же люди «знают», что покажет сканирование их позвоночника еще до того, как они его сделают, потому что им известно, что они должны увидеть, чтобы обосновать свои боли в спине. Худшая вещь для этих людей – увидеть, что их спина совершенно нормальна!
Возможно, вы думаете, что Розалинда Мичел, чей позвоночник полностью соскользнул с крестца в возрасте двенадцати лет, прожила короткую и полную физических страданий жизнь после примитивной, по современным меркам, операции, намертво прикрепившей ее нижний поясничный позвонок к основанию крестца? Вовсе нет. Этот хирургический «ремонт» продлил ей жизнь более чем на полвека, никак не повлияв ни на ее профессиональную карьеру, ни на ее способность иметь детей. Наличие у людей крестца с вентрально направленной верхушкой всегда создавало проблемы для женщин, поскольку это сужает родовые пути. Сращенный с позвонком крестец Розалинды сделал ее родовые пути еще более извилистыми и узкими. «Тем не менее я родила двоих детей, – говорит она. – В обоих случаях мне говорили, что требуется кесарево сечение, но они оба как-то сумели пройти этот крутой поворот!»
Проблемы начались, когда Розалинде было уже далеко за шестьдесят. Поскольку в результате операции вместо поясничного лордоза у нее образовался поясничный кифоз, постепенно она стала все сильнее наклоняться, сгибаясь в пояснице, из-за чего ей приходилось вытягивать шею, как черепахе, чтобы посмотреть вперед. Отсутствие нормального S-образного изгиба позвоночника привело к проблемам с равновесием, что сделало самую обычную ходьбу трудной и утомительной. В конце концов, она решилась на операцию по остеотомии позвоночника, в ходе которой ей вырезали V-образный клин из задней части второго поясничного позвонка, чтобы добиться его выпрямления. Последствия операции оказались чрезвычайно болезненными, поскольку всем мышцам, связкам и сухожилиям ее спины, живота и ног пришлось приспосабливаться к новому положению позвоночника. Через пять лет после операции она почувствовала некоторое ухудшение самочувствия – на этот раз по ее собственным строгим меркам. Недавно она прошла всю Великобританию пешком от побережья до побережья, начав свое путешествие в Камбрии на берегу Северного моря и преодолев в общей сложности сто миль и несколько горных хребтов. Она до сих пор устраивает себе пешие каникулы, проходя по десять миль в день в течение недели. Она надеется, что последнего «ремонта» позвоночника ей хватит до конца жизни!
О'Дауд считает, что позвоночник человека прекрасно подходит для вертикальной нагрузки. У большинства людей он отлично выполняет свои функции на протяжении восьмидесяти лет и дольше и сохраняет свою силу, гибкость и упругость даже при значительных повреждениях. По мнению О'Дауда, позвоночник – настоящее чудо природной инженерной мысли. Специалисты по сравнительной анатомии склонны с ним согласиться и, что примечательно, утверждают, что в вертикальном человеческом позвоночнике нет ничего особенного и многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, точно так же характерны для четвероногих животных.
Одно из главных эволюционных новшеств в человеческом позвоночнике – его S-образная форма с физиологическими лордозами в шейном и поясничном отделах и физиологическим кифозом в грудном отделе. Большинство гипотез объясняют этот изгиб тем, что он необходим для удержания вертикального положения. Но если подумать, жесткий вертикальный стержень позволил бы сделать это гораздо лучше. Майк Адамс, профессор сравнительной анатомии из Бристольского университета, считает, что секрет S-образной кривой – в ее способности амортизировать ударные нагрузки. S-изгибы отлично противостоят сжатию, которое в очень жесткой, прямолинейной структуре создало бы громадные нагрузки. При каждом нашем шаге эти изгибы действуют как пружина. Они постоянно находятся в состоянии упругого напряжения и легко поглощают ударную энергию. Но такая пружиноподобная деформация позвоночника возможна лишь в ограниченных пределах: мощные, идущие вдоль всего позвоночника мышцы – выпрямители спины (параспинальные мышцы) не позволяют этим изгибам сжиматься и растягиваться слишком сильно.
Разумеется, S-образная форма может приводить к проблемам. Людей с «круглыми» и горбатыми спинами – легион. Еще чаще проблемы возникают в нижней части спины – в области поясницы. Как правило, это связано со сжимающей нагрузкой – вертикальной силой, которая действует на позвоночник перпендикулярно межпозвоночным дискам. Эта нагрузка частично создается земной силой тяжести, поэтому в нижней части позвоночника она больше, чем в верхней. Но она также создается усилием параспинальных мышц, которые всегда находятся в напряженном состоянии, чтобы удерживать нас в вертикальном положении. Они генерируют такую же компрессионную нагрузку, как и сила тяжести, особенно когда мы поднимаем значительный груз. Позвоночник человека в определенной степени приспособлен для того, чтобы справляться с этой нагрузкой. Наши нижние позвонки больше и мощнее, чем верхние, и, поскольку нагрузка характеризуется силой, приходящейся на единицу площади, сжимающая нагрузка остается одинаковой в любой точке вдоль позвоночника. Исходя из этого, Майк Адамс утверждает, что чаще всего патологию нижнего отдела позвоночника вызывает не сжатие, а сгибание.
Бывший коллега Адамса Донал Макналли, ныне профессор анатомии в Ноттингемском университете, согласен с этим и добавляет, что мышечное сжатие позвоночника у четвероногих ничуть не меньше, чем у нас, прямоходящих. Представьте себе, говорит он, гепарда, который охотится за газелью. Мгновенное ускорение, высочайшая скорость, резкие повороты и прыжки заставляют параспинальные мышцы работать на пределе возможностей, создавая огромные нагрузки на позвоночник. Спазм этих параспинальных мышц может быть чрезвычайно мощным и разрушительным. Например, свиньи, которых выращивают ради бекона, имеют массивные спинные мышцы. Иногда на бойне из-за неправильного применения электрошока эти мышцы сжимаются в таком сильном смертельном спазме, что даже раздавливают позвонки (их осколки часто встречаются в мясе). Даже у людей эти мышцы настолько сильны, что во время эпилептического припадка их судороги могут приводить к компрессионным переломам позвонков.
Хотя это может показаться удивительным, изменение положения позвоночника с горизонтального на вертикальное фактически не повлияло на те компрессионные нагрузки, которым подвергается позвоночник в результате действия мышц. Например, поясничный отдел мужчины при поднятии груза в среднем испытывает сжимающую нагрузку около двух тысяч ньютонов, из которых всего триста ньютонов приходится на вес головы, плечевого пояса и грудной клетки, давящий вниз. Позвоночник человека нагружен точно так же, как у четвероногих, говорит Макналли, а переход к прямохождению не так уж сильно изменил его первоначальную «конструкцию» и характеристики. На самом деле, замечает Макналли, люди уникально адаптированы для того, чтобы снизить эту мышечную нагрузку на позвоночник благодаря значительному уплощению наших тел в переднезаднем направлении (сравните нашу грудную клетку с круглой бочкообразной грудной клеткой у горилл), что позволяет существенно уменьшить изгибающие моменты.
Ответ на вопрос, почему параспинальные мышцы создают такие большие сжимающие нагрузки, дает биомеханика. В идеале, чтобы уменьшить мышечную нагрузку во время сгибания и скручивания позвоночника, эти мышцы должны были бы работать на расстоянии, оперируя длинным плечом рычага, но это невозможно анатомически. Параспинальные мышцы, как следует из их названия, идут параллельно позвоночнику и, следовательно, оперируют коротким плечом рычага, создавая повышенную компрессионную нагрузку. Представьте себе, что вы наклоняетесь, чтобы поднять груз двадцать килограммов. Эта асимметричная нагрузка на позвоночник должна быть уравновешена параспинальными мышцами. Но ваша рука, поднимающая вес, образует плечо рычага длиной сорок – пятьдесят сантиметров (расстояние от руки до позвоночника), тогда как плечо рычага, образованного мышцами вашей спины, составляет меньше одной десятой от этого. Таким образом, чтобы поднять вес, прилагаемая параспинальными мышцами сила должна быть в десять раз больше поднимаемого вами веса. Самая губительная ситуация для нашего позвоночника – когда при приложении такой чудовищной силы сжатия мы дополнительно его сгибаем. Но именно так мы и поступаем при поднятии тяжестей и работе в саду – мы наклоняемся вперед и манипулируем грузом или садовыми инструментами на большом плече рычага, компенсируя это сокращением параспинальных мышц, которые прилагают колоссальную силу сжатия к нашим позвонкам и межпозвоночным дискам. Больше всего меняется геометрия поясничных дисков. К счастью, в процессе эволюции они приобрели немного клиновидную форму, которая делает возможным наклон под углом двадцать пять градусов, но при таких значительных напряжениях все равно могут возникать проблемы.
Что нам действительно дала эволюция, объясняет Макналли, так это пластичную костно-мышечную систему, которая с течением времени способна меняться – функционально перестраиваться, чтобы справиться с возлагаемыми на нее нагрузками. Наши мышцы, кости и мягкие ткани становятся сильнее, если постоянно заставлять их работать. Это одна из причин того, почему боли в спине не являются особой проблемой для людей, чья работа связана с регулярным переносом тяжестей. Их спина перестраивается, чтобы успешно справляться с такими нагрузками. Гораздо большей опасности в этом отношении подвергаются так называемые «солдаты выходного дня», которые в воскресенье решают перекопать весь сад или совершить другие трудовые подвиги на приусадебном участке.
Как указывает Макналли, многие проблемы с позвоночником, с которыми сталкиваются люди, точно так же встречаются у четвероногих, особенно у таких «спортивных» животных, как лошади и гончие собаки, а также у животных-долгожителей. Благодаря улучшению ветеринарной помощи за последние несколько десятилетий количество животных преклонного возраста существенно увеличилось. У хондродистрофичных пород собак, у которых нарушено формирование хрящевой ткани, – таких как таксы, пекинесы, бигли и пудели – ранняя дегенерация дисков является системным заболеванием и может начинаться уже в полуторагодовалом возрасте, и даже не хондродистрофичные собаки, такие как овчарки, ретриверы, лабрадоры и доберманы, к восьмому году жизни уже часто страдают от дегенерации дисков.
Мы виним эволюцию во всех наших бедах с позвоночником, говорит Майкл Адамс, из-за ее скупости. Она практически не дала нам права на ошибку. Мы развили массивные поясничные позвонки с толстыми амортизирующими межпозвоночными дисками, которые очень эластичны и устойчивы к травмам. На самом деле они гораздо надежнее искусственных протезов, которыми хирурги-ортопеды заменяют поврежденные диски. Проблема в том, что, когда эти диски травмируются, они почти не поддаются восстановлению. Межпозвоночные диски фактически лишены кровоснабжения, поскольку никакие кровеносные сосуды не выдержали бы колоссальных сжимающих нагрузок. Ситуацию усугубляет очень низкая плотность клеток в хрящевой ткани. Из-за отсутствия хорошего кровоснабжения, которое стимулировало бы образование новых клеток на месте травмы, диски почти не способны восстанавливаться, и в них начинаются дегенеративные процессы. Мало того, что эволюция снабдила нас сложнейшим «одноразовым» механизмом, объясняет Адамс, так еще и наша культура не способствует правильному обращению с этим механизмом. В западном обществе мы лишаем себя гибкости в позвоночнике, особенно в его поясничном отделе. Мы целыми днями сидим на стульях и теряем подвижность. Для сравнения Адамс приводит представителей африканских и индейских племен, которые много движутся и часто сидят на корточках. В результате даже во взрослом возрасте у них сохраняется такая же подвижность позвоночника, как в детстве. Когда у вас гибкая поясница, ваши диски остаются упругими и эластичными и их гораздо труднее повредить при сгибании и скручивании. Но, если вы теряете эту подвижность, любое сгибание создает значительные нагрузки на позвоночник, приводя к синдрому «солдата выходного дня».
Поведение дисков при травмировании позволяет объяснить глобальную эпидемию болей в спине. Здоровые диски просто не могут чувствовать боль. Поскольку они являются амортизирующими подушками, принимающими на себя всю сжимающую нагрузку на позвоночник, то не снабжены ни кровеносными сосудами, ни нервами. Но при соскальзывании позвонков или грыже в диске могут образоваться радиальные трещины, через которые внутрь него начинают прорастать кровеносные сосуды и нервы. В результате может начаться вымывание жизненно важных молекул, отвечающих за гидратацию диска, а также приток в диск иммунологических факторов, вызывающих местное воспаление. Именно это воспаление и вызывает боль.
Кроме того, мы не предназначены для того, чтобы очень долго и неподвижно находиться в вертикальном положении, как это часто происходит сегодня. Дело в том, что в таком положении нагрузка концентрируется на задней части межпозвоночного диска и дуге позвонка. Когда мы стоим прямо, значительная часть нагрузки передается через маленькие хрупкие апофизарные суставы на задней части позвонков. Известно, что старые люди становятся заметно меньше ростом. Во многом это вызвано тем, что дегенерация дисков приводит к сокращению расстояния между позвонками и увеличивает нагрузку на апофизы позвонков. У молодых людей на эти апофизарные суставы приходится менее 10 процентов всей сжимающей нагрузки на позвоночник, но к 50 годам эта нагрузка увеличивается до 20–30 процентов, особенно при лордотической осанке. При уплощении межпозвоночных дисков через эти очень деликатные суставы может передаваться до 90 процентов всей сжимающей нагрузки. Это приводит к значительному ремоделированию костной ткани, избыточному росту костных образований (остеофитов) и остеоартриту.
Но эволюция постаралась компенсировать эти недостатки весомым преимуществом. Она наделила наш скелет способностью к быстрому и значительному адаптивному ремоделированию. С одной стороны, в ударной руке Энди Маррея или Роджера Федерера имеется на 35 процентов больше костной массы, чем в вашей или моей; с другой стороны, если вы проведете шесть месяцев в постели, ваша костная масса уменьшится на 15 процентов. Адаптивное ремоделирование позволяет нашим телам увеличивать костную массу, когда это необходимо, и экономить ценные ресурсы путем ее сокращения, когда она не нужна. Именно способность к такой перестройке мышц и костей является одной из причин того, почему суперспортсмены, такие как Усэйн Болт, сегодня могут устанавливать новые мировые рекорды, намного превосходящие рекорды их предшественников, – человеческое тело еще не достигло пределов своих возможностей.
Хотя я считаю, что мы должны с достаточным скептицизмом отнестись к мрачному взгляду Брюса Латимера на здоровье человеческого позвоночника, существует три серьезные проблемы, присущие лишь человеку и его предкам, в которых во многом повинно наше вертикальное положение. Это остеопороз, беременность и роды и сколиоз.
Остеопороз представляет собой сложное метаболическое и гормональное заболевание, но в нем замешан и биомеханический фактор. Кости состоят из двух типов тканей: кортикальной ткани (твердой и плотной), которая образует внешнюю часть скелетных структур, и губчатой, или трабекулярной, ткани, которая образует внутреннюю часть кости и представляет собой сеть из множества тонких костных перегородок, называемых трабекулами. У людей размер позвонков увеличивается по мере продвижения от шеи к тазу, у нас также очень большая пяточная кость. Но, несмотря на больший размер нижних позвонков, они отличаются меньшей плотностью и имеют намного больше губчатой ткани и намного меньше кортикальной, чем аналогичные позвонки у четвероногих. Шейки наших длинных костей – узкие перешейки между костным телом и суставной частью, которой кость сочленяется с другими структурами, – имеют аналогичное строение. При приложении силы к губчатой кости она изгибается, что делает ее эффективным амортизатором.
Но те же самые особенности губчатой кости, которые позволяют ей хорошо амортизировать ударные нагрузки, повышают вероятность развития остеопороза. Тонкие, длинные и редко расположенные трабекулы делают кость упругой и гибкой, но в то же время создают другие проблемы. Губчатые кости – это живые, динамически меняющиеся структуры, поскольку специальные подвижные клетки, называемые остеокластами, постоянно поглощают (резорбируют) костную ткань, истончая трабекулярные перегородки и сокращая их число. Таким образом, гигантские внутренние поверхности больших трабекулярных костей обладают значительным потенциалом для ремоделирования – изменения плотности – в ответ на сигналы, поступающие от остальной части тела. Один из таких сигналов – количество нагрузки, которую кость регулярно получает. Хотя, как отмечает Майк Адамс, сегодня этот вопрос разделил ученых на воюющие лагеря, ключевая идея состоит в том, что ослабление и ограниченное использование мышц по мере старения снижает нагрузки на наши кости. В отсутствие привычных нагрузок кости начинают избавляться от лишней плотности, чтобы стать легче. Здесь действует один из ключевых принципов эволюции – «что не используется, то теряется». В конце концов, кости могут стать настолько хрупкими, что пожилому человеку достаточно поскользнуться на банановой кожуре и упасть с высоты своего роста, чтобы получить тяжелый, потенциально опасный для жизни перелом.
На заседании памяти Уилтона Крогмана, проведенном Американской ассоциацией содействия развитию науки в феврале 2013 года, антрополог Карен Розенберг указала на то, что название его знаменитой статьи «Шрамы человеческой эволюции» болезненно резонирует с сегодняшней ситуацией в области деторождения, поскольку широкое распространение хирургических родов оставляет огромное количество современных матерей в буквальном смысле слова со шрамами на всю жизнь. Хотя столь большой процент кесаревых сечений может отражать сегодняшнюю тенденцию к чрезмерной медикализации родов, исследовательница отмечает, что это также свидетельствует о том, насколько трудным и болезненным в принципе является процесс родов для женщин. Причина этого кроется в строении женского таза, формирование которого в ходе человеческой эволюции происходило под действием противоположных факторов естественного отбора. Сначала женский таз адаптировался для прямохождения посредством сужения, но потом ему пришлось адаптироваться к другому обстоятельству – к тому, что с появлением человека прямоходящего (Homo erectus) младенцы начали рождаться все более крупными и со все более крупным головным мозгом, что потребовало расширения родовых путей. Например, вес детеныша гориллы при рождении составляет всего 2,7 процента веса его матери, тогда как вес человеческого ребенка – более 6 процентов веса матери.
Поскольку вход в родовые пути женщин имеет форму овала, расположенного большим диаметром слева направо и меньшим диаметром спереди назад, голова ребенка, чтобы протиснуться в этот канал, должна быть повернута боком. Однако дальнейшее продвижение головы затруднено седалищными костями таза, особенно седалищными остями, и передненаправленной верхушкой крестца. Чтобы продвинуться дальше, ребенку нужно повернуть голову на девяносто градусов. Это также позволяет войти в родовые пути его плечам. Далее, уже на выходе, ребенку нужно снова повернуться, чтобы его затылок был обращен к лобковой кости. Ребенок рождается лицом вниз, что означает, что для безопасных родов – чтобы предотвратить случайное обвитие ребенка пуповиной или повреждение его нежного позвоночника в результате слишком интенсивного проталкивания через родовой канал – женщине требуется посторонняя помощь (в прошлом эту функцию выполняли повитухи, сегодня – акушеры). Но даже при наличии профессиональной помощи роды остаются очень опасным делом и являются основной причиной женской и детской смертности.
В 2007 году в интервью журналу National Geographic Карен Розенберг назвала это очередным классическим примером кустарной работы эволюции и дала ему весьма негативную оценку: «В результате давления различных эволюционных факторов сегодня мы имеем совершенно непродуманную конструкцию, в которой, кажется, есть одни только недостатки. Она работает, но кое-как. Никакому нормальному инженеру и в голову бы не пришло изобрести столь чудовищные родовые пути. Но эволюция – это ремесленник, а не инженер. Она не изобретает заново, а наспех переделывает то, что есть». Сегодня отношение Розенберг к этому вопросу стало не столь однозначным. Как и я, она начала видеть в результатах эволюционного труда крупицы гениальности. Вместо того чтобы рассматривать роды как шрам, оставленный несовершенством эволюционного процесса, говорит исследовательница, лучше рассматривать их как гениальный компромисс между двумя практически несовместимыми требованиями.
Что касается беременности, то тут эволюция тоже немного подправила человеческое тело. Кэтрин Уитком, Лайза Шапиро и Дэн Либерман показали наличие уникальных адаптационных модификаций поясничных позвонков у женщин и их женских предков. Во время беременности женское тело меняет форму, поскольку весь вес развивающегося ребенка (3–4 килограмма) плюс вес околоплодных вод и т. п. сосредоточивается спереди и смещает центр тяжести тела вперед относительно бедер. Это затрудняет ходьбу и приводит к хорошо известной «утиной» походке на поздних сроках беременности. Женщины могут частично противодействовать такому смещению центра тяжести за счет мышечных усилий, но это утомительно. Эволюция постаралась помочь им в этом. Наши поясничные позвонки имеют клиновидную форму, что позволяет поясничному отделу сформировать изгиб вперед (естественный лордоз), необходимый для удержания вертикального положения. У мужчин клиновидную форму имеют два нижних поясничных позвонка – L4 и L5, тогда как у женщин такую форму имеет еще и третий позвонок – L3. Это позволяет беременной женщине увеличивать изгиб поясницы почти на двадцать восемь градусов к концу беременности, тем самым сдвигая центр тяжести назад относительно бедер. Это также позволяет значительно уменьшить сдвигающие силы, действующие на позвонки, которые в ином случае могли бы возникнуть в результате такого увеличения изгиба. Выше мы говорили о том, что выраженный лордоз влияет на тонкие апофизарные костистые отростки на задней части позвонков, поскольку в этом случае через них передается больше сжимающей нагрузки, чем при нормальном вертикальном положении. У женщин развились более широкие апофизарные поверхности, чтобы они могли справиться с этой возрастающей нагрузкой во время беременности. Ни одна из вышеописанных адаптационных модификаций позвоночника не обнаружена у шимпанзе. Но у австралопитека афарского найден точно такой же половой диморфизм в клиновидной форме поясничных позвонков, как у людей. Уитком предполагает, что древние женщины-гоминины (как и наши современницы) страдали от усталости и болей в спине во время беременности, что серьезно ограничивало их способность искать пищу и спасаться от хищников. Это и обусловило сильное давление отбора в отношении поясничного лордоза, который мы видим у беременных женщин сегодня.
Кифотические и лордотические изгибы нашего позвоночника, если они не чрезмерно выражены по причине старения или каких-либо патологий, являются совершенно нормальными и полезными адаптационными модификациями, помогающими нам ходить на двух ногах и амортизировать ударные нагрузки. Но вот боковое искривление позвоночника, сколиоз, – это патология, которая встречается с удивительной частотой и является уникальной для человека и наших ближайших предков (у четвероногих ее можно добиться только при помощи ужасной хирургической операции). Сколиоз, кажется, преследует человеческий позвоночник с тех пор, как мы стали настоящими двуногими. Антропологи, которые изучали мальчика из Нариокотоме (его называют также Турканский мальчик) – представителя вида человека прямоходящего (Homo erectus), жившего около 1,5 миллиона лет назад, – обнаружили у него боковое искривление позвоночника. Когда я писал эту главу, поступила сенсационная новость о находке скелета короля Ричарда III при раскопках под автостоянкой в английском городе Лестер. Ричарда III всегда изображали как уродливого горбуна, но теперь мы смогли узнать правду о его фигуре – у него был сильно выраженный правосторонний сколиоз.
Розалинда Джана – начинающая писательница и блогер, выиграла конкурс писательских талантов журнала Vogue в 2011 году, когда ей было всего пятнадцать лет. Ее подростковые годы были полны физических и душевных страданий из-за развития тяжелой формы сколиоза. Все началось с того, что однажды она заметила «бугор» в левой нижней части грудной клетки. Ее мать тоже обратила на это внимание. «Сначала мы подумали, что этот бугор образовался из-за складок на одежде, но, присмотревшись, поняли, что проблема была в моей фигуре». Остеопат сказал, что у нее легкая форма сколиоза, но что волноваться тут не о чем. У ее отца и двоюродной сестры тоже был небольшой сколиоз, и это нисколько им не мешало. Между тем у Розалинды кривизна увеличивалась все сильнее, и она начала испытывать дискомфорт. «Мое туловище сжалось и стало короче, а поскольку я довольно высокая и у меня очень длинные ноги, диспропорция между длиной туловища и ног бросалась в глаза. Грудная клетка заметно сместилась влево, так что казалось, что сбоку у меня выпирает горб, а правая лопатка начала выпячиваться наружу, так что в конце концов стала торчать почти под прямым углом, как крыло. Я думаю, что мой позвоночник так быстро деформировался отчасти из-за быстрого роста – летом я очень много ела и быстро росла, но в результате стала короче!»
Всего за шесть месяцев угол искривления ее позвоночника увеличился с пятидесяти шести до восьмидесяти градусов. Она начала испытывать боль. О занятиях спортом не могло быть и речи, а после экзамена по рисованию ей пришлось долго лежать, потому что провести два часа в согнутом положении за столом было для нее настоящим мучением. У нее появилась одышка, поэтому ей трудно было подниматься в гору. Наконец она поняла, что больше не может откладывать визит к хирургу-ортопеду, о котором старалась не думать весь год. «Он посмотрел рентгеновские снимки, измерил меня и сказал: "Твой угол искривления – угол по Коббу – составляет восемьдесят градусов. Обычно мы оперируем начиная с сорока пяти". Тогда моя мама спросила: «Если она решится на операцию, когда можно будет ее сделать?" Мы думали, что речь пойдет о нескольких неделях или месяце, но он ответил: "Как насчет следующей среды?"» Во время операции врачи обнажили ее позвоночник и урезали некоторые мышцы. Также они установили титановые транспедикулярные винты в тела позвонков и соединили винты титановыми стержнями. Позвоночник Розалинды, поддерживаемый титановой конструкцией из болтов и стержней, заметно выпрямился.
Подавляющее число случаев сколиоза относится к разряду идиопатических, что в переводе с медицинского языка означает «Мы не знаем, чем это вызвано». До сих пор эта серьезная патология не получала должного внимания со стороны исследователей. Тем не менее кое-что мы о ней знаем. Идиопатический сколиоз обычно развивается у детей при вступлении в подростковый возраст, с началом периода быстрого роста, так что, по сути, сколиоз является болезнью роста, а не дегенерации. Легкая форма сколиоза встречается на удивление часто: так, исследование ALSPAC (Эйвонское лонгитюдное исследование родителей и детей), проведенное Бристольским университетом, в ходе которого велось наблюдение за 14 тысяч детей с рождения до подросткового возраста, показало, что легкая форма сколиоза обнаруживается у 5 процентов детей, хотя сколиоз с кривизной более десяти градусов встречается намного реже. Это преимущественно болезнь девочек – соотношение частоты заболевания у девочек и мальчиков составляет 9 к 1. Но что именно происходит в растущем позвоночнике, что делает его подверженным боковому искривлению и почему позвоночник всегда начинает искривляться в правую сторону? Возможно, это как-то связано с поясничным лордозом, поскольку многие девочки со сколиозом имеют выраженный поясничный лордоз. Одни гипотезы называют причиной сколиоза нарушения в мышцах, другие ссылаются на дефекты соединительной ткани, связанной с позвоночником, третьи утверждают, что это является следствием так называемого дезорганизованного роста скелета. Но почему эти факторы проявляются только на одной стороне позвоночника, остается неясным. Некоторые исследователи предполагают, что тут замешаны асимметричные механические силы, которые индуцируют боковую клиновидную деформацию тел позвонков.
Все эти предполагаемые механизмы, нарушающие состояние позвоночника и связанных с ним структур, действуют на локальном уровне. Но не может ли здесь крыться более фундаментальная причина? Недавно проведенные исследования выявили участки хромосом, которые могут быть связаны с идиопатическим сколиозом, и, в частности, установили взаимосвязь между сколиозом и дефектом в гене CHD7, который играет важную роль во многих базовых процессах в клетках. Исследователи сосредоточились на гене CHD7 после того, как обнаружили, что этот ген отсутствует или поврежден у детей, рожденных с синдромом CHARGE. Дети с этим синдромом часто умирают в раннем возрасте, а те, кому удается выжить, подвержены таким заболеваниям, как пороки сердца, умственная отсталость, глухота, нарушение развития мочеполовой системы – и сколиоз. Исследователи предположили, что CHD7 взаимодействует с рядом сигнальных молекул эмбриональных клеток, которые управляют симметричным развитием эмбриона.
Заинтересовавшись идеей симметрии, французские исследователи Доминик Рузье и Ален Бертоз сделали одно интересное открытие – а именно, они обнаружили у детей со сколиозом проблемы с внутренним ухом и сопряженные с этим вестибулярные нарушения. Эти дети испытывают трудности с равновесием, и им требуется больше времени, чтобы научиться ходить и ездить на велосипеде. Поскольку человеческая ходьба и бег представляют собой процессы постоянного «управляемого» падения с балансированием на одной ноге, они требуют хорошего чувства равновесия. Неудивительно, что Рузье и Бертоз также обнаружили нарушения в мозолистом теле, сплетении нервных волокон, соединяющем левое и правое полушария головного мозга. У детей со сколиозом, которых они протестировали, эта аномалия приводила к нарушению подаваемых головным мозгом команд «право/лево». Другие исследователи обнаружили у людей, страдающих сколиозом, асимметрию в размере других областей мозга.
Используя магнитно-резонансную томографию, Рузье и Бертоз измерили черепные и лицевые кости у детей со сколиозом и обнаружили значительную асимметрию в расположении левой и правой глазниц, а также в развитии носовой перегородки, челюстей и скул. В свою очередь, челюсти и скулы связаны с базикраниумом, нижней частью черепа, где находятся мозжечок (который также оказался асимметричным) и костные лабиринты внутреннего уха. Когда последние деформируются, объясняют исследователи, это может привести к асимметрии в передаче информации от отолитов (крошечных твердых образований, которые находятся в заполненном жидкостью внутреннем ухе и воздействуют на сенсорные клетки, реагирующие на силу тяжести и ускорение) в систему, отвечающую за положение тела, – что также негативно отражается на равновесии. В частности, они предполагают, что такие аномалии полукружных каналов костного лабиринта приводят к искажению сигналов, поступающих в вестибулоспинальный тракт (часть моторной нервной системы, отвечающая за координацию движений). Вестибулоспинальный тракт соединяет ствол мозга через спинной мозг с мышцами конечностей и туловища. Например, его повреждение вызывает нарушения походки, что также часто встречается у людей со сколиозом. Эти асимметричные аномалии, проявляясь в период быстрого роста, когда позвоночник становится очень пластичным, легко могут запустить процесс образования бокового изгиба.
Кэролайн Голдберг, в прошлом работавшая в ортопедическом отделении Детской больницы пресвятой Богородицы в Дублине, провела собственные измерения у детей, страдающих сколиозом. Опираясь на ряд параметров, она сравнила их левые и правые ладони (этот метод называется дерматоглификой ладоней) и обнаружила значительные различия. Феномен, измеряемый этим методом, называется флуктуирующей асимметрией. Под флуктуирующей асимметрией понимают, как правило, незначительные отклонения морфологических признаков организма от идеальной билатеральной симметрии, являющейся фундаментальным свойством стабильного эмбрионального развития. Некоторые организмы, или люди, в процессе своего развития более чувствительны к факторам внешней среды, которые могут нарушить этот процесс и привести к отклонению различных анатомических параметров от билатеральной симметрии. Голдберг ссылается на исследование, проведенное немецкими учеными в начале 1990-х годов, которое показало, что девочки имеют более высокую степень флуктуирующей асимметрии, чем мальчики. Как замечает Голдберг: «Мои слова о том, что девочки менее стабильны, чем мальчики, всегда вызывают смех!» Голдберг сопоставила графики нестабильности развития у девочек и мальчиков с их скоростью роста и обнаружила, что девочки подвергаются вдвое большему риску, поскольку они начинают интенсивно расти как раз в тот период (в возрасте двенадцати-тринадцати лет), на который приходится пик нестабильного развития. У мальчиков интенсивный рост начинается позже. Хотя другие исследователи подвергли ее идеи критике, Голдберг утверждает, что это позволяет объяснить значительно более высокую распространенность сколиоза у девочек по сравнению с мальчиками. Девочки-подростки также имеют незрелый скелет и обычно бывают очень высокими для своего возраста – как Розалинда Джана.
Майк Адамс согласен с тем, что интенсивный рост девочек-подростков играет важную роль в развитии сколиоза. Мы знаем, говорит он, что деминерализованные кости – которые мы видим у страдающих остеопорозом пожилых женщин – деформируются под воздействием нагрузок. Такие же недостаточно минерализованные кости мы видим и у девочек-подростков. Бурный рост в этом возрасте опережает способность их организма снабжать кости достаточным количеством минералов. В таком состоянии позвонки могут деформироваться со скоростью в долю градуса каждые несколько часов.
Хотя для дальнейшего прояснения этого вопроса требуется больше исследований, очевидно, что в основе сколиоза лежат гены и асимметрия. Местные факторы, такие как неравномерные центры роста в позвонках, нарушения нервной системы вдоль позвоночного столба, слабые мышцы, неэластичные связки, – по отдельности или в любой комбинации могут усиливать эти фундаментальные асимметрии, приводя к развитию полномасштабного сколиоза.
Почему у животных не бывает сколиоза? Возможно, здесь замешана сила тяжести. При вертикальном положении позвоночника сила тяжести усиливает любую асимметричность в структуре позвонков, дисков и мускулатуры. Или причина может быть в том, замечает Голдберг, что естественный отбор гораздо менее снисходителен к сколиозу у четвероногих. «Только представьте себе гепарда со сколиозом сорок градусов, который пытается преследовать газель!» – шутит она. У человека даже при искривлении тридцать градусов спина остается такой же сильной, как нормальная прямая спина, и у женщин совершенно не препятствует родам. Такая спина не мешает даже устанавливать мировые рекорды в спорте – Усэйн Болт имеет врожденный сильный сколиоз. Ричард III, несмотря на свой искривленный на семьдесят градусов позвоночник, славился воинской доблестью и мастерством, пока в сражении на Босвортском поле ему не раскололи мечом череп. Был ли его разум столь же искорежен, как и его спина, остается предметом жарких академических споров. Как поэтически выразилась Розалинда Джана, которая в буквальном смысле перенесла на своей спине все трудности подросткового возраста: «Главное, что у меня есть хребет. Пусть он неровный, но он очень сильный».
Внимательный взгляд на эволюцию нашего скелета позволяет нам увидеть различие между реальными издержками эволюции прямохождения и гениальными компромиссами, найденными эволюцией в попытке совместить несовместимые требования. Но есть одна область, где эволюционная биология стала мощным инструментом для исследования проблемы, с которой сталкиваются все больше людей в современном мире, – это беговые травмы.
Дэн Либерман, профессор в области эволюционной биологии человека в Гарвардском университете, очень любит бегать. Он никогда не был выдающимся бегуном, но начиная со студенческих лет регулярно, три раза в неделю, пробегает по несколько миль вдоль берега реки Чарльз и по окраине городка Кембридж, штат Массачусетс, находящегося рядом с кампусом Гарвардского университета. Дэн бегает босиком, будучи апологетом моды на «естественный бег», возникшей под непосредственным воздействием эволюционных представлений. В какой-то момент Либерман заинтересовался вопросом, когда именно наши предки превратились в умелых бегунов и какие особенности скелета и мускулатуры позволили им развить эту способность. Вместе с коллегами Дэннисом Брамблом, Дэвидом Рейчленом и др. он установил, что человек прямоходящий (Homo erectus), который первым переселился в африканские саванны около 2 миллионов лет назад, был первым гоминином, овладевшим навыком эффективного бега.
Биомеханика говорит, что способность тела сохранять устойчивое положение – равновесие – имеет при беге первостепенное значение. Вот почему у нас такие массивные ягодицы – стабилизация туловища обеспечивается за счет сокращения больших ягодичных мышц, которые впервые значительно увеличились в размере у человека прямоходящего. Есть свидетельства того, что полукружные каналы внутреннего уха, играющие важнейшую роль для поддержания равновесия и определения ускорения и угла наклона вперед, также появились в развитой форме у человека прямоходящего. Однако, говорит Либерман, во время бега пятка сообщает голове такой быстрый и сильный импульс наклона вперед, что это могло бы легко перегрузить вестибулярный аппарат, если бы не еще одно гениальное решение – уникальная система демпфирования, которую эволюция создала путем разделения нашей головы и плеч таким образом, чтобы они могли действовать как связанные массы. У шимпанзе голова и плечи жестко соединены друг с другом мощными трапециевидными мышцами, приспособленными для лазания по деревьям, но у человека прямоходящего и у современных людей трапециевидные мышцы существенно уменьшились в объеме и стали присоединяться к выйной связке – идущей от затылочной кости к шейным позвонкам, – которая также впервые появилась у человека прямоходящего. Либерман объясняет: «Когда вы бежите, вы машете руками в направлении, противоположном ногам; при этом масса вашей руки сопоставима с массой головы. Та же инерциальная сила, которая заставляет вашу голову наклоняться вперед, одновременно заставляет вашу руку, которая в этот момент находится сзади, падать вниз. Наши эластичные трапециевидные мышцы вместе с выйной связкой создают механическую тягу между падающей вниз рукой и головой, которая стремится упасть вперед, благодаря чему рука тянет голову назад, не давая ей падать вперед. Это гениально!»
Либерман утверждает, что существует более десятка других адаптационных модификаций опорно-двигательного аппарата, которые могли улучшить способность к ходьбе и бегу у человека прямоходящего. Однако установление того факта, что человек прямоходящий был первым эффективным бегуном, поднимает еще один важный вопрос: какой экологический контекст сделал бег важным для выживания? Мы, люди, считаем себя превосходными бегунами, но даже великие Усэйн Болт и Мохаммед Фарах не смогли бы обогнать крошечного кролика и даже неуклюжую шимпанзе! Разъяренная шимпанзе способна преодолеть дистанцию сто метров с замечательной спринтерской скоростью. Что уж говорить о гепарде… Проблема в том, что шимпанзе очень быстро выдыхаются, да и гепарды вырабатывают столько тепла, что могут пробежать на максимальной скорости не больше километра. Значит, при определенных условиях черепаха может обогнать зайца? Проанализировав все обстоятельства, Либерман пришел к выводу, что человеческий организм сконструирован не для скорости, а для выносливости.
В то время как человек прямоходящий и его потомки не могли обогнать хищников, они были способны в буквальном смысле слова загнать добычу до смерти. Любой здоровый человек, находящийся в нормальной физической форме, может пробежать много миль со скоростью 5 метров в секунду, говорит Либерман. Эта скорость намного выше той, при которой собака вынуждена переходить с рыси на галоп, иными словами, на расстоянии более одного километра человек способен обогнать собаку. И хотя лошадь может развивать максимальную скорость около 9 метров в секунду, на больших расстояниях она в состоянии поддерживать скорость всего 5,8 метра в секунду. Теоретически это значит, что на марафонских дистанциях люди могут опережать даже лошадей. Причем эта теория подтверждается практикой! Каждый год в июне, начиная с 1980 года, в горной местности рядом с живописным валлийским городком Лланвртид-Уэллс проводится кросс по пересеченной местности для мужчин и лошадей на дистанции двадцать две мили. Несмотря на то, что обычно побеждает лошадь, мужчины отстают совсем ненамного, и первый из них пересекает финишную черту всего на несколько секунд позже. В 2005 году Хью Лобб одержал долгожданную победу – пробежав дистанцию со временем два часа пять минут, он опередил самую быструю лошадь на две минуты. Два года спустя двое бегунов обогнали лошадей на целых одиннадцать минут!
Все покрытые шерстью животные, у которых охлаждение происходит за счет учащенного дыхания (тепловой одышки), находятся в невыгодном положении по сравнению с человеком, потому что они не способны охлаждаться и одновременно бежать галопом. Тепловая одышка представляет собой последовательность частых и поверхностных дыхательных движений, поэтому она не может удовлетворить потребность в кислороде. Таким образом, животные могут либо охлаждаться за счет тепловой одышки, либо бежать галопом – но не могут делать то и другое одновременно. У людей дыхание не зависит от типа шага, и у них нет шерсти, но есть потовые железы. Один миллилитр воды при потоотделении обеспечивает отдачу 580 калорий тепла. Если у человека есть возможность выпивать один-два литра воды в час, он единственный среди всех животных может выдержать бег на большие расстояния в жаркую погоду. Мы действительно странные существа, говорит Либерман, потому что природа обычно отдает предпочтение скорости перед выносливостью из-за динамики взаимодействия хищника и жертвы (представьте себе гепардов, охотящихся на газелей). Состав мышечных волокон также важен. Животные, предназначенные для скорости, имеют преимущественно волокна типа 2В (быстрые гликолитические) и 2А (быстрые окислительные) и относительно мало волокон типа 1 (медленных окислительных). Быстро сокращающиеся волокна генерируют больше силы, но используют анаэробный метаболизм и легко устают. Медленно сокращающиеся волокна могут получать энергию аэробным способом, но генерируют меньше силы. Мышцы ног человека состоят на 50 процентов из быстрых и медленных волокон, но тренировки на выносливость благодаря механизму адаптивного ремоделирования позволяют увеличивать долю медленных волокон в мышцах ног до 80 процентов.
Такая высокая выносливость позволяла нашим предкам бежать за крупными млекопитающими до тех пор, пока с теми не случался тепловой удар и их можно было добить даже самым примитивным копьем или дубинкой. Это был довольно безопасный и эффективный способ охоты. В переводе на современный язык, говорит Либерман, забег на пятнадцать километров в погоне за большой антилопой требовал меньше калорий, чем содержится в бигмаке и средней порции картошки фри из McDonald's (энергетическая ценность такого обеда – 1040 килокалорий)! Поскольку крупная антилопа весит больше двухсот килограммов и содержит на несколько порядков больше калорий, чем McDonald's может вместить в любой из своих комплексных обедов, выигрыш с лихвой окупал все усилия, даже если шансы на успех составляли всего 50 процентов.
Гипотеза Либермана об экологической нише, где бег на выносливость мог иметь большое значение для выживания наших предков, неожиданно оказалась полезной в современном мире. В своем интервью научному интернет-изданию EDGE в 2005 году исследователь рассказал следующую историю. Однажды он выступал в Гарварде с публичной лекцией на тему эволюции бега и был очень смущен видом одного человека, сидевшего в первом ряду. Это был крупный мужчина с большой бородой, в подтяжках, у которого на ногах не было ботинок, а только носки, обернутые скотчем! «Помнится, я подумал, что какой-то бездомный зашел на лекцию, чтобы укрыться от дождя. Но оказалось, что это был выпускник Гарвардского университета, который жил в близлежащем городке Джамайка-Плейн и держал магазин велосипедов. После лекции он подошел ко мне и сказал: "Знаете, я очень люблю бегать, но ненавижу обувь, поэтому я бегаю босиком. В конце концов, наши предки тоже бегали с голыми ногами. Как вы думаете, я сумасшедший или нормальный?" Я подумал, что это отличный вопрос!»
В то время Либерман страдал от плантарного (подошвенного) фасциита – болезненного воспаления соединительной ткани в своде стопы. Не могло ли это эксцентричное знакомство натолкнуть его на новые идеи о том, как научиться бегать без травм? «Мы привезли Джеффри в лабораторию и попросили его пробежать по динамометрической платформе. Его манера бега была невероятно красивой, легкой и мощной. Большинство людей при беге приземляются на пятки – мы надеваем большие кроссовки с амортизирующими подошвами и поддержкой стопы и врезаемся пятками в землю. Но Джеффри бежал совсем не так. Он приземлялся на подушку стопы, а затем мягко касался пяткой земли. Там не было никакого удара пяткой о землю. Когда я наблюдал за тем, как босые ноги Джеффри опираются о нашу платформу, я подумал, что из нас двоих нормальным является он, а я – сумасшедший, раз сам себе травмирую ноги в этих ужасных кроссовках».
На исследователя снизошло озарение: Джеффри бежал именно так, как бегали наши предки – либо босиком, либо в очень простых мокасинах. Среди современных бегунов медицинские проблемы, к сожалению, стали нормой. Несмотря на все попытки усовершенствовать спортивную обувь – за последние тридцать лет фирмы наподобие Nike и Adidas предложили нам и амортизирующие подушки под пятки, и поддержку голеностопа, и твердые вставки под своды стопы, – от 30 до 70 процентов бегунов каждый год получают травмы от повторяющихся нагрузок (repetitive stress injury). Проблема в том, что на данный момент главный виновный так и не установлен. Возможно, эволюционная биология поможет разрешить этот спор между лагерем сторонников высоких технологией и лагерем любителей «естественного бега»?
Представители первого направления утверждают, что бег по определению травмоопасен и вероятность травм возрастает вследствие биомеханических нарушений, сидячего образа жизни, неправильных тренировок или просто не подходящих для бега современных поверхностей, таких как дорожки с твердым асфальтом. Сторонники бега босиком заявляют, что всему виной неправильный способ бега, поскольку современная амортизирующая обувь притупляет проприоцептивную обратную связь, которую наш мозг получает через нервную систему от подошв и которая в ином случае заставила бы нас скорректировать наши движения. Как замечает Либерман: «Тело человека приспособлено для бега босиком, который в силу своих кинематических характеристик обеспечивает менее сильное ударное воздействие на пятку, более активно задействует проприоцепцию и укрепляет ноги. Я считаю, что эти факторы могут помочь бегунам избежать травм независимо от того, используют они обувь или нет. Проще говоря, правильная манера бега не зависит от того, что надето у человека на ногах; но то, что надето у человека на ногах, может повлиять на его манеру бега».
Согласно Либерману, корень всех зол может крыться в фундаментальном несоответствии между человеческим телом, предназначенным для бега босиком, и тем, как мы бегаем сегодня. Бег босиком обеспечивает эффективную сенсорную обратную связь от подошв наших ног, которые сигнализируют центральной нервной системе о твердости, шероховатости и неровности беговой поверхности и снабжают ее необходимой информацией, позволяющей принимать мгновенные решения для избежания травм. Современная спортивная обувь амортизирует повторяющиеся ударные нагрузки, позволяя нашему мозгу пребывать в блаженном неведении об опасности, которой подвергаются наши ноги, пока в один прекрасный день их не пронзит резкая боль. Кроме того, Либерман замечает: «Есть все основания предполагать, что постоянное ношение обуви может способствовать формированию слабых и негибких стоп и голеностопных суставов, особенно в детском возрасте, когда нога растет». Обувь с жесткой подошвой, супинаторами, контролем пронации, системами стабилизации и «управления движением» не дает мышцам и костям адаптироваться к нормальным, абсолютно естественным нагрузкам. Так же как обработка пищи позволяет нам прилагать меньше сил при жевании и приводит к ослаблению жевательных мышц, люди, которые с детства носят высокую поддерживающую обувь, могут иметь ненормально слабые ноги, особенно мышцы продольного свода стопы. Такая слабость мышц может ограничивать способность стопы поддерживать равновесие и выполнять другие ключевые функции. «Эта гипотеза не была протестирована, однако исследования показывают, что в популяциях, где принято ходить босиком, обнаруживается меньшая вариативность в форме свода стопы, в том числе более низкий процент плоскостопия и меньшее распространение других нарушений стопы».
Либерман считает Ли Саксби одним из лучших в мире тренеров, специализирующихся на естественном беге. Его система основана на прикладной эволюционной биологии Либермана – и дабы познакомиться с тем и другим непосредственно на практике, я посетил однодневный семинар Саксби в его уютном спортзале, находящемся в историческом районе Кларкенэулл в центре Лондона. В одном углу спортзала висела картонная фигура Чарльза Дарвина в натуральную величину – ученый как бы задумчиво взирал на происходящее. Напротив него располагался человеческий скелет. В другом углу человек в спортивной форме ритмично перебирал ногами по беговой дорожке, в то время как видеокамера фиксировала каждое его движение. В спортзале Саксби собралась целая толпа: тренеры и инструкторы всех мастей – по бегу, фитнесу, пилатесу и т. п., а также специалисты по биомеханике и самые обычные люди. Все они много занимались бегом, и большинство из них страдали привычным набором беговых травм, в том числе подошвенным фасциитом, невромой Мортона, «коленом бегуна» и тендинитом. Например, Доминик страдал рецидивирующим тендинитом ахиллова сухожилия и пользовался кроссовками со специальными ортопедическими стельками, а у Луизы были проблемы с тазобедренными и коленными суставами, и она хотела избежать операции на больном колене. Короче говоря, все собравшиеся в зале были остро заинтересованы в том, чтобы гуру здорового бега поделился с ними своими секретами.
Семинар начался с просмотра видеоролика, снятого Ли Саксби во время Нью-Йоркского марафона. Почти все бегуны были в массивных кроссовках с толстыми подошвами и при каждом шаге буквально впечатывали пятку в землю. Было видно, что чем толще «подушка» в районе пятке, тем сильнее бегун обрушивался на нее своим весом. Далее участникам семинара было предложено оценить их собственную технику бега. Им показывали видеозаписи с каждым из присутствующих, и они ставили ему оценку от одного до трех баллов. Оценка один балл означала неправильную осанку и выраженный удар пяткой; при этом тазобедренные суставы, как правило, были подсогнуты, что означало, что все 100 процентов ударного воздействия от столкновения с землей передаются через пятку на колени и тазобедренные суставы. Два балла ставились за бег с приземлением на всю стопу вкупе с неправильной осанкой – подсогнутые ноги, небольшой наклон вперед или оттопыренные ягодицы. При такой манере бега ударное воздействие также является довольно значительным и передается на тазобедренные суставы. Оценка три балла означала отличную технику босого бега: короткие, быстрые шаги, с приземлением на подушку стопы, и расслабленное тело, находящееся в вертикальном положении, так что ноги от щиколоток до бедер образуют прямую вертикальную линию. Саксби напомнил всем о результатах исследования Дэна Либермана, наблюдавшего на протяжении долгого времени за пятьюдесятью бегунами из легкоатлетической команды Гарвардского университета, которое показало, что при технике бега с приземлением на пятку частота травм была в два раза выше. На графике, показывающем силу реакции опоры (измеренную в весе человеческого тела) при разных техниках бега, виден резкий пик силового воздействия более чем в три человеческих веса при приземлении на пятку; чуть меньший пик при приземлении ближе к передней части стопы; и две низкие вершины, характерные для бега босиком.
Правильный бег, объяснил Саксби, основан на естественных движениях. Он учитывает все – силу тяжести, силу реакции опоры, упругую отдачу и сохранение энергии. Его советы противоречат рекомендациям традиционной фитнес-индустрии. Как правило, при подготовке спортсменов большое внимание уделяется развитию мышечной массы, хотя она бесполезна для бегунов. Для бега первостепенное значение имеет упругая отдача сухожилий. Стопа, особенно свод стопы и ахиллово сухожилие, – превосходные амортизаторы, способные поглощать ударную энергию, как пружина, а затем отдавать ее в следующий шаг. Свод стопы и ахиллово сухожилие могут аккумулировать и возвращать до 50 процентов всей ударной энергии, таким образом позволяя снизить энергозатраты при беге почти вдвое. Но все это происходит, только если вы приземляетесь на переднюю часть стопы. При приземлении на пятку вы нарушаете эту отлаженную систему: вместо того чтобы аккумулироваться и использоваться повторно, вся ударная энергия передается на коленные и тазобедренные суставы, что в конечном итоге приводит к накопительным травмам. Если вы хотите почувствовать всю прелесть упругой отдачи, попробуйте следующее упражнение: возьмите метроном и установите его на ритм 180 ударов в минуту. Затем начните прыгать на месте с той же частотой, приземляясь на подушки стоп и затем слегка касаясь пятками земли. Приспособившись, вы обнаружите, что эти прыжки почти не требуют усилий. Теперь замедлите метроном до шестидесяти ударов в минуту – частота шага, с которой бегает большинство бегунов. Вы сразу же почувствуете, насколько больше вы стали задействовать мышцы ног – особенно икроножные мышцы, – чтобы совершать такие же небольшие прыжки. Сто восемьдесят шагов в минуту – это именно та частота, которую используют все элитные бегуны, а также бегуны на длинные дистанции из традиционных сообществ.
Но суть здорового бега босиком состоит не только в том, чтобы всегда приземляться на переднюю часть стопы и делать более частые шаги. При низкой скорости бега или при беге трусцой тело может подсказать вам, что ему удобнее бежать с приземлением на пятку, а при увеличении скорости потребует перейти к приземлению на переднюю часть стопы. Более тяжелым людям этот переход нужно совершать раньше, чем более легким бегунам. Но такая естественная корректировка может происходить только в том случае, если ваш мозг получает адекватную проприоцептивную сенсорную обратную связь от стоп. Толстые амортизирующие подошвы кроссовок вводят мозг в заблуждение относительно реальной силы реакции опоры. Как говорят программисты, мусор на входе – мусор на выходе. Если вы позволите ногам почувствовать землю, они позаботятся о себе сами.
Худшее, что может сделать бегун, – это научиться неправильной технике босого бега, которую участники семинара оценили в два балла. Если практиковать такую манеру бега, тендинит и фасциит вам гарантированы. Все дело в неправильном положении тела: при правильном положении тела ваш центр тяжести должен находиться непосредственно над поддерживающей конструкцией таза и ног. Подобно детям, которые сначала учатся стоять, затем ходить и, наконец, бегать, взрослые бегуны должны заново пройти по пути онтогенеза.
Простой тест, который нам предложили проделать на семинаре, стал для меня отрезвляющим опытом. Я должен был встать босиком на динамометрическую платформу лицом к телеэкрану, на котором отображалось, с какой силой разные части моей стопы давят на землю. К моему ужасу, платформа показала, что я не умею даже правильно стоять! Одна нога распределяла давление совершенно иначе, чем другая, и обе ноги концентрировали давление на пятках. Я обнаружил, что даже с визуальной обратной связью очень сложно исправить свою неправильную стойку – так, чтобы давление равномерно распределялось на пятку и подушку стопы, а максимум давления приходился на большой палец. К моему удивлению, я был не одинок. Никто из присутствовавших на семинаре профессиональных тренеров и спортсменов не мог продемонстрировать идеальную позу в положении стоя, и всем пришлось потрудиться, чтобы поправить дело. Всем понадобилось заново учиться основам – правильному вертикальному положению тела, прежде чем перейти к освоению техники босого бега.
Успешный опыт применения эволюционных знаний, позволивших пролить свет на целый ряд распространенных ортопедических заболеваний, превратил Дэна Либермана и его коллег в убежденных приверженцев эволюционной медицины. «То, что я делаю, является частью медленно развивающейся, пока едва заметной тенденции в эволюционной биологии, которая, как мы надеемся, перерастет в широкое научное движение, – говорит Либерман. – Суть этого движения – использовать эволюцию для того, чтобы разобраться, что, почему и как происходит в нашем теле и почему иногда оно дает сбой. Изучая эволюцию человеческого тела, мы можем решить проблемы, которые раньше казались неразрешимыми. Бег босиком – прекрасный пример того, каким образом применение эволюционного подхода позволяет нам понять, как правильно использовать наше собственное тело».
Глаз, который делает себя сам Как эволюционная биология лечит слепоту и опровергает креационизм
Эволюция глаза представляет собой одну из самых щекотливых проблем в биологии. Из-за сложности своего устройства глаз является излюбленным аргументом последователей идей креационизма и разумного замысла. Они утверждают, что глаз со всеми его многочисленными взаимосвязанными компонентами – прекрасный пример не поддающейся упрощению сложности, и крайне маловероятно, чтобы такая уникальная система могла образоваться в результате пресловутых дарвиновских процессов ступенчатой мутации и отбора. В то же время удовлетворительное объяснение столь сложного органа с позиций дарвиновской теории способствует более широкому принятию эволюционного подхода в целом. В этой главе я хочу рассказать о том, как накопленные на сегодняшний день знания однозначно разрешают вышеуказанный спор в пользу эволюции и как последние открытия в области биологии развития помогают специалистам-офтальмологам разрабатывать новые медицинские технологии для лечения болезней глаз и восстановления зрения.
Лето 1992 года стало для Тима Реддиша самым запоминающимся в его жизни: он впервые участвовал в Паралимпийских играх в Барселоне и завоевал серебряную медаль в плавании на сто метров баттерфляем и бронзовую медаль на дистанции сто метров вольным стилем. На тот момент ему исполнилось тридцать пять лет и он был официально признан слепым. Это стало началом блестящей спортивной карьеры: в последующие годы Тим завоевал сорок три медали на международных и паралимпийских соревнованиях, был избран председателем Британской паралимпийской ассоциации и входил в состав оргкомитета Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
Тим страдает пигментным ретинитом – наследственным дегенеративным заболеванием глаз, которое характеризуется прогрессирующей потерей фоторецепторов в сетчатке глаза вплоть до полной потери периферического зрения. В результате у больного остается только туннельное зрение с углом обзора один-два градуса. У Тима Реддиша дегенеративный процесс начался еще в школьные годы, но прошло много лет, прежде чем он узнал о своем заболевании. Он просто считал себя неуклюжим. В школе он носил очки и постоянно на все натыкался. «Я думал, что я невнимательный – не смотрю, куда иду, вот и налетаю на все подряд». В 1980-е годы в Великобритании врачи-оптометристы не проверяли своих пациентов на ретинит, поэтому Тиму просто выписывали все более сильные очки. Он не подозревал, что его глаза чем-то отличаются от глаз других людей, пока у него не начала развиваться ночная слепота. Это был явный намек на то, что с его глазами что-то неладно. «Я пошел к своему оптометристу и сказал: "Я не знаю, в чем дело, но я стал плохо видеть ночью. К тому же меня сильно слепят встречные фары – мне это мешает, потому что я езжу на мотоцикле"». Оптометрист предложил ему попробовать тонированные очки – но это «решение» не помогло, а только ухудшило ситуацию.
Наконец, в 1988 году ему был поставлен диагноз ретинит. Его глаза продолжали деградировать – туннельное зрение сужалось все больше, и, кроме того, начала ухудшаться резкость. Несмотря на это (или скорее назло этому), вдохновленный примером пловчихи, которую он тренировал, Тим решил начать собственную спортивную карьеру: «Моя подопечная участвовала в Олимпиаде в Сеуле в 1988 году и, вернувшись, рассказала мне о Паралимпийских играх. Она подарила мне памятную медаль сеульской Олимпиады и сказала, что хочет получить от меня памятную медаль со следующих Олимпийских игр в Барселоне. Я засмеялся и сказал: "Я слишком старый и слишком медленный", на что она ответила: "Ты всего на год старше меня, и еще не известно, насколько ты медленный!" Так я принял решение – а когда я принимаю решение, то выкладываюсь на все 100 процентов».
В 2011 году сын Тима узнал, что в Больнице Джона Рэдклиффа в Оксфорде проводится испытание нового метода восстановления зрения с помощью имплантации электронного протеза в сетчатку глаза. Роберт Макларен набирал пациентов с терминальной стадией ретинита с полной ночной слепотой. Поначалу Тим не заинтересовался этой идеей, потому что считал, что лучший выход для таких, как он, – научиться жить и добиться успеха в мире людей с ограниченными возможностями; проще говоря, смириться со своей судьбой. Кроме того, он не думал, что искусственная сетчатка позволит значительно улучшить его зрение. «Я сказал сыну: "Мне это не нужно. Я счастлив и без этого. К тому же мне это вряд ли поможет – не думаю, чтобы какое-нибудь искусственное устройство могло улучшить то ужасное состояние, в котором находятся мои глаза. Это должно быть что-то поистине уникальное». Но спустя какое-то время любознательность взяла верх, и он принялся с интересом изучать технические подробности операции. Не может ли он со своим аналитическим умом помочь исследователям усовершенствовать этот электронный протез сетчатки – привнести какие-нибудь полезные идеи, до которых могут не додуматься другие пациенты? Он подал заявление на участие в эксперименте. Команда Макларена открыто предупредила его, что в худшем случае он может лишиться остатков светочувствительности, а в лучшем – лишь немного повысить свою светочувствительную способность, что позволит ему самостоятельно ориентироваться в пространстве. На большее рассчитывать не стоило.
В октябре 2012 году Тиму была проведена операция по имплантации искусственной сетчатки, которая длилась почти десять часов. Сначала хирурги сделали небольшое углубление в его черепе за ухом и разместили под кожей блок усилителя. От усилителя они проложили тонкий кабель вдоль височной кости, под слоем мышц, и вывели его через отверстие в глазнице. Затем они аккуратно вживили электронный чип в центральную часть сетчатки, где он должен был заменить утраченные фоторецепторы. «Когда они впервые включили его, это был невероятный момент – я увидел яркий свет! Это было похоже на то, как если бы в темной комнате вдруг зажгли спичку!» Тестирование в лаборатории показало, что Тим может различать белые стрелки на черном циферблате часов и девять раз из десяти правильно называть время. В повседневной жизни он научился определять, движутся объекты или стоят на месте, и стал довольно хорошо ориентироваться в пространстве. Он может сказать, включен или выключен компьютерный монитор, хотя и не в состоянии разглядеть, что на нем изображено. В темноте он видит уличные фонари и освещенные островки безопасности на пешеходном переходе, хотя при ярком дневном свете это по-прежнему дается ему с трудом.
Тим надеется, что искусственная сетчатка прослужит ему до конца жизни при условии, что она не выйдет из строя и не будет отторгаться тканями глаза. Но важность этого новаторского эксперимента заключается не только и не столько в том, что он открывает возможности высокотехнологичного «ремонта» нашего зрения. Благодаря этому эксперименту оксфордские ученые узнали главное – клетки сетчатки способны формировать новые связи между фоторецепторами и зрительным нервом, идущим в головной мозг. Известно, что в случае тяжелого повреждения, например при травме спинного или головного мозга, нервная система не восстанавливается. Но какова судьба нейронов сетчатки – биполярных и ганглиозных клеток, передающих визуальную информацию от фоторецепторов в мозг? Если фоторецепторы глаза погибают, не отмирают ли вслед за ними и эти нейроны, раз они перестают получать входящие сигналы? К счастью, эксперимент показал, что выходные нейроны зрительного нерва быстро образовали новые связи с имплантированной сетчаткой, обеспечив некоторую степень восстановления зрения. Это убедительно доказало, что популяция нейронов зрительного аппарата остается незатронутой дегенеративным процессом: 1500 миниатюрных сенсоров на чипе у Тима Реддиша успешно стимулируют эти нейроны и позволяют мозгу формировать пиксельное (мозаичное) изображение. Это открытие убедило оксфордских ученых в возможности создания биологического эквивалента электронной сетчатки. Если бы они могли вырастить тысячи фоторецепторов – палочек и колбочек – и имплантировать их в правильный слой с правильной ориентацией в сетчатке, эти новые фоторецепторы могли бы заменить погибшие и вернуть человеку зрение. Оксфордское исследование стало одной из множества инициатив, реализуемых в настоящее время по всему миру, цель которых – научиться выращивать и имплантировать в сетчатку различные виды клеток-предшественников. Все достижения в этой сфере базируются на исследованиях глаза позвоночных, полученных в рамках эволюционного подхода, – а именно при изучении того, как из набора недифференцированных клеток в эмбрионе формируется этот удивительный и сложнейший орган зрения.
Все начинается с глазного бокала, чашеобразной камеры глаза, стенка которой состоит из нескольких слоев тканей. Ее внешняя сторона образована плотной фиброзной оболочкой, называемой склерой; сразу за ней находится сосудистая оболочка или хориоидея. Далее идет пигментный эпителий сетчатки – слой, который снабжает питательными веществами расположенные над ним фоторецепторы и выводит продукты их метаболизма. У человека фотосенсорный слой состоит из более чем 120 миллионов палочек, которые особенно чувствительны к слабому свету и отвечают за ночное зрение, и 6–7 миллионов колбочек, которые реагируют на более яркий свет и позволяют нам различать цвета. Палочки сосредоточены в основном в периферической части сетчатки, а колбочки – на крошечном участке диаметром всего полтора миллиметра в самом центре сетчатки, называемом желтым пятном или макулой. Причем наивысшая концентрация колбочек приходится на центральную ямку макулы, которая по-научному называется фовея и имеет диаметр всего 0,3 миллиметра. Фовея отвечает за наше острое центральное зрение – и именно этот узкий зрительный туннель остался у Тима Реддиша после того, как пигментный ретинит уничтожил его периферическое зрение.
В сетчатке позвоночных фоторецепторы протягивают свои нервные отростки по направлению к центру глаза, где находится слой биполярных клеток, которые в свою очередь соединены с внутренним слоем ганглиозных клеток. Именно аксоны ганглиозных клеток образуют пучок нервных волокон, который носит название зрительного нерва. Эти внутренние слои сетчатки также заполнены клетками Мюллера, амакринными клетками (разновидностью нейронов) и горизонтальными клетками, которые все вместе помогают передавать сигналы от фоторецепторов к зрительному нерву. Таким образом, фоточувствительные клетки, которые поглощают фотоны, лежат внизу этого многослойного пирога – и свету, чтобы добраться до них, необходимо пройти через все эти слои клеток и переплетений их нервных отростков. Кроме того, поскольку аксоны ганглиозных клеток сходятся по внутренней поверхности сетчатки к ее центру, где они соединяются в единый пучок и проходят через отверстие в ней в виде зрительного нерва, в центре нашей сетчатки имеется слепое пятно, в котором вообще нет фоторецепторов. Вы можете легко найти у себя это слепое пятно: закройте, например, правый глаз, а левым смотрите прямо перед собой. Затем начните двигать карандаш в горизонтальном положении слева направо. Через несколько сантиметров он на мгновение станет невидимым, а потом появится снова, как только вы сместите его чуть дальше вправо.
И словно бы всей этой сложности было недостаточно, еще у нас есть хрусталик (который состоит из нескольких видов белков кристаллинов, обеспечивающих его рефракционную способность, и который должен постоянно менять свою форму, чтобы фокусировать свет на сетчатке), радужная оболочка (регулирует размер зрачка и контролирует количество падающего на сетчатку света) и, разумеется, мышцы, управляющие движением глаз.
Этого весьма поверхностного описания структурной сложности глаза, я думаю, достаточно, чтобы понять, почему из всех органов нашего тела именно глаз стал предметом жарких баталий между непримиримыми армиями креационистов и эволюционистов с начала XIX века. И почему, несмотря на полтора века развития дарвиновской теории эволюции, сегодня креационисты отвергают ее с тем же пылом, что и в прошлом.
Самым известным в истории апологетом теории разумного замысла, пожалуй, был преподобный Уильям Пейли, английский философ-моралист, который жил во второй половине XVIII века и к концу жизни стал старшим архидиаконом города Карлайл на севере Англии. В своем знаменитом трактате «Естественная теология» он изложил свои аргументы в пользу существования Бога и Божьего замысла в дизайне природы. Его самый известный аргумент состоит в следующем: если во время прогулки по сельской местности вы споткнетесь о камень и вам скажут, что этот камень лежит здесь давным-давно, с незапамятных времен, вы не удивитесь и легко поверите сказанному. У камня нет предназначения, поэтому он не нуждается в дальнейших объяснениях. Но если рядом с камнем вы увидите часы, то ни за что не поверите, если вам скажут, что они здесь были всегда. Их сложное устройство, разумная целесообразность, согласованность различных частей натолкнет вас на мысль о том, что у часов есть предназначение. В них есть разумный замысел. Часы созданы часовщиком, чтобы показывать время. Достаточно взглянуть на строение различных животных, чтобы сделать вывод о том, что их сложность также подчиняется некоему разумному замыслу. Но поскольку ни одно животное не в состоянии осознать, почему оно имеет такое строение и каково предназначение того или иного дизайна, автором этого целенаправленного дизайна является Бог. Бог – это «часовщик» всех живых существ.
Полвека спустя Чарльз Дарвин заявил совершенно обратное – а именно, что все живые существа со всеми их органами, даже такими невероятно сложными, как глаз позвоночных, появились путем естественного отбора. Все, что требуется, писал он, это доказать существование многочисленных ступенчатых градаций от простого и несовершенного глаза к сложному и совершенному, где каждая из ступеней повышает шансы его обладателя на выживание в такой мере, что одобряется естественным отбором. Однако в 1859 году, когда Дарвин опубликовал свой труд «О происхождении видов», у него не было возможности привести такую цепочку промежуточных форм в качестве доказательства своей теории. Неудивительно, что креационисты очень любят цитировать его фразу «В высшей степени абсурдным, откровенно говоря, может показаться предположение, что путем естественного отбора мог образоваться глаз со всеми его неподражаемыми изобретениями…». Гораздо меньше их интересует продолжение его рассуждений, где он излагает свой аргумент: «Разум мне говорит: если можно показать существование многочисленных градаций от простого и несовершенного глаза к глазу сложному и совершенному, причем каждая ступень полезна для ее обладателя, а это не подлежит сомнению; если, далее, глаз когда-либо варьировал и вариации наследовались, а это также несомненно; если, наконец, подобные вариации могли оказаться полезными животному при переменах в условиях его жизни – в таком случае затруднение, возникающее при мысли об образовании сложного и совершенного глаза путем естественного отбора, хотя и непреодолимое для нашего воображения, не может быть признано опровергающим всю теорию».
Дарвин пошел еще дальше и предложил весьма правдоподобный путь, который проделала эволюция: от одной примитивной светочувствительной клетки на внешней поверхности организма – к глазу позвоночных в его сегодняшнем виде. Это развитие происходило через незначительные и градуальные модификации: превращение одной светочувствительной клетки в скопление таких клеток; появление слоя пигментных клеток с образованием углубления на поверхности кожи; формирование зрительного нерва, соединившегося с пигментными клетками, и разрастание поверх этих клеток прозрачного слоя оболочки; формирование из этого прозрачного слоя хрусталика и т. д.
Но сторонники креационизма категорически отказываются от такого «упрощенческого» взгляда на глаз. Не впечатленные градуализмом Дарвина, они в первую очередь подчеркивают нередуцируемую сложность глаза, который представляет собой совокупность множества чрезвычайно сложных компонентов, отсутствие любого из которых делает бесполезным весь механизм. Вот цитата из вышедшей в 1982 году книги Фрэнсиса Хитчинга «Шея жирафа», где автор излагает типичные аргументы креационистов о происхождении глаза:
Для того чтобы глаз работал… он должен быть чистым и влажным, в коем состоянии он поддерживается благодаря взаимодействию слезной железы и подвижных век. Свет проходит через небольшую прозрачную часть защитной наружной оболочки, роговицу, и через хрусталик, который фокусирует его на задней поверхности сетчатки. Здесь 130 миллионов светочувствительных палочек и колбочек осуществляют фотохимические реакции, преобразуя свет в электрические импульсы, которые передаются в головной мозг для дальнейшей обработки. Если же в этом устройстве случается малейшее нарушение: теряет прозрачность роговица, перестают расширяться зрачки, хрусталик становится мутным или перестает правильно преломлять свет – формирования узнаваемого изображения не происходит. Глаз функционирует либо как единое целое, либо не функционирует вообще.
Современный бульдог Дарвина Ричард Докинз резко критикует этот аргумент в своей книге 1986 года «Слепой часовщик». Как указывает Докинз (и что подтвердят вам миллионы людей, страдающих различными заболеваниями глаз, включая Тима Реддиша), иметь даже остаточное зрение или серьезные нарушения зрения в результате заболевания – это все же намного лучше, чем не иметь зрения вообще. В «Слепом часовщике» Докинз дает убедительный ответ Пейли, Хитчингу и всем остальным идеологам концепции нередуцируемой сложности. В 1987 году на основе этой книги мы вместе с Докинзом сняли документальный фильм для телекомпании BBC. Используя анимированную графику, мы показали ступенчатую эволюцию глаза из простого скопления светочувствительных клеток на поверхности организма, способных реагировать на наличие или отсутствие света. Мы показали, как на поверхности начала формироваться ямка, которая постепенно углублялась, пока не образовалась «камера-обскура», способная различать объекты благодаря тому, что свет от них падал на дискретные части «сетчатки». Мы предположили, что эти клетки выделяли слизь, которая со временем собралась в шар и перекрыла вход в камеру-обскуру, создав примитивный хрусталик. Этот новый компонент значительно улучшил способность различать объекты благодаря фокусировке поступающего света на фоторецепторной поверхности. Мы с Докинзом сочли эту последовательность очень убедительной, но каково же было мое удивление, когда большинство моих коллег восприняли наше творение всего-навсего как обычный мультфильм для детей. Мы никому ничего не «доказали». Разумеется, это не было научным доказательством дарвиновского процесса в строгом смысле слова – всего лишь его вероятным сценарием, но двое ученых из Швеции разработали продвинутую математическую модель эволюции глаза, которая показала, что глаз позвоночных мог развиться именно так, как предполагал Дарвин и вслед за ним Докинз, причем за удивительно короткий период времени.
В 1994 году Дан-Эрик Нильссон и Сюзанна Пелгер из Лундского университета в Швеции опубликовали то, что они назвали «пессимистической оценкой временнóго периода, требуемого для эволюции глаза». В их модели эволюционный отбор происходил на основе всего одного параметра – пространственного разрешения, иначе известного как острота зрения. Любая небольшая модификация структуры глаза, увеличившая количество пространственной информации, которую мог получить глаз, закреплялась в последующем поколении. Важно подчеркнуть, что это была математическая модель с реальными, консервативными значениями по таким параметрам, как морфологическое варьирование, интенсивность отбора и наследуемость.
В качестве отправной точки они взяли круглое скопление светочувствительных клеток, находящееся на поверхности кожи между прозрачным защитным слоем и непрозрачным слоем темного пигмента. Затем они подвергли эту структуру давлению отбора, благоприятствующему улучшению способности к различению мелких деталей. На первом этапе фоточувствительный слой и пигментный слой начали прогибаться внутрь, формируя ямку, в то время как прозрачный слой стал утолщаться и образовал студенистое стекловидное тело, что придало протоглазу форму полусферы. Острота зрения улучшалась до тех пор, пока глубина ямки не сравнялась с ее диаметром, после чего дальнейшее улучшение стало возможным только в том случае, если кольцевые мышечные края ямки сжимались, сужая ее апертуру до узкого зрачка. На этой стадии глаз представлял собой полый шар с узким круглым отверстием в верхней части – как у круглой вазы. Но когда апертура сузилась и изображение стало более резким, оно также стало более «зашумленным», поскольку часть улавливаемых фотонов отклонялась в результате случайных событий, что искажало изображение. С этого момента дальнейшее улучшение зрения стало невозможным без появления хрусталика. Продолжающееся давление отбора привело к тому, что в центре гелеобразного тела сформировалась эллиптическая линза, которая сначала закрывала собой зрачок, а затем немного переместилась вглубь глаза, уменьшившись в диаметре и став более круглой, что улучшило ее способность преломлять лучи света (показатель рефракции). Затем сформировалась плоская радужная оболочка, чтобы закрывать зрачок и хрусталик.
Конечной точкой модели был глаз водных животных, очень похожий на глаз кальмара или осьминога. Исследователи подсчитали, сколько этапов развития, каждый из которых приводил к однопроцентному улучшению пространственного разрешения, вмещается между начальной и конечной точкой, и установили, что общее количество таких этапов составляет всего 1829. Сколько времени могло потребоваться эволюции, чтобы пройти эти 1829 этапов в реальности? Исследователи заложили в модель самые консервативные параметры наследования, интенсивности отбора и морфологической вариабельности каждого компонента глаза и предположили, что время жизни поколения составляет один год (средний показатель для водных животных малой и средней величины). Модель показала, что для развития глаза камерного типа из плоского пятна светочувствительных клеток понадобилось всего 360 тысяч лет – сущий миг для планеты. Самые древние из найденных на сегодняшний день ископаемых останков глаза датируются началом кембрийского периода. С тех пор прошло 550 миллионов лет – т. е. времени было достаточно, чтобы глаз успел совершить вышеописанный эволюционный процесс более 1500 раз!
Разумеется, это вовсе не означает, что за время эволюции жизни на Земле глаз заново изобретался 1500 раз. Но это показывает, что оптически совершенный глаз мог развиться путем естественного отбора за удивительно короткий период по сравнению с тем гигантским интервалом геологического времени, на протяжении которого существуют органы зрения. Более того, модель Нильссона и Пелгер хорошо объясняет огромное разнообразие структур глаза, обнаруживаемое в природе: «У существующих ныне животных можно найти структуры глаза, соответствующие каждому из этапов в смоделированной нами последовательности. Например, сравнительная анатомия показывает нам, что моллюски и кольчатые черви демонстрируют всю серию конструкций глаза – от простых эпидермальных скоплений фоторецепторов до крупных и хорошо развитых глаз камерного типа».
Так сколько же раз органы зрения могли проходить независимый эволюционный процесс за весь период существования жизни на Земле? Никто точно не знает. Великий биолог-эволюционист Эрнст Майр вместе с Лютфридом фон Сальвини-Плавеном предположили, что, учитывая огромное анатомическое разнообразие органов зрения и находящихся в них фоторецепторов, они могли эволюционировать независимо друг от друга от сорока до шестидесяти пяти раз. Однако Вальтер Геринг из Базельского университета в Швейцарии, изучая эволюционную историю генов, отвечающих за формирование глаз у разных животных, пришел к совершенно другому выводу.
Геринг сосредоточился на одном древнем гене под названием Рах6, который предположительно находится на вершине всей иерархии генов, участвующих в формировании органов зрения, начиная со времен древнейших предков всех позвоночных и беспозвоночных животных, которые все вместе называются билатериями. Билатерии – это первые примитивные животные, имевшие двустороннюю симметрию. На самом деле близкородственные варианты гена Рах6 были найдены даже у видов, предшествующих билатериям, таких как кубовые медузы, губки и полипы гидра, которых школьники обычно рассматривают под микроскопом на уроках биологии.
Геринг предположил, что дарвиновский прототип глаза, состоящий всего из одной светочувствительной и одной пигментной клетки, мог контролироваться геном Рах6 и что все органы зрения в животном мире развивались путем постепенного ступенчатого добавления к нему вспомогательных генов, в результате чего образовалась сложная иерархия с Рах6 на ее вершине. Из модели Геринга следует неизбежный и ошеломляющий вывод: органы зрения в животном мире эволюционировали лишь единожды, начав этот процесс примерно 700 миллионов лет назад, и все глаза, которые мы видим сегодня или которые когда-либо существовали, представляют собой результат ступенчатого эволюционного увеличения сложности путем последовательного добавления генов, приведшего к тому, что сегодня сложный человеческий глаз или глаз насекомого контролируется семейством из примерно двух тысяч генов.
На мысль о том, что ген Рах6 может играть главенствующую роль в развитии органов зрения, Геринга навели работы ученых, которые показали, что различные дефекты этого гена приводят к появлению «безглазых» мутаций у плодовых мушек дрозофил, формированию «маленьких глаз» у мышей и наследственному заболеванию, известному как аниридия, у человеческих эмбрионов (в этом случае обычно происходит самопроизвольный выкидыш, поскольку у эмбрионов с дефектным геном Pax6 не только не формируются глаза и уши, но и серьезно нарушается развитие головного мозга). Исследователи осуществили ряд оригинальных экспериментов: например, когда зародышам дрозофил вводился мышиный вариант гена Pax6, у них формировались дополнительные эктопические (неправильно расположенные) фасеточные глаза в самых разных местах, включая ноги, усики и крылья. Это доказало, что Рах6 отвечает за формирование органов зрения, но не за их тип и расположение. Эксперименты показали, что Рах6 не только запускает процесс формирования органов зрения, но и инициирует дальнейшую дифференциацию типов клеток в глазу. Как указывает Геринг: «Эти эксперименты позволяют сделать вывод, что Рах6 является главным контролирующим геном – геном-господином – находящимся на вершине каскада генов, отвечающих за морфогенез глаз, и что он может играть роль главного контролера как у насекомых, так и у млекопитающих».
Дарвиновский прототип глаза на самом деле существует в виде рудиментарных множественных глаз у плоских червей планарий, которые состоят всего из одного фоторецептора и одной пигментной клетки. Поскольку варианты гена Рах6, практически идентичные человеческому гену Pax6, имеются и у планарий, и у всех остальных представителей животного мира с промежуточными формами глаз, Геринг заключает: «Все билатеральные типы глаз восходят к единому корню, дарвиновскому прототипу, который мы видим у планарий. Начиная с этого прототипа, естественный отбор работал над созданием все более эффективного глаза, и все эти различные типы глаз возникли в результате дивергентных, параллельных и конвергентных эволюционных процессов».
Большинство эволюционных биологов сегодня считают, что в своем глобальном сценарии Геринг чересчур драматизировал ситуацию. Ген Рах6, хотя и играет важную роль, не является «главным рубильником», запускающим процесс формирования глаз, как предполагает Геринг. Во многих случаях у позвоночных животных и даже плодовых мушек первые этапы формирования глаз успешно проходят даже при выключенном гене Рах6. А у плоских червей глаза могут полностью сформироваться и в отсутствие этого гена. Таким образом, Рах6 является всего лишь одним из целого оркестра генов, которые управляют развитием органов зрения. Присутствие предка семейства генов Pax у древнего животного вовсе не является гарантией того, что он непременно был связан с глазами.
В то же время все эволюционисты согласны с тем, что основная эволюционная работа по созданию всего того богатого разнообразия органов зрения, которое мы видим сегодня, была проделана, как метко заметил зоолог Эндрю Паркер, буквально «в мгновение ока» – во время кембрийского взрыва, примерно 530 миллионов лет назад. За этот период, буквально за несколько миллионов лет, появились ранние представители всех основных таксономических групп животных (типов), существующих сегодня на Земле. В этот же период трилобиты – предки членистоногих (тип животных, включающий ныне живущих насекомых, паукообразных и ракообразных) – быстро развили фасеточные глаза, а примитивные позвоночные, такие как хайкуихтис (Haikouichthys) – крошечное водное животное длиной менее 2,5 сантиметра и весом меньше 30 граммов, считающееся предком современных рыб, – сформировали два сложных глаза камерного типа, снабженных хрусталиком. Другими словами, почти все типы существующих сегодня органов зрения – от простых пятен светочувствительных клеток до фасеточных глаз насекомых и сложных глаз камерного типа, характерных для позвоночных и некоторых моллюсков, – появились именно в период кембрийского взрыва. Считается, что главной движущей силой такого стремительного эволюционного спринта было взаимодействие между хищниками и жертвами. Хорошо видящие хищники обеспечивали сильнейшее давление отбора, так как их жертвам, дабы не быть съеденными, нужно было быстро развивать острое зрение, что, в свою очередь, способствовало развитию более острого зрения у хищников и т. д.
Но что было до кембрийского взрыва: существовали ли глаза у еще более древних видов животных? На этот вопрос трудно ответить, поскольку крошечные, мягкотелые животные практически не оставили после себя палеонтологической летописи. Однако мы знаем, что предки всех животных – те самые билатерии – существовали за 100–300 миллионов лет до начала кембрийского периода и уже имели в своем распоряжении основные элементы для развития зрения – специализированные клетки-фоторецепторы и специальные светочувствительные молекулы. Как указывает Нильссон, фоторецепторные клетки не являются исключительной принадлежностью глаза – они имеются у растений, грибов и многих одноклеточных организмов, где выполняют более широкие сенсорные функции. Таким образом, говорит Нильссон, древнейшие животные просто умело воспользовались тем, что у них было, – они заставили фоторецепторы превратиться в глаза и тем самым создали огромный потенциал для дальнейшего развития подвижных организмов. Другими словами, фоторецепторы появились задолго до появления глаз. У многоклеточных животных существует два главных типа фоторецепторов: рабдомерные и цилиарные. В рабдомерных фоторецепторах молекулы светочувствительного пигмента находятся в специальных выростах на поверхности клеток, называемых микроворсинками; в цилиарных фоторецепторах эти молекулы расположены в складках мембран длинных и тонких, похожих на жгутики органелл, называемых цилиями. Эти два типа фоторецепторов используют разные зрительные пигменты, а также разные ключевые молекулы в каскаде реакций, преобразующих свет в нервные импульсы. Сегодня большинство беспозвоночных имеют рабдомерные фоторецепторы, а большинство позвоночных – цилиарные. Согласно Нильссону, различия между этими двумя типами фоторецепторов настолько глубоки, что указывают на раздельное эволюционное происхождение. Возможно, объясняет Нильссон, общий предок всех билатеральных животных имел оба типа фоторецепторов независимо от того, использовал он их для зрения или нет. Когда предки беспозвоночных отделились от общей билатеральной линии, они забрали с собой рабдомерные фоторецепторы, а предки позвоночных начали выстраивать свою зрительную систему на основе цилиарных. Таким образом, хотя органы зрения могли независимо развиваться несколько раз за всю историю существования жизни на Земле, из различных эмбриональных субстратов и в широком диапазоне сложности, они всегда начинали с одного древнего «набора для строительства глаз» – фоторецепторов и их пигментов.
Специалист в такой замечательной области науки, как молекулярная палеоархеология, Давиде Пизани из Ирландского национального университета вместе с коллегами из Бристольского университета сосредоточился на семействе светочувствительных пигментов, находящихся в клетках фоторецепторов и превращающих фотоны света в электрохимические сигналы. Все вместе они известны как опсины. В поисках предка всех существующих ныне опсинов Пизани и его коллеги использовали всю доступную геномную информацию по соответствующим группам животных и построили таксономическое дерево опсинов, которое сначала привело их к общему монофилетическому таксону Neuralia, включающему стрекающих кишечнополостных (губок и медуз), гребневиков (гребневиков, морских крыжовников, морские орехи и венерин пояс) и билатерий (предков всех остальных животных на Земле), а затем к странной группе самых примитивных многоклеточных животных, называемых пластинчатыми (Placozoa). Именно здесь, как предположили исследователи, молекула-предшественник всех опсинов прошла дупликацию генов, дав рождение древнему гену опсина и его близкому родственнику гену мелатонина, вещества, которое в настоящее время участвует в регулировании циркадных ритмов. Далее этот опсин, который предположительно был «слепым», за короткий период времени, всего 11 миллионов лет, претерпел молниеносную эволюцию, превратившись в опсины, которые могли реагировать на свет. Работа Пизани и его коллег датирует происхождение гена опсина примерно 700 миллионами лет назад и закладывает фундамент для дальнейшего углубления наших знаний об эволюции семейства генов опсина вплоть до позвоночных, а также об эволюции цветового зрения.
Когда окружающая среда предоставляет сходные условия отбора в отношении остроты зрения – например, повышая шансы на успех для хищников или, наоборот, для их жертв, – органы зрения животных, имеющие разное эволюционное происхождение, могут развиваться в одном направлении и приобретать значительное сходство. Глаза позвоночных и головоногих (кальмаров и осьминогов) – классический пример того, как конвергентная эволюция привела к развитию у них чрезвычайно похожих глаз камерного типа. Глаза обоих типов имеют чашеподобную камеру, сложную сетчатку с высокой плотностью фоторецепторов и хрусталик. Между тем с точки зрения эволюции головоногие очень далеки от позвоночных.
Парадоксально, но этот уникальный пример конвергентной эволюции стал очередным поводом для яростных баталий между воюющими армиями креационистов и эволюционистов. Креационисты, как мы уже говорили, опираются на все тот же аргумент, впервые выдвинутый Уильямом Пейли, что глаз со всеми его сложными, взаимосвязанными составляющими не мог возникнуть в результате ступенчатой эволюции. Эволюционисты пытаются опровергнуть этот аргумент, используя обидное сравнение между эстетически совершенным дизайном глаза кальмара и довольно нелепой конструкцией глаза позвоночных, а значит, и человеческого глаза.
Главное отличие, на котором акцентируют внимание эволюционисты, касается ориентации фоторецепторов в сетчатке, что является неизбежным следствием различного эмбриологического происхождения глаз у позвоночных и головоногих моллюсков. У позвоночных сетчатка развивается из центральной нервной системы – из выпячиваний, или пузырьков, на поверхности нервной трубки, из которой в дальнейшем образуется передний отдел головного мозга. Эти глазные пузырьки выпячиваются и прикасаются к наружной стенке эмбриона, стимулируя формирование хрусталика. Затем они «складываются внутрь» вместе с частью наружной стенки, образуя глазной бокал. Этот процесс приводит к образованию так называемой инвертированной или перевернутой сетчатки, где фоторецепторы повернуты в обратную сторону от входящего света, а их синаптические окончания, идущие к зрительному нерву, направлены внутрь глаза, в сторону хрусталика. У беспозвоночных весь глазной аппарат развивается из кожи посредством образования серии сложных складок тканей, в результате чего фоторецепторы оказываются обращенными к свету, а их отростки, идущие к зрительному нерву и головному мозгу, – обращены назад, к задней части глаза. Таким образом входящему свету не приходится преодолевать препятствия в виде вышележащих клеточных слоев и переплетений нервных волокон, ведущих в головной мозг. Более того, поскольку у осьминогов и кальмаров нейроны идут от задней части фоторецепторов к зрительному нерву, они не пролегают по внутренней поверхности сетчатки, прежде чем пройти через оболочку глаза и погрузиться в головной мозг. Это означает, что в глазах осьминогов и кальмаров нет слепого пятна. Такая сетчатка называется неинвертированной или нормальной, и на первый взгляд может показаться, что кальмаров и осьминогов эволюция одарила более совершенной и продуманной конструкцией глаза, чем позвоночных с их «вывернутой наизнанку» сетчаткой со слепым пятном в нагрузку.
Таким образом, в споре с креационистами даже самые уважаемые профессора эволюционной биологии зачастую попадают в ловушку. Чтобы убедить нас в том, что «дизайн» человеческого тела – дело рук эволюции, а не Бога, они часто прибегают к так называемому аргументу о «плохом дизайне». Этот аргумент традиционно используется для доказательства эволюционного, а не божественного происхождения человеческого глаза, и в качестве главного «дефекта дизайна» неизменно указывается перевернутая сетчатка. Вот что пишет об этом инженерном фиаско Ричард Докинз в своей книге «Слепой часовщик»:
Любой инженер естественно решил бы, что фотоэлементы нужно располагать на стороне падающего света, а провода от них отводить с обратной стороны, обращенной к мозгу. Он посмеялся бы над предложением сделать наоборот – чтобы фотоэлементы располагались ниже слоя проводов, которые бы их заслоняли. Но именно так сделано в сетчатках всех позвоночных! Каждая светочувствительная клетка располагается в глубине сетчатки, а выходящий из нее отросток идет туда, откуда падает свет. Проводу приходится путешествовать по поверхности сетчатки к некоей точке, где он проникает через отверстие в ней (называемое «слепым пятном»), чтобы присоединиться к зрительному нерву. Это означает, что свет, вместо того чтобы свободно проходить к светочувствительным клеткам, должен продираться сквозь лес проводов, страдая по крайней мере от какого-то ослабления и искажения (фактически искажения невелики, но тем не менее это в принципе нечто, что оскорбило бы любого аккуратного инженера!).
Один из отцов эволюционной медицины Рэндольф Несс использует очень похожий аргумент. В своей беседе с Докинзом, видеозапись которой можно увидеть на YouTube, он восклицает: «Только представьте себе, что разработчик камеры Nikon или Pentax проложил провода между объективом и пленкой – т. е. так, как они расположены в нашем глазу. И мало того, сделал бы в центре слепое пятно, где вообще отсутствует всякое изображение!» Именно такое перевернутое строение, утверждает Несс, делает нас подверженными отслоению сетчатки. На что Докинз ему отвечает: «Известный немецкий ученый Герман фон Гельмгольц как-то сказал, что, если бы к нему пришел инженер и предложил оптическое устройство с конструкцией как у человеческого глаза, он бы прогнал его прочь!»
Согласно Нессу, человеческий глаз значительно уступает глазу кальмара или осьминога: «Все головоногие моллюски имеют глаза с правильной конструкцией. Благодаря тому, что все сосуды и нервы пролегают по задней стороне глаза, у них не бывает отслоения сетчатки. У них нет проблемы со слепым пятном, поэтому им не нужно так сильно двигать глазами, как нам, чтобы охватить взглядом все поле зрения. Этот дизайн по всем параметрам превосходит наш!»
В описании Докинза и Несса глаз позвоночных предстает перед нами устройством с прямо-таки абсурдными конструктивными недостатками. По сути они говорят: «Такого рода нелепости доказывают, что это дело рук эволюции. Бог, как и любой компетентный инженер, никогда бы не сделал подобных ошибок!» Откровенно говоря, мне не нравится аргумент о «плохом дизайне», поскольку тем самым эволюционисты предлагают нам рассматривать эволюцию как безнадежного растяпу, у которого (едва ли не буквально) руки растут не из того места. Я же придерживаюсь гораздо более высокого мнения об эволюции и считаю, что Докинз и Несс упускают главное, не исследуя этот вопрос дальше, чтобы обнаружить положительные, или адаптивные, аспекты инвертированного строения сетчатки позвоночных. В конце концов, позвоночные с их перевернутой сетчаткой стали чрезвычайно успешными видами в животном царстве. Так действительно ли их глаза настолько хуже глаз головоногих?
Некоторые исследователи решили найти положительные стороны такого строения сетчатки у позвоночных, и их теории вывернули наизнанку излюбленные аргументы Несса и Докинза. Вот что говорит Рональд Крёгер, профессор Лундского университета: «Главный вопрос состоит в том, почему животные с перевернутой сетчаткой были успешны и превратились в группу позвоночных с самой развитой зрительной системой». Крёгер считает, что причина успеха животных с перевернутой сетчаткой проста и очевидна: такая сетчатка является наилучшим конструктивным решением. «У нее так много преимуществ, что вообще удивительно, почему другие группы животных, такие как головоногие, развили похожие глаза с неинвертированной сетчаткой!»
Главное преимущество такой сетчатки, считают Крёгер и его коллега Оливер Бильмайер, заключается в экономии пространства. Крёгер указывает на глаза небольших рыб, которые нуждаются в остром зрении, но имеют маленькое тело. В их глазах пространство между хрусталиком и сетчаткой, которое у других позвоночных заполнено стекловидным телом, почти полностью занято клетками сетчатки, обрабатывающими зрительную информацию, поступающую к ним от фоторецепторов. Если бы все эти клетки были расположены позади фоторецепторного слоя, как при неинвертированной конструкции, глаз должен был бы значительно увеличиться в размере, чтобы вместить их. Так, Крёгер и Бильмайер рассчитали, что самый маленький глаз, который может вместить инвертированную сетчатку толщиной 100 микрометров (мкм), должен иметь диаметр 330 мкм и хрусталик диаметром 130 мкм. При том же размере и фокусном расстоянии хрусталика глаз с неинвертированной сетчаткой должен иметь наружный диаметр 420 мкм и быть в два раза большего объема. Таким образом, если вы хотите иметь острое зрение, но выпученные глаза вам не по вкусу, используйте перевернутую сетчатку. Поскольку предки большинства групп животных были очень небольшого размера, инвертированная сетчатка давала им решающее преимущество. Личинки многих современных животных также крайне малы, но нуждаются в хорошем зрении, чтобы выжить. Разумеется, по мере увеличения размера животных компактность перевернутой сетчатки перестает играть столь важную роль. Смоделировав упрощенный глаз того же размера, что и человеческий, Крёгер и Бильмайер рассчитали, что инвертированная сетчатка позволяет уменьшить размер глаза на 11,3 процента по сравнению с неинвертированной, и, по их оценке, реальная экономия пространства для человеческого глаза составила всего 5 процентов – не такая уж впечатляющая, но все же значительная цифра с точки зрения эволюции. Еще одним преимуществом такой конструкции является то, что она размещает внешние сегменты фоторецепторов в непосредственной близости к пигментному эпителию сетчатки, что способствует регенерации их зрительного пигмента. Наконец, такая конструкция позволяет хорошо снабжать питательными веществами фоторецепторы с их интенсивным метаболизмом через насыщенную кровеносными сосудами хориоидею, при этом не давая поглощающему свет гемоглобину вставать на пути у входящего света.
Но, пожалуй, наиболее важным свойством перевернутой сетчатки является ее увеличившаяся толщина, что создает возможности для значительного повышения вычислительной мощности. Это означает, что глаз может производить гораздо более сложную обработку визуальной информации, прежде чем сигналы отправляются дальше – через зрительный нерв в головной мозг. Неврологи Тим Голлиш и Маркус Мейстер указывают, что сетчатка позвоночных в действительности содержит пятьдесят различных типов клеток – гораздо больше, чем требуется для выполнения основных зрительных задач, таких как световая адаптация или обеспечение резкости зрения. Многослойную сетчатку позвоночных можно сравнить с продвинутым ноутбуком, подключенным через высокоскоростное соединение Ethernet к мощнейшему центральному мейнфрейму. Существенная часть обработки информации, связанной с обнаружением быстрого движения и осмыслением огромного количества фрагментов поля зрения, полученных в результате скачкообразных движений глаз (саккад), производится именно в сетчатке, а не в мозге позвоночных. Все эти локальные вычисления требуют эффективной коммуникации между нейронами сетчатки и носят скорее аналоговый, чем цифровой характер, – т. е. используют ступенчатый потенциал, а не цифровые сигналы включить/выключить. По словам Крёгера, это обеспечивает фантастическую информационную плотность, о которой разработчики компьютеров могут только мечтать. Окончательный результат, передаваемый от ганглиозных клеток в мозг, преобразуется в цифровую форму, поскольку в ином случае из-за относительно большого расстояния до мозга эти сигналы подвергались бы более сильному искажению.
Хотя в человеческой сетчатке более 100 миллионов фоторецепторов, зрительный нерв состоит всего из 1 миллиона аксонов. Если бы каждый фоторецептор был соединен с головным мозгом отдельным «проводом», зрительный нерв был бы толще, чем диаметр глаза. Но «умная» сетчатка позвоночных, осуществляющая значительную часть предварительной обработки зрительной информации на месте, позволяет избежать этого явного адаптивного недостатка. Это особенно важно для низших позвоночных, которые имеют головной мозг намного меньшего размера, чем млекопитающие, но тем не менее нуждаются в остром зрении, чтобы выжить. Например, Крёгер вовсе бы не удивился, если бы было установлено, что количество нейронов в глазу у крокодила превышает их количество в головном мозге! Птицы особенно наглядно демонстрируют нам преимущества «умной» сетчатки. Чтобы обеспечить маневренность и выносливость при полете, им нужно экономить место и вес везде, где только можно. При этом большинство видов птиц обладает чрезвычайно острым зрением. Их толстая сетчатка позволяет производить еще больше обработки визуальной информации непосредственно на месте, прежде чем передавать ее в относительно небольшой мозг.
Да, с точки зрения собственно оптического устройства, такого как видеокамера, глаз осьминога действительно превосходит глаз позвоночных с его нагромождением клеток на пути света к фоторецепторам и прочими особенностями. Но осьминоги могут видеть только в черно-белом цвете – у них нет цветового зрения. Кроме того, как было показано, сетчатка у позвоночных – это не просто устройство для захвата фотонов, а мощный процессор обработки сигналов. У головоногих нет такой сложной многослойной структуры, типичной для инвертированной сетчатки позвоночных. Они вынуждены отправлять всю сырую визуальную информацию для дальнейшей обработки в две структуры, называемые зрительными долями (выросты головного мозга, расположенные позади глазниц). Поскольку каждый фоторецептор независимо соединен со зрительными долями мозга, это приводит к тому, что большое количество относительно длинных соединений могут подвергать зрительные сигналы искажению на пути к мозгу. Такая неэффективная система передачи сигналов, как указывает Крёгер, также является более медленной и затрудняет мгновенное сравнение информации между соседними фоторецепторами, что необходимо для цветового зрения, обнаружения движения и быстрого распознавания объектов, попавших в поле зрения. Исследователь приходит к выводу: «Позвоночные развились в группу животных, наиболее сильно зависящую от зрения с высоким пространственным разрешением. И инвертированная сетчатка, по всей вероятности, сыграла в этом важную роль, поскольку она позволяет осуществлять значительное количество операций по обработке визуальной информации непосредственно на месте, при этом экономя драгоценное пространство, вес и время».
У дебатов по поводу инвертированной и неинвертированной сетчатки было интересное продолжение. В 2007 году большое волнение в кругах креационистов вызвала публикация статьи Кристиана Франца и его коллег. С тех пор креационистская литература регулярно ссылается на их работу, поскольку та якобы доказывает, что Бог знал, что делал, когда создавал сетчатку позвоночных. Франц исследовал клетки Мюллера – вытянутые, колоннообразные клетки, которые проходят через все слои сетчатки и выходят по обеим ее сторонам в форме раструбов. Раньше считалось, что эти клетки принадлежат к числу клеток, которые выполняют в сетчатке опорную функцию – т. е. создают ее каркас. Но Франц заявил, что, поскольку эти клетки расположены вдоль линий распространения света, они, как показывают современные методы микроскопических исследований, могут заниматься гораздо более ответственной работой – обеспечивать прохождение света от поверхности сетчатки к фоторецепторным клеткам с минимальным рассеянием. Используя лазеры, исследователи обнаружили, что клетки Мюллера функционируют так же, как оптические волокна – световоды, по которым передаются широкополосные и телевизионные сигналы в наши дома. Другими словами, клетки Мюллера – это натуральный оптоволоконный кабель, который позволяет световым сигналам проходить от внутренней поверхности сетчатки к слою палочек и колбочек с минимальным уровнем искажения, избавляя их от необходимости продираться сквозь мешанину кровеносных сосудов, клеток сетчатки и аксонов, находящихся на пути света к фоторецепторному слою. Это открытие Франца было с особым восторгом встречено креационистами, поскольку, по их мнению, оно в очередной раз подтверждает, что наш глаз является продуманным, совершенным устройством, сотворенным гениальным небесным инженером, а вовсе не продуктом слепой эволюции. Эволюционисты были застигнуты врасплох. Им пришлось поспешно заявить о том, что клетки Мюллера представляют собой результат типичного эволюционного подхода – приспособить то, что есть, для выполнения новой функции. Но, судя по всему, им не стоило хвататься за оружие.
Похоже, что значительная часть офтальмологического научного сообщества не разделяет энтузиазма креационистов по поводу волоконной оптики Франца. Работа Франца была подвергнута фундаментальной и сокрушительной критике, которой по каким-то причинам не было уделено должного внимания. Дэвид Уильямс, директор Центра офтальмологии Рочестерского университета и ведущий мировой эксперт по человеческому зрению, говорит, что существуют неоспоримые доказательства того, что клетки Мюллера не являются волноводами ни в каком сколько-нибудь значимом смысле этого слова. Внимательное изучение анатомии сетчатки показывает, что эти клетки вовсе не расположены вдоль линий светового потока, идущего из зрачка к фоторецепторам. В центральной ямке макулы – небольшом участке сетчатки, отвечающем за зрение высокой остроты, – клетки Мюллера расположены под углом, а на периферии сетчатки и вовсе имеют радиальную ориентацию, т. е. направлены к центру глаза, а не к зрачку. В периферической части сетчатки функцию световодов выполняют колбочки, которые как раз и расположены в направлении падающего света. Как указывает Уильямс, мы можем видеть палочки и колбочки при помощи адаптивной оптики именно благодаря тому, что они являются световодами. Они проводят световые волны от своей задней части, куда те попадают от источника света через зрачок, к своему светочувствительному элементу, и поэтому имеют вид ярких светящихся пятен. Клетки Мюллера никогда не светятся подобным образом.
В апреле 2011 года журнал Nature опубликовал статью, содержащую ссылку на замечательный фильм, показывающий постепенное формирование глазоподобной структуры из стволовых клеток. В фильме показан не процесс формирования глаз у живого эмбриона, а то, как глаз – в буквальном смысле слова на наших глазах – вырастает вне живого организма, в пробирке. Значение этого захватывающего эксперимента трудно переоценить, поскольку он приоткрыл завесу тайны над тем, как происходит развитие глаза, и показал, что строительные инструкции содержатся внутри самих дифференцирующихся клеток: другими словами, глаз является самоорганизующейся структурой – он способен построить сам себя самостоятельно, без какого-либо вмешательства извне. Этот эксперимент воодушевил мировое сообщество исследователей-офтальмологов, которые пытаются использовать принципы биологии развития для регенерации больных глаз, поскольку показал, что они идут по правильному пути.
Мотоцугу Эираку, ныне покойный Ёсики Сасаи и их коллеги из научно-исследовательского института RIKEN в Японии поместили эмбриональные стволовые клетки мышей в пробирку с питательной средой и некоторым количеством гелеобразного субстрата под названием матригель, способного играть роль каркаса для растущей ткани. Также они ввели несколько доз белка Nodal, который, как известно, запускает дифференциацию стволовых клеток. Через шесть дней после начала эксперимента сформировалось несколько полых сфер, быстро превратившихся в полусферические мешочки или пузырьки. Чтобы наблюдать за происходящим, ученые предварительно ввели в стволовые клетки ген зеленого флуоресцентного белка (ЗФБ). Изначально ген ЗФБ был выделен у медуз и в настоящее время широко используется в качестве маркера для визуализации развития тканей. Когда стволовые клетки в пробирке начали дифференцироваться, они включили ген ЗФБ, благодаря чему развивающаяся структура светилась призрачным зеленым светом. Другими словами, исследователи создали свою собственную натуральную видеографику! Без ЗФБ пузырьки развивались бы незаметно, пока вокруг них не образовалось бы тканевая оболочка.
Между восьмым и десятым днем пузырьки резко изменили форму – они сложились внутрь, сформировав чаши точно такого же размера, как глазной бокал у зародышей мышей. Клетки наружной стенки глазного бокала начали продуцировать белковые маркеры, которые обычно можно увидеть в развивающемся пигментном эпителии сетчатки, а клетки внутреннего слоя начали экспрессировать маркеры, характерные для нейронов сетчатки. Раньше считалось, что для того, чтобы запустить процесс формирования глазного бокала, сначала из ткани эктодермы должен образоваться хрусталик, однако в эксперименте Эираку и Сасаи глазной бокал сформировался совершенно самостоятельно, без какого-либо влияния извне. Следующим шагом исследователи осторожно вырезали несколько таких пузырьков и вырастили их отдельно от первоначального агрегата стволовых клеток. Удивительно, но через четырнадцать дней эта «эмбриональная сетчатка» принялась дифференцировать все известные типы клеток: фоторецепторы, ганглиозные клетки, биполярные клетки, горизонтальные клетки, амакринные клетки и глиальные клетки Мюллера. Кроме того, эти различные типы клеток размещались в правильном анатомическом порядке, как это происходит в развивающемся глазе нормального зародыша: биполярные клетки располагались поверх фоторецепторных, а над ними, во внутреннем слое, – ганглиозные и амакринные клетки. Таким образом, исследователям удалось вырастить глазной бокал и сетчатку, или, точнее говоря, эти структуры вырастили сами себя – это был глаз «сделай себя сам». «Программа этого сложного морфогенеза, – заключают Эираку и Сасаи, – имманентно заложена в клетках и запускает процесс динамического самоформирования и самоинформирования под влиянием последовательной комбинации локальных правил и внутренних сил в эпителии». Таким образом, японские ученые заглянули в ближайшее будущее офтальмологии, когда регенеративная технология «сделай себя сам» позволит выращивать настоящие многослойные трехмерные нейронные сетчатки на заказ, в виде целых листов.
Разумеется, как справедливо может заметить скептически настроенный читатель, японские ученые вырастили не полноценный глаз, а всего лишь глазной бокал и сетчатку. А как насчет, скажем, хрусталика? К счастью, Андреа Стрейт из Королевского колледжа в Лондоне показала, каким образом развивающийся глазной бокал индуцирует образование хрусталика в нужном месте. Наружный слой клеток любого эмбриона – эктодерма – обладает имманентной способностью формировать хрусталик в любой части своей поверхности. Например, в ходе экспериментов исследователям удалось стимулировать образование хрусталиков по всей поверхности тела зародышей лягушки и насекомых. Стрейт показала, что в норме мигрирующая популяция клеток нервного гребня, которая находится между развивающейся центральной нервной системой и эктодермой, не дает эктодерме формировать хрусталики. Эти клетки активируют клеточные сигнальные пути, которые подавляют экспрессию ключевого гена Pax6, отвечающего за развитие глаз. Однако, когда глазной бокал формируется и поднимается вверх, прикасаясь к эктодерме, он образует санитарный кордон, изолирующий локальный участок эктодермы от клеток нервного гребня. Ген Рах6 перестает ингибироваться, и на этом месте – именно там, где нужно, – формируется хрусталик.
Робин Али из Института офтальмологии в Лондоне воодушевлен экспериментом своих японских коллег. Он начал заниматься проблемами регенерации глаза из стволовых клеток в 2003 году и за последние десять лет вплотную подошел к испытаниям регенеративных технологий на людях. Десять лет назад вокруг стволовых клеток было много ажиотажа, но очень мало качественных данных. Потребовались годы кропотливых исследований на животных моделях, чтобы узнать, что можно делать со стволовыми клетками, а что нет. Робин Али использует в своей работе мышей, поскольку их сетчатка продолжает формироваться и после рождения. «Я хотел узнать, – поясняет Робин Али, – можно ли в принципе пересадить фоторецепторные клетки, т. е. возможно ли это технически? Приживутся ли они на чужой сетчатке?» Для начала он взял фоторецепторные клетки у трехдневной мыши и трансплантировал их в сетчатку другой мыши того же возраста. И действительно, эти фоторецепторы отлично прижились. «Благодаря этому мы узнали, – говорит исследователь, – как должны выглядеть трансплантированные фоторецепторы и как они должны правильно интегрироваться, чтобы не создавать никакой путаницы и беспорядка».
Затем команда Али сравнила успешность трансплантации стволовых клеток сетчатки возрастом от трех дней до трех недель, чтобы найти оптимальный момент для пересадки. «Мы посмотрели на эффективность интеграции этих клеток. Она соответствовала гауссовой кривой. Если мы брали совершенно незрелые стволовые клетки сетчатки, они не интегрировались, а просто превращались в крошечные сетчатки в том месте под сетчаткой, куда мы их вводили. Они формировали хорошую сетчатку, но проблема была в том, что они знать не желали своих соседей. Если же мы пересаживали полностью зрелые фоторецепторные клетки, те вообще ничего не делали. Таким образом, на вершине гауссова колокола мы нашли окно, когда фактически происходит рождение фоторецепторных клеток, пик которого приходится на возраст около пяти дней после рождения мыши. Это оптимальный возраст для донорской клетки. «Наиболее успешные результаты дает трансплантация фоторецепторных клеток, которые уже не являются стволовыми клетками и находятся на стадии клеток-предшественников, которые перестали делиться, но еще не начали дифференцироваться».
Команде Али потребовалось еще пять лет упорной работы, чтобы доказать, что они могут ввести сорок тысяч клеток – предшественников палочек в сетчатку слепых мышей таким образом, чтобы они там успешно интегрировались – сформировали функциональные связи внутри сетчатки, присоединились синапсами к биполярным клеткам и начали передавать информацию в головной мозг. Эксперименты, в ходе которых мыши с имплантированными фоторецепторами должны были найти путь в лабиринте, показали, что их зрение действительно улучшилось. На этом этапе исследований команда Али позаимствовала метод, разработанный одним из японских коллег Мотоцугу Эираку, который позволяет превращать эмбриональные стволовые клетки в предшественников различных клеток сетчатки. «Мы адаптировали японский протокол, – объясняет Али, – и научились продуцировать самоорганизующиеся сетчатки из эмбриональных стволовых клеток. Вот почему я считаю работу Эираку важной вехой для регенеративной офтальмологии. Выращивать сетчатку в пробирке эквивалентно тому, чтобы использовать в качестве источника сетчатку новорожденной мыши». По мнению Али, истинная красота эксперимента Эираку состоит в том, что он устраняет потребность в сложной клеточной культуре и избавляет исследователей от головной боли по синхронизации развития предшественников фоторецепторных клеток для того, чтобы получить гомогенную суспензию клеток одинакового, оптимального для имплантации возраста. Сетчатка Эираку делает все это сама. Таким образом, команда Али получила отличный эквивалент донорской сетчатки и в настоящее время уже трансплантирует его мышам.
Возрастная макулярная дегенерация – заболевание, при котором разрушаются фоторецепторы в макуле, центральной части сетчатки, отвечающей за острое зрение. Это приводит к постепенной потере центрального зрения, которое сначала становится расплывчатым, а по мере прогрессирования болезни полностью пропадает. Джен Провис, профессор анатомии в Австралийском национальном университете и специалист по сетчатке, выдвинула гипотезу, объясняющую причину макулярной дегенерации на основе идеи эволюционного компромисса – который в данном случае состоит в обмене острого зрения в молодости на нарушение зрения в более позднем возрасте. Это классический пример ситуации «живи сейчас, плати потом». Макула, напоминает Провис, занимает менее 4 процентов от всей поверхности сетчатки, но несет основную ответственность за наше зрение при ярком свете. Она состоит из трех концентрических колец – фовеи, парафовеи и перифовеи. Крошечная центральная область, фовея, содержит самую высокую концентрацию колбочек во всей сетчатке вместе с некоторым количеством палочек. По оценкам, даже крошечное повреждение фовеи выводит из строя 225 тысяч колбочек, что снижает поступление зрительной информации в мозг от ганглиозных клеток на 25 процентов, после чего человека официально признают слепым.
Эволюция плотно упаковала фовею колбочками, чтобы дать нам острое зрение, но очень высокая плотность колбочек достигается за счет хорошего кровоснабжения, хотя фоторецепторы обладают интенсивным метаболизмом и потребляют больше кислорода, чем любые другие типы клеток в нашем организме. За их кровоснабжение отвечают кровеносные сосуды сетчатки и капиллярное ложе хориоидеи, т. е. хориокапилляры, расположенные между пигментным эпителием сетчатки и склерой. В большинстве других частей нашего тела кровоснабжение органов регулируется вегетативной нервной системой, которая может увеличивать приток крови к трудолюбивым тканям. Но в сетчатке нет такого автономного контроля для увеличения кровоснабжения по требованию. Что еще хуже, в фовеоле, точечном центре фовеи, где плотность колбочек достигает пика, вообще нет кровеносных сосудов сетчатки! Адекватное кровоснабжение было принесено в жертву ради высокой плотности фоторецепторов. Если хориоидальное кровоснабжение по каким-либо причинам ухудшается, это обрекает всю центральную сетчатку на кислородное голодание. «Зону фовеи, – говорит Провис, – следует рассматривать как среду, где нейроны балансируют на грани выживания, причем этот хрупкий баланс легко нарушается при малейшем изменении кровотока и поступления кислорода и питательных веществ».
В таком критическом режиме кровоснабжения центральная сетчатка находится с самого начала эмбриогенеза глаза и на протяжении всей жизни человека, поскольку колбочки дифференцируются в эмбриональную сетчатку еще до того, как сформируется система капилляров сетчатки. Эволюция постаралась улучшить ситуацию путем уменьшения толщины сетчатки в области фовеи с образованием так называемой фовеальной депрессии. Кроме того, она расширила просветы капилляров и утончила мембрану Бруха, которая отделяет хориоидею от пигментного эпителия сетчатки. У молодых здоровых людей, говорит Провис, все эти ухищрения немного увеличивают приток кислорода и питательных веществ к фоторецепторам, но, по иронии судьбы, создают условия для макулярной дегенерации, когда мы стареем, поскольку со временем переносимые кровью метаболические отходы все легче выдавливаются из хориокапилляров под действием гидростатического давления и накапливаются в мембране Бруха и пространстве непосредственно под пигментным эпителием сетчатки. Эти отложения содержат нерастворимые липиды и называются друзами. Постепенно они нарушают кровоснабжение сетчатки, вызывают локальную сосудистую патологию и воспаление. Содержание жиров в мембране Бруха в районе макулы в семь раз выше, чем на периферии сетчатки. По мере того как стрессовое состояние макулы усугубляется, она начинает секретировать сигнальный белок под названием сосудистый эндотелиальный фактор роста, который стимулирует рост новых кровеносных сосудов. Однако эти вновь выросшие сосуды бывают очень слабыми и имеют неполноценные, тонкие стенки, подверженные утечке. Постоянная утечка вызывает повреждение фоторецепторных клеток сетчатки – что является конечной стадией влажной формы макулодистрофии. В настоящее время офтальмологи не умеют останавливать этот дегенеративный процесс, и единственным средством борьбы с ним является лазерное прижигание патологических сосудов.
Дэвид Ли страдает ювенильной формой макулярной дегенерации, также известной как болезнь Штаргардта. Проблемы со зрением начались у него в 1988 году, когда ему было всего двадцать два года: «Моя жена училась водить машину, и однажды, когда мы гуляли с ней по улице, она стала читать номерные знаки, чтобы потренировать внимание. Она читала их с легкостью, а я понял, что совершенно их не вижу! Я решил, что мне нужны очки, и записался на прием к оптометристу. Тот меня обследовал и сказал, что я немедленно должен ехать в больницу. Он сказал: «У вас на глазном дне какое-то затемнение». Через две недели у меня диагностировали болезнь Штаргардта, и врачи сказали, что ничем не могут мне помочь».
В то время Дэвид был оператором кирпичного цеха, и ему требовалось постоянно контролировать температурный режим печей и показания множества других цифровых датчиков. Но постепенно он совсем перестал различать цифры и был вынужден уйти с работы. Они с женой открыли небольшой магазинчик, специализирующийся на сэндвичах и пирогах, которым Дэвид управляет по сей день, несмотря на серьезное ухудшение зрения. Пока продавщицы обслуживают покупателей, он печет пироги и готовит завтраки на кухне. Он может приготовить даже сэндвичи при условии, что все ингредиенты находятся у него под рукой и стоят в правильном порядке. В ночное время свет автомобильных фар болезненно его ослепляет. Чтобы облегчить себе жизнь, Дэвид старается придерживаться знакомых мест. Он научился ходить по улицам с предельной осторожностью и не натыкаться на людей и столики, когда посещает незнакомые бары. «Поначалу в любом новом месте мне нужно сориентироваться. После этого я чувствую себя хорошо, – рассказывает Дэвид. – Труднее всего бывает найти мужской туалет, потому что эти крошечные фигурки мужчин или буквы "М", которые рисуют на дверях, – не для моих глаз! Но я нашел решение: обычно я стою и жду, чтобы кто-нибудь зашел в туалет. Так я узнаю, в какую дверь мне нужно зайти, чтобы не оказаться среди женщин».
Однажды вечером в 2012 году Дэвид с женой услышали в новостях BBC интервью с Джеймсом Бейнбриджем, который сообщил о том, что они набирают пациентов с болезнью Штаргардта для испытания нового метода лечения стволовыми клетками. В тот же день они отправили электронное письмо в Глазную клинику Мурфилдс, и вскоре Дэвида пригласили приехать в Лондон для прохождения комплекса тестов, чтобы определить, подходит ли он для испытаний. Сам Бейнбридж руководит европейской частью международной программы клинических испытаний, организованной и спонсируемой массачусетской биотехнологической компанией Advanced Cell Technology. Исследователи из этой компании усовершенствовали технику выделения человеческих эмбриональных стволовых клеток из пяти– или шестидневных эмбрионов и научились индуцировать их дифференциацию в клетки – предшественники пигментного эпителия сетчатки (ПЭС), клеточного слоя, который расположен под фоторецепторами и обеспечивает их снабжение питательными веществами и удаление продуктов жизнедеятельности. Эти исследования находятся еще на очень ранних стадиях, и ученые пока не умеют вводить стволовые клетки в глаз и запускать их дифференциацию в клетки – предшественники ПЭС непосредственно на месте. На сегодняшний день установлено, что наилучшие результаты дает введение суспензии клеток ПЭС, которые полностью дифференцированы, но еще не в полной мере пигментированы. Резидентные клетки сетчатки, кажется, могут помочь таким клеткам завершить процесс созревания и успешно интегрироваться в ПЭС с образованием функциональных межклеточных связей. Таким образом, в первой фазе испытаний на людях тестировалась безопасность и эффективность введения 50 тысяч, а затем 100 тысяч донорских клеток в сетчатку добровольцев, страдающих возрастной макулярной дегенерацией и болезнью Штаргардта.
Но почему исследователи вводят клетки пигментного эпителия сетчатки пациентам, чье заболевание связано с потерей фоторецепторов? Бейнбридж объясняет, что болезнь Штаргардта имеет сложный патогенез. В ее возникновении повинен дефектный ген фоторецепторов. Он не мешает их работе, но заставляет фоторецепторы выбрасывать большие количества липофусцина – остатков старых и поврежденных компонентов фоторецепторных клеток – непосредственно в пигментный эпителий сетчатки. Поскольку липофусцин нерастворим в воде и не расщепляется, он накаливается в ПЭС и, будучи к тому же довольно токсичным, вызывает дегенерацию клеток ПЭС. В результате ПЭС начинает все хуже выполнять свою работу по метаболической поддержке фоторецепторов, которые, в свою очередь, также начинают погибать. Так возникает порочный круг: дисфункция – деградация.
В идеале наилучшим решением было бы использовать генную терапию, а именно при помощи вирусных векторов ввести в ядра фоторецепторов нормальный вариант гена ABCA4, другими словами – «заразить» фоторецепторы вирусом, который заменит дефектный ген в его геноме на здоровый. К сожалению, ген ABCA4 является слишком большим для этой технологии, поэтому ученые решили сосредоточить внимание на стволовых клетках. Но на каких клетках? Создавать новые фоторецепторы, не трогая поврежденный слой ПЭС, – напрасный труд, а если пытаться восстановить поврежденный пигментный эпителий за счет поставки свежих клеток-предшественников, не трогая при этом дефектные фоторецепторы, можно получить лишь временный эффект. Поскольку в настоящее время исследователи не могут исправить сразу то и другое, они выбрали второй вариант. Целью первых испытаний было проверить работоспособность этого подхода на практике; однако, вместо того чтобы вводить клетки – предшественники ПЭС в область макулы, где из-за гибели всех фоторецепторов их благотворный эффект был бы не виден, они выбрали участок в периферической части сетчатки, где бóльшая часть клеток ПЭС погибла, но популяция фоторецепторов в значительной степени еще сохранилась.
Как сообщает Ханна Уолтерс в журнале The Scientist, первые испытания были проведены под руководством Стивена Шварца в Институте офтальмологии Джулса Стейна Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Сначала исследователи индуцировали превращение человеческих эмбриональных стволовых клеток в ранние клетки – предшественники костной и нервной ткани, которые затем дифференцировались в клетки ПЭС с вероятностью более 99 процентов. Примерно 50 тысяч таких клеток были введены под сетчатку двум пациентам: женщине далеко за семьдесят с сухой макулодистрофией и женщине средних лет с болезнью Штаргардта (обе с официально признанной слепотой). Имплантированные клетки прижились, и пациентки сообщили о некотором улучшении зрения, хотя исследователи не могут полностью исключить эффект плацебо. В прессу просочилась информация об этих пациентках. Обе они живут в Южной Калифорнии; одна из них – 51-летняя художница из Лос-Анджелеса, другая – 78-летняя пенсионерка из Лагуна-бич. Согласно статье в Washington Post, опубликованной в январе 2012 года, художница так описала журналисту свое состояние: «Однажды утром я проснулась и открыла сначала один глаз, а потом другой. Разница была удивительной! Напротив моей кровати у противоположной стены стоит деревянный шкаф с резьбой. Я посмотрела на него прооперированным глазом и увидела все мелкие детали! Тогда я принялась рассматривать все вокруг. Это было похоже на то, как если бы мне вставили новый здоровый глаз!» Теперь она может видеть символы на таблице для проверки зрения, вдевать нитку в иголку и различать цвета. Ее зрение начало ухудшаться в возрасте двадцати лет из-за болезни Штаргардта. Она потеряла бóльшую часть центрального зрения, перестала узнавать знакомые лица, не могла смотреть телевизор. Теперь ее зрение восстановилось достаточно для того, чтобы она снова смогла кататься на велосипеде.
Вторая женщина, более старшего возраста, представившаяся журналистам как Сью Фриман, страдала от прогрессирующей макулярной дегенерации. В последнее время она перестала различать даже лица членов семьи. «Разумеется, я не могла водить машину. Я перестала ходить в магазины, потому что не видела ни ценники, ни этикетки. Я не могла устроиться на работу, потому что не могла читать. У меня разрушалось не только зрение – рушилась вся моя жизнь». Через шесть недель после операции она начала замечать изменения. «Я сказала мужу: "Все вокруг будто бы стало ярче. Я не знаю, может быть, это мое воображение, но мне кажется, что я стала лучше видеть". В конце концов, она попросила мужа отвезти ее в торговый центр для «испытательного шопинга». «Он очень боялся за меня, но все прошло прекрасно!» – заключает свой рассказ Сью. Она начала читать, готовить еду и даже стала видеть время на своих наручных часах.
Операция по трансплантации Дэвиду Ли была проведена как раз в то время, когда Лондон принимал Олимпийские игры. Придя в сознание, он увидел у кровати всю свою семью и Джеймса Бейнбриджа. Чтобы избежать смещения введенных клеток, ему пришлось неподвижно пролежать на спине девять часов. «Я пришел в себя в час ночи и услышал гром фейерверков с церемонии открытия Олимпийских игр. Весь Лондон гудел, все были счастливы – и я был счастлив тоже», – вспоминает он. Дэвид не питает наивных надежд на чудесное восстановление зрения, хотя, по его субъективной оценке яркости цветных точек во время послеоперационного тестирования, определенные улучшения есть. Будучи увлеченным спортивным фанатом, теперь он может следить за ходом футбольного матча, если садится очень близко к телеэкрану. Вместе с двумя друзьями он занимается бегом – они надевают яркие куртки и бегут впереди него, показывая безопасный путь. Помня о том, что болезнь Штаргардта имеет генетические корни, Дэвид с женой регулярно проверяют своих детей у офтальмолога и очень надеются, что добровольный вклад Дэвида в науку поможет уже в ближайшем будущем разработать эффективный метод лечения с использованием стволовых клеток.
Эксперимент Эираку и Сасаи по выращиванию «глаза в пробирке» открывает захватывающую перспективу: не исключено, что в скором времени исследователи, такие как Бейнбридж, научатся выращивать в пробирках целые листы клеток пигментного эпителия сетчатки, чтобы трансплантировать их своим пациентам. Да, само хирургическое вмешательство при этом станет более сложным, поскольку для введения трансплантата в сетчатке придется делать отверстие большего размера и субстрат, на котором выращиваются клетки, должен быть проницаемым для питательных веществ и метаболитов. Но это обещает обеспечить более полноценное обновление пигментного эпителия сетчатки – благодаря замене всего леса, а не отдельных деревьев. И возможно, это только начало. «Удивительно, что такой сложнейший орган, как глаз, обладает столь уникальными способностями к самоорганизации, – говорит Бейнбридж. – Работа японских исследователей является настоящим прорывом, поскольку она наглядно показала нам имманентную способность недифференцированных клеток самостоятельно организовываться в очень сложные ткани и даже целые органы. Очень вероятно, что в скором времени мы научимся применять протокол Эираку в клинических условиях и начнем выращивать все разнообразие клеток глаза – клетки Мюллера, биполярные и глиальные клетки, фоторецепторы и клетки ПЭС – из единого набора недифференцированных стволовых клеток. Тогда наша конечная цель – полная регенерация сетчатки – станет вполне достижимой».
Между тем в Оксфордском университете Роберт Макларен и его команда пробуют несколько иной подход. Вместо того чтобы восстанавливать пигментный эпителий сетчатки, они используют так называемые плюрипотентные стволовые клетки, полученные из клеток кожи, чтобы попытаться заново «засеять» сетчатку палочками. Идея исследования родилась под воздействием результатов, полученных при имплантации искусственной электронной сетчатки первым пациентам, таким как Тим Реддиш. Эти эксперименты достоверно показали, что даже при серьезном повреждении фоторецепторного слоя биполярные и ганглиозные клетки, обеспечивающие передачу сигналов в зрительный нерв, остаются нетронутыми и способны хорошо выполнять свою работу. Исследователи получили обнадеживающие результаты на мышиных моделях с полной ночной слепотой, когда были потеряны все палочки: введение этим мышам нескольких тысяч клеток – предшественников палочек привело к восстановлению зрения. Исследователи надеются, что в перспективе этот метод терапии позволит регенерировать фоторецепторы у людей на поздних стадиях пигментного ретинита, когда фактически разрушена вся популяция фоторецепторных клеток.
Итак, передовой эксперимент японских исследователей в области биологии развития представил нам глаз в удивительном свете – как уникальный орган, способный «сделать себя сам» благодаря тому, что все инструкции по строительству глаза заложены в самих развивающихся клетках органа. Опровергает ли это открытие все аргументы креационистов против эволюционного происхождения глаз? Разумеется, нет! Будьте уверены: креационисты заявят, что за такой чудесной самоорганизацией глаза, несомненно, скрывается рука Божья. Как бы там ни было, этот эксперимент действительно стал настоящим прорывом, и не только потому, что показал нам важные этапы эмбрионального развития глаза в режиме реального времени, но и потому, что обогатил науку, предоставив убедительные свидетельства роли самоорганизации в этом процессе. Кроме того, он воодушевил ученых-офтальмологов по всему миру и дал им важную точку опоры, отталкиваясь от которой они могут уже в ближайшем будущем научиться восстанавливать больные глаза. Сегодня существует вполне реальная надежда на то, что в скором времени пигментный ретинит, макулярная дегенерация и множество других заболеваний глаз навсегда уйдут в прошлое.
Многообещающие монстры Почему рак почти невозможно вылечить
В десять тридцать утра в нейрохирургической операционной Адденбрукского госпиталя в Кембридже, Великобритания, 55-летнего Брайана Фернли, пребывающего под общим наркозом, деликатно переложили с каталки на операционный стол и зафиксировали его голову в специальной рамке. Нейрохирург Колин Уоттс выбрил на голове Брайана полосу от левого уха через всю макушку. Затем при помощи компьютерной стереотаксии он очертил на его черепе участок размером с компьютерную мышь. Через несколько минут характерный запах жженой плоти известил о том, что электронож – игольчатый электрод с вольфрамовым наконечником – прорезал кожу до самой кости. Умелыми движениями Уоттс быстро снял лоскут скальпа, обнажил участок черепа и вскрыл его. Когда он прорезал твердую мозговую оболочку – волокнистую прослойку, находящуюся между черепом и мозгом, – взору врачей предстала выпяченная на поверхности мозга шишка размером с небольшое куриное яйцо. Она была ярко-красного цвета и резко контрастировала с окружавшей ее бледной здоровой тканью. Это была глиобластома – самая распространенная форма рака головного мозга, а также самая разрушительная и смертоноснная.
Глиобластомы возникают в нейроглии – вспомогательных глиальных клетках нервной ткани, которые образуют механический каркас мозга и отвечают за питание нейронов. Уоттс и его команда оперируют от восьмидесяти до ста глиобластом в год. Это чрезвычайно агрессивная форма рака с очень плохим прогнозом. Несмотря на комплекс лечебных мероприятий, включающий хирургическое удаление опухоли, лучевую терапию и химиотерапию темозоломидом, средняя выживаемость составляет менее пяти месяцев, и менее четверти пациентов проживают больше двух лет. Отчасти проблема заключается в том, что чрезвычайно сложно полностью удалить раковые ткани, не причинив необратимого вреда мозгу пациента, а также в том, что гематоэнцефалический барьер препятствует эффективной доставке лекарственных препаратов в головной мозг. Таким образом, частота рецидивов – повторного развития опухоли после ее удаления – очень велика. Хотя Уоттсу случалось проводить повторные операции некоторым пациентам, а одного пациента пришлось оперировать целых три раза, он признает, что головной мозг плохо переносит повторное хирургическое вмешательство. Пациенты плохо восстанавливаются после операций, в большинстве случаев страдают нарушением когнитивных функций, впадают в агональное состояние и в конце концов умирают.
На фоне приведенной статистики Питера Фрайатта можно назвать счастливчиком. Ему удалили глиобластому в октябре 2011 года, и он гордостью демонстрирует мне небольшой рубец на черепе – единственный видимый след, оставшийся после операции. Несмотря на все меры предосторожности, этот вид операции носит глубоко инвазивный характер и может приводить к серьезным когнитивным дисфункциям. «Они вырезали столько, сколько было возможно. А вместе с частью моего мозга исчезла и часть меня. Но тут ничего не поделаешь», – говорит Питер. Его речь немного невнятна. Рассказывая мне свою личную историю борьбы с раком, он подчас с трудом подбирает слова, а его память на технические детали далека от блестящей памяти человека, который до начала болезни был менеджером высшего звена в авиационной отрасли.
Его первоначальные симптомы носили на удивление неспецифический характер. Он чувствовал вялость и сонливость, как бывает после перенесенного гриппа, с тем лишь отличием, что эти симптомы никак не проходили. Терапевт удивил его, поставив диагноз сахарный диабет и прописав диабетические препараты. «Я сказал ему, что он ошибается. Что дело в чем-то другом. И попросил направить меня на сканирование мозга». Терапевт уклонился – сканирование дорого обходится Национальной службе здравоохранения – и Питер решил воспользоваться своей личной медицинской страховкой, чтобы пройти обследование в частном порядке, поскольку интуиция подсказывала ему, что тут кроется более серьезная проблема. К сожалению, интуиция его не подвела. Два дня спустя ему позвонили на работу и сказали: «Мы обнаружили у вас опухоль головного мозга». Опухоль была довольно большой – Питер показывает примерно два сустава на своем пальце.
Спустя два года после операции он с трудом делает многие вещи, которые раньше делал не задумываясь. От его прежней силы и энергичности не осталось и следа, а чтение стало требовать таких неимоверных усилий, что он часто сдается и в отчаянии включает телевизор. «Теперь я почти все время смотрю этот чертов ящик! И мне запрещено водить машину, что причиняет массу неудобств!» Что еще хуже, его опухоль снова начала расти. Недавно сканирование показало два новых образования размером с ноготь. Ему провели повторный курс химиотерапии темозоломидом, чтобы затормозить их рост. «Шесть месяцев назад они увидели две небольшие опухоли. Одну им удалось уничтожить, но другая с тех пор немного выросла».
Врачи не могут дать ему четкий ответ на вопрос: «Сколько мне осталось?» Анализируя их уклончивые ответы, Питер приходит к выводу, что это может быть от одного дня до десяти лет. «Я хотел бы избавиться от этой опухоли, чтобы мне больше не пришлось принимать эту чертову кучу таблеток. Я хочу быть здоровым и сильным, как раньше, много ходить пешком, играть в гольф. Но врачи не говорят мне, возможно ли это, – они сами этого не знают».
Между тем в операционной Адденбрукского госпиталя врачи приступили к удалению опухоли из головного мозга Брайана Фернли. За несколько часов до операции Брайану сделали инъекцию 5-аминолевулиновой кислоты, сокращенно 5-АЛК. Раковые клетки с их ускоренным метаболизмом активно абсорбируют это вещество и под ультрафиолетовыми лучами начинают светиться ярко-розовым светом, что помогает хирургам отличить злокачественную опухоль и мертвую некротизированную ткань от здоровых тканей мозга. Но Колину Уоттсу флуоресценция помогала делать и кое-что еще – четко видеть границы опухоли и выборочно вырезать крошечные образцы злокачественной ткани из разных ее частей по мере того, как он аккуратно продвигался вглубь головного мозга. В течение часа Уоттс вырезал шесть таких образцов и отправил их в лабораторию геномики рака для анализа. В конце концов, он вырезал остатки раковой опухоли, полностью очистив от них мозговую ткань.
Многие люди ошибочно полагают, что раковая опухоль – это гомогенное скопление злокачественных клеток, подверженных неконтролируемому росту и делению. Но Уоттс и его коллеги знают, что главной причиной высокой агрессивности глиобластомы и трудности ее эффективного лечения является ее значительная гетерогенность. Опухоль – не единый монолитный блок из одинаковых аномальных клеток, она состоит из множества субпопуляций клеток с разными геномами, разными типами мутаций и разными паттернами генной активности. Однако до настоящего времени эта гетерогенность оставалась практически неизученной по той причине, что стандартная процедура биопсии предполагает изъятие у каждого пациента всего одного образца. Этого явно недостаточно для того, чтобы изучить всю генетическую вариабельность, которая может присутствовать в разных участках опухоли и проявляться на разных стадиях ее развития, и идентифицировать весь набор представленных мутаций. Вот почему кембриджские исследователи воспользовались тем обстоятельством, что хирургическое удаление глиобластомы осуществляется частями, чтобы взять образцы тканей из разных участков опухоли и исследовать каждый из них в мельчайших деталях.
В последние двадцать лет эволюционная биология начала активно проникать в область онкологических исследований. Ученые, изучающие эволюцию рака, рассматривают это заболевание как миниатюрную экосистему, состоящую из мириад генетически изменчивых клеточных организмов, или клонов, распределенных по всему пространству опухолевого образования. Эти клоны борются друг с другом за выживание точно так же, как животные или растения конкурируют друг с другом в обычном мире, где климат, доступность питания и другие факторы создают давление отбора, обуславливающее дифференциальное выживание, и, таким образом, стимулируют эволюцию. Раковые клетки соперничают за пищу и кислород и имеют дифференциальную устойчивость к воздействию нашей иммунной системы и токсичной химиотерапии. В результате выживают самые жизнеспособные клоны, которые и становятся доминирующим «видом» в опухолевой экосистеме. Такая генетическая гетерогенность обуславливает агрессивность опухоли, и чем более гетерогенна опухоль – чем выше генетическая вариабельность среди ее раковых клонов, – тем труднее ее уничтожить. Результаты исследований глиобластомы, ведущихся в Кембридже с позиций эволюционного подхода, перекликаются с результатами исследований всех типов рака, проводимых в лабораториях по всему миру, и позволяют нам приблизиться к ответу на такие животрепещущие вопросы, как: «Почему вообще возникает рак?», «Как рак превращается из относительно безвредного доброкачественного образования в агрессивную злокачественную опухоль?», «Почему опухоль распространяется, или метастазирует, из первичного очага в другие органы и ткани (и почему клетки из некоторых первичных очагов предпочитают для метастазирования определенные органы)?», «Почему метастазы всегда фатальны для пациента?». Давая ответы на эти вопросы, эволюционная медицина уже начинает предлагать и новые подходы к лечению рака.
Мы все являемся мутантами, утверждает Мел Гривз из Центра эволюции рака в Институте онкологических исследований в Великобритании. Если вам больше сорока лет, внимательно посмотрите на свою кожу. Почти наверняка вы увидите на ней массу родинок и пигментных пятен, которые по-научному называются невусами. Хотя большинство из них совершенно безвредны, говорит Гривз, генетический анализ непременно обнаружит во многих из них патологические мутации в типичном онкогене под названием BRAF, который может запускать неконтролируемый рост клеток. Или возьмите образец кожи у любого человека пожилого возраста, усеянный печеночными («старческими») пятнами, и вы найдете там сотни клеточных клонов, содержащих инактивирующие мутации в важнейшем гене p53, который называют «шефом клеточной полиции». Когда этот ген работает нормально, он обеспечивает восстановление поврежденных клеток и заставляет умирать те клетки, которые не подлежат ремонту. Но когда он отключен, он перестает выполнять свою полицейскую функцию и бессилен предотвратить развитие рака. «Если тщательно просканировать тело любого человека, держу пари, вы найдете массу поводов для тревоги, – говорит Гривз. – Лично я никогда бы не согласился на такое сканирование! Это значит, что рак есть у всех людей? Да!»
Если, не дай бог, я внезапно скончаюсь в тот день, когда вы читаете эту главу, и дотошный патологоанатом решит вскрыть мою простату, он почти наверняка обнаружит в ней участки предраковых изменений ткани – так называемый начальный неинвазивный рак или рак in situ, – хотя это и не было причиной моей смерти. Очаги предракового поражения вполне могут быть обнаружены в моей щитовидной железе, легких, почках, толстой кишке и поджелудочной железе. В Дании аутопсическое исследование женщин в возрастной группе с повышенным риском развития рака молочной железы (которые умерли от заболеваний, не связанных с раком) показало, что 39 процентов из них имели начальный неинвазивный рак, который протекал абсолютно бессимптомно. Даже у детей – несмотря на то, что в возрасте от одного года до пятнадцати лет риск развития клинической формы рака является очень низким и составляет примерно 1 на 800, – исследователи обнаружили, что 1 процент новорожденных имеет бессимптомные предраковые мутации, способные дать начало развитию острого лимфобластного лейкоза. Если добавить к этому частоту обнаружения мутаций, ассоциируемых с нейробластомой и раком почек, то окажется, что у каждого пятого новорожденного скрытое предраковое состояние, говорит Гривз.
В какой-то степени, рак – это лотерея. Например, наши эпителиальные клетки и костный мозг производят 1011 клеток в день. Такие высокие темпы деления клеток означают, что даже при низкой частоте мутаций неизбежно происходит их накопление. Ситуация усугубляется современным образом жизни, для которого характерны любовь к солнечным ваннам, потребление чрезмерного количества красного мяса, злоупотребление алкоголем и курением. У женщин ткани груди и яичников подвергаются хроническому воздействию высоких уровней женских половых гормонов из-за отсутствия ранней и регулярной беременности и длительных периодов кормления грудью. Эти культурные тенденции значительно увеличивают имманентные риски, проистекающие из многочисленных погрешностей нашего дизайна, или эволюционных компромиссов, как, например, это происходит в случае комбинации светлой кожи, которой эволюция наделила жителей северных широт, и навязчивой идеи получить красивый загар. Современное увеличение продолжительности жизни также расширяет временной интервал для таких генетических аварий. «На фоне подобного мутагенного беспредела, – замечает Гривз, – настоящим чудом является то, что мы способны дожить до девяноста лет с риском развития рака "всего" один к трем». То, что заболеваемость раком не поднимается выше этого порога, вероятно, связано с тем фактом, что большинство мутаций являются либо нейтральными, либо нефункциональными; это мутации-«пассажиры», а не мутации-«водители», вызывающие развитие опухоли. Даже те мутации, которые затрагивают онкогены или антионкогены, могут приводить к тому, что рак начинает развиваться не в «той» ткани или не в «то» время, чтобы клоны девиантных клеток могли начать свою экспансию. Иногда такие мутации способны немедленно предупредить об опасности другие гены, которые уничтожают мутировавшие клетки; иногда требуют дополнительных мутаций в других генах, без которых не может начаться прогрессия рака.
Поскольку частота таких предраковых поражений существенно превышает частоту развития злокачественных опухолей, может возникнуть соблазн вообще не обращать на них внимания. Проблема в том, что каждый третий из нас, если проживет достаточно долго, в какой-то момент своей жизни заболеет раком. А недавно проведенное исследование дало еще более устрашающую цифру: для людей, рожденных после 1960 года, этот риск составляет один к двум. Нам нужно понять, почему бóльшая часть предраковых изменений может смирно сидеть в органах и тканях на протяжении десятилетий и либо регрессировать, либо не причинять никакого вреда, тогда как другие внезапно оживают и стремительно прогрессируют в опасное для жизни заболевание. Понимание динамики эволюции рака может радикально изменить современную онкологию. В настоящее время эффективное лечение рака оказывается между двух огней, поскольку существует постоянный риск, с одной стороны, недостаточной диагностики тех случаев рака, которые развиваются из доброкачественных поражений, а с другой стороны, гипердиагностики, когда врачи проводят хирургическое вмешательство или химиотерапию при предраковых изменениях из опасения, что те могут перерасти в злокачественные.
Мел Гривз специализируется на лейкозах – группе онкологических заболеваний, которые в последнее время научились довольно успешно лечить. Отчасти это обусловлено тем, что лейкозы имеют менее сложный патогенез с точки зрения количества требуемых мутаций, чем большинство форм солидных опухолей, и главная история успеха связана с хроническим миелоидным лейкозом (ХМЛ). Это одна из самых простых форм рака, поскольку она вызывается всего одной мутацией-драйвером. ХМЛ, как и все формы лейкемии, возникает в костном мозге, где происходит образование красных и белых клеток крови из стволовых клеток. Это заболевание влияет на белые кровяные клетки, называемые гранулоцитами. Самые распространенные из гранулоцитов – нейтрофилы, классические фагоциты, которые мигрируют к месту локализации инфекции и поглощают враждебные микроорганизмы. Нейтрофилы не возвращаются в кровь, а погибают на месте «сражения», образуя гной, который мы видим при заживлении порезов, укусов и ссадин.
ХМЛ развивается в результате того, что при делении стволовых клеток ген ABL на длинном плече 9-й хромосомы случайно перемещается в 22-ю хромосому – это событие называется транслокацией. Там он присоединятся к гену BCR и образует гибридный ген BCR-ABL. Этот ген начинает производить мутантную форму фермента тирозинкиназы, которая в норме действует как выключатель, запускающий и останавливающий деление клеток. Гибридный ген приводит к тому, что этот выключатель всегда находится в положении «включено», поэтому клетка оказывается в ситуации, когда она не может полностью дифференцироваться в зрелый гранулоцит, но в то же время не может прекратить делиться. В итоге костный мозг и селезенка оказываются забитыми этими незрелыми клетками и не могут нормально производить другие виды красных и белых кровяных клеток. ХМЛ лечат ингибитором тирозинкиназ (главным образом иматинибом, также известным как «Гливек»), который останавливает это неконтролируемое деление. Если принимать его каждый день – подобно тому, как вы чистите зубы, – болезнь можно держать под контролем в течение многих десятилетий, но вылечить ее полностью невозможно, объясняет Гривз, поскольку под действием лекарства раковые стволовые клетки просто переходят в состояние «дремлющих». Если перестать принимать лекарство, они мгновенно проснутся и примутся за старое. ХМЛ отличается высокой генетической стабильностью: болезнь вызывается всего одной мутацией-драйвером, и все клетки несут ее идентичную копию. Именно благодаря этой простоте таргетная (направленная) терапия дает хорошие результаты, хотя в конечном счете могут возникнуть дополнительные мутации, вызывающие устойчивость.
А вот острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) гораздо труднее поддается лечению и требует целого коктейля из химиотерапевтических препаратов, хотя в настоящее время показатель успешности лечения обычно превышает 90 процентов в зависимости от мутационной сложности формы заболевания. Наиболее распространенная форма ОЛЛ затрагивает стволовые клетки, из которых образуются В-лимфоциты. Эти белые кровяные клетки являются одним из ключевых компонентов нашей адаптивной иммунной системы, поскольку благодаря их почти бесконечной вариабельности можно быстро произвести целую армию клонов В-клеток, нацеленных на конкретные антигены, представленные на поверхности любого вторгшегося микроорганизма. Как и при ХМЛ, инициирующим событием становится образование гибридного гена из двух генов: ETV6 и RUNX1. Это слияние приводит к тому, что предшественники В-клеток полностью не созревают, т. е. не превращаются в полноценные функциональные клетки, а вместо этого начинают быстро и бесконтрольно делиться. Их накопление в костном мозге нарушает производство нормальных красных и белых клеток крови. Вот почему у страдающих этим заболеванием детей обычно наблюдаются такие симптомы, как хроническая усталость и анемия, вызванные нехваткой красных клеток крови; кровотечения и беспричинное появление гематом из-за низкого содержания тромбоцитов, пониженная сопротивляемость инфекциям в связи с ослабленной иммунной системой.
Этот гибридный ген не наследуется, говорит Гривз, а образуется в результате новых мутаций, которые могут возникнуть в любой момент: с шестой недели развития эмбриона, когда он начинает производить собственную кровь, и до рождения. Поскольку стволовые клетки костного мозга делятся очень быстро и при каждом цикле клеточного деления неизбежно случаются ошибки, около 1 процента детей – т. е. каждый сотый ребенок – рождается с этим мутантным гибридным геном. Однако заболеваемость острым лимфобластным лейкозом намного ниже, всего 1 на 2000, так что подавляющее большинство носителей этой мутации никогда не заболевают лейкемией. Гривз и его коллеги считают, что в настоящее время они приблизились к раскрытию тайны, почему из всех носителей мутированного гена лейкемия поражает лишь некоторых, а большинство обходит стороной. Ответ, по их мнению, кроется в хладнокровном взвешивании дарвиновской эволюцией шансов на выживание и резком сокращении воздействия патогенов на человеческий организм в настоящее время по сравнению с тем, что было сто лет назад и больше.
Как и аутоиммунные заболевания, которые мы обсуждали в главе о наших старых друзьях, острый лимфобластный лейкоз идет вслед за повышением уровня жизни. В западных странах заболеваемость ОЛЛ значительно выросла с середины прошлого века и продолжает расти примерно на 1 процент в год. Гривз считает, что ОЛЛ – болезнь «двойного удара». Первый удар – это образование гибридного гена в период внутриутробного развития. Второй удар – аномальная реакция иммунной системы на ярко выраженную инфекцию, поражающую детей после окончания раннего возраста, во время которого маленькие дети обычно подвергаются наиболее интенсивным инфекционным атакам, помогающим их иммунной системе тренироваться и созревать. Если же иммунная система не натренирована и разрегулирована, как это часто бывает у современных детей, этот второй «отложенный удар» может подвергать пролиферирующие клетки костного мозга чрезмерному стрессу и стимулировать образование критического набора вторичных мутаций. Таким образом, гипотеза Гривза об «отложенном инфекционном факторе» полностью соответствует гигиенической гипотезе, которая объясняет современные эпидемии аллергических и аутоиммунных заболеваний с точки зрения отсутствия раннего воздействия широкого круга паразитических червей, грибов и бактерий, повсеместно распространенных во времена наших предков.
В большинстве случаев лейкемия развивается у детей в возрасте от двух до пяти лет и редко встречается после двенадцати. Предполагается (хотя это и неизвестно наверняка), что клоны предшественников В-клеток с гибридным геном через какое-то время после рождения ребенка вымирают. Но Гривз установил, что клоны с гибридным геном в некоторых случаях могут выживать до тех пор, пока в игру не вступит отложенный инфекционный фактор. Гибридный ген активирует в предшественниках В-лимфоцитов молекулу, называемую рецептором эритропоэтина, которая в норме активна только в предшественниках красных кровяных клеток, где она заставляет их делиться и не дает умирать. Иными словами, гибридный ген использует механизм выживания, предназначенный для другого типа клеток. Когда через несколько лет, рассуждает Гривз, носящий этот ген ребенок подпадает под действие отложенного инфекционного фактора, его иммунная система запускает интенсивную реакцию. В конце концов, его организм начинает производить цитокин, известный как трансформирующий фактор роста бета (TGF-β), который снижает чрезмерное воспаление за счет того, что останавливает деление клеток – предшественников лимфоцитов и прекращает мобилизацию иммунных клеток на борьбу с инфекцией. Однако лимфоциты с гибридным геном глухи к TGF-β. В то время как образование нормальных лимфоцитов затормаживается, мутантные лимфоциты продолжают активно делиться и оказываются доминирующими в костном мозге. Таким образом, отложенная инфекция способствует быстрому увеличению количества мутантных клонов за счет нормальных клеток, и эта пролиферация становится прелюдией к развитию симптоматической лейкемии. В настоящее время Гривз также установил, как именно лимфоциты с гибридным геном увеличивают количество раковых мутаций. В этом оказался повинен процесс, который эволюция создала исключительно для лимфоидных клеток – и который, как выяснилось, скрывает в себе серьезный дефект.
Ключевую роль в злокачественном развитии, объясняет Гривз, играет механизм, позволяющий нашим B-клеткам производить широкое разнообразие антител, с тем чтобы эффективно распознавать антигены, представленные на поверхности вторгающихся в наш организм микробов, и давать им отпор. Молекулы иммуноглобулина, из которых состоят наши антитела, имеют гипервариабельные участки, способные быстро перестраиваться и создавать почти бесконечное число генных мутаций. Около 500 миллионов лет назад наши первые позвоночные предки обзавелись двумя специальными рекомбинантными ферментами – RAG1 и RAG2. Сегодня эти ферменты целенаправленно воздействуют на гены наших иммуноглобулиновых антител и заставляют их мутировать, создавая бесчисленные рекомбинации. Эти рекомбинантные ферменты активны только в лимфоидных клетках, и в норме, как только они выполняют свою работу и клетка перестает делиться и превращается в зрелый В-лимфоцит, они отключаются. Однако в присутствии гибридного гена, когда клетки продолжают делиться и не достигают полной зрелости, производство рекомбинантых ферментов RAG1 и RAG2 не прекращается. Вскоре их становится так много, что им попросту не хватает генов иммуноглобулина, которые они могут разрéзать на куски и перетасовать, поэтому они начинают охоту на другие гены. Так временное и точно нацеленное мутагенное воздействие на молекулы иммуноглобулина перерастает в рекомбинантный хаос. В результате такого побочного действия рекомбинантных ферментов, клетки – предшественники лимфоцитов, пойманные в круговорот клеточного деления без достижения полной дифференциации и зрелости, увеличивают число дополнительных мутаций до десятка и более. «Эволюция не создает идеальные механизмы, как нам бы того хотелось, она просто выбирает оптимальные, – говорит Гривз. – И в данном случае побочным эффектом этого механизма иммунной защиты может быть развитие рака крови в детском возрасте. Это пример не очень умного эволюционного дизайна, когда одно вещество – рекомбинантный фермент – может быть одновременно необходимым и опасным для жизни».
Пока ученым не удается собрать окончательные эпидемиологические доказательства роли инфекции как «второго ключевого фактора» вследствие низкого уровня заболеваемости лейкемией среди населения в целом. Тем не менее исследования, проведенные в Великобритании, странах Скандинавии и в Калифорнии, показали, что посещение разного рода детских центров, где малыши с раннего возраста подвергаются более интенсивному и разнообразному воздействию инфекций, в некоторой степени защищает от развития острого лимфобластного лейкоза. В бывшей Восточной Германии, где государство поощряло матерей как можно быстрее возвращаться к работе, отдавая детей в огромные центры дневного пребывания – детские сады и ясли, уровень заболеваемости лейкемией был в три раза ниже, чем в Западной Германии. После объединения Германии от этого социального института решили отказаться в пользу домашнего воспитания – и уровень заболеваемости быстро сравнялся с западногерманским.
Двадцать лет исследований «кластеров лейкемии» – небольших географических зон с повышенной частотой заболеваемости лейкемией – больше чем что-либо другое убедили исследователей в правильности гипотезы об инфекционном факторе отложенного действия. Один из самых известных кластеров находится в городке Сискейл неподалеку от предприятия по переработке ядерных отходов Селлафилд в графстве Камбрия, Великобритания, где за период с 1955 по 1973 год количество случаев детской лейкемии превысило ожидаемое в десять раз. Поначалу в этом автоматически обвинили радиацию, однако расследование, проведенное на высочайшем научном уровне, показало, что, несмотря на несколько повышенный уровень радиоактивного загрязнения прилегающего участка Ирландского моря, вокруг Сискейла и в самом городке этот уровень не был достаточно высоким для того, чтобы вызвать рак. Тогда эпидемиолог из Оксфордского университета Лео Кинлен указал на одно важное изменение, которое произошло в Сискейле за эти годы, – на большой приток строителей, рабочих и специалистов в связи с открытием ядерного комплекса. В результате такой миграции значительно увеличилось количество новых инфекций, которым стали подвергаться дети старше двух лет в этой ранее тихой и отдаленной деревушке.
В небольшом городке Фаллон в штате Невада находится ведущий Центр боевой подготовки авиации ВМС США. В период с 1999 по 2003 год здесь было зарегистрировано тринадцать случаев детской лейкемии, тогда как, по статистике, ожидаемый показатель был меньше единицы. Местные жители обвиняют в этом разливы и сбросы топлива JP-8 – канцерогенной смеси керосина и бензола, ссылаясь на тот факт, что в одном только 2000 году воздушные асы потребили 34 миллиона галлонов топлива. Тем не менее официальное расследование показало, что такой рост заболеваемости нельзя связать с конкретным загрязняющим веществом. Что изменилось, так это численность населения. До начала 1990-х годов в Фаллоне проживало 7500 постоянных жителей, в 1990-е годы численность населения колебалась уже в районе 20 тысяч человек, а к 2000 году достигла колоссальной цифры – 55 тысяч человек в результате притока военнослужащих, строителей, логистического и обслуживающего персонала.
В настоящее время Гривз исследует лейкозный кластер в одной начальной школе в Милане. «Там мы имеем целых семь случаев заболевания лейкозом. На первый взгляд кажется, что это не так уж много, но четыре случая произошли в одной школе в течение всего одного месяца, а вскоре за ними последовали еще три случая. А это уже запредельный уровень. В школе такого размера можно было бы ожидать максимум один случай за пятнадцать лет». Тот факт, что дети в возрасте от трех до одиннадцати лет заболели лейкемией практически одновременно, говорит о наличии общего внешнего триггера. Команда Гривза изучила все события, произошедшие за последнее время, и обнаружила, что несколько месяцев назад в школе была эпидемия свиного гриппа. Тогда как в среднем свиным гриппом заразился каждый третий ребенок в школе, им переболели все семеро детей, впоследствии заболевших лейкемией. «Таким образом, из-за небольшого размера выборки статистика не слишком убедительна, но она четко указывает на то, что свиной грипп мог послужить тем самым вторым отложенным фактором», – говорит Гривз. Еще одно подтверждающее доказательство предоставляет Оксфордское эпидемиологическое исследование, в ходе которого были отслежены все случаи заболевания острым лимфобластным лейкозом в Великобритании в течение более чем тридцати последних лет. Было обнаружено два пика, и оба они наступили спустя шесть месяцев после сезонной эпидемии гриппа.
Наша история сосуществования с раком насчитывает более миллиарда лет, с момента появления первых многоклеточных животных. До этого все формы жизни были одноклеточными, и каждая клетка могла свободно размножаться, как ей заблагорассудится. Но в многоклеточном организме клетки были вынуждены научиться жить и функционировать вместе, как единое целое. В результате они больше не могли делиться до бесконечности, и клеточное деление было строго ограничено стволовыми клетками и непосредственно образованными из них клетками-предшественниками, которые имеют меньше возможностей для размножения и дифференциации. Кроме того, у этих клеток-предшественников ограниченный срок жизни, и тем самым возникающие в них онкогенные мутации имеют гораздо меньшую вероятность распространиться в клонах раковых клеток и, как правило, исчезают вместе со смертью клетки-носителя. После того как клетки-предшественники полностью дифференцируются, например в клетки мышц, кожи или печени, они вообще теряют свое бессмертие. Таким образом, бессмертием обладает лишь ограниченное число стволовых клеток, которые необходимы для эмбрионального развития, постоянного обновления красных кровяных клеток и клеток иммунной системы и регенерации тканей и органов, поврежденных вследствие износа или старения. Из этого следует, что для того, чтобы развился рак, мутации должны затронуть либо стволовые клетки, как это происходит при лейкемии, либо дифференцированные или полудифференцированные клетки, которые под влиянием этих специфических мутаций возвращаются в незрелое состояние и возобновляют цикл клеточного деления.
Новая эра сотрудничества и согласованности потребовала от эволюции создания новых генов и химических сигнальных путей внутри клеток и между ними, чтобы обеспечить применение новых правил и строгий контроль за их соблюдением. Были созданы дополнительные механизмы репарации ДНК, призванные вовремя выявлять и нейтрализовывать онкогенные мутации. Отныне, если повреждение ДНК превышало определенный порог, эти новые гены инициировали гибель клетки – поэтому современные ученые и назвали их генами-супрессорами опухолей. Затем появились и другие гены-супрессоры, которые стали предотвращать деление поврежденных клеток путем блокирования митоза – процесса размножения клеток с репликацией их ДНК. Эти гены получили название генов контрольных точек клеточного цикла. Кроме того, позвоночные животные развили сложные адаптивные иммунные системы, способные не только производить специфические лимфоциты для противодействия конкретным антигенам, представленным на поверхности разнообразных бактерий и вирусов, но и атаковать клетки, угрожающие превратиться в раковые.
Исследователи Матиас Касас-Сельвес и Джеймс Дегрегори из Колорадского университета считают, что сама эволюция животных – их тканей, органов и систем – регулируется необходимостью избегать рака, что и объясняет развитие таких мощных механизмов борьбы с опухолевым ростом. Животным организмам нужно ограничить рост клеток-изгоев, которые отказываются подчиняться правилам мирного многоклеточного сосуществования, и создать ряд надежных барьеров на всем пути к развитию рака. В 2000 году американские исследователи рака Дуглас Ханахен и Роберт Вайнберг составили перечень из шести ключевых признаков раковых клеток, но эти признаки также можно рассматривать как шесть барьеров, которые нужно преодолеть клеткам на пути к превращению в злокачественные.
Во-первых, объясняют исследователи, раковым клеткам нужно стать самодостаточными с точки зрения сигналов роста. В норме клетки получают такие сигналы извне – факторы роста прикрепляются к рецепторам на клеточной мембране и через них проникают внутрь клеток. Эти факторы роста пробуждают находящуюся в состоянии покоя клетку и заставляют ее начать деление. Раковые клетки способны производить свои собственные факторы роста, которые имитируют сигналы извне. Два типичных примера – тромбоцитарный фактор роста (PDGF) и трансформирующий фактор роста альфа (TGF-α). Кроме того, они могут увеличивать активность рецепторов факторов роста на своих мембранах посредством значительного увеличения количества копий гена любого из этих рецепторов. В результате раковая клетка приобретает повышенную чувствительность к окружающим уровням факторов роста, которые при нормальных условиях могут не запускать деление клеток. Два классических примера – рецептор эпидермального фактора роста (EGFR), очень распространенный при раке мозга, и рецептор эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2), характерный для рака молочной железы. Также раковые клетки могут производить мутировавшие формы белков RAS (так называемых белков «саркомы крысы»), которые застревают в положении «включено» и стимулируют деление клеток. Во-вторых, потенциальные раковые клетки должны стать глухими к сигналам о прекращении роста. Классическим примером является развитие нечувствительности к трансформирующему фактору роста бета (TGF-β), как это происходит при остром детском лейкозе.
В-третьих, раковые клетки должны стать трудно уничтожимыми. В норме, когда возникают мутации или обнаруживается повреждение хромосом, в действие вступают механизмы восстановления клетки. Если повреждение слишком велико, в клетке запускается процесс запрограммированной клеточной гибели, или апоптоза. Ключевую роль здесь играет ген-супрессор опухолевого роста р53, который отвечает за ремонт ДНК и при обнаружении серьезных повреждений запускает механизм апоптоза. Раковые клетки должны отключить такие гены, как р53, или же они будут уничтожены в течение получаса: их клеточная мембрана и внутренняя структура будут разрушены, ядро распадется на мелкие части, а хромосомы дефрагментируются так, что их дальнейшее использование будет невозможно. Макрофаги и близлежащие клетки поглотят их останки, так что уже через двадцать четыре часа от клетки не останется и следа.
Для того чтобы раковые клетки дали начало колонии, которую мы называем опухолью и которая может содержать свыше 1 триллиона клеток, они должны стать бессмертными благодаря безграничной способности делиться и удваивать свою численность. Некоторые нормальные дифференцированные клетки в организме, например клетки сердца, вообще не могут делиться, но многие типы клеток, такие как фибробласты кожи, сохраняют способность к ограниченному делению, и в клеточной культуре их можно побудить пройти несколько циклов деления, пока не наступит старение и клетка не перейдет в кризисное состояние с таким хромосомным беспорядком, после которого она уже не может восстановиться. Раковые клетки должны задействовать механизм, который позволяет им избежать этой участи и достичь истинного бессмертия. В нормальных клетках на концах хромосом имеются специальные повторяющиеся последовательности ДНК, называемые теломерами. Эти теломерные «наконечники» защищают основную часть ДНК от повреждений. При каждом последующем раунде клеточного деления теломеры постепенно укорачиваются, что в конечном итоге приводит к фатальной деградации хромосом, и клетка погибает. Раковые клетки увеличивают активность фермента теломеразы, выработка которого в нормальных клетках в значительной степени подавляется. Благодаря этому теломеры в раковых клетках восстанавливаются так же быстро, как укорачиваются, что наделяет клетки почти неограниченной способностью к репликации.
Ни одна клетка, будь то раковая или нормальная, не может выжить без снабжения кислородом и питательными веществами. Раковая клетка имеет диаметр около 20 микрон (один микрон – это одна миллионная метра). Если она находится на расстоянии более чем 150 микрон от капилляра, она умирает. Это создает серьезное препятствие для пролиферации раковых клеток в опухоли, поскольку процесс образования новых кровеносных сосудов, называемый ангиогенезом, строго регулируется организмом. Следовательно, раковым клонам нужно приобрести такие мутации, которые дают им возможность стимулировать образование новых кровеносных сосудов. Как правило, они добиваются этого, вызывая увеличение выработки фактора роста сосудистого эндотелия роста (VEGF) либо путем активации онкогена RAS, либо путем отключения гена-супрессора опухолевого роста р53. Вот почему исследователи часто обнаруживают потерю гена р53 при предраковых состояниях, прежде чем те перерастут в полностью развившиеся злокачественные опухоли.
Наконец, еще одним ключом к бессмертию раковых клеток (по крайней мере до тех пор, пока жив сам организм) является их способность отделяться от первоначальной опухолевой массы и перемещаться в другие части организма, где они могут давать начало развитию вторичных опухолей. Этот процесс называется метастазированием, и именно он повинен более чем в 90 процентов всех смертей от рака.
«Каким образом нормальные клетки, – спрашивают Касас-Сельвес и Дегрегори, – которые являются частью строгой тканевой организации с развитой системой клеточного управления, превращаются в социопатов, полностью игнорирующих внутритканевый порядок и клеточную коммуникацию?» Отцом эволюционной теории рака был Питер Ноуэлл, ныне почетный профессор Пенсильванского университета. Еще в 1976 году он детально описал процесс «эволюции» нормальной доброкачественной клетки в злокачественную раковую опухоль. Ноуэлл одним из первых указал на то, что со временем девиантные клетки повышают свою способность к пролиферации путем снижения восприимчивости к механизмам контроля, которым подчиняются нормальные клетки. В результате девиантные клетки начинают ускоренно и бесконтрольно делиться, становятся все более злокачественными и перестают дифференцироваться. Они избавляются от органелл и метаболических функций, которые позволили бы им функционировать в качестве специализированных клеток, и превращаются в более примитивные клетки, вся энергия которых направлена на пролиферацию и инвазивный рост. Согласно Ноуэллу, они делают это путем накопления мутаций, которые позволяют им стать глухими ко всем механизмам клеточного контроля. Так образуется неоплазма или масса мутировавших клеток, занимающих привилегированное положение по отношению к окружающим клеткам. В дальнейшем эти клоны «родительской» раковой клетки могут самостоятельно накапливать дополнительные мутации и давать рождение новым клонам с другими свойствами, другим уровнем злокачественности и устойчивости к лечению.
По мнению Мела Гривза и Карло Мейли (выдающегося исследователя рака из Калифорнийского университета в Сан-Франциско), тридцать лет исследований подтвердили идеи Ноэулла. «Большой массив данных, собранных при помощи анализа срезов тканей, биопсического материала и единичных клеток, доказывает правильность теории Ноуэлла, – говорят они, – поскольку показывает наличие сложных и разветвляющихся траекторий эволюционного развития, поразительно напоминающих знаменитое дарвиновское дерево эволюционного видообразования. Дивергентные раковые клоны в этом контексте проходят процесс, эквивалентный процессу аллопатрического видообразования в разделенных естественных средах обитания – как это произошло с галапагосскими зябликами».
Дарвин сравнивал эволюцию жизни на Земле не с линейным, а с бесконечно ветвящимся процессом, где каждый живущий сегодня вид представляет собой конечную ветвь на невероятно разветвленном дереве. Эволюция раковых клонов внутри одной опухоли – это дарвиновская эволюция в миниатюре. И точно так же, как все виды живых организмов (конечные ветви) произошли от общего предка (основания ствола эволюционного дерева), все раковые клоны происходят от общей «родительской» клетки, даже если они накопили достаточно дополнительных мутаций, чтобы кардинально отличаться друг от друга. Галапагосские острова представляют нам наглядную иллюстрацию того, как происходит образование новых видов от общего вида-основателя при географическом разделении их зон обитания, как это случилось со знаменитыми «дарвиновскими» зябликами. Микросреда внутри опухоли и ее непосредственное окружение обеспечивают аналогичную степень гетерогенности среды обитания вследствие очень разных уровней кровоснабжения, снабжения кислородом и питательными веществами, конкуренции между клонами и интенсивности иммунных атак.
Разные типы рака приходят к злокачественности разными путями. Особенно хорошо это видно в человеческом кишечнике, где существует по меньшей мере четыре основных типа колоректального рака. Джо Вейганд получил прозвище ультрамутатора, поскольку он страдает относительно редкой формой колоректального рака, при которой мутационная активность достигает запредельных уровней. Это заболевание передается по наследству в отличие от большинства видов рака, которые носят спорадический характер и развиваются в результате новых мутаций, возникающих у отдельно взятого человека. Джо знал о том, что он подвергается значительному риску. Его бабушка по отцовской линии умерла от рака толстой кишки, когда ей было сорок с небольшим лет, и в том же возрасте подозрения на рак толстой кишки диагностировали у его отца. Эндоскопическое исследование показало, что в его прямой кишке находятся сотни предраковых полипов. Врачи предложили понаблюдать за ними. Но в то время Джо и его сестра были совсем маленькими, и отец не хотел подвергать свою молодую семью риску остаться без кормильца, дожидаясь, когда в каком-нибудь из этих полипов начнутся тревожные изменения. Он боялся, что врачи могут не заметить начало злокачественного перерождения и у него разовьется полноценная опухоль. Поэтому он согласился на полное удаление толстой кишки и всю оставшуюся жизнь ходил с колостомическим мешком.
Неудивительно, что Джо регулярно проходил колоноскопию, однако многообещающая карьера в финансовом секторе заставила его на четыре года забыть про обследования. Тревожная потеря веса вынудила его вновь обратиться к терапевту. «Я потерял 30–40 процентов своего веса – я выглядел как привидение. И у меня совершенно не было сил». Терапевт проигнорировал их семейную историю рака и прописал ему препараты железа против анемии. «Я жил в Лондоне вместе с братом. Однажды к нам в гости приехал отец. Он посмотрел на меня и сказал: "Этот идиот, твой врач, ни черта не смыслит в медицине. К черту эту национальную службу здравоохранения. Я оплачу тебе обследование в частной клинике!" Вот когда колоноскопия показала, что они у меня есть». Во время хирургической операции четыре недели спустя врачи обнаружили около тридцати мелких полипов и одну огромную опухоль размером с манго. Они удалили их вместе с большей частью толстой кишки. «У меня осталось не больше тридцати – сорока сантиметров, но благодаря им я могу нормально ходить в туалет». Теперь, спустя восемь лет после операции, он ведет нормальный, активный образ жизни, хотя колоноскопия регулярно обнаруживает у него небольшие полипы. «На прошлой неделе они нашли четыре полипа. Каждый раз, когда я к ним прихожу, они находят что-то новое. Они просто отщипывают их щипцами и отправляют на гистологию. Пока они маленькие, они безвредны, но по мере роста они буквально сходят с ума и накапливают огромное количество мутаций».
Исследователь, изучающий этот тип рака, Ян Томлинсон из Оксфордского университета дал ему труднопроизносимое имя – полипоз, ассоциированный с полимеразной коррекцией (polymerase proofreading-associated polyposis). Когда молекула ДНК копирует саму себя, чтобы обеспечить копией генетического кода обе дочерние клетки, она иногда делает ошибки и вставляет в генетический код неправильное основание ДНК. Существует два специальных фермента – ДНК-полимеразы, которые обнаруживают эти ошибки и исправляют их. В том случае, когда оба кодирующих эти ферменты гена мутируют, по меньшей мере половина этих ошибок остается незамеченной, и опухоли накапливают более миллиона мутаций, притом что у большинства раковых опухолей их количество находится в диапазоне от десяти до несколько тысяч. Между тем исход для пациентов значительно варьируется, поскольку огромное количество мутаций не обязательно означает злокачественность. Нельзя точно сказать, какие именно мутировавшие гены среди этого миллиона мутаций могут вести к развитию рака. Кроме того, эта форма рака не особенно агрессивна, и на самом деле мутационная нагрузка может не вести к увеличению злокачественности, а, наоборот, дезактивировать многие важные функции в раковых клетках, приводя к их гибели.
Рак толстой кишки у Джо резко контрастирует с другими формами колоректального рака, которые развиваются преимущественно в дистальном отделе толстой кишки, ближе к прямой кишке, и, как правило, носят гораздо более выраженный злокачественный характер. При этих формах колоректального рака нет такого зашкаливающего уровня генных мутаций (изменений в отдельных генах), поскольку их механизмы репарации ДНК остаются нетронутыми. Вместо этого они, как правило, проявляют чрезвычайно высокую степень хромосомной нестабильности – особенность, которую они разделяют с подавляющим большинством других раковых заболеваний, в результате которой целые хромосомы или плечи хромосом, содержащие сотни генов, приобретают массивные структурные аномалии. Недавние исследования показали, что именно хромосомная нестабильность лежит в основе развития злокачественности и играет куда более важную роль, чем простые точечные мутации в генетическом коде.
Весь набор хромосом в ядре клетки называется кариотипом. За небольшим числом исключений, все нормальные клетки организма являются диплоидными, т. е. содержат двадцать три пары хромосом, где одна хромосома унаследована от матери, а другая от отца. Однако было установлено, что подавляющее большинство злокачественных раковых клеток значительно отклоняются от нормального состояния плоидности и все эти отклонения вызваны ошибками при митозе – наиболее распространенном способе клеточного размножения, при котором образуются две дочерние клетки с двумя абсолютно идентичными наборами хромосом.
Все начинается с процесса репликации хромосом, в результате которого образуются две одинаковые сестринские копии каждой хромосомы. Вслед за этим автоматически запускается митоз. Когда клеточная оболочка удлиняется и цитоплазма начинает делиться, чтобы создать две одинаковые клетки, происходит удвоение клеточного центра – центросомы. Эти сестринские центросомы мигрируют к разным полюсам и начинают формировать так называемое веретено деления – систему белковых микротрубочек, которые выходят из этих противоположных полюсов и присоединяются своими концами к каждой сестринской хромосоме. В конце концов, микротрубочки отделяют сестринские хромосомы друг от друга, собирают их на противоположных полюсах и плотно упаковывают, чтобы образовать ядра дочерних клеток. Все, что нарушает ход этого сложного, отлаженного процесса, приводит к тому, что части хромосом или даже целые хромосомы не прибывают к месту назначения. Аномальные митозы могут вести к гиподиплоидии, когда дочерняя клетка получает значительно меньше 46 хромосом, или же к тетраплоидии, т. е. удвоению числа хромосом. Все случаи, когда клетки содержат измененное (некратное) количество хромосом вследствие их потери или получения лишних копий, собирательно называются анеуплоидией.
Впервые эту аномалию в образцах раковой ткани обнаружил и описал немецкий патолог Давид фон Ганземан в 1890 году. За ним последовал зоолог Теодор Бовери, который в начале XX века первым указал на то, что именно неправильная сегрегация хромосом из-за аномального митоза ведет к анеуплоидии и может давать начало развитию раковой опухоли в результате случайного образования злокачественной клетки, способной к schrankenloser Vermehrung – неограниченному росту. Как замечают Зузана Сторчова и Кристиан Куффер, в эпоху бурного развития геномики «старая» теория хромосомной нестабильности отодвинулась в тень, уступив место гипотезе, состоящей в том, что главными событиями, ведущими к развитию рака, являются генные мутации. Однако в последние годы она снова вышла на передний план, поскольку исследователи начали понимать, что нестабильные хромосомы – это не просто результат фонового геномного хаоса, порождаемого генными мутациями, а как раз наоборот – геномная нестабильность является неотъемлемым условием процесса генерации канцерогенных мутаций, эволюции широкого разнообразия раковых клонов, развития злокачественности и метастазирования. На самом деле в большинстве форм рака хромосомная нестабильность и мутации идут рука об руку. Мутации провоцируют хромосомную нестабильность, а хромосомная нестабильность, в свою очередь, увеличивает количество мутаций.
Как может тетраплоидия – удвоение хромосом – вести к злокачественности? Тетраплоидия может позволять клетке выжить, если та претерпевает всплеск мутаций, которые в противном случае могли бы оказаться фатальными. Тогда как в одной копии хромосом гены могут быть повреждены мутациями, те же самые гены могут продолжать нормально функционировать в сестринской копии. Однако тетраплоидия также открывает путь к нерегулярной анеуплоидии, характерной для большинства типов рака. Раковая клетка сначала может стать тетраплоидной, но постепенно «обстругать» свой геном, избавившись от ненужных частей или плеч хромосом, а иногда и целых хромосом.
Анеуплоидия может вести как к потере, так и к приобретению лишних генов. Если теряется часть хромосомы или целая хромосома, теряются и все находящиеся на ней гены. Поскольку все гены существуют в парах, называемых аллельными парами, в результате такой потери остается только один аллель данного гена. Оставшийся аллель подвергается дальнейшим мутациям, которые могут привести к полной потере данного гена. Когда это случается, например, с геном-онкосупрессором р53, мутантная клетка начинает игнорировать все сигналы, приказывающие ей умереть.
Анеуплоидия также способствует транслокациям – переносу участков хромосом на несвойственное им место, что приводит либо к образованию гибридных генов, как в случае лейкозов, либо к значительному увеличению количества копий отдельных генов – этот процесс называется амплификацией. Процесс потери или приобретения аллелей, т. е. изменение числа копий генов, может приобретать весьма широкий размах. Например, при раке толстой кишки, молочной железы, поджелудочной железы и простаты в среднем теряется 25 процентов аллелей, и совсем не редки ситуации, когда опухолевые клетки теряют более половины своих аллелей. Одно исследование показало, что при анеуплоидном колоректальном раке происходит в 10–100 раз больше таких хромосомных потерь и приобретений, чем в нормальных клетках или при диплоидных формах того же колоректального рака.
Существует длинный список генов, мутации которых могут вызывать хромосомную нестабильность, способную привести к раку. Это гены, аномальные формы которых способствуют пролиферации клеток, дезорганизуют процесс митоза или предотвращают эвтаназию раковых клеток. В этот список входят гены BRCA1 и BRCA2, которые в числе прочих отвечают за репарацию ДНК и регулируют деление клеток, но в случае мутации повышают предрасположенность к раку молочной железы; гены BUB1 и MAD2, организующие сборку хромосом митотическим веретеном; ген APC, который участвует в формировании митотического веретена и делении цитоплазмы для образования дочерних клеток, мутантные формы которого часто можно увидеть на ранней стадии развития колоректальных опухолей; и, разумеется, ген р53, который в норме запускает процесс репарации поврежденной ДНК или же процесс апоптоза, если повреждения непоправимы, и который стандартно отключается в раковых клетках. По правде говоря, замечают авторитетные исследователи рака Кристоф Ленгауэр и Берт Фогельстейн, существует огромное количество генов, которые в случае мутации могут наделить клетку нестабильностью, способной привести к дальнейшим генетическим изменениям и в конечном итоге к злокачественности. Хромосомная нестабильность – главная движущая сила прогрессии опухоли и опухолевой гетерогенности, приводящая к тому, что не бывает двух одинаковых опухолей и ни одна опухоль не состоит из генетически идентичных клеток. Это и есть главный источник кошмара для врачей-онкологов, обрекающий их на вечную погоню за тенью, и главный камень преткновения для любого по-настоящему успешного метода лечения рака.
Именно такую эволюционную модель кембриджский исследователь Колин Уоттс и его коллеги обнаружили в случае глиобластомы, и эта модель объясняет, почему рак Питера Фрайатта рецидивирует и почему его прогноз столь неопределенен. Глубокий молекулярный анализ геномов клеток в образцах ткани, взятых из разных участков глиобластомы, позволил исследователям идентифицировать родительский клон, который первым накопил критическую массу точечных мутаций и хромосомной нестабильности. Этот клон дал рождение разветвленному дереву клонов, которые постепенно накопили дополнительные мутации и хромосомные перестройки и приобрели различные злокачественные свойства. Исходным условием, давшим толчок эволюции опухоли, стала хромосомная нестабильность, которая привела к образованию высоко аберрантной кольцевой хромосомы, называемой двойной микрохромосомой. Двойная микрохромосома, способная реплицировать сама себя без посторонней помощи, содержала сотни копий (вместо нормальных двух) гена EGFR, влияющего на клеточную пролиферацию и миграцию. Этот первоначальный клон также приобрел лишние копии гена MET, который отвечает за инвазивный рост и плохой прогноз для пациента, и потерял копии генов-онкосупрессоров CDKN2A и PTEN. Затем этот клон разделился на два субклона, которые добавили лишние участки в одних хромосомах и потеряли части других хромосом, накопили дальнейшие мутации в генах-супрессорах опухолей и в конечном итоге эволюционировали в пять сильно различающихся видов раковых клонов.
Иногда хромосомная нестабильность при раке носит столь радикальный и масштабный характер, что это наводит исследователей на крамольную мысль: а вдруг эволюция рака не соответствует классической эволюционной модели? В 2011 году Филип Стивенс и группа его коллег, в основном из Кембриджа, Великобритания, сообщили об открытии необычного феномена – единичного катастрофического события, приводящего к одномоментному образованию сотен хромосомных перестроек. Этот феномен впервые был обнаружен в белой кровяной клетке шестидесятидвухлетней женщины, больной хроническим лимфоцитарным лейкозом. Исследователи назвали такое катастрофическое событие хромотрипсисом, что означает «раздробление хромосомы на мелкие части». В данном случае хромотрипсис произошел до того, как у женщины был диагностирован рак, и привел к образованию ракового клона с устойчивостью к алемтузумабу, препарату моноклональных антител, который обычно используется для лечения этого вида лейкозов. В результате ее состояние быстро ухудшалось. Исследователи обнаружили 42 геномные перестройки на одном только длинном плече 4-й хромосомы и плюс к этому множество перестроек в хромосомах 1, 12 и 15. Эти перестройки привели к значительным различиям в количестве копий генов, как правило, с потерей одной копии. Однако эти потери были результатом не простой делеции, говорят исследователи, а огромного количества хромосомных разрывов, локализованных в местах нахождения этих генов. Когда они исследовали каждый такой разрыв, во многих случаях оказалось, что состыковавшиеся в этом месте участки хромосом в норме не должны находиться рядом друг с другом. Складывается впечатление, что хромосома буквально распалась на части и сотни фрагментов ДНК свободно циркулировали в ядре, пока не включился механизм репарации ДНК. Двигаясь в ритме крутящегося дервиша, он принялся поспешно собирать осколки и склеивать их как попало. «В результате получается мешанина, – говорят исследователи, – которая мало напоминает оригинальную структуру хромосомы, и геномные перестройки такого масштаба определенно обладают онкогенным потенциалом».
И это был не единичный случай. Исследователи обнаружили следы хромотрипсиса в раковых клетках при раке легких. В этом случае 8-я хромосома разлетелась на сотни мелких осколков, которые затем были снова собраны в одну хромосому за исключением пятнадцати фрагментов ДНК, которые соединились друг с другом и образовали высоко аберрантную кольцевую хромосому – двойную микрохромосому (аналогичную той, которая была обнаружена при исследовании глиобластомы), содержащую до двухсот копий онкогена MYC. Такая массивная амплификация наделила эту линию раковых клеток огромным селективным преимуществом и усилила ее злокачественность. Хромотрипсис был обнаружен во многих типах рака, включая глиому, рак легких, костного мозга, пищевода, толстой кишки и почек. Хромотрипсис чрезвычайно распространен в костной ткани, где он бывает особенно радикальным. Ключевой вопрос для эволюционных биологов заключается в том, следует ли рассматривать хромотрипсис как совершенно случайное событие, которое приводит к хаотичному ремоделированию ракового генома и в одном случае на миллиард непреднамеренно обеспечивает раковой клетке значимое конкурентное преимущество, или же это вовсе не случайное событие, а запрограммированная стратегия – механизм, призванный дать селективное преимущество конкретному раковому клону в условиях чрезвычайно сильного давления отбора.
Например, группа британских исследователей изучила одну из форм детского острого лимфобластного лейкоза, связанную с таким драматическим генетическим событием, как слияние 21-й и 15-й хромосомы по типу так называемой робертсоновской транслокации (при которой происходит слияние целых плеч хромосом). Люди, родившиеся с этой редкой хромосомной аномалией, подвергаются 2700-кратному риску развития данной формы лейкоза. После такой транслокации слившиеся хромосомы очень часто распадаются на части и затем восстанавливаются с серьезными ошибками. Исследователи предполагают, что именно структурная аномалия гибридной хромосомы повышает ее нестабильность и делает ее предрасположенной к хромотрипсису.
Можно было бы предположить, что раковые клоны, несущие такую нестабильную «лоскутную» хромосому, будут проигрывать в конкурентной борьбе другим клонам в опухоли – и в таком случае хромотрипсис был бы эволюционным тупиком. Но, несмотря на то, что это катастрофическое событие кажется случайным и хаотичным, вышеописанное исследование показало, что оно, в частности, сохраняет и амплифицирует определенные участки хромосомы, увеличивая количество копий генов и активность ряда генов, которые замешаны в развитии рака крови, в том числе генов RUNX1, DRYK1A и ETS2. На заключительном этапе хромосомной трансформации вновь полученная хромосома неизменно удваивается, а иногда и превращается в аберрантную кольцевую хромосому, содержащую множество копий этих онкогенов. Когда исследователи сравнили паттерн изменений количества копий генов в претерпевшей хромотрипсис хромосоме с образцами 21-й хромосомы, взятыми из широкого спектра других раковых клеток, они обнаружили близкое сходство. Исследователи считают, что хромотрипсис может ремоделировать 21-ю хромосому вовсе не случайным образом, а так, чтобы вызвавшие его гены приобрели более сильные злокачественные свойства и обеспечили прогрессирование лейкоза.
Тот факт, что все это происходит в результате единичного катаклизма, а не постепенного накопления мутаций, заставляет исследователей думать, что в специфичном мире раковых клеток эволюция может протекать в режиме так называемого «прерывистого равновесия». Эта теория – сформулированная Нильсом Элдреджем и Стивеном Джеем Гулдом в контексте эволюции видов многоклеточных животных в масштабах геологического времени – утверждает, что эволюция происходит скачками, когда длительные периоды эволюционного застоя периодически прерываются вспышками мутационных изменений, знаменуемых появлением новых видов. Эта теория ставит под сомнение теорию филетического градуализма, которая так нравится многим эволюционным биологам и предполагает, что эволюция протекает равномерно, путем пошагового накопления благоприятных мутаций.
Между тем катаклизмическая генетическая трансформация, происходящая при хромотрипсисе, заставляет вспомнить еще более эксцентричную теорию, рисующую картину того, как может происходить эволюция и видообразование. Эта теория была предложена выдающимся генетиком и эволюционистом-еретиком Рихардом Гольдшмидтом и получила название теории «многообещающих монстров». Родившийся в Германии в еврейской семье Гольдшмидт был вынужден в середине 1930-х годов бежать от нацистов в Соединенные Штаты и продолжить научную карьеру в Калифорнийском университете в Беркли. По мнению подавляющего большинства эволюционных биологов, он «перешел все границы», опубликовав в 1940 году книгу «Материальные основы эволюции», в которой заявляет, что постепенной ступенчатой аккумуляции мутаций недостаточно для того, чтобы объяснить эволюцию одного вида из другого; для этого требуются макромутации – радикальные мутационные изменения. Это противостояние идей, в конце концов, выиграли сторонники градуализма, утверждая, что подобные скачкообразные геномные изменения неизменно будут иметь катастрофические последствия для сложных многоклеточных организмов. Идеи Гольдшмидта были преданы забвению. Однако в последующие годы стало очевидно, что в гораздо более простых организмах, таких как многие виды бактерий, массивные изменения генома иногда могут окупаться, несмотря на потерю множества нежизнеспособных индивидов, особенно в условиях интенсивного давления отбора. Некоторые исследователи рака начинают ссылаться на теорию Гольдшмидта в свете тех масштабных и, казалось бы, катастрофических геномных событий, которые они обнаруживают в ядрах раковых клеток. Так в конкретном контексте эволюции рака доброе имя Гольдшмидта постепенно реабилитируется.
Чарльз Свонтон из Центра исследований рака Лондонского исследовательского института показал, как именно тетраплоидия – удвоение генома – вызывает хромосомную нестабильность и ускоряет эволюцию опухоли при раке толстой кишки. Исследователи обнаружили, что в группе из 150 пациентов с колоректальным раком тетраплоидия в пять раз увеличивала вероятность рецидива в течение двух лет после лечения. Наблюдая за несколькими тетраплоидными клонами колоректального рака в клеточной культуре, команда Свонтона выявила значительные различия между геномами тетраплоидных клонов и диплоидных раковых клеток, включая потерю больших участков 4-й хромосомы, что предсказывало очень плохой исход для пациентов. Свонтон убежден, что такие удваивающие геном события в опухоли, как хромотрипсис, специально нацелены на создание «многообещающих монстров» и представляют собой раковый аналог «сальтаций» (проще говоря, «скачков») – так многие биологи в XVIII–XIX веках называли быстрые и радикальные макромутационные изменения, которые, по их мнению, движут эволюцией живых организмов. До Дарвина большинство эволюционистов были последователями сальтационизма, в том числе Этьен Жоффруа Сент-Илер и Ричард Оуэн: оба предполагали, что именно разного рода «монстры» могут становиться основателями новых видов путем мгновенного перехода от одной формы к другой. Рихард Гольдшмидт – названный еретиком за свою теорию «многообещающих монстров» – был сальтационистом XX века. В настоящее время появляется все больше доказательств того, что тетраплоидия, анеуплоидии, хромосомная нестабильность и значительные изменения числа копий генов потенциально могут вызывать подобные сальтационные (скачкообразные) изменения и обеспечивать эволюцию рака.
Раковые клетки, несомненно, являются монстрами. Их раздутые, аномальные ядра бросаются в глаза, когда вы смотрите на них под микроскопом, а современные методы молекулярно-биологических исследований раскрывают чудовищную аномальность их геномов. Но они также являются «многообещающими монстрами» в том смысле, что их шансы на выживание ничтожно малы. Как отмечают Гривз и Мейли, время удвоения раковых клеток составляет от одного до двух дней, тогда как время удвоения опухоли – от шестидесяти до двухсот дней. Это говорит о том, что большинство раковых клеток умирает, прежде чем успевает пройти деление. «В условиях сильнейшего внешнего стресса, – говорит Гривз, – пытаясь спастись или адаптироваться к обстоятельствам, раковые клетки идут по пути создания нестабильности и радикальных изменений. Другими словами, опухоль использует стратегию "многообещающих монстров", о которой писал Гольдшмидт. План игры таков: "ОК, я пойду ва-банк – пусть 99,9 процента клеток умрут, зато у меня будет один победитель"». Если массивная геномная перестройка действительно приводит к созданию «многообещающего монстра», способного дать рождение жизнеспособным клонам, опухоль успешно прогрессирует.
Тревор Грэм, который, в настоящее время работает в Институте рака Бартса при Госпитале святого Варфоломея в Лондоне, изучает одну из форм колоректального рака, которая возникает в такой неблагоприятной для рака среде, как толстый кишечник людей, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника. В этом случае интенсивное селективное давление исходит со стороны поврежденной слизистой оболочки – внутреннего слоя, соприкасающегося с содержимым кишечника. Как вам скажет любой больной язвенным колитом, судя по частым и болезненным испражнениям с большим содержанием крови и слизи, слизистая оболочка его кишечника буквально сдирается заживо. «Воспаленный кишечник – ужасное место, выжить в котором под силу не каждому», – замечает Грэм. Однако язвенный колит, как и другие воспалительные заболевания кишечника, носит эпизодический характер. Эпизоды обострения сменяются периодами ремиссии, когда происходит восстановление слизистой. Те клетки, которым удается пережить воспалительный холокост, в этот период начинают активно размножаться, а если к тому же они способны делиться намного быстрее нормальных клеток, как предраковые клоны, содержащие большое количество предрасполагающих в раку мутаций, они быстро заселяют обширные участки толстого кишечника. Такие клоны неизменно развивают хромосомную нестабильность и часто могут захватывать территории длиной больше метра. Так, Грэм обнаружил один клон, который расселился от начала ободочной кишки до самой прямой кишки.
Тем не менее, даже если предраковые клоны создают в толстом кишечнике большие колонии, это не ведет автоматически к развитию злокачественной опухоли. Гастроэнтерологи, обследующие своих пациентов при помощи эндоскопии, обнаруживают большие участки дисплазии – предраковых поражений, – которые они диагностируют как дисплазию низкой или высокой степени в зависимости от морфологического вида клеток при микроскопическом исследовании. Как объясняет Тревор Грэм, дисплазия высокой степени имеет бóльшую вероятность перерасти в рак, и примерно у 50 процентов пациентов с выраженной дисплазией в короткие сроки развивается раковая опухоль, хотя остальные 50 процентов избегают этой участи. Что еще хуже, диагностирование степени дисплазии в значительной степени основано на субъективной оценке, а предполагаемая вероятность перерождения дисплазии в рак варьируется от 2 до 60 процентов в зависимости от того, у кого вы спросите. «Таким образом, пациентам с дисплазией высокой степени стандартно предлагают колэктомию, – говорит Грэм. – И вместо кишечника у них остается стома и колостомический мешок».
К сожалению, современный уровень развития онкологии не позволяет определять, какие пациенты подвергаются высокому онкологическому риску, а какие нет. «Самым значительным вкладом в повышение качества жизни, – считает Грэм, – стало бы избавление пациентов из группы низкого риска от этого радикального хирургического вмешательства. Это означает, что мы должны научиться распознавать таких пациентов и принимать обоснованное решение о ненужности колэктомии – чего мы не можем делать на данный момент, поскольку никто не хочет рисковать».
Святым Граалем для исследователей рака мог бы стать надежный способ, позволяющий отличать предраковые клоны с высокой вероятностью злокачественного перерождения от их более безобидных собратьев и, таким образом, избавлять многих пациентов от ненужных операций. Однако ошеломительный уровень клональной гетерогенности рака, включая нестабильность и интенсивность аномальных перестроек хромосом и разнообразные сложные перетасовки мутантных генов, ассоциируемых со злокачественностью, невероятно затрудняют любые прогнозы. Один из исследователей рака, которому удалось привнести элемент определенности в этот полный неопределенности мир, – Брайан Рейд из Центра исследований рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле. Вместе с Карло Мейли и другими коллегами он изучает предраковое состояние, известное как пищевод Барретта, и собрал одну из самых крупных когорт пациентов с этим синдромом в Соединенных Штатах. На протяжении нескольких десятилетий Рейд в мельчайших деталях наблюдал за прогрессированием этого заболевания. В случае синдрома Барретта проблема гипердиагностики стоит еще острее, чем в случае рака толстого кишечника, поскольку частота прогрессирования дисплазии даже высокой степени в рак при этом синдроме составляет всего 15 процентов за десятилетний период. Как объясняет Рейд: «В настоящее время пациентам с синдромом Барретта рекомендуется проходить скрининговое обследование один раз в жизни в возрасте 50 лет. Как правило, эти обследования выявляют дисплазии, которые остаются стабильными на протяжении всей жизни. Пациенты умирают вместе с ними, а не из-за них. При этом мы пропускаем тех пациентов, у которых развивается рак, хотя мы знаем о вероятности злокачественного перерождения при синдроме Барретта. Таким образом, мы гипердиагностируем доброкачественные формы, не предрасположенные к злокачественному перерождению, и таких случаев 95 процентов, но в то же время не диагностируем 95 случаев развития рака, который убивает людей. Это очень плохие результаты».
По словам Рейда, здесь мы имеем дело с классическим примером систематической ошибки продолжительности (time-length bias), состоящей в том, что онкологический скрининг выявляет в основном медленно развивающиеся или же вовсе не прогрессирующие случаи и пропускает быстро прогрессирующие. В последние сорок лет уровень заболеваемости раком пищевода в западных странах неуклонно растет. Это самая быстро распространяющаяся форма рака в Соединенных Штатах, и в настоящее время рак пищевода начинает захватывать даже Азию, где в прошлом он встречался крайне редко. Ожирение в три раза увеличивает риск развития рака пищевода, так же как и комбинация интенсивного курения, потребления спиртных напитков (как об этом на собственном горьком опыте узнал писатель и журналист Кристофер Хитченс) и пищи с низким содержанием фруктов и овощей. Этот рак характеризуется высокой летальностью с уровнем выживаемости всего 15 процентов. При синдроме Барретта происходит перерождение выстилающих пищевод эпителиальных клеток под воздействием хронического кислотного рефлюкса из желудка. Хроническое воспаление, вызываемое желудочной кислотой, может привести к развитию синдрома Барретта и затем инициировать прогрессирование этого состояния в аденокарциному. Профилактика традиционно состоит в обследовании пациентов с продолжительным кислотным рефлюксом и в случае диагностирования у них синдрома Барретта назначении интенсивного лечения с целью предупредить развитие рака. В худшем случае врачи рекомендуют удаление всего пищевода – сложная и очень опасная процедура, которую до недавнего времени удавалось пережить только 20 процентам пациентов. Таким образом, Рейд решил, что долгосрочный детальный мониторинг пациентов с синдромом Барретта может помочь найти способ выявлять относительно небольшой процент случаев с высокой вероятностью развития рака.
Льюису Кьероло диагноз пищевод Барретта был поставлен в 1989 году. До этого он в течение десяти лет страдал кислотным рефлюксом. В колледже он занимался тяжелой атлетикой, из-за чего у него развилась хиатальная грыжа (грыжа пищеводного отверстия диафрагмы), усугубившая его состояние. «Рядом с моей кроватью всегда стояла бутылочка "Маалокса", и я просыпался по три-четыре раза за ночь, чтобы отхлебнуть из нее большой глоток и потушить огонь, выжигавший мой пищевод. Иначе я просто не мог заснуть». Врач объяснил его кислотный рефлюкс студенческим образом жизни и неправильным питанием. «Он сказал мне, чтобы я поднял изголовье кровати на несколько дюймов – это мне поможет. Но я спал на водяном матрасе, так что это совершенно не помогло!»
В 1989 году он наконец-то обратился к гастроэнтерологу, который обнаружил у него синдром Барретта, а также сообщил о том, что в соседнем Вашингтонском университете группа ученых во главе с Брайаном Рейдом занимается исследованием этого синдрома, и на следующий день как раз должна состояться «закрытая» конференция для практикующих врачей. Льюис решил попасть туда во что бы то ни стало. «Я представился как доктор Льюис Кьероло и уверенно прошел в здание университета. Перед конференцией я разыскал Брайана в буфете, назвал себя и признался, что на самом деле я вовсе не врач. Брайан отвел меня в сторону и тихо сказал: "В таком случае я бы не рекомендовал вам слушать мое выступление, потому что вы будете напуганы до смерти!" Он объяснил, что собирается говорить о небольшом проценте пациентов с высоким риском негативного исхода и иллюстрировать свой рассказ слайдами». Однако Льюис остался и попросил Рейда включить его в свое исследование, что тот и сделал по результатам эндоскопии. С тех пор Льюис вот уже двадцать пять лет проходит регулярные обследования, которые, к счастью, не выявляют никаких признаков рака.
Журналист Боб Телл из Мичигана имел гораздо более пугающий опыт с синдромом Барретта и едва не лишился своего пищевода. В возрасте шестидесяти лет ему был поставлен диагноз пищевода Барретта и дисплазии высокой степени (рак in situ). До этого он в течение тридцати пяти лет стоически терпел кислотный рефлюкс, «гася» его обычными безрецептурными антацидами. «Я отвратительно питался, потому что мне нравилась мусорная пища. Что ж, мне пришлось заплатить за все эти гамбургеры, пиццы и карри!»
Синдром Барретта у него диагностировали почти случайно. Он проходил плановую колоноскопию на предмет выявления новообразований в кишечнике, когда гастроэнтеролог сказал ему: «Вы жаловались на изжогу. Раз уж мы обследовали один конец вашего пищеварительного тракта, давайте обследуем и другой!» Они отправили биопсический материал из пищевода для анализа патологу из Мичиганского университета, который с тревогой сообщил, что патология клеток была настолько серьезной, что требуются срочные меры. На Боба немедленно начали давить со всех сторон, убеждая его согласиться на эзофагэктомию. В ином случае гастроэнтеролог предсказал ему мучительную смерть в течение ближайших четырех лет; его двоюродный брат, возглавляющий кафедру онкологии в Университете Джонса Хопкинса, сказал «Это опасная операция, но у тебя нет другого выхода», а знакомый патолог заявил, что, если бы это случилось с ним, он без колебаний лег бы на операционный стол.
Боб находился между молотом и наковальней, поскольку он также знал об удручающей статистике при эзофагэктомии и хорошо представлял себе, сколь жалкой станет его жизнь после операции. «Когда Бог создавал человеческое тело, он не думал о том, что хирурги будут удалять пищевод, – отсюда и столь ужасающий уровень смертности». Одной его знакомой сделали такую операцию – ей вырезали пищевод, перетащили желудок в грудную полость и пришили к тому, что осталось. У нее пропал глотательный рефлекс, она ела крошечными порциями и постоянно бегала в ванную, чтобы изрыгнуть все это обратно. Боб подумал: «Здесь обязательно должен быть какой-то другой выход». И полез в Интернет.
Вскоре он наткнулся на исследование Брайана Рейда в Сиэтле и, не особенно надеясь на успех, позвонил им. «Помощница Брайана Кристина умеет убеждать людей. Она сказала: "Просто приезжайте – приезжайте на следующей неделе! Возможно, у вас просто воспаление или низкая степень дисплазии. Дайте нам по крайней мере обследовать вас!" Я подумал: "Какой от этого вред?"» Пару недель спустя, дрожа от страха, он сидел перед Рейдом. «Брайан быстро развеял мои страхи. Он почти час рассказывал мне о том, как происходит развитие рака из дисплазии Барретта, как медленно он прогрессирует и почему подавляющее большинство людей с синдромом Барретта никогда не заболевают раком». Боб подписал все необходимые бумаги, и коллега Рейда доктор Пэтти Блаунт сделала ему эндоскопию. Она разделила его пищевод на сектора и взяла образцы биопсии с каждого сантиметра в каждом пораженном секторе. «Она сказала, что каждая биопсическая проба была размером с рисовое зерно. Представьте себе, что из вашего пищевода каждый раз вырезают по тридцать-сорок таких зерен. После этой процедуры у меня несколько дней жутко болит горло! И каждый раз, пока не придет отчет патолога, я не нахожу себе места!» К его огромному удивлению и облегчению, заключение команды Рейда опровергло заключение мичиганских врачей. У него была низкая степень дисплазии, поэтому он не подвергался непосредственной опасности. С тех пор врачи продолжают наблюдать за состоянием Боба, и переродившиеся клетки его пищевода вовсе не собираются превращаться в рак.
Такому дотошному обследованию команда Рейда подвергает каждого члена своей когорты каждые двенадцать месяцев, планомерно собирая данные о сроках и частоте мутаций и возникновении хромосомных аномалий, таких как тетраплоидия и анеуплоидия. И эти усилия начинают приносить плоды. Исследователи разделили свою когорту на две группы в зависимости от наличия/отсутствия онкологии и сравнили гистологические данные, собранные за многолетний период эндоскопических исследований по каждому пациенту, чтобы выявить время появления и тип генетических аномалий, которые могли привести к развитию рака. Они обнаружили временнóе окно, находящееся в интервале примерно между четырьмя и двумя годами до начала развития рака пищевода, когда у пациентов, которые впоследствии заболевали, появлялись критические различия в степени и типе хромосомных аномалий. До четырех лет состояние слизистой оболочки пищевода у обеих групп было очень похоже, с одинаковыми хромосомными перестройками, мутациями в нескольких генах-онкосупрессорах, делециями в ДНК, потерей малого плеча 9-й хромосомы и увеличением количества копий генов в 8-й и 18-й хромосомах. В группе пациентов, не заболевших раком, эти аномалии оставались стабильными на протяжении всего срока наблюдения, однако в другой группе геном быстро становился все более дезорганизованным и аномальным. «Мы обнаружили внезапное увеличение геномной нестабильности, которое произошло очень резко и очень быстро. За четыре года до появления онкологии пациенты начинали терять или приобретать целые плечи хромосом или даже целые хромосомы, а за два года до этого у них происходило катастрофическое удвоение хромосом. Это были ключевые события».
Таким образом Рейд показал, что быстрое, широкомасштабное геномное изменение – макромутация, если хотите, – это именно то, что в его исследовании отличает пациентов с онкологическим исходом от остальных. Он намеренно не ссылается на Гольдшмидта, опасаясь, что генетики, считающие, что с теорией «многообещающих монстров» навсегда покончено в 1940-х годах, попросту не будут его слушать. Но сам Рейд считает, что теория Гольдшмидта очень точно описывает происходящее. «Раковые клетки являются многообещающими в том смысле, что они способны к таким радикальным перестройкам. И безусловно, они являются монстрами, потому что могут убить нас. Хотя подавляющее большинство этих монстров оказываются менее жизнеспособными, чем их предшественники, они трансформируются так часто, что, в конце концов, создают суперклон, который способен к чрезвычайно быстрому и агрессивному росту. Самое плохое то, что мы не знаем, как часто они могут это делать. Чтобы научиться действительно контролировать рак, нам нужно каким-то образом научиться контролировать процесс создания "многообещающих монстров"».
Боб Телл – типичный представитель категории пациентов, которые приобретают определенные геномные аномалии, но без их дальнейшего развития в рак пищевода. Он регулярно проходит биопсические обследования в Мичигане в соответствии с сиэтловским протоколом. При этом Боб считает, что гораздо лучше жить в условиях неопределенности, с постоянно маячащей на горизонте угрозой рака, чем влачить жалкое существование с удаленным пищеводом. А вот что рассказал Боб о недавнем разговоре с Пэтти Блаунт: «Пэтти сказала мне: "Итак, Боб, вам уже шестьдесят семь. И я могу держать пари, что если вы и умрете от какой-нибудь болезни, то это явно будет не рак пищевода!" Я безумно благодарен Брайану Рейду, – добавляет Боб, с трудом сдерживая эмоции. – Он спас мой пищевод – и мою нормальную жизнь».
Исследование Рейда наглядно демонстрирует необходимость экстенсивной регулярной биопсии у пациентов с синдромом Барретта для выявления вышеописанных ранних признаков. И такой же подход должен применяться во всех случаях с высоким риском развития рака. Однако ему еще только предстоит распространиться в более широком онкологическом сообществе. Например, в недавно опубликованном обзоре гастроэнтерологической практики в Великобритании отмечается, что «90 процентов специалистов не предпринимают адекватные биопсические исследования для гистологической диагностики. Более того, 74 процентов из них рассматривают резекцию пищевода как основной метод терапии в большинстве случаев пищевода Барретта с дисплазией высокой степени, несмотря на высокий уровень периоперационной смертности».
У больных раком было бы гораздо больше шансов выжить, если бы образовавшаяся опухоль оставалась на одном месте. Первичные опухоли редко убивают. Проблема в том, что большинство опухолей в конечном итоге распространяются, или метастазируют, на другие органы. Это эндшпиль, который неизменно приводит к летальному исходу для пациента. Если бы опухоли были гомогенными массами клеток, метастазирование было бы невозможно, но, как мы отмечали выше, опухоли, особенно склонные к интенсивному росту, далеко неоднородны – они представляют собой миниатюрные экосистемы со значительным клеточным разнообразием. Метастазирование обуславливается множеством факторов. Здесь играет роль и неоднородность внутриопухолевой среды, где уровни снабжения кислородом и питательными веществами, доступность кровеносных капилляров и уязвимость к иммунным атакам могут варьироваться в широких пределах. Кроме того, происходит постоянная бомбардировка раковых клеток реактивными молекулами кислорода и ожесточенная конкуренция за ресурсы между раковыми клонами, которые по мере увеличения своей злокачественности начинают расти и делиться все быстрее, при этом количество поглощаемой ими глюкозы может в двести раз превышать потребление глюкозы нормальными клетками. Интенсивное расщепление сахаров, в свою очередь, приводит к накоплению внутри опухоли кислот, что также стимулирует инвазивность и метастазирование, характерные для поздних стадий злокачественного процесса. Наконец, важным фактором метастазирования является гипоксия клеток, которая наступает из-за быстрого ухудшения снабжения кислородом участков ближе к центру опухоли.
По мнению исследователя рака Афины Актипис, раковые клетки с их повышенным метаболизмом и быстрой пролиферацией нуждаются в огромном количестве ресурсов и ведут себя подобно некоторым видам животных, которые буквально «выжирают» свою среду обитания. В соответствии с этой экологической моделью рака прожорливость раковых клеток является их ахиллесовой пятой – она делает их уязвимыми и создает давление отбора, заставляющее их переходить на новые «пастбища». Они попросту не могут оставаться на одном месте, иначе они умрут от голода. Метастатические клетки – это те раковые клоны, которые не выдержали экстраординарных уровней конкуренции и предпочли сбежать. Но такая миграция сопряжена с ничуть не меньшими рисками. К счастью для нас, подавляющее большинство из миллионов метастатических клеток, ежедневно покидающих первичную опухоль, погибают. Как замечает Карло Мейли: «Если раковая клетка решает упаковать чемоданы и отправиться на поиски лучшей жизни, она идет на большой риск. По оценкам, только одной клетке на миллион удается успешно обосноваться на новом месте».
Прежде чем раковые клетки смогут оставить первичную опухоль, они должны пройти эпителиально-мезенхимальную трансформацию, в результате которой плотно упакованные пластинчатые структуры, характерные, например, для слизистой оболочки кишечника или протоков молочной железы, превращаются в более рыхлые скопления клеток с уменьшением межклеточной адгезии и повышением миграционных способностей. Этот процесс стимулируется гипоксией и включает в себя потерю важного белка E-кадгерина, который играет роль своего рода межклеточного клея. Хотя на ощупь раковые опухоли кажутся довольно плотными, отдельные раковые клетки являются на удивление мягкими и пластичными, особенно те, которые подготавливаются к миграции. Благодаря тому, что метастатические клетки способны деформироваться как амебы, они ловко прокладывают себе путь сквозь внеклеточный матрикс – липкую, волокнистую ткань, в которую погружены все клетки, – а также проникают через поры в стенах кровеносных сосудов, чтобы вместе с кровотоком доехать до ближайшего капиллярного русла. Именно поэтому многие вторичные опухоли развиваются в легких – метастатические клетки часто попадают в лабиринт их разветвленной сети капилляров и оседают там, формируя новую колонию.
Почему метастазы всегда смертельны для пациента? Никто точно не знает, но есть ряд гипотез. Когда раковые клетки распространяются на другие органы, объясняет Мейли, они попадают в другую среду с другими селективными факторами. Это означает, что каждая новая колония быстро эволюционирует и развивает свой набор характеристик, отличный от характеристик первичной опухоли и остальных колоний. И любой лекарственный препарат, выбранный на основе характеристик первичной опухоли, будет гораздо менее эффективен в отношении метастазов. Кроме того, если метастазы проникают в новую ткань и обнаруживают, что на данный момент у них нет доступа к нужным факторам роста или системе жизнеобеспечения, они просто переходят в дремлющее состояние. В этом состоянии их почти невозможно убить, потому что большинство химиотерапевтических препаратов поражают только пролиферирующие клетки.
Врачи-онкологи часто сообщают о том, что их пациенты буквально чахнут на глазах. Они имеют в виду состояние, называемое кахексией, которое непосредственно повинно примерно в 20 процентах всех смертей от рака. Кахексия – это крайнее истощение организма, характеризующееся общей слабостью и разрушением мышечных и других тканей. Она может вызываться либо не известными на данный момент веществами, которые продуцируются раковыми опухолями, либо массивным иммунным ответом, вызванным разрушением тканей в области метастазов. Либо же, по мере того как организм становится все слабее, инфекционные атаки могут привести к коллапсу иммунной системы и спровоцировать так называемый цитокиновый шторм – неконтролируемое сверхпроизводство провоспалительных сигнальных молекул, – что приводит к необратимому повреждению жизненно важных органов и в конечном счете их отказу.
Несмотря на оптимистичные заявления благотворительных сообществ по борьбе с раком о том, что «вместе мы сможем победить рак», реальные прогнозы на ближайшее будущее отрезвляют. Да, у нас есть некоторые успехи, такие как значительное увеличение показателей выживаемости при лейкозе и небольшое ежегодное снижение уровня смертности от рака в западных странах. Но количество видов рака, заболеваемость которыми выросла за последние десять лет, значительно превышает количество видов рака, заболеваемость которыми снизилась. И тогда как никто не будет спорить, что переход к здоровому образу жизни, включающему правильное питание, физическую активность, отказ от курения и поддержание нормального веса, может снизить общую заболеваемость раком примерно на треть, факт остается фактом: по оценкам, к 2030 году во всем мире количество больных раком вырастет в два раза. Скрининг для раннего выявления, вакцинация против онкогенных вирусов, таких как папилломавирус человека, и прогресс в области хирургии, лучевой терапии и химиотерапии, безусловно, играют важную роль. Но правда и то, что чем дольше живет раковая опухоль, тем более сложной она становится по своей структуре, клональному разнообразию и генетике и тем меньше возможностей оказывается в распоряжении целевой химиотерапии. А когда образуются метастазы, врачи фактически становятся бессильны.
Один из серьезных недостатков современной противораковой химиотерапии состоит в том, что она снижает свою собственную эффективность, способствуя отбору таких мутаций в опухоли, которые придают ей устойчивость к данным препаратам. Мел Гривз удивлен, что большинство врачей, кажется, не осознают всего масштаба проблемы, хотя аналогия с нынешней эпидемией резистентности к антибиотикам – которая угрожает в ближайшем будущем оставить весь мир без надежной антибиотиковой защиты, – бросается в глаза. «Мне кажется, они просто не думают об этом с эволюционной точки зрения, хотя у них перед глазами есть наглядный пример того, что может произойти, – говорит он. – Возможно, ситуация постепенно меняется, но меня пугает, что до сих пор многие онкологи даже не рассматривают фактор резистентности к химиотерапии. Это пагубная наивность». Современная химиотерапия все еще находится в каменном веке. «В этом мы недалеко ушли от древних греков, которые пытались убивать болезни ядом, – продолжает Гривз. – Большинство цитотоксических препаратов поражает все быстро делящиеся клетки. Вы одерживаете временную победу, потому что большинство раковых клеток быстро делится, но остальные могут перейти в дремлющее состояние, как это делают бактерии в стрессовых условиях, а в состоянии покоя клетки не делятся, что делает их, по определению, неуязвимыми к химиотерапии». Химиотерапия также обладает генотоксичным действием; она может вести к дестабилизации генома раковых клеток и тем самым активизировать процесс образования мутаций и хромосомных перестроек, которые повышают их злокачественность.
Как мы увидели, тщательное изучение любой зрелой раковой опухоли выявляет чрезвычайно высокий уровень клонального разнообразия. «Уничтожить систему с подобным субклональным разнообразием невероятно трудно, и это пока находится за пределами возможностей современных технологий, – объясняют Гривз и Мейли. – Это главное препятствие на пути к эффективному лечению рака». Каждая раковая опухоль уникальна, генетически разнообразна, наделена врожденными задатками к устойчивости и склонностью к метастазированию. В подавляющем большинстве случаев роль химиотерапии сводится к тому, что она создает давление отбора, подталкивающее раковые клетки к злокачественности, а не прочь от нее. И хотя новаторские исследования таких ученых, как Рейд, Мейли, Грэм, Гривз и многих других, дают надежду на то, что в скором времени врачи научатся лучше прогнозировать дальнейшую судьбу предраковых поражений и отличать те, которые обречены стать злокачественными, от тех, которые с большой вероятностью сохранят доброкачественный характер, это не решает главной проблемы – что делать со злокачественными поражениями? Все это навело некоторых исследователей рака на революционную мысль: если мы не можем победить рак, почему бы не научиться жить вместе с ним? В настоящее время они экспериментируют со схемами лекарственного лечения, направленными на стабилизацию рака, а не на его искоренение.
В Онкологическом центре Моффитта во Флориде Боб Гейтенби, Ариосто Силва и Боб Гиллис разработали математическую модель раковой опухоли, чтобы попытаться понять, почему химиотерапия так часто не может ее уничтожить. К центру солидной опухоли среда становится все более гипоксической из-за отсутствия адекватного снабжения кислородом. Они также становится более кислотной, поскольку раковые клетки вынуждены перейти на анаэробное дыхание. Это приводит к тому, что центральная популяция раковых клеток приобретает резистентность к химиотерапии, но несет добавочные метаболические издержки, чтобы выжить в этой суровой среде. В результате они становятся уязвимыми ко всему, что дополнительно влияет на их метаболизм. В течение нескольких десятилетий врачи использовали ингибитор гликолиза под названием 2-дезоксиглюкоза (гликолиз – путь утилизации глюкозы клетками с получением энергии), нацеленный на эти гипоксические, уязвимые клетки. Но они использовали его одновременно с химиотерапией. Эта схема не давала желаемого эффекта, поскольку химиотерапия избирательно убивает быстро делящиеся клетки в наружных регионах опухоли, богатых питательными веществами, что позволяет глюкозе и кислороду проникать ближе к центру и нейтрализовывать эффект голодания, вызванный 2-дезоксиглюкозой. Группа Гейтенби смоделировала схему лечения с применением 2-дезоксиглюкозы перед химиотерапией. Это привело к тому, что устойчивые в химиотерапии клетки в центре опухоли начали голодать и умирать. Затем они смоделировали воздействие химиотерапии на внешние регионы опухоли, и моделирование показало, что повторение такого цикла лечения в конечном итоге должно привести к развитию опухоли без центральной, резистентной к химиотерапии популяции. В таком состоянии опухоль становится потенциально излечимой.
Затем исследователи задали вопрос: что если не пытаться уничтожить рак, а научиться сдерживать его? Они разработали концепцию так называемой адаптивной химиотерапии, при которой дозировка химиотерапии не является одинаковой каждый день, а периодически варьируется. Их пилотное исследование на мышах дало многообещающие результаты. Одна группа мышей с опухолями получала регулярные дозы карбоплатина в количестве 180 мг/кг, а другая группа получала адаптивную химиотерапию карбоплатином, начиная с дозировки 320 мг/кг. Мыши, получавшие стандартную химиотерапию, сначала показали хорошую реакцию, но через некоторое время опухоль рецидировала, и все они умерли. Вторая группа получала модулированные дозы, которые постепенно снижались, так что в конце эксперимента мыши стали способны выживать неопределенно долгое время с небольшим, стабильным бременем опухолей, которые держались под контролем очень небольшими дозами карбоплатина в количестве всего 10 мг/кг.
Боб Гиллис из Центра Моффитта попробовал еще одну тактику, исходя из знания того, что гипоксические, кислотные условия в центре опухолей способствуют эволюции раковых клонов с повышенной способностью к метастазированию и инвазивностью. Он предположил, что, если повысить уровень рН внутри опухоли – сделать ее более щелочной, это может сдержать образование метастаз. Он взял мышей с метастатическим раком молочной и предстательной желез и начал давать им регулярную дозу бикарбоната натрия (пищевой соды), разведенного в питьевой воде. Хотя терапия пищевой содой практически не повлияла на размер первичной опухоли, она значительно уменьшила количество и размер метастазов в легких, кишечнике и диафрагме.
Известно, что воспаление в ткани, окружающей опухоль, стимулирует ее генетическую нестабильность и способствует генным мутациям, ассоциируемым с генетической нестабильностью и метастазированием. Брайан Рейд исследовал роль аспирина, мощного противовоспалительного средства, и показал, что он снижает риск развития рака пищевода. Другие исследования обнаружили тот же эффект аспирина при многих других видах рака. При этом действие аспирина может быть очень глубоким и комплексным. «Если вы будете искать взаимосвязи между раком и геномной нестабильностью, вы найдете тысячи таких взаимосвязей, – говорит Рейд. – Точно так же вы найдете тысячи взаимосвязей между аспирином и раком. Но если вы посмотрите на отношения между аспирином и геномной нестабильностью, то количество этих взаимосвязей превысит двадцатизначное число! Никто пока не сказал: "Эй, да здесь есть прямая связь!" Но аспирин каким-то образом уменьшает геномную нестабильность. Он также сокращает производство новых кровеносных сосудов в раковых опухолях, стимулирует апоптоз и снижает уровень воспаления – поистине это чудесный препарат!»
Никто точно не знает, как работает аспирин, но во всей этой ситуации кроется весьма горькая ирония, не в последнюю очередь касающаяся нынешней фармацевтической промышленности, которая, занимаясь производством химиотерапевтических и иммунологических препаратов, ежегодно тратит – и зарабатывает – миллиарды долларов. Десятилетия исследований рака и его эволюции привели нас к тому, что наиболее перспективной рекомендацией на данный момент является более ограниченное использование химиотерапии, с тем чтобы позволить пациентам жить со своей болезнью, а не пытаться радикально ее искоренить. А двумя наиболее перспективными препаратами из всего огромного разнообразия разработанных на сегодняшний день противораковых средств оказались два самых простых и дешевых – аспирин и пищевая сода!
Между тем исследования рака в русле «многообещающих монстров» набирают обороты, и ученые все больше узнают о том, насколько далеко могут зайти раковые клоны в своем дьявольском марше к злокачественности и метастазированию. На настоящий момент накоплено достаточно данных, чтобы можно было сделать некоторые обобщения и идентифицировать механизмы дарвиновской эволюции, общие для всего спектра раковых заболеваний. В специфичном мире раковой опухоли, где раковые клоны ожесточенно соперничают друг с другом за кислород и питательные вещества, постоянно атакуются иммунной системой хозяина и периодически подвергаются смертельным химиотерапевтическим бомбардировкам, создается огромное давление отбора, заставляющее раковые клоны предпринимать отчаянные попытки выжить при помощи экстраординарной генетической изменчивости, приводящей к созданию высоко аномальных раковых геномов. К сожалению для нас, в раковой биологической нише господствует зловещий принцип «многообещающих монстров» Гольдшмидта, который, по всей вероятности, и позволяет вырастать этим дьявольским опухолевым спрутам, простирающим свои метастатические щупальца по всему организму и по большей части не поддающимся уничтожению теми средствами, которые есть у нас на сегодняшний день.
Проблемы с трубопроводом Почему эволюция коронарных артерий обрекла нас на инфаркт миокарда
Если говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, то сразу же следует отметить, что мы живем в ориентированном на профилактику мире, где нет недостатка в рекомендациях, что можно и чего нельзя делать. Нам рекомендуют: не курить; сократить потребление насыщенных жиров; следить за своим весом; потреблять меньше алкоголя; есть больше рыбы, фруктов и овощей; увеличить физическую активность и многое другое. Тем не менее в западных странах болезни сердца по-прежнему остаются главной причиной смерти. В Соединенных Штатах более 1 миллиона американцев ежегодно переносят инфаркт миокарда, и 600 тысяч из них умирают. Сердечно-сосудистые заболевания обходятся американской системе здравоохранения более чем в 100 миллиардов долларов в год. В Великобритании статистика не менее удручающая. Хотя за последние двадцать лет частота инфарктов сократилась вдвое, это заболевание по-прежнему убивает одного британца каждые шесть минут – причем 46 тысяч из этих ежегодных смертей являются преждевременными, т. е. случаются раньше, чем люди достигают библейского возраста «в три срока и десять» – семидесяти лет. В результате старения населения и роста популярности фастфуда частота инфарктов начала расти даже в Японии. Признаки атеросклероза обнаруживаются на стенках артерий буквально всех людей, вышедших из подросткового возраста. Другими словами, мы все живем с кровеносными трубами, засоренными отложениями накипи.
Наши коронарные артерии чрезвычайно уязвимы. Это очень узкие сосуды с внутренним диаметром от двух до четырех миллиметров, которые легко блокируются атеросклеротическими бляшками. Между тем они выполняют самую важную работу в организме – обеспечивают кровоснабжение главного органа, который отвечает за кровоснабжение и обеспечение кислородом и питательными веществами всего остального организма. При помощи этих артерий сердце питает само себя. Со времени появления наших первых позвоночных предков – рыб сотни миллионов лет назад и первых сложных конструкций сердца эволюция пыталась решить проблему снабжения кровью самой важной мышцы нашего тела. Суть этой анатомической проблемы как нельзя лучше передает идея, сформулированная в форме знаменитого парадокса брадобрея. Этот парадокс был открыт философом Бертраном Расселом, и заключается он в следующем: брадобрей бреет всех жителей деревни, которые не бреют себя сами. Но кто в таком случае бреет самого брадобрея? Сердце снабжает кровью все органы и ткани организма, но кто будет снабжать кровью само сердце, чтобы обеспечить его эффективное функционирование? Как мы увидим, эволюция по-разному и, как всегда, изобретательно решила эту проблему у рыб, земноводных и рептилий, однако решением парадокса брадобрея, предложенным людям, она непреднамеренно подвесила над нами дамоклов меч потенциальных инфарктов и преждевременной смерти. Система кровоснабжения человеческого сердца является классическим примером эволюционного компромисса. Положительный момент состоит в том, что, призвав на помощь эволюционный подход, наука обещает уже в ближайшем будущем предложить нам удивительные медицинские технологии ремонта поврежденных сердец, пострадавших от засорения кровеносных труб.
Семидесятивосьмилетний Питер Берри последние четверть века живет с больным сердцем. В 1986 году, когда ему было 53 года, он с женой поехал на выходные к морю, и через два часа после приезда у него случился тяжелый сердечный приступ. Он говорит, что перед этим у него не было абсолютно никаких признаков надвигающегося кризиса. «Я сидел в шезлонге, совершенно расслабленный, и вдруг мою грудь пронзила острая боль». В то время он работал монтером в электроэнергетической компании и, хотя старался держать себя в форме, продолжал курить. Его доставили в больницу, где врач открыто предупредил: «Если вы не бросите курить, сигареты в конце концов убьют вас». В больнице ему сделали ЭКГ, стабилизировали его состояние и, выписав лекарства, через несколько дней отпустили домой.
Вернувшись в Лондон, он обратился в местную клинику, где ему сказали: «Просто продолжайте жить дальше. Мы назначим вам еще несколько лекарств. У вас был сердечный приступ – надеемся, это послужит вам хорошим предупреждением». Питер пробыл на больничном полтора месяца, потом вернулся к облегченному режиму работы и, в конце концов, снова начал работать полный рабочий день. Он продолжал проходить регулярные осмотры у врача, который слушал его сердце и делал электрокардиограмму. Время от времени он испытывал незначительные стенокардические боли, особенно после интенсивной физической нагрузки, но даже не подозревал, что в его артериях незаметно, но быстро развивается атеросклеротический процесс. В конце концов, ему сделали ангиограмму (рентгенологический снимок сердца), которая показала, что одна из его коронарных артерий полностью заблокирована. Так, девять лет спустя после первого инфаркта ему потребовалось установить стент. Стент представляет собой короткую сетчатую трубку, которая вставляется внутрь поврежденной артерии и удерживает ее просвет открытым. Но было уже слишком поздно, чтобы спасти мышцы на левой стороне его сердца, – годы кислородного голодания привели к гибели клеток миокарда в этой области – поэтому врачи удовлетворились тем, что вставили стент в другую ветвь его коронарной артерии, которая также демонстрировала признаки прогрессирующего атеросклероза. Питеру было уже 62 года, и его компания предложила ему добровольно уволиться по сокращению штата. Он согласился. «По крайней мере теперь мы сможем быть вместе и делать то, что хотим», – сказал он жене.
Через руки кардиолога Эндрю Рэгга проходят сотни таких пациентов, как Питер Берри. Значительная часть его рутинной работы в Кардиологическом центре Бартса в Лондоне состоит в том, чтобы при помощи ангиографии сосудов сердца выявлять места сужения или закупорки коронарных артерий и затем «открывать» их, используя современные методы ангиопластики – так называется процедура установления стента в коронарные артерии. Худший вид инфаркта, с которым ему приходится иметь дело, – это инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (инфаркт STEMI), при котором полностью блокируется одна из ветвей коронарных артерий. Сердце, по сути, представляет собой электрический орган. Работа всех клеток сердечной мышцы синхронизируется водителем сердечного ритма, благодаря чему достигается их согласованное функционирование, что обеспечивает мощное сокращение сердца и позволяет проталкивать кровь по всему телу. Это похоже на то, как если бы наручные часы всех жителей Нью-Йорка были подключены к часам Центрального вокзала! Электрокардиограмма показывает процесс распространения волны возбуждения по сердцу, где каждое сердцебиение включает пять сегментов, обозначаемых буквами алфавита: P, Q, R, S и T. Сегмент ST соответствует периоду, когда мышечные клетки обоих желудочков, полностью разрядившись, реполяризуются, чтобы подготовиться к следующему сокращению. Сразу после полной закупорки коронарной артерии весь обслуживаемый ею участок сердечной мышцы начинает отмирать, и эта массивная клеточная смерть отражается в виде характерного повышения сегмента ST на электрокардиограмме. Отсюда и название этого типа острого инфаркта – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST или STEMI (ST segment elevation myocardial infarction).
Когда пациентов с инфарктом миокарда доставляют в больницу, им, как правило, немедленно дают кислород и аспирин, а затем тромболитик и морфин. Если ЭКГ показывает признаки инфаркта STEMI, нельзя терять ни минуты. Необходимо срочно определить место закупорки коронарной артерии и как можно быстрее восстановить кровоток. Восстановление кровотока называется реперфузией. Чем больше клеток сердечной мышцы будет спасено, тем больше шансов на то, что сердце вернется к нормальному функционированию.
Точное местоположение закупорки определяется при помощи инъекции в артерию специального рентгеновского красителя. Затем врачи вводят в артерию тончайшую проволоку, которая благодаря гидрофильному покрытию не прилипает к стенкам. Современные технологии, позволяющие направлять движение проволоки, делают этот процесс относительно легким. По проволоке к месту закупорки сначала доставляется специальный катетер, который отсасывает сгусток, а затем надувной баллон, который расширяет просвет артерии и позволяет установить в этом месте поддерживающий каркас – стент. Несмотря на сетчатую структуру, стенты чрезвычайно прочны. Даже если их приходится проталкивать в суженную артерию с невероятными усилиями, разрушаются они крайне редко.
После установки стента пациентам назначают разжижающие кровь препараты, чтобы предотвратить дальнейшее образование сгустков, а также препараты для снижения холестерина и кровяного давления для долгосрочной профилактики осложнений и повторных инфарктов. К сожалению, 30 процентов всех людей, скончавшихся от инфаркта миокарда, умирают еще дома до прибытия скорой медицинской помощи, а еще 5 процентов – уже в больнице, несмотря на экстренное вмешательство.
Одна из странностей конструкции сердца и коронарных артерий состоит в том, что она ограничивает приток крови к сердечной мышце именно тогда, когда та нуждается в ней больше всего. Когда желудочки сокращаются в фазе систолы, выталкивая кровь в аорту, располагающиеся по всей сердечной мышце ветви коронарных артерий сдавливаются и не могут наполняться кровью. Поэтому кровь в коронарные артерии попадает только при расслаблении сердца в фазе диастолы. При физической активности фаза диастолы становится короче, т. е. период наполнения кровью коронарных артерий сокращается именно в тот момент, когда сердечная мышца больше всего нуждается в кислороде. Это создает огромную нагрузку на коронарные артерии. Вот почему все, что препятствует нормальному кровотоку по этим сосудам, например атеросклероз, обычно вызывает стенокардию во время физической нагрузки.
Что еще важнее, в отличие от сетей кровеносных сосудов в большинстве других органов, коронарные артерии и их ветви являются терминальными – как улицы в городских предместьях, заканчивающиеся тупиками. Это означает, что в случае закупорки какой-либо ветви коронарной артерии кровь не может течь обходным путем и ткани, обслуживаемые этой ветвью, не могут избежать кислородного голодания. Проблема для многих пациентов заключается в том, что не все инфаркты миокарда носят такой же острый характер, как инфаркт с подъемом сегмента ST (STEMI). В некоторых случаях блокируется малая ветвь коронарной артерии или же частично блокируется основная ветвь, что вызывает хроническое кислородное голодание и приводит к постепенному отмиранию сердечной мышцы. Ни пациент, ни врач могут не замечать этого, пока не становится слишком поздно для того, чтобы предотвратить гибель критической массы миокарда.
Именно это произошло с Данканом Чизхолмом. В 1983 году, когда ему было 59 лет, у него случился легкий сердечный приступ. Он не стал обращаться за медицинской помощью, но немедленно бросил курить. В 2000 году ему нужно было провести частичную замену коленного сустава, и при прохождении обычного предоперационного обследования анестезиолог обнаружил на его ЭКГ тревожные признаки, предположительно свидетельствующие о блокировке правой коронарной артерии. Тем не менее анестезиолог счел, что по состоянию здоровья Данкан вполне может выдержать операцию. Операция прошла успешно, но вскоре Данкан начал страдать сильной стенокардией, и его лечащий врач назначил дополнительные обследования. Ангиография показала, что, помимо блокировки правой артерии, в его левой артерии также имелись признаки атеросклероза. В 2003 году Данкану сделали тройное коронарное шунтирование. Хотя операция была признана успешной, примерно через четыре месяца у него началась гипервентиляция, и обследование показало, что целых 60 процентов его сердечной мышцы мертво. Таким образом, хотя у Данкана никогда не было острого инфаркта, его сердце постепенно и незаметно умирало от голода.
У Питера Берри коронарная болезнь развивалась похожим образом и привела его к столь же бедственному состоянию. «Однажды я проснулся среди ночи от ужасной боли в груди. Я весь покрылся потом. Жена крепко спала, поэтому я спустился вниз и сделал себе чашку чая. Но потом я понял, что мне не становится лучше! Тогда я поднялся наверх, разбудил жену и сказал: "Вызови скорую помощь. У меня сильно болит сердце, и вообще я чувствую себя очень плохо"». В больнице ему сказали, что помочь ему может только одно – пересадка сердца, но они не могут этого сделать, потому что считают, что он не перенесет операцию. Его сердце было в очень плохом состоянии, и его никак нельзя было восстановить, так что Питеру просто предстояло прожить остаток жизни на лекарствах. «У меня была сильнейшая одышка – я не мог пройти по улице и пятидесяти метров. Но моей главной заботой была жена…» У его жены начала развиваться деменция, и Питер, несмотря на больное сердце, считал своим долгом заботиться о ней самому. «Я подумал: "Она должна жить дома. Когда я давал брачный обет, я поклялся быть верным ей в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас. И я не собирался нарушать свою клятву». Так, имея всего 20 процентов рабочей сердечной мышцы, он самостоятельно заботился о своей жене целых семь лет.
Традиционно главными факторами риска, ведущими к развитию коронарной болезни сердца, врачи называют курение, малоподвижный образ жизни и нездоровое питание с большим содержанием соли и насыщенных жиров. Между тем недавнее широкомасштабное исследование не обнаружило взаимосвязи между изменением питания и снижением риска инфаркта миокарда. Становится все более очевидно, что перечисленные факторы риска сами по себе не могут объяснить эпидемические масштабы сердечно-сосудистых заболеваний, осаждающих человечество, а устранения этих факторов недостаточно для того, чтобы полностью защитить нас от этих болезней. Осознание этого факта заставляет врачей и ученых радикально пересмотреть устоявшиеся представления о том, что именно вызывает сердечно-сосудистые заболевания. А последние исследования предоставляют все больше доказательств того, что мы, возможно, упускаем из виду один важный фактор – роль иммунной системы.
Например, в 2011 году Стаффан Анве из Каролинского института в Швеции опубликовал результаты одного чрезвычайно долгосрочного исследования. Он собрал данные о каждом жителе Швеции, родившемся между 1955 и 1970 годами, и отобрал среди них тех, у кого в возрасте до двадцати лет были удалены гланды или аппендикс. Затем он сравнил их состояние здоровья в течение следующей четверти века с состоянием здоровья людей из контрольной группы, не перенесших такого хирургического вмешательства. Массив данных был настолько большим, что ему удалось найти даже значительную подгруппу молодых людей, у которых были удалены и гланды, и аппендикс. Он обнаружил, что удаление гланд в детстве увеличивает риск острого инфаркта миокарда на 44 процента, а удаление аппендикса – на 33 процента. У тех людей, у которых в детстве удалили и гланды, и аппендикс, риск инфаркта был еще выше.
Гланды и аппендикс представляют собой лимфоидные органы, являющиеся важной частью детской иммунной системы. Хотя после двадцатилетнего возраста их значение снижается, неизбежно напрашивается вывод (дополнительные исследования, конечно, как обычно, требуются), что их удаление может препятствовать нормальному развитию взрослой иммунной системы, делая человека предрасположенным к болезням, связанным с нарушением работы иммунной системы. Как указывает Анве, несколько исследований показало взаимосвязь между лимфомой Ходжкина и удалением аппендикса и/или миндалин, и обе эти операции, кажется, являются важными факторами риска развития таких тяжелых аутоиммунных заболеваний, как ревматоидный артрит и болезнь Крона.
Хотя работа Анве была подвергнута критике вследствие того, что в ней не приняты во внимание возможные искажающие факторы, предполагаемая причастность этих хирургических вмешательств в детстве к увеличению риска инфарктов позволяет добавить атеросклероз к длинному списку патологий, в которых повинна анормальная иммунная система. Это позволяет предположить, что атеросклероз может представлять собой воспалительное заболевание очень похожее на разнообразные аутоиммунные заболевания, которые мы обсуждали в главе о «старых друзьях». Тот факт, что некоторые из этих аутоиммунных заболеваний, особенно ревматоидный артрит и диабет 1-го типа, ассоциируются с повышенным риском атеросклероза, только подтверждает эту взаимосвязь. Интересно, что удаление селезенки, еще одного лимфоидного органа, также способствует развитию атеросклероза. Пока ученые точно не знают, почему все происходит именно так. Возможно, удаление этих лимфоидных органов снижает иммунитет к атеросклерозу; или же их удаление ослабляет иммунную защиту от патогенов, которые, проникнув в организм, провоцируют в артериях цепь воспалительных событий; или их удаление ведет к развитию аутоиммунного заболевания с сопутствующим риском в виде атеросклероза; или же сам факт того, что потребовалось удаление этих органов, указывает на какие-либо аномалии в иммунной системе пациентов. Кроме того, тот факт, что взаимосвязь между удалением гланд и/или аппендикса и атеросклерозом встречается только у людей, перенесших эти операции до двадцатилетнего возраста (затем этот эффект исчезает), уменьшает или даже полностью исключает влияние других потенциально искажающих факторов, таких как курение, неправильный образ жизни и питание.
Доктор Мацей Томашевски и его коллеги с кафедры сердечно-сосудистых заболеваний Лестерского университета недавно сообщили о результатах исследования, охватившего более трех тысяч человек, которое показало существование сильной генетической связи между отцами и сыновьями в отношении факторов, предрасполагающих к коронарной (ишемической) болезни сердца. Они сосредоточились на Y-хромосоме и обнаружили, что 90 процентов британских мужчин являются носителями одного из двух основных вариантов, называемых гаплогруппой I и гаплогруппой R1b1b2. При этом они установили, что риск развития коронарной болезни сердца у мужчин-носителей гаплогруппы I на 50 процентов выше, чем у мужчин, ее не имеющих. Этот риск совершенно не зависит от других основных факторов риска развития коронарной болезни сердца, таких как высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина ЛПНП и курение. Исследователи предполагают, что эта гаплогруппа непосредственно влияет на работу иммунной системы. В частности, они показали, что в данном случае увеличивается активность ряда генов, отвечающих за прохождение лейкоцитов через эндотелий артерий, а также некоторых генов, участвующих в производстве провоспалительных цитокинов. И наоборот, снижается активность генов, отвечающих за сдерживание иммунного ответа. Когда иммунная система теряет способность регулировать иммунный ответ, это может привести к развитию широкого спектра аутоиммунных заболеваний. Исследователи из Лестера особо подчеркивают эту взаимосвязь: «Это вывод означает, что носители гаплогруппы I могут иметь хроническое нарушение гомеостатических (поддерживающих динамическое равновесие) механизмов адаптивного иммунитета, что, вероятно, ведет к повышенному уровню воспаления, негативно влияющего на сердечно-сосудистую систему. Аналогичный механизм был обнаружен и в случае других сложных расстройств, включая воспалительные заболевания кишечника, при которых отклонения иммунного статуса также приводят к повышенному уровню системного воспаления».
В настоящее время ученые и врачи детально изучили, как происходит постепенное скрытое разрушение стенок наших артерий. У подавляющего большинства людей уже в детстве на внутренней стенке артерий образуются так называемые жировые прожилки. Они формируются в основном из перегруженных липидами макрофагов (клеток иммунной системы). У многих людей эти жировые прожилки со временем исчезают, но у некоторых начинают перерастать в атеросклеротические бляшки. Начав формироваться, атеросклеротические бляшки растут постепенно (часто в течение десятилетий), пока одно из двух финальных травматических событий не приведет к инфаркту миокарда. Йёран Ханссон из Каролинского института в Швеции в мельчайших – и ужасающих – подробностях описал процесс развития атеросклероза в наших артериях. Еще несколько лет назад считалось, что атеросклероз представляет собой пассивное накопление холестерина в стенках артерий, и, если контролировать кровяное давление и уровень холестерина в крови, атеросклероза и коронарной болезни сердца можно избежать. Теперь мы должны признать, что это представление совершенно не соответствует действительности и коронарная болезнь сердца является результатом гораздо более сложного хронического воспалительного процесса.
В норме внутренняя выстилка наших артерий, эндотелий, является очень скользкой. К ней, как к посуде с тефлоновым покрытием, ничего не прилипает. Однако ряд факторов может изменить эту ситуацию и заставить артериальный эндотелий секретировать адгезивные молекулы, которые, как следует из их названия, делают его липким. Вот где в игру вступает один из ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний – курение. Присутствующие в табачном дыме никотин и монооксид углерода повреждают эндотелий. Кроме того, курение снижает уровни циркулирующих в крови липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), или «хорошего» холестерина. В норме «хороший» холестерин захватывает липопротеины низкой плотности (ЛПНП), или «плохой» холестерин, который является главным злодеем, и транспортируют его в печень, где он подвергается расщеплению. Таким образом, курение нарушает соотношение между хорошим и плохим холестерином в крови в пользу плохого холестерина и химически изменяет плохой холестерин, делая его более атерогенным. Циркулирующие в крови атерогенные ЛПНП легко приклеиваются к поврежденному эндотелию и проникают внутрь. Курение также способствует повышению артериального давления (гипертонии), что само по себе ведет к повреждению внутренних стенок артерий. Дело в том, что в артериальной системе кровь течет неравномерно. В местах разветвления и крутых изгибов артерий течение крови может быть турбулентным, с образованием локальных завихрений. При высоком кровяном давлении ситуация усугубляется. Это создает дополнительное деформирующее напряжение на стенки артерий, под воздействием которого в клетках эндотелия могут активизироваться гены, отвечающие за выработку адгезивных молекул и провоспалительных цитокинов. Так создаются условия для образования атеросклеротической бляшки.
Первыми к поврежденному «липкому» участку эндотелия прикрепляются тромбоциты. Они производят гликопротеины, которые стимулируют прикрепление к ним других тромбоцитов, приводя к образованию сгустка. Интересно, что тромбоциты встречаются только у млекопитающих, которые вместе с птицами являются единственными животными, использующими высокое давление в системе кровообращения для того, чтобы проталкивать кровь из сердца по всему организму. Команда исследователей из Пенсильванского университета во главе с Марком Каном предположила, что тромбоциты могли появиться у млекопитающих как суперэффективный механизм свертывания крови, способный мгновенно заделывать раны и другие повреждения в стенках находящихся под высоким давлением артерий. Ценой, которую мы платим за эту защитную инновацию, и является пресловутый атеросклероз, поскольку тромбоциты очень легко агрегируются на шероховатой поверхности стенок артерий.
Адгезивные молекулы, продуцируемые эндотелиальными клетками, также задерживают белые кровяные клетки (лейкоциты), движущиеся мимо в потоке крови, и заставляют их закрепиться на стенке. Затем химические посредники, хемокины, заставляют их мигрировать в артериальную стенку, где они оседают в нижележащем слое – интиме. Здесь цитокин под названием макрофагальный колониестимулирующий фактор заставляет белые кровяные клетки трансформироваться в макрофаги – клетки-уборщики, которые поглощают и уничтожают разный мусор, такой как бактериальные эндотоксины и фрагменты умерших клеток. Это ключевая трансформация, которая лежит в основе развития коронарной болезни сердца, и именно эту ненормально гипертрофированную активность исследователи из Лестерского университета обнаружили у мужчин-носителей гаплогруппы I. Макрофаги также поглощают окисленные ЛПНП, в избытке проникающие в интиму через эндотелий. Нагруженные липидами макрофаги производят каскад воспалительных цитокинов, протеаз, и свободных радикалов и превращаются в пенистые клетки – строительные блоки, из которых начинает образовываться полноценная атеросклеротическая бляшка. Дальнейшие иммунные изменения в артериальной стенке приобретают уже патологический характер. Патрульные лимфоциты, известные как Т-хелперы (называемые так потому, что они образуются в тимусе и помогают другим иммунным факторам выполнять свою работу), прибывают на «место действия», привлеченные антигенами на поверхности дифференцирующихся макрофагов. Они действуют так, как если бы столкнулись с очагом инфекции, и выделяют еще больше различных цитокинов, сдвигающих иммунный ответ в сторону воспаления.
Теперь атеросклероз входит в острую фазу. Атеросклеротическая бляшка выпирает в просвет артерии. Внутри она представляет собой мешанину из Т-клеток, тучных клеток, пенистых клеток, мертвых и умирающих клеток, и кристаллов холестерина, которые образуют некротическое ядро бляшки, насыщенное молекулами провоспалительных цитокинов. До определенного момента все это удерживается вместе фиброзной «покрышкой». Далее может быть два варианта эндшпиля. Первый – бляшка продолжает расти и все дальше выпирать в просвет сосуда. Если это происходит в одной из коронарных артерий, приток крови к сердцу постепенно ухудшается, и клетки сердечной мышцы начинают страдать от кислородного голодания. Это может привести к сильнейшей стенокардии. Второй вариант – фиброзная покрышка может не выдержать и разорваться, выпустив содержимое бляшки в просвет артерии. К месту разрыва немедленно стягиваются тромбоциты, запускается каскад свертывания крови, и образовавшийся тромб либо полностью блокирует просвет артерии, либо как плавающий эмбол движется по артерии до первого узкого места, где он ее закупоривает и блокирует дальнейший ток крови. Результат – инфаркт миокарда.
Если однажды вы окажетесь в отделении скорой помощи, напуганный до смерти и с сильнейшей болью в груди, накачанный морфином и облепленный электродами ЭКГ, вы можете проклинать природу за то, что самая важная мышца в вашем теле, которая обеспечивает кислородом и питательными веществами все остальные органы, включая головной мозг и саму себя, зависит от двух тонких ветвящихся трубочек, коронарных артерий, подверженных фатальным или почти фатальным закупоркам. Почему эволюция снабдила нас такой ненадежной системой трубопроводов?
На этот вопрос нет простого ответа. Несмотря на то, что недавние исследования показали роль иммунного компонента в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, одно из популярных эволюционных объяснений по-прежнему возлагает вину за коронарную болезнь сердца на нас самих, а не на некие имманентные дефекты в конструкции нашей системы кровообращения. Эта теория утверждает, что наша система коронарного кровообращения была чрезвычайно эффективным, адекватным и надежным способом кровоснабжения сердца, пока примерно сто лет назад в нашей культуре не начал укореняться современный западный образ жизни с его летальной комбинацией курения, пищи с избыточным содержанием насыщенных жиров, недостатка физической активности и высокого уровня стресса. Согласно этой теории (она называется «теорией несоответствия»), наш образ жизни (включая питание) значительно отличается от образа жизни первобытных охотников-собирателей, который был характерен для человека на протяжении почти всей его эволюционной истории; и таким образом, современная эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний – дело наших собственных рук. Однако в последнее время эта теория все чаще вызывает возражения, в частности, в свете открытий, сделанных в такой междисциплинарной науке, как палеопатология, которая изучает болезни наших далеких предков.
Сорок лет назад Розали Дэвид, которая в то время была хранителем отдела египтологии в Манчестерском музее, собрала команду из специалистов по радиологии, компьютерной томографии и другим методам неинвазивной медицинской визуализации и начала исследовательскую программу, ставшую известной как Манчестерский проект по исследованию мумий. Постепенно они собрали обширную коллекцию образцов тканей, взятых у египетских мумий, хранящихся в музеях по всему миру. Применяя современные методы исследований, они обнаружили у многих мумий признаки сердечно-сосудистых заболеваний. А сведения из древних текстов, по мнению ученых, напрямую связывают эти сердечно-сосудистые заболевания с образом жизни. Однако манчестерские исследователи не были первыми: следы кальцификации (атероматозные бляшки) в аорте египетской мумии были впервые замечены Иоганном Чернаком в 1852 году, а пионер палеопатологии англо-немецкого происхождения сэр Марк Арманд Раффер, который в начале XX века был профессором бактериологии в Каирской медицинской школе, обнаружил поражения артерий у сотен мумий, датирующихся от 1580 года до нашей эры до 527 года нашей эры. Анатомический срез, сделанный Раффером, показывает огромную атероматозную бляшку, полностью блокирующую подключичную артерию. Первые палеопатологи обнаружили атеромы в артериях фараонов Мернептаха, Рамсеса II, Рамсеса III, Рамсеса V и Рамсеса VI, Сети I и многих других.
В 2010 году Розали Дэвид опубликовала в журнале Lancet сообщение, что ее группа выявила шестнадцать египетских мумий с достаточными для анализа остатками сердца и артерий. Значительная кальцификация была обнаружена в девяти из них. Между тем американо-египетская исследовательская группа под руководством доктора Грегори Томаса из Калифорнийского университета в Ирвине и доктора Аделя Аллама, профессора кардиологии из Университета аль-Азхар в Каире, обследовала при помощи компьютерной томографии пятьдесят две мумии, хранящиеся в Каирском музее. Более половины из них имели следы кальцификации артерий. Команда также зафиксировала самый древний случай атеросклероза коронарных артерий за всю историю – у принцессы Яхмес Меритамон, которая родилась в 1580 году до нашей эры и умерла в возрасте чуть старше сорока лет. Все ветви коронарных артерий, снабжавших кровью ее сердце, были заблокированы.
Какие факторы могли стать причиной этой эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний в Древнем Египте? Вот где начинаются разногласия. Дэвид и ее коллеги не сомневаются, что вина лежит на тех же факторах, которые вызывают развитие атеросклероза у современных людей, и первое место среди них занимает пища, богатая насыщенными жирами. Как указывает Дэвид, в Древнем Египте бальзамировались и мумифицировались только члены семей фараонов и высокопоставленные вельможи и жрецы, и все они питались гораздо лучше, чем простонародье. Исследователи перевели иероглифические надписи на стенах храмов, где подробно описываются ежедневные подношения пищи богам. Эта пища впоследствии съедалась жрецами и их семьями, говорит Дэвид, поэтому она дает хорошее представление о диетических привычках высших классов. Их рацион состоял в основном из говядины, пернатой дичи, хлеба, фруктов, овощей, выпечки, вина и пива. Многие блюда содержали насыщенные жиры. Например, в гусятине, которую часто употребляли в пищу, содержится примерно 63 процента жира, из них 20 процентов – насыщенные жиры, а египетский хлеб выпекали с использованием жира, молока и яиц. Потребление насыщенных жиров древними египтянами, объясняет Дэвид, значительно превышало современные диетические нормы. Кроме того, пища была очень соленой (соль использовалась в качестве консерванта), да еще они любили выпить. Дэвид рассказывает историю болезни мумии из Лидса, которую изучала ее группа. Эта мумия древнего жреца была перевезена в музей Лидса в XIX веке. Жрец умер в среднем возрасте, и, как свидетельствуют надписи на обвивающих его лентах, он регулярно потреблял в пищу подношения богам, состоявшие в значительной степени из мяса священных коров, которые выращивались на территории храма специально для таких жертвоприношений. Анализ образцов ткани, взятых из его бедренной артерии, показал наличие хорошо развитых атеросклеротических бляшек.
Дэвид высказывается однозначно: современная эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний – это повторение грехов прошлого, главный из которых – неправильное питание. Между тем Грегори Томас и его команда придерживаются другого мнения. Хотя они не собираются ставить под сомнение содержание древних папирусов, описывающих ломящиеся от медовых пряников и жирного мяса столы, они отмечают, что в Древнем Египте отсутствовали такие современные факторы риска, как малоподвижный образ жизни и курение. Как правило, египтяне не страдали ожирением и не были домоседами. Но они подвергались хроническому воздействию высоких уровней патогенов, от которых не была застрахована ни одна прослойка обществ. Повсюду царствовали малярия и шистосомоз, не было недостатка и в других инфекциях. Вполне возможно, что их иммунная система поддерживала состояние постоянного воспаления в попытке отразить эти патогены, а, как мы недавно узнали, перекос иммунной системы в сторону воспалительной реакции является одним из ключевых факторов в развитии атеросклероза.
В очередной раз выводы Дэвид были поставлены под сомнение после того, как в 1991 году в Альпах на австрийско-итальянской границе была найдена ледяная мумия, которой дали имя Эци. Эци умер в австрийских Альпах более пяти тысяч лет назад и хорошо сохранился благодаря тому, что был вморожен в лед. Он погиб от ранения, повредившего его артерию, а его короткая (он прожил примерно 35–40 лет), но трудная жизнь оставила на его теле неизгладимые шрамы. На его теле имеются многочисленные следы от стрел, и он страдал тяжелым остеоартритом. Его последняя еда состояла из мяса горного оленя и злаков, и ел он всего за несколько часов до смерти. Томография показала, что его зубы сильно изъедены кариесом, причиной которого могла быть богатая углеводами пища. Запущенный кариес делал его уязвимым для хронической бактериальной инфекции, а это является еще одним фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку также провоцирует хронический воспалительный иммунный ответ. Его артерии были покрыты атероматозными бляшками. Недавно ученые из Института мумий и ледяного человека в Италии извлекли из Эци достаточно ДНК, чтобы завершить полную расшифровку его генома. Они обнаружили у него некоторые варианты генов, которые значительно увеличивают риск развития болезней сердца и сосудов.
В настоящее время Грегори Томас и его коллеги Адель Аллам и Майкл Миямото проводят исследования совместно с большой мультидисциплинарной командой во главе с Рэндаллом Томпсоном из Среднеамериканского кардиологического института святого Луки в Канзас-сити. Они собрали данные полного компьютерно-томографического сканирования тел 137 мумий из четырех разных географических регионов: Древнего Египта, Древнего Перу, юго-запада Соединенных Штатов, где жили древние индейцы пуэбло, и Алеутских островов, находящихся в северной части Тихого океана. Оказалось, что атеросклероз был широко распространен во всех этих древних цивилизациях.
Соглашаясь с утверждением Розали Дэвид об изобиловавшей жирами диете высших каст в Древнем Египте, эти исследователи отмечают, что в трех других древних цивилизациях люди питались совершенно иначе. Перуанцы выращивали кукурузу, картофель, маниок, бобы и острый перец, а белок получали в основном из мяса альпак, уток, диких оленей, птиц и раков. Индейцы пуэбло были преимущественно собирателями и питались маисом, тыквой, кабачками, кедровыми орехами и семенами трав, а их белковый рацион состоял из мяса кроликов, мышей, оленей и рыбы. Алеуты собирали ягоды, а все остальное их питание составляли морские животные, такие как тюлени, морские львы, киты и различные моллюски. Таким образом, большинство этих древних цивилизаций питались довольно здоровой, по современным меркам, пищей, богатой ненасыщенными жирами, и ни одну из них нельзя обвинить в приверженности сидячему образу жизни.
Исследователи отмечают, что древние индейцы пуэбло и алеуты предпочитали готовить пищу на огне в закрытых помещениях, что было сопряжено с постоянным вдыханием дыма. Это могло играть такую же роль в развитии атеросклероза, как сегодня курение сигарет. Но гораздо более важным фактором ученые считают интенсивную инфекционную нагрузку, которую испытывали все эти древние цивилизации. Даже в XX веке в племенах охотников-собирателей-огородников смертность от инфекций составляла 75 процентов, тогда как от старости умирали всего 10 процентов. Они пришли к выводу, что постоянные инфекционные атаки и хронические инфекции в былые времена способствовали перманентному воспалительному процессу, наблюдающемуся сегодня при ускоренном развитии атеросклероза у пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой – аутоиммунным заболеванием, которое затрагивает весь организм и может поражать сердце, суставы, печень, почки и нервную систему. Исследователи планируют проанализировать ДНК всех мумий и предполагают обнаружить варианты генов, отвечающие за формирование мощной провоспалительной иммунной системы, которая позволяет успешно справляться с инфекциями в молодом возрасте, но способствует развитию индуцируемых воспалением сердечно-сосудистых заболеваний в более позднем возрасте.
Создается впечатление, что атеросклероз может быть заболеванием, вызываемым разрегулированной и разбалансированной иммунной системой, патологией, которая была характерна для человечества во все времена, даже менее склонные к излишествам в еде, малоподвижному образу жизни и злоупотреблению табаком и алкоголем. Наши коронарные артерии всегда были особенно чувствительны к этому патологическому процессу. Но почему у нас вообще есть коронарные артерии, да еще и с таким «комплектом» специфических особенностей в придачу? Чтобы понять это, нам нужно совершить небольшую экскурсию в мир позвоночных животных и посмотреть на разные способы, которые изобрела эволюция для обеспечения адекватного кровоснабжения сердечных мышц.
Коллин Фармер, профессор биологии из Университета штата Юта, детально описала тот путь, которым шла эволюция, чтобы решить сложнейшую проблему снабжения сердца кислородом, начиная с предков позвоночных в докембрийский период 500 миллионов лет назад и заканчивая высшими позвоночными, такими как мы с вами. Наши древнейшие предки, объясняет она, были морскими сестонофагами, имевшими на поверхности скопления ресничек, которые использовались для захвата пищи. Эти реснички располагались в том месте, где впоследствии у рыб появились жабры. Дыхание осуществлялось через кожу. Сегодня у нас есть живой пример этих древних предков – примитивная личинка миноги. Ее простое сердце перекачивает кровь к ресничкам в глотке, после чего богатая питательными веществами кровь обтекает внутри все тело и выходит к поверхности кожи, где избавляется от углекислого газа и насыщается кислородом, прежде чем вернуться к сердцу. Таким образом, благодаря тому, что в системе кровообращения сердце располагается сразу после главного органа газообмена – кожи, – оно всегда получает кровь, богатую кислородом.
Но в процессе эволюции костных рыб жабры потеряли свою функцию фильтрующих механизмов кормления и адаптировались для газообмена. В результате, сердце стало располагаться выше по течению, чем источник свежего кислорода. Оно перекачивало несвежую кровь в жабры, которые наполняли ее кислородом, а затем отправляли дальше по всему телу. В результате, когда кровь возвращалась к сердцу, в ней почти не оставалось кислорода для самого сердца. Возможно, это не было большой проблемой для тех рыб, которые вели малоподвижный образ жизни, но многие костные рыбы эволюционировали в высокоактивных хищников. И такая система кровообращения была серьезным препятствием на пути к дальнейшей эволюции. Чем более активными становились жабернодышащие, тем больше кислорода забирали из крови их скелетные мышцы и тем более бедная кислородом кровь возвращалась к их сердцу именно тогда, когда оно нуждалось в кислороде больше всего. Что еще хуже, по пути кровь собирала продукты метаболизма и дыхательного обмена, повышавшие ее кислотность. Ацидоз снижал способность гемоглобина в крови абсорбировать кислород в жабрах. Общий эффект мог быть фатальным. Фармер отмечает, что летальный эффект интенсивной физической нагрузки до сих пор можно наблюдать у многих видов жабернодышащих рыб, включая треску, камбалу, линя, лосося, окуня, пикшу и форель. Вероятно, именно по этой причине некоторые рыбы, пойманные во время рыболовных турниров, не выживают, несмотря на отсутствие повреждений, – их организм попросту не выдерживает интенсивной борьбы на крючке. Таким образом, кислородное голодание сердца создавало сильнейшее давление отбора, заставляя эволюцию срочно найти способ решить эту проблему.
Фармер считает, что именно это привело к появлению у многих видов рыб такого органа, как легкие. Традиционно считается, что легкие возникли в результате адаптации жабернодышащих рыб к обитанию в мелководных морях, дельтах рек или пресноводных болотах с бедной кислородом водой. Легкие позволяли им подниматься над поверхностью и вдыхать воздух. Согласно общепринятой теории, появление легких стало первым шагом на пути к выходу древних земноводных на сушу. Фармер оспаривает это предположение, указывая на то, что группы ныне живущих рыб, наиболее близкие к последнему общему предку двух линий костных рыб, лопастеперых и лучеперых, имеют легкие. Этот общий предок жил не менее чем за 50 миллионов лет до появления первых земноводных. Кроме того, благодаря обнаружению новых окаменелых останков и увеличению наших знаний о среде обитании этих животных, становится ясно, что первые двоякодышащие рыбы жили в насыщенной кислородом воде открытых морей и океанов. Впоследствии легкие были унаследованы линиями костных рыб, ныне обитающими в пресноводных болотах, а вовсе не развились у них как механизм адаптации к жизни в условиях недостатка кислорода. То есть легкие были унаследованным, а не вновь приобретенным механизмом. Кроме того, установлено, что воды, в которых обитают австралийские рогозубы и другие современные виды двоякодышащих рыб, такие как гар (панцирные щуки) и боуфин (ильные рыбы), гораздо более богаты кислородом, чем считалось раньше, из чего следует, что недостаток кислорода в воде не был главным фактором давления отбора, приведшим к развитию легких.
Если посмотреть на анатомическое строение системы кровообращения типичной двоякодышащей рыбы, на первый взгляд она может показаться очень неэффективной. Сначала кровь перекачивается из сердца в жабры, где она избавляется от углекислого газа и насыщается кислородом. Далее часть крови отправляется в обход по телу, к тканям и органам, а часть перенаправляется к легким. Эта кровь возвращается напрямую к сердцу, где она смешивается с дезоксигенированной венозной кровью, обошедшей все тело. Затем цикл повторяется. Это означает, что системный кровоток, циркулирующий по телу, всегда представляет собой смесь богатой и бедной кислородом крови. Такая кажущаяся неэффективность имеет смысл только в том случае, объясняет Фармер, если легочное кровообращение специально развилось как способ снабжения сердца, а не тела. Чтобы найти подтверждение своей весьма необычной идеи, Фармер исследовала среду обитания и образ жизни многих видов двоякодышащих рыб и установила, что наличие легких практически не связано с жизнью в неглубоких, солоноватых и бедных кислородом водах, зато коррелирует с высокой физической активностью. Например, панцирная щука, относящаяся к «выжидающим» хищникам, в действительности является очень активно мигрирующей рыбой, тогда как два других вида двоякодышащих, боуфины и тарпоны, – высоко востребованные промысловые рыбы. По словам рыболовов, боуфин относится к числу самых «бойцовских» рыб, которые, попадая на крючок, оказывают яростное сопротивление.
Почему же тогда не у всех рыб имеются легкие? Большинство живущих сегодня рыб относятся к телеостам – костным рыбам, которые преобразовали свои легкие в плавательный пузырь, специальное приспособление для контроля плавучести, позволяющее им устойчиво плавать на любой глубине. Второй крупной группой современных рыб являются хрящевые рыбы, наиболее известные представители которых – акулы. У акул нет плавательного пузыря, поэтому их плавучесть обеспечивается огромной печенью, содержащей значительное количество более легкого, чем вода, вещества сквалена, и аэродинамической подъемной силой, которая создается в результате постоянного движения. Если акула перестанет двигаться, она тут же пойдет ко дну.
В отсутствие легких большинство существующих костных рыб и акул вернулись к жаберному дыханию, и тем не менее многие виды в процессе эволюции перешли к чрезвычайно активному образу жизни. Тут важно отметить, что у миног и многих видов рыб (а также у земноводных и многих рептилий) сердечная мышца, называемая миокардом, очень сильно отличается по своему анатомическому строению от сердечной мышцы высших позвоночных. Вместо плотной мышечной массы, образующей сердце млекопитающих и называемой компактным миокардом, сердце большинства низших позвоночных представляет собой рыхлую сеть из пучков мышечных волокон (трабекул), открытую в сторону сердечной полости, которая называется губчатым (некомпактным) миокардом. Таким образом, поступающая в камеры кровь может свободно течь по канальцам, называемым лакунами, и снабжать кислородом клетки сердечной мышцы. Но здесь есть одна проблема. Губчатая сердечная мышца, характерная для многих малоподвижных рыб и так изобретательно снабжаемая кислородом изнутри самого сердца, просто не способна обеспечить мощные мышечные сокращения, необходимые для адекватного кровообращения при более активном образе жизни. Чем более активным является вид, тем более компактной должна быть его сердечная мышца. Например, компактный миокард составляет всего 10 процентов сердечной мышцы у морской собаки (колючей акулы), от 30 до 40 процентов у форели и целых 60 процентов у очень подвижного тунца.
Как правило, мышца ближе к центру сердца, т. е. к желудочковой камере, сохраняет губчатую структуру и питается благодаря непосредственному прохождению через нее крови, несущей кислород. Но плотный миокард на периферии сердца теряет доступ к желудочковой крови. Таким образом, у этих видов впервые появляется система коронарных артерий, предназначенная для питания сердечной мышцы снаружи. Коронарные артерии рыб отличаются от коронарных артерий наземных позвоночных и в том числе млекопитающих тем, что они отходят от кровеносных сосудов, которые обслуживают жабры. Они увеличивают, но не полностью обеспечивают снабжение сердца кислородом. Только у очень активных рыб, таких как тунец и лосось, коронарное кровообращение, кажется, начинает играть жизненно важную роль, и, что интересно, мигрирующий атлантический и тихоокеанский лосось, как и мы, может страдать от атеросклероза! Тони Фаррелл из Университета Саймона Фрейзера в Канаде сообщил об обнаружении у лососей серьезных повреждений коронарных артерий. Эти повреждения появляются уже у мальков и прогрессируют с возрастом. Фаррелл предполагает, что начальным событием может быть физическое растяжение артерий во время интенсивного плавания. Поврежденные артерии могут ограничивать кровоснабжение сердца, особенно когда рыба вынуждена плыть против течения к нерестилищу в воде, все более бедной кислородом.
Сердце земноводных по внешнему виду напоминают те двудольные сердечки-валентинки, которые мы дарим друг другу на День святого Валентина. Их сердце состоит из двух предсердий – правого и левого – и одного общего желудочка, а сердечная мышца также представляет собой губчатый миокард. Идущая от тела венозная кровь поступает в сердце через правое предсердие, а идущая от легких артериальная кровь – через левое. Но поскольку существует только один желудочек, и венозная, и артериальная кровь поступают в него одновременно. Венозная кровь движется вдоль правой стороны желудочка, а артериальная кровь вдоль левой – как потоки машин на улице с двусторонним движением. Потоки крови более-менее придерживаются своей полосы движения и почти не смешиваются друг с другом. Они выходят из желудочка параллельно друг другу, после чего бедная кислородом венозная кровь направляется через легочную артерию в легкие, а богатая кислородом артериальная кровь – через аорту к органам тела. Это означает, что губчатый миокард на правой стороне сердца получает только бедную кислородом кровь. Судя по всему, эволюция постаралась компенсировать этот недостаток за счет развития у земноводных кожного дыхания, которое позволяет до некоторой степени обогащать кислородом возвращающуюся к сердцу кровь, что особенно важно в моменты высокой активности.
У всех рептилий, кроме крокодилов, сердце также имеет трехкамерное строение. У них есть левое и правое предсердия и один желудочек, снабженный двумя не соединяющимися между собой внутренними перегородками, или септами. Несмотря на неполную перегородку, сердцу рептилий удается перекачивать венозную и артериальную кровь фактически раздельно, через правую и левую половину желудочка соответственно, поэтому факт существования неполной перегородки всегда рассматривался специалистами по сравнительной анатомии снисходительно, как примитивный признак – или, если хотите, как промежуточный этап на эволюционном пути к более эффективным сердцам млекопитающих. Но Коллин Фармер считает иначе. Если бы в желудочке не происходило частичного смешивания венозной и артериальной крови, губчатый миокард на правой стороне сердца был бы полностью лишен доступа к богатой кислородом крови из легких и был бы вынужден довольствоваться только бедной кислородом кровью, возвращающейся от тела. В течение тех периодов, когда рептилии ведут активный образ жизни и, следовательно, правая сторона их сердца подвергается повышенному стрессу, они могут перенаправлять больше богатой кислородом крови через отверстие в перегородке из левой половины желудочка в правую и, таким образом, улучшать снабжение кислородом губчатого миокарда с правой стороны. Хотя такое перераспределение неизбежно лишает какой-то части кислорода остальные органы и ткани, оно обеспечивает нормальное функционирование самого важного органа – сердца. Следовательно, неполная перегородка является не столько примитивной эволюционной недоработкой, сколько адаптационным механизмом, который успешно служит рептилиям вот уже сотни миллионов лет.
С появлением крокодилов, птиц и млекопитающих возникают полноценные четырехкамерные сердца. Благодаря полному разделению малого (легочного) и большого (системного) круга кровообращения стало возможным значительно увеличить давление в большом круге кровообращения, чтобы удовлетворить растущие потребности в энергии этих высокоактивных животных. В то же время это позволило снизить давление в малом круге кровообращения, чтобы избежать повреждения мелких капилляров легких. Однако платой за такую конструкцию стало то, что правая сторона сердца полностью лишилась доступа к богатой кислородом крови. Более того, такое сердце полностью образовано компактным миокардом, непроницаемым для циркулирующей через сердечные камеры крови. В результате, хотя сердце и превратилось в очень мощный и эффективный орган, само оно отныне стало всецело зависеть от внешнего кровоснабжения, обеспечиваемого сетью коронарных (венечных) артерий.
Используя накопленные знания в таких областях, как эволюция системы кровообращения позвоночных, эволюции иммунной системы, биология развития, исследователи-кардиологи предлагают нам все новые медицинские технологии восстановления повреждений сердца. Эти технологии варьируются от довольно странных до весьма изощренных. В 1960-х годах индийский кардиохирург Профулла Кумар Сен предложил оригинальный метод восстановления кровоснабжения сердечной мышцы через крошечные канальца, проделанные путем прокалывания сердечной стенки при помощи акупунктурных игл. На эту идею его натолкнуло изучение строения сердца гадюки Рассела – при вскрытии их сердца буквально сочатся кровью, наполняющей лакуны губчатого миокарда. Сен дал этой процедуре звучное название – «Змеиное сердце». Его идея была подхвачена и усовершенствована американскими кардиологами, в том числе знаменитым Дентоном Кули из Техасского кардиологического института. При помощи 800-ваттного углекислотного лазера кардиохирурги проделывали множество отверстий напрямую сквозь поврежденный участок миокарда. Вскоре с внешней стороны сердца эти отверстия затягивались и заживали, оставляя в сердечной мышце множество канальцев, открывающихся в полость желудочков. Кровь проталкивалась по этим канальцам под действием давления в желудочках. Было проведено несколько испытаний, которые продемонстрировали некоторое облегчение симптомов стенокардии у пациентов после операции – хотя это могло быть связано и с эффектом плацебо. Как именно этот метод улучшает кровоток по сердечной мышце – если он вообще его улучшает – не установлено. Неудивительно, что эта технология не получила широкого распространения.
Совсем недавно ученые-медики разумно предположили, что, если атеросклероз является в своей основе иммунным явлением, от него можно создать какую-либо вакцину. У истоков этих исследований стоит Йёран Ханссон. Вакцины работают путем распознавания чужеродных белков, называемых антигенами, которые представлены на поверхности вирусов. При прогрессировании атеросклероза Т-клетки иммунной системы распознают антигены, представленные на поверхности «плохого» холестерина ЛПНП, и атакуют его. Это и приводит к неконтролируемой воспалительной реакции. Пока ЛПНП находятся в пределах крови, печени и лимфы, иммунная система удерживает Т-клетки от чрезмерного реагирования, но как только они проникают в эндотелий и стенку артерии, иммунная система считает, что они пересекли черту, и напускает на них своих агентов. Ханссон и его коллеги предположили, что, если научиться блокировать – при помощи вакцины – рецепторные молекулы, используемые Т-клетками для распознавания ЛПНП, можно остановить неконтролируемый иммунный ответ. В первых экспериментах на мышах с индуцированным атеросклерозом им удалось уменьшить признаки болезни на 70 процентов. Теперь они работают над тем, чтобы адаптировать этот метод для лечения людей.
Как мы узнали в главе о «старых друзьях», существует особая субпопуляция Т-клеток, называемых регуляторными Т-клетками или Т-регуляторами, которые способны смягчать иммунный ответ. Именно этот механизм задействуют «дружественные» бактерии в наших кишечниках, чтобы предотвратить чрезмерную реакцию на них иммунной системы хозяина. Эти Т-регуляторы помогают предотвратить широкий спектр аллергических и аутоиммунных заболеваний путем ингибирования неконтролируемого производства вызывающих их иммунных агентов – Т-хелперов 1 и Т-хелперов 2. Йёран Ханссон и его коллеги из Европейской сети сосудистой геномики (European Vascular Genomics Network) в Париже показали, что точно так же, как Т-регуляторы, могут ингибировать аллергические и аутоиммунные заболевания, они могут ингибировать и рост атеросклеротических бляшек. Они вводили Т-регуляторы мышам с индуцированными атеросклеротическими повреждениями и обнаружили, что это позволяет остановить развитие атеросклероза в самом начале, но, когда они добавляли антитела, блокирующие действие Т-регуляторов, у мышей развивались еще более сильные повреждения.
Пожалуй, самым известным и успешным приверженцем идеи о ключевой роли воспаления в развитии сердечно-сосудистых заболеваний является Пол Ридкер из Гарвардской медицинской школы. Ридкер указывает на то, что еще более полувека назад медицинское сообщество заинтересовалось ролью воспаления, но затем полностью переключило свое внимание на холестериновую гипотезу и исследование роли липидов в крови, в частности, плохого холестерина ЛПНП. Теперь феномен воспаления вновь возвращается на сцену и обещает помочь нам разработать мощный профилактический подход к коронарной болезни сердца. Отправной точкой для Ридкера стало наблюдение, что количество жертв инсульта и инфаркта с нормальным уровнем холестерина слишком велико для того, чтобы признавать холестерин главным фактором риска, и его усилия на протяжении последних двух десятилетий были сосредоточены на том, чтобы найти более надежные маркеры и предикторы заболеваний сердца и сосудов.
Ридкер показал, что у всех пациентов с высоким риском коронарной (ишемической) болезни сердца наблюдаются повышенные уровни типичных провоспалительных цитокинов, причастных к развитию аутоиммунных и аллергических заболеваний, таких как интерлейкин 6 и фактор некроза опухоли альфа. Однако лабораторный анализ крови на содержание этих веществ довольно дорогостоящий. Нужно было найти такую маркерную молекулу, которая позволяла бы точно предсказать риск, но при этом ее уровень можно было бы легко измерить при помощи стандартного анализа крови. Этой молекулой оказался С-реактивный белок. Благодаря Ридкеру и его коллегам теперь мы знаем, что C-реактивный белок прогнозирует риск сердечного приступа гораздо лучше, чем ЛПНП, а также позволяет предсказать будущие инсульты и инфаркты у мужчин без сердечно-сосудистых заболеваний в прошлом и у кажущихся здоровыми женщин среднего возраста. Для снижения уровня холестерина в крови врачи стандартно назначают пациентам статины, но Ридкер показал, что они также являются мощными противовоспалительными агентами, снижающими уровень циркулирующего С-реактивного белка. Тем не менее пока окончательно не доказано, что последовательное снижение уровня С-реактивного белка в крови позволяет спасать людям жизнь, и в настоящее время эта гипотеза тестируется в рамках двух широкомасштабных испытаний, проводящихся в Соединенных Штатах, которые должны представить отчеты о результатах в 2018 году.
Но даже если мы в скором времени научимся предсказывать риск инфарктов и лечить атеросклеротические повреждения артерий, для сотен тысяч человек ежегодно эти меры будут запоздалыми. Если инфаркт уже произошел, сердечная мышца получает обширные необратимые повреждения. Наши сердца содержат примерно 4 миллиарда мышечных клеток, называемых кардиомиоцитами, и острый инфаркт миокарда может убить по крайней мере четверть из них в течение нескольких часов. Последующее рубцевание сердечной ткани, возникновение очагов некроза (больших участков мертвой или отмирающей сердечной мышцы) и постепенное выпячивание ослабленных стенок сердечной мышцы неизбежно ставят многих пациентов на путь, ведущий к полной сердечной недостаточности, несмотря на срочное медицинское вмешательство. В таких крайних случаях единственным решением является трансплантация сердца, но донорские сердца всегда были и будут в дефиците. Вот почему в последнее десятилетие большие группы исследователей в области регенеративной медицины обратились к различным клеточным технологиям в надежде разработать методы терапии, позволяющие заменять погибшие кардиомиоциты новыми. Главная цель регенеративной медицины сердца – найти такой тип стволовых клеток, которые можно вводить непосредственно в поврежденное сердце либо сразу после инфаркта, когда пациент находится в реанимации, либо намного позже, когда человек уже много лет живет с деградирующим сердцем.
Согласно Джошуа Хайру, профессору кардиологии из Университета Майами, все исследователи в этой области делятся на два больших лагеря в зависимости от того, придерживаются ли они оптимистичного или пессимистичного взгляда на способность сердца к самовосстановлению путем регенерации клеток сердечной мышцы. Первый лагерь ищет способы, как заставить сердце отремонтировать самого себя, тогда как второй считает, что сердце не обладает достаточной способностью к саморегенерации, поэтому ему на помощь должны прийти технологии на основе стволовых клеток.
На эмблеме Британского кардиологического фонда, являющегося на сегодняшний день крупнейшим спонсором кардиологических исследований в Великобритании, изображена рыба-зебра. Эта скромная рыбка произвела настоящую сенсацию в научном мире благодаря своей уникальной способности спонтанно регенерировать клетки сердечной мышцы после катастрофических повреждений. В ходе эксперимента исследователи удалили у рыбы-зебры 20 процентов желудочка, отрезав его верхушку. Вскоре над областью ампутации образовался сгусток из фибрина и коллагена, и через несколько дней исследователи заметили признаки регенерации кардиомиоцитов по всему сердцу. При этом процесс регенерации обеспечивался не за счет внезапной активации некоего присутствующего в сердечной мышце пула недифференцированных стволовых клеток, а за счет зрелых кардиомиоцитов, которые принялись в массовом порядке дедифференцироваться и возвращаться к незрелому состоянию. Сначала кардиомиоциты отделились друг от друга, после чего разрушили свои внутриклеточные сократительные элементы – саркомеры. Затем эти клетки начали делиться и произвели несколько поколений дочерних клеток, которые далее быстро дифференцировались в новые клетки сердечной мышцы. Разумеется, этот регенеративный процесс не ограничивается только сердцем и распространяется на многие другие органы и ткани, в чем рыбы-зебры схожи с тритонами и саламандрами.
Высшие позвоночные в значительной степени утратили эту регенеративную способность. Детеныши мышей способны восстанавливать поврежденное сердце, но только в течение примерно первых семи дней жизни. После этого происходит рубцевание ткани, и повреждения становятся перманентными. Но почему люди не способны делать то, что может делать рыба-зебра? Ученые, ломающие голову над загадкой регенерации, обнаружили ряд генетических путей, которые отключены у высших позвоночных – и, вероятно, по весомым эволюционным причинам. Вполне возможно, что долгоживущие животные, наподобие нас с вами, сталкивались бы с куда более высоким риском развития рака, если бы наши клетки сохраняли способность делиться до бесконечности.
На протяжении многих лет человеческое сердце считалось «постмитотическим» органом, потому что оно не способно заменять старые или поврежденные клетки путем клеточного деления. Но в последнее время было установлено, что обновление кардиомиоцитов все же происходит. В течение жизни у нас в общей сложности заменяется до 50 процентов – 2 миллиардов – клеток сердечной мышцы. В настоящее время исследователи не знают, происходит ли регенерация за счет зрелых кардиомиоцитов или же за счет некоего пула клеток-предшественников кардиомиоцитов, находящихся в сердце в ожидании активации, хотя большинство исследователей склоняются в пользу последнего варианта. Важный вопрос состоит в том, можно ли каким-то образом задействовать этот очень медленный механизм обновления кардиомиоцитов для оказания экстренной помощи при инфарктах миокарда, когда необходимо как можно быстрее заменить до 2 миллиардов клеток сердечной мышцы.
Исходя из предположения, что любая скромная регенерации будет сведена на нет инфарктом миокарда, несколько групп исследователей в настоящее время пытаются разработать хитрые способы производства функциональных кардиомиоцитов из широкого спектра клеток. В идеале выбор автоматически падает на эмбриональные стволовые клетки, которые обладают подлинной тотипотентностью и могут быть дифференцированы в любые типы клеток в организме. Но здесь существует ряд серьезных препятствий. Во-первых, поскольку эмбриональные стволовые клетки берутся у пятидневного человеческого эмбриона, их использование вызывает серьезнейшую озабоченность этического и религиозного характера, особенно в Соединенных Штатах. Во-вторых, так как эти клетки являются чужеродными для организма пациента, они неизменно будут вызывать иммунное отторжение, как и любой другой трансплантат, что потребует подавления этой реакции. В-третьих, несмотря на достигнутый прогресс, эмбриональные стволовые клетки очень трудно держать в узде – т. е. вырастить много поколений стволовых клеток, чтобы получить достаточное их количество, и при этом не дать им сбиться с пути, ведущего к образованию конкретного типа специализированных дифференцированных клеток. Кроме того, эти клетки демонстрируют тревожную склонность к образованию тератом после их введения в ткань хозяина. Тератомы – это специфические инкапсулированные опухоли, которые, несмотря на свою доброкачественность, становятся досадной помехой, поскольку могут содержать нежелательные включения элементов глаз, зубов или других органов, отражающих весь спектр возможных путей развития эмбриональных клеток.
Из-за этих ограничений исследователи сосредоточили свое внимание на других типах стволовых клеток, находящихся в собственном теле пациента. Например, таких как индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Эти клетки могут быть получены из слизистой оболочки ротовой полости или даже из волос и затем путем введения определенных генов перепрограммированы в плюрипотентное состояние (состояние, в котором клетки обладают более ограниченным дифференцирующим потенциалом, чем тотипотентные эмбриональные стволовые клетки). Исследования в клеточных культурах и на животных моделях показали, что эти клетки могут превращаться в функционирующие кардиомиоциты. Например, Лиор Гепстейн и его коллеги из Техниона – Израильского технологического института – осуществили следующий эксперимент: они взяли клетки кожи, называемые фибробластами, у пациентов с сердечной недостаточностью и при помощи вирусного вектора доставили в их ядра три дополнительных гена, отвечающих за выработку транскрипционных факторов. Это позволило перепрограммировать клетки, которые затем были индуцированы к дифференцированию в кардиомиоциты. Когда исследователи смешали эти новые кардиомиоциты с клетками сердечной мышцы новорожденной крысы, те успешно интегрировались с клетками крысы и синхронизировали с ними свою электрическую активность, так что все клетки стали сокращаться в унисон. Разумеется, пока подобные эксперименты проводятся только в клеточных культурах, и могут пройти годы, прежде чем они достигнут этапа клинических испытаний на людях. Но важное преимущество этого направления исследований состоит в том, что пожилые и больные люди могут получить возможность «ремонтировать» свои немощные сердца при помощи собственных перепрограммированных клеток кожи. И, хотя манипуляции по выращиванию новой популяции кардиомиоцитов будут занимать несколько недель, для несчастных страдальцев, живущих с больным сердцем многие годы, десять недель – не критичный срок. Между тем исследователи Дипак Шривастава и его коллеги из Институтов Гладстоуна в Сан-Франциско пошли еще дальше, но пока только на мышиной модели. Они сумели перепрограммировать сердечные фибробласты (представляющие 50 процентов всех клеток сердца) непосредственно в кардиомиоциты, также путем включения в них трех дополнительных генов.
Альтернативная точка зрения, состоящая в том, что в сердце можно запустить процесс самоисцеления, опирается на два удивительных открытия из области трансплантологии. Было установлено, что мужчины, которым было пересажено женское сердце, где все клетки содержали женские хромосомы XX, со временем приобретали какое-то количество клеток, несущих мужскую Y-хромосому. И наоборот, у женщин, которым был пересажен мужской костный мозг, через некоторое время обнаруживались кардиомиоциты с мужской Y-хромосомой. Оба этих взаимосвязанных открытия предполагают, что костный мозг может быть отправной точкой восстановления сердца: именно в костном мозге продуцируется определенный тип клеток, которые транспортируются вместе с кровью в сердце и там преобразуются в кардиомиоциты. В нашем костном мозге содержится несколько разных линий стволовых клеток. Там есть гематопоэтические стволовые клетки, которые, как правило, превращаются в красные кровяные клетки, лимфоциты и макрофаги; мезенхимальные стволовые клетки, которые обычно дифференцируются в костные и жировые клетки; и эндотелиальные клетки-предшественники, которые образуют стенки кровеносных сосудов. В свете этих открытий в настоящее время проводится ряд клинических исследований на людях, в ходе которых пациентам вводятся стволовые клетки костного мозга в сердечную мышцу в надежде запустить процесс саморегенерации.
Например, исследователи из Университетского колледжа Лондона, Госпиталя Бартс и Лондонского Фонда Национальной службы здравоохранения начали клиническое испытание под названием REGENERATE-IHD, чтобы протестировать метод терапии с использованием стволовых клеток костного мозга на пациентах, которым бессильна помочь современная кардиология. После обширного инфаркта сердце пытается компенсировать потерю значительной части сердечной мышцы. В тщетной попытке сохранить прежний ударный объем и силу оно расширяется, и его стенки становятся более тонкими. Кардиологи часто сравнивают такое сердце с мячом для регби, раздувшимся в некое подобие футбольного мяча. У пациентов увеличивается слабость и одышка, а ноги отекают из-за задержки жидкости. Назначаемый им коктейль лекарств позволяет лишь на какое-то время отсрочить неизбежное. Как замечает Энтони Матур, руководитель вышеуказанного клинического испытания: «Как правило, когда людям сообщают о том, что у них рак, они спрашивают у врача: "Сколько мне осталось?" Но сообщение о том, что у него больное сердце, мало кто воспринимает как приговор, и люди обычно спрашивают: "Какие препараты и методы лечения вы можете предложить, чтобы позволить мне жить прежней нормальной жизнью?" Проблема в том, что многие пациенты с сердечной недостаточностью сегодня живут меньше, чем онкологические больные. Ситуация изменилась».
Данкан Чизхолм и Питер Берри стали двумя пациентами с терминальной стадией сердечной недостаточности, отобранными для этого клинического исследования. Треть пациентов составляла контрольную группу, т. е. не подвергалась никакому вмешательству, а другие две трети получали экспериментальную терапию. В течение пяти дней в стенку желудка им вводился гормон – гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ), чтобы стимулировать выработку стволовых клеток в костном мозге. Г-КСФ также заставляет стволовые клетки мигрировать в кровеносное русло и циркулировать по телу, неизбежно попадая в сердце. Затем экспериментальную группу разделили на три части: члены первой группы получали только Г-КСФ, чтобы узнать, может ли этот гормон сам по себе запустить регенерацию сердца; членам второй группы клетки костного мозга были введены в коронарную артерию, откуда они должны были попасть в сердце; а членам третьей группы эти клетки были введены непосредственно в стенку сердца. Питера предупредили о том, что аспирация костного мозга – не очень приятная процедура. «Люди сказали мне, что забор костного мозга – это одно из самых болезненных вмешательств, которое только может быть. Я приготовился терпеть боль! Я из тех людей, которые хотят точно знать, что с ними будут делать и какими инструментами. Одна из медсестер показала мне массивную иглу – толщиной с хорошую отвертку! – и сказала: "Это мы введем в вашу кость". Но я ничего не почувствовал!»
Аспираты костного мозга были отправлены в лабораторию, где их очистили от костных фрагментов, которые могли попасть туда при проколе кости иглой, а также от красных клеток крови, так что в конечном итоге остался экстракт из белых кровяных клеток и нескольких видов стволовых клеток. Исследователи не пытались каким-либо образом рассортировать стволовые клетки. Стволовые клетки различаются между собой по белковым маркерам, представленным на их поверхности, но Матур утверждает, что практически невозможно отобрать конкретный тип стволовых клеток на основе того или иного белкового маркера, поскольку со временем клетки меняют способ экспрессии этих маркеров. Такой отбор может привести к искаженным результатам. Поэтому лондонская команда решила использовать коктейль из стволовых клеток. Очищенный экстракт стволовых клеток доставлялся к сердцу пациента через катетер, введенный через отверстие в бедренной артерии в паху. Хотя Данкан и Питер в то время об этом не знали, они были в числе пациентов, которым клетки их костного мозга вводили прямо в сердце.
«Через шесть-семь недель после этой процедуры мне все стали говорить: "Ты отлично выглядишь! У тебя улучшился цвет лица и даже пропала одышка!"» – вспоминает Питер. Жена Данкана, Расти, также заметила изменения: «Раньше Данкан вставал по утрам, делал себе чай и снова ложился. Но примерно через два месяца он встал, сделал чай и не вернулся в постель! А еще через две или три недели он без одышки поднялся по лестнице. Постепенно он мог делать все больше и больше!»
Согласно Матуру, инъекции костного мозга дают вполне реальный положительный эффект. Проблема в том, что исследователи пока не знают, почему это происходит. Один из классических способов, при помощи которого кардиологи проверяют эффективность работы сердца, – измерение фракции выброса, т. е. того, какую долю крови левый желудочек выталкивает в аорту при каждом сокращении. Однако у пациентов Матура этот показатель практически не улучшился. МРТ-обследование в режиме реального времени также не позволило обнаружить видимых анатомических улучшений в сердечной мышце. К сожалению, в отсутствие подобного положительного подтверждения результатов любые клинические испытания считаются неудачными.
Но факт остается фактом: некоторые пациенты Матура наслаждаются реальным улучшением качества жизни. Так почему же это происходит? Либо это объясняется эффектом плацебо, говорит Матур, либо инъекции стволовых клеток производят в сердце некий положительный метаболический эффект, который еще предстоит изучить. Это может быть химический паракринный эффект, состоящий в том, что стволовые клетки выделяют коктейль из хемокинов и цитокинов, которые либо стимулируют сократительную способность остатков функциональной сердечной мышцы, либо каким-то образом способствуют процессу их восстановления. Или эти инъекции могут пробуждать находящиеся в сердце популяции стволовые клетки или клетки-предшественники, которые начинают производить новые кровеносные сосуды и некоторое количество кардиомиоцитов. В настоящее время Матур совместно с исследователями из кардиологических центров в Швейцарии и Дании проводит второе клиническое исследование под названием REGENERATE-AMI, которое стартовало в 2008 году. Когда пациент с инфарктом миокарда поступает в одну из больниц, участвующих в этом исследовании, у него с его согласия берется проба костного мозга, и через несколько часов после того, как его коронарная артерия открывается при помощи ангиопластики, коктейль из стволовых клеток костного мозга вводится в его сердце.
В Университете Майами Джошуа Хайр также пытается подтолкнуть поврежденное сердце встать на путь самоисцеления. По-американски щедрый исследовательский бюджет позволил ему провести всю серию доклинических исследований на свиньях, которые физиологически гораздо ближе к человеку, чем мыши. Исследования стволовых клеток всегда сдерживались тем досадным фактом, что многообещающие результаты на животных моделях очень плохо переносятся на людей. Хайр сосредоточил свое внимание на одной линии стволовых клеток костного мозга – мезенхимальных стволовых клетках. Исследователи вызывали у свиней инфаркт миокарда, после чего вводили им в общей сложности 200 миллионов мезенхимальных стволовых клеток непосредственно в сердечную мышцу в зону, граничащую с очагом омертвения. В результате этой процедуры у свиней не только улучшался показатель фракции выброса, что свидетельствовало о том, что их левый желудочек становился сильнее, но и, что гораздо интереснее, происходило фактическое уменьшение размера очага омертвения и расширения желудочка. Кроме того, инъекции мезенхимальных клеток, кажется, пробуждали от спячки небольшую резидентную популяцию кардиальных клеток-предшественников. Исследователи зафиксировали двадцатикратное увеличение активности трансформации резидентных клеток-предшественников в новые кардиомиоциты и кровеносные сосуды. Первые клинические испытания на людях дали в равной степени обнадеживающие результаты. Относительные эффекты, полученные при введении мезенхимальных стволовых клеток, сопоставимы с эффектами, полученными лондонскими исследователями, использовавшими коктейль из стволовых клеток. Более того, Хайру и его команде удалось добиться 50-процентного уменьшения рубцовой ткани.
Случай Барри Брауна по любым меркам может служить примером впечатляющего успеха – и самой громкой рекламой – технологии Хайра. Всю свою жизнь Барри был инструктором по фитнесу, сначала в американской армии, затем в школах Майами и, наконец, в своем собственном фитнес-клубе. Но в 2007 году, когда ему было всего тридцать восемь лет, у него начались серьезные проблемы. После двадцати минут занятий на беговой дорожке у него начиналась ужасная одышка и боль в груди. Обследование показало, что три ветви его коронарной артерии заблокированы, что снижало его сердечную функцию на колоссальную величину – 70 процентов. Врачи сказали, что ему срочно требуется тройное коронарное шунтирование, и спросили, не хочет ли он стать участником одного из клинических испытаний Хайра под названием PROMETHEUS («Прометей»), состоящего в том, что во время операции пациенту непосредственно в сердце вводятся мезенхимальные стволовые клетки. Четыре года спустя, после долгого и упорного восстановления, Барри пробежал полумарафон. Теперь он знает, что он не был в группе плацебо и ему были введены стволовые клетки, и нисколько не удивлен результатом. «Я буквально чувствую, как мое сердце восстанавливается и становится все сильнее», – говорит он.
Одно из главных практических препятствий к внедрению любой технологии лечения сердца с использованием стволовых клеток – ее стоимость. Если брать стволовые клетки, очищать их и выращивать in vitro в индивидуальном порядке для каждого пациента, стоимость этой процедуры будет непомерной, особенно с учетом того, что на данный момент она позволяет добиться весьма скромного улучшения сердечных функций (Барри Браун пока скорее исключение, чем правило). Но затраты можно существенно сократить, если поставить этот процесс на промышленные рельсы – т. е. наладить очистку мезенхимальных стволовых клеток, полученных от человеческих доноров, и создать таким образом банк клеток, всегда готовых для использования. Но будут ли эти «промышленные» стволовые клетки такими же безопасными и эффективными, как собственные клетки пациента? В настоящее время Хайр проводит испытание, цель которого – сравнить аутологичные мезенхимальные клетки (полученные из тела самого пациента) с аллогенными стволовыми клетками (полученными от донора). Первый этап испытаний на небольшой группе пациентов показал, что аллогенные клетки безопасны и не отторгаются иммунной системой реципиента. Разумеется, необходимы более широкомасштабные испытания, чтобы доказать, что аллогенные клетки эквиваленты по своему действию и эффективности аутологичным клеткам, хотя полученные на сегодня данные свидетельствуют о том, что терапия и собственными, и донорскими клетками приводит к уменьшению размера сердца, сокращению объема рубцовой ткани, увеличению сократительной способности левого желудочка и в целом к повышению качества жизни у пациентов, даже у тех, которые жили с поврежденным сердцем несколько десятилетий. «Среди участников нашего исследования есть люди, перенесшие инфаркт миокарда лет тридцать назад, – говорит Хайр. – Многие имеют терминальную стадию сердечной недостаточности с выраженным фиброзом и ремоделированием сердечной мышцы. Некоторым из них больше семидесяти, иногда даже восьмидесяти лет, и все они положительно реагируют на мезенхимальные клетки».
Продолжая развивать свою технологию, Хайр выдвинул еще более захватывающую идею: что если научиться брать из сердца непосредственно предшественников кардиальных клеток, выращивать их in vitro и вводить обратно на место инфаркта вместе с мезенхимальными стволовыми клетками? Чтобы протестировать эту идею, он вернулся к испытаниям на свиньях и обнаружил, что инъекция двух типов клеток позволяет добиться двукратного уменьшения объема инфаркта. Однако тут встает вопрос, какую именно роль играют во всем этом мезенхимальные клетки? Хайр уверен, что однозначного ответа на этот вопрос нет. «Десять лет назад все считали, что нам нужно найти клетки, способные создавать новые кардиомиоциты, – объясняет он. – Это был основной аргумент, почему предпочтительно использовать эмбриональные стволовые клетки и почему они будут работать лучше всего. Теперь мы стали лучше понимать многофакторную природу этого процесса, поскольку исследования мезенхимальных стволовых клеток показали, что даже клетки с относительно низким дифференцирующим потенциалом, не нулевым, но очень низким, могут быть очень эффективными».
Хотя на настоящий момент нет убедительных доказательств того, что мезенхимальные стволовые клетки могут естественным образом превращаться в кардиомиоциты, Хайр считает, что они в любом случае оказывают выраженный положительный паракринный эффект, поскольку секретируемые ими вещества предположительно стимулируют дифференциацию кардиомиоцитов и рост новых кровеносных сосудов и способствуют уменьшению объема фиброзной (рубцовой) ткани. «На мой взгляд, тут происходит образование ниш кардиальных стволовых клеток, – говорит Хайр. – Другими словами, здесь требуется целая колония клеток, а не отдельные клетки. Чтобы создать новый участок миокарда, нужна согласованная работа многих клеток, и эти клетки формируют ниши, тканевые кластеры, которые обладают текущей регенеративной способностью. Вот почему, когда мы объединяем кардиальные клетки-предшественники с мезенхимальными клетками, мы получаем гораздо лучший восстановительный эффект – мы просто снабжаем эти регенеративные ниши дополнительными элементами».
Спор по поводу результатов одного недавно проведенного исследования, кажется, подтверждает правомерность принятого Хайром подхода – стимулирования собственных предшественников кардиальных клеток, находящихся в сердце. Спор возник в связи с результатами совместного клинического испытания, проведенного исследователями из Университета Луисвилля и Гарвардской медицинской школы, которые использовали небольшую резидентную популяцию кардиальных клеток-предшественников, называемых клетками C-kit+, потому что они несут на своей поверхности маркерный белок C-kit. Оригинальное исследование было проведено на мышах в лаборатории Пьеро Анверса в Гарвардской медицинской школе, а затем эта технология была перенесена на людей в рамках клинического испытания SCIPIO, возглавляемого Роберто Болли из Университета Луисвилля. Майк Джонс был типичным добровольным участником. Он жил с застойной сердечной недостаточностью в течение многих лет и стал одним из двадцати отобранных для участия в эксперименте пациентов. Он вспоминает, как однажды пошел в ближайший супермаркет за продуктами и заметил на полке местную газету с передовицей, в которой рассказывалось о клиническом испытании под руководством Болли. Спустя четыре года после лечения он утверждает, что его жизнь невероятно изменилась.
Клетки C-kit+, которые использовались в исследовании, брались из сердца пациентов во время плановых операций коронарного шунтирования. Затем клеточная популяция выращивалась in vitro до 1 миллиона клеток и вводилась обратно в сердце в пораженный инфарктом участок. Результаты показали, что это приводило к уменьшению рубцевания ткани и увеличению фракции выброса примерно на 12 процентов в течение первого года. Однако результаты этого совместного исследования были подвергнуты сомнению, Гарвардский университет потребовал отозвать отчет Пьеро Анверса, и в связи с некоторыми аспектами отчета по результатам испытания SCIPIO также была выражена серьезная озабоченность.
Пол Райли из Оксфордского университета (Великобритания) решил попробовать разбудить резидентные клетки-предшественники в сердце другим путем. Его группа сосредоточилась на проблеме выращивания новых кровеносных сосудов в сердце после инфаркта. Изучая сердце мышей, исследователи обнаружили в наружной оболочке сердечной мышцы, называемой эпикардом, небольшую популяцию клеток-предшественников, которые они сочли предшественниками коронарных сосудов. Когда они примировали эти клетки в чашке Петри при помощи белка тимозина В4 и исследовали все разнообразие получившихся клеток, они заметили, что некоторые из них обладают определенным сходством с клетками сердечной мышцы, кардиомиоцитами. Возможно, предположили они, найденные кардиальные клетки-предшественники являются источником не только новых коронарных артерий, но и клеток сердечной мышцы? Когда они примировали тимозином В4 эти клетки-предшественники у живых мышей, у них активировался классический эпикардиальный маркерный ген под названием Wt1. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы запустить их дифференциацию. После многочисленных попыток исследователи установили, что процесс начинается только в том случае, если происходит реальное повреждение сердца. Когда это происходило, клетки начинали дифференцироваться в кардиомиоциты и мигрировать к месту повреждения, где они прикреплялись к оставшимся функциональным кардиомиоцитам и образовывали с ними полноценные электрические связи.
Но каково происхождение клеток-предшественников, найденных командой Райли? Некоторые исследователи предполагают, что они образуются не в сердце, а в костном мозге, и мигрируют по кровеносному руслу к поврежденному сердцу, где либо дифференцируются в клетки сердечной мышцы, либо помогают это делать другим клеткам. Райли не согласен с этим предположением. Он отмечает, что эти клетки-предшественники в большом количестве обнаруживаются в биопсических пробах, взятых из стенки правого предсердия у людей. Неудивительно, что его внимание немедленно привлекло скрупулезное исследование Кристи Редхорс из Стэнфордского университета, доказывающее эмбриональное происхождение коронарных артерий. Согласно Райли, с того момента, как Леонардо да Винчи нарисовал сердце и его систему кровеносных сосудов, считалось, что коронарные артерии «отпочковываются» от аорты рядом с тем местом, где она выходит из желудочка, и затем разветвляются по поверхности сердца: другими словами, что коронарные артерии имеют артериальное происхождение. Оказалось, что это совершенно не так, и это открытие может иметь важнейшее клиническое значение для операций коронарного шунтирования.
Редхорс убедительно доказала, что клетки, образующие внутреннюю выстилку коронарных артерий, происходят не из артериальной ткани, а из большой эмбриональной вены, венозной пазухи, через которую венозная кровь поступает в эмбриональное сердце. Когда эти клетки начинают мигрировать к поверхности сердца, при помощи регулярных химических сигналов их направляют в нужное место, а также заставляют постепенно дедифференцироваться из состояния венозных клеток и повторно дифференцироваться в артериальные клетки. Достигнув сердца, часть клеток проникает через эпикард в нижележащий слой миокарда и завершает дифференциацию, образуя коронарные артерии, а те, которые остаются на поверхности или вблизи нее, образуют сердечные вены. Таким образом, создается система коронарного кровообращения. Клетки мигрируют к аорте, где они «врезаются» в эту трубу, чтобы подсоединиться к системе высокого давления, несущей богатую кислородом кровь.
Редхорс считает, что ее открытие может оказаться очень важным в контексте восстановления сердца. Бóльшая часть неудач при коронарном шунтировании связана с тем фактом, что для этой операции используются вены. Понимание биохимических процессов, управляющих дедифференциациацией и перепрограммированием венозных клеток, может привести к созданию новой регенеративной технологии, позволяющей стимулировать образование новой коронарной артерии непосредственно на месте, или новых технологий тканевой инженерии, которые позволят выращивать участки коронарных артерий вне тела пациента и затем трансплантировать их в нужное место. Однако интерес Райли к исследованию Редхорс в первую очередь вызван тем фактом, что правое предсердие, где он нашел особенно богатые анклавы кардиальных клеток-предшественников, является зрелым эквивалентом эмбриональной венозной пазухи в том месте, где она соединяется с развивающимся сердцем. Не может ли обнаруженная им популяция кардиальных клеток-предшественников и венозные клетки Редхорс быть одним и тем же? Другими словами, не может ли эта популяция представлять собой пул сохранившихся дедифференцированных венозных клеток, находящихся в сердце в дремлющем состоянии в течение десятилетий?
Если дело обстоит так, то каким образом это открытие может быть превращено в конкретный терапевтический метод? Чтобы обеспечить эффективное восстановление сердца после инфаркта, метод должен быть быстродействующим, а Райли установил, что найденные им клетки-предшественники начинают дифференцироваться только в том случае, если происходит реальное повреждение сердца. Его идея состоит в том, чтобы идентифицировать пациентов из группы риска (высокое артериальное давление, высокий уровень ЛПНП в крови и семейная история сердечно-сосудистых заболеваний могут быть надежными предикторами) и точно так же, как сегодня таким пациентом стандартно назначаются статины, назначать им регулярный прием примирующего препарата, утвержденного Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами, который обладает аналогичным или лучшим действием, чем тимозин В4. Этот препарат также может назначаться пациентам с длительной историей стенокардии и риском обширного инфаркта миокарда, которым, возможно, уже установлен стент. Благодаря приему такого препарата их кардиальные клетки-предшественники будут находиться в примированном состоянии и в случае инфаркта миокарда смогут сразу начать действовать – дифференцироваться в кардиальные клетки, мигрировать в поврежденную ткань и помочь сердцу быстро восстановить свою функцию.
Человеческое сердце – чрезвычайно надежный и долговечный орган. За восемьдесят лет жизни оно совершает более трех миллиардов мощных, синхронизированных сокращений, надежно снабжая кровью все наши органы и ткани. Но оно также чрезвычайно уязвимо, поскольку его собственное кровоснабжение всецело зависит от двух узких коронарных артерий и их ответвлений. Это классический пример компромисса в биологическом дизайне, на который была вынуждена пойти эволюция под давлением противоречивых сил естественного отбора. И чем больше мы будем знать о таких эволюционных компромиссах, тем быстрее мы сумеем превратить их в эффективные новые методы лечения и восстановления больных сердец.
Между тем не может не вызывать восхищения истинный стоицизм многочисленных жертв этого эволюционного компромисса. Перешагнув в 2014 году девяностолетний рубеж, Данкан Чизхолм снова начал работать в саду и вернулся к своему увлечению гольфом. «Я начал ходить в гольф-клуб. И делаю по шесть лунок зараз! Приятели говорят мне, что я не должен так перенапрягаться, но я показываю им жест Харви Смита [знаменитого британского наездника, которого однажды едва не лишили чемпионского титула за демонстрацию неприличного жеста] и продолжаю!» Барри Браун в Майами продолжает активную тренерскую деятельность, стараясь сделать подростков из гетто первоклассными спортсменами.
Питер Берри потерял жену и остался один в своем доме, осаждаемый множеством других серьезных заболеваний помимо больного сердца. Менее чем за полгода он перенес три серьезные операции и продолжал жить с 20 процентами рабочей сердечной мышцы и стомой в стенке желудка, а на момент нашей с ним встречи он собирался на прием к неврологу, потому что из-за постоянного головокружения у него возникли проблемы с ходьбой. «Я постоянно думаю о том, за что мне все эти испытания? Я никогда не был склонен к суициду, но сейчас я сыт по горло такой жизнью, которая все никак не кончается», – признался он мне. Сразу за домом Питера в Уолтем-Кросс, что на севере Лондона, начинается живописный национальный парк с велосипедными дорожками. Питер мечтал, что однажды сумеет возобновить велосипедные прогулки. К сожалению, его тело, в конце концов, сдалось, и он умер за два дня до Рождества 2013 года. Хотя его физическое сердце было немощным и слабым, его человеческое сердце – его дух – было воплощением мощи и стойкости.
Три срока по двадцать, а что потом? Как эволюция вдохнула новую жизнь в угасающие исследования деменции
Джейми Грэм – представительный 67-летний джентльмен, впечатляющий своим высоким, под два метра, ростом, – рассеянно блуждает по своему просторному дому в Уилтшире, время от времени присвистывая от удивления, словно не в силах понять, что с ним приключилось. Или же сидит, обхватив голову руками, как человек, который пытается смириться с некой ужасной бедой.
До 2003 года он был востребованным экспертом в сфере ИТ, который колесил по всему миру, без бумажки выступал перед аудиторией из двух сотен профессионалов, легко справлялся с интенсивной рабочей нагрузкой и находил время, чтобы быть замечательным мужем и отцом, настоящим мастером на все руки дома, душой дружеских компаний и превосходным гитаристом с сильным голосом и бесконечным репертуаром из песен Билла Хейли, братьев Эверли, Элвиса Пресли, Джонни Кэша и др., которые он помнил все наизусть и мог исполнять одну за другой в соответствующей манере. Со своей женой Вики они знакомы с четырнадцати лет. Именно голос Джейми заставил Вики обратить на него внимание: «Мы снова встретились на свадьбе наших друзей, когда уже были студентами. Кто-то принес гитару, и Джейми начал петь – меня поразил его голос! Потом было много шуток и смеха, и я поняла, что влюбилась в него по уши!» Он был воплощением жизнерадостности. «Он был чудесным мужем и отцом и всегда поддерживал меня. Я помню, как однажды во время нашего семейного отпуска в Соединенных Штатах мы ехали по пустыне в старом, взятом напрокат автомобиле и он дал волю своему воображению. Он так красочно описал индейцев, которые сидят в засаде и готовятся на нас напасть, что дети от страха едва не выпали из машины. Потом все разразились смехом. Он умел создать дух приключений!»
И вот однажды во время презентации в PowerPoint он почувствовал, что все слова на слайде вдруг слились в расплывчатое пятно, и он остановился посреди фразы, напрочь забыв, что говорить дальше. Он начал приходить на встречи не в те дни и возвращался с работы домой напряженным и уставшим – придирался к мелочам, был постоянно на взводе и мог вспылить по любому поводу. Как-то Вики услышала, как он ругался сам на себя в сарае, потому что никак не мог справиться с какой-то простой работой. «Даже такие элементарные вещи, как забить скобу в столб или приладить прицеп к машине, стали даваться ему с огромным трудом». Его манера вождения стала непредсказуемой и опасной. Он мог начать поворот прямо перед встречным автомобилем и перестал соблюдать правила проезда перекрестков с круговыми движением. Его способность ориентироваться в пространстве резко ухудшалась, и Вики сильно нервничала, сидя на пассажирском сиденье.
В 2003 году Джейми, которому не было еще и шестидесяти, потерял свою работу в Лондоне, но в отчаянии уговорил работодателя назначить его временным представителем компании в Соединенных Штатах сроком на три года. Они с женой упаковали чемоданы, сдали дом в аренду и переехали в Коннектикут. Но вскоре Вики обнаружила, что вместо того, чтобы активно заниматься продвижением компании и налаживанием деловых контактов на новом месте, ее муж целыми днями играет в карточные игры на своем компьютере. Врач предположил, что всему виной может быть стресс, и прописал Джейми антидепрессанты. Но Вики не была уверена в этом и в интуитивном предчувствии, что им придется преждевременно вернуться в Великобританию, неделю спустя отвезла мужа в Нашвилл, его музыкальную Мекку. «Что-то подсказало мне, что нужно воспользоваться моментом. Я сфотографировала, как он играет на гитаре на сцене "Гранд Ол Опри". Мы посетили студию, где записывался сам Элвис, и Джейми постоял у микрофона, там, где стоял Элвис, посидел на стуле за его роялем».
Вернувшись в Великобританию, Джейми словно погрузился в какой-то туман. Он все еще играл на гитаре, но стал забывать слова даже любимых песен, которые раньше знал назубок. В 2005 году он едва не рассорился вдрызг со своей дочерью, которую обожал, потому что подготовка к ее свадьбе – раньше это событие доставило бы ему огромное удовольствие – оказалась для него чересчур большим стрессом. «Нам с дочерью было неприятно слышать, как он постоянно ругает эту "чертову свадьбу". Это было совсем на него непохоже». Первой поняла, что происходит, их сноха Роз, психиатр по профессии. Она вышла с Джейми во двор и спросила у него, сколько времени. Он посмотрел на свои наручные часы, но не смог ничего разобрать. Его отвезли в Лондон, и сканирование с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) показало в его головном мозге характерные амилоидные бляшки. Ему был поставлен страшный диагноз – болезнь Альцгеймера. «Джейми никак не реагировал на это пару недель, – вспоминает Вики, – а затем впал в настоящую депрессию. "Я умираю", – сказал он мне. Я ему возразила. Но я знала, что его мозг действительно умирает».
На какое-то время Джейми оживился. Он продолжал активно общаться с людьми. «Если он застревал посреди фразы, то спокойно говорил: "Видите ли, у меня болезнь Альцгеймера". Люди были ошеломлены, что об этом можно говорить так открыто, и часто начинали изливать ему душу в ответ». Вики старалась заполнить его жизнь по максимуму. Они ходили на концерты, катались на лыжах, а в 2011 году Джейми вместе с группой старых друзей принял участие в благотворительных соревнованиях по гребле на Темзе, средства от которых пошли на исследования болезни Альцгеймера. В то время он еще осознавал происходящее и мог описать, что ощущает человек, погружающийся в сумерки деменции: «Ты просто чувствуешь, что теряешь самого себя. В моей голове что-то происходит, я чувствую это, и хотел бы рассказать вам – но вы не поймете. Они называют это болезнью Альцгеймера… и это страшно».
После тех соревнований состояние Джейми начало быстро ухудшаться. Его мир безжалостно сокращался. Он не мог читать и пользоваться ноутбуком. Когда-то он был метким стрелком, но теперь Вики пришлось перевезти все ружья к сыну и аннулировать его лицензию на владение огнестрельным оружием. У него забрали водительские права. Он вступил в клуб любителей пеших прогулок, предназначенный для людей с легкой формой деменции или когнитивных нарушений, которые под наблюдением гуляли по пешеходным дорожкам Уилтшира. Но из клуба пришлось уйти, потому что Джейми настаивал на том, чтобы ходить по собственному маршруту, а руководителю группы было просто не под силу справиться с двухметровым гигантом. Какое-то время он ездил на велосипеде в соседнюю деревню за газетами, но вскоре бросил это занятие, как подозревает Вики, после того как однажды едва не попал под колеса то ли грузовика, то ли трактора. Он перестал ходить с Вики в супермаркет, потому что складывал продукты в чужие тележки и терялся между рядами полок. С теннисом тоже было покончено – он стал все чаще промахиваться по мячу и в ярости кидал ракетку в несчастного тренера.
«Как-то он ударил меня – конечно, не специально, но с его силой это было очень больно. Я разрыдалась и крикнула: "Это я, Вики! Твоя жена! Что ты делаешь? Почему ты меня ударил?" Он обнял меня за плечи и сказал: "Моя бедная Вики!"» Джейми все еще способен проявлять сочувствие к человеку, который чем-то расстроен, но не понимает, что причиной этого расстройства является он сам.
Иногда у Джейми случаются проблески сознания, и Вики видит прежнего мужа. Она говорит, что в эти моменты словно луна выглядывает из-за туч. Недавно к ним на обед пришел старый друг, с которым они не виделись больше трех лет. Он перенес инсульт и теперь заново учился ходить и говорить. Джейми бродил по дому, что-то мычал и никого не узнавал. «Потом мы решили все вместе пойти на прогулку в сад. Джейми зашел на кухню, посмотрел на своего старого друга и вдруг воскликнул: "Билл! Да это же ты!" Билл посмотрел на него с неподдельным восторгом, и они обнялись. А потом Джейми назвал его фамилию! Мы не могли в это поверить».
К удивлению своих жен, мужчины пошаркали ногами по садовой дорожке, обняв друг друга за плечи и словно погрузившись в настоящую дружескую беседу – один из них заново учился говорить, а другой был на грани полной потери речи. У Вики от этой сцены разрывалось сердце. «Я была так счастлива, что он узнал Билла, и этот проблеск сознания продолжался в течение всей прогулки и даже после того, как ушли гости. Он говорил короткие фразы "Не видел… много лет…" На какое-то время мне показалось, что наступил прорыв… но потом сумрак снова вернулся».
Статистические данные по болезни Альцгеймера ужасают ничуть не меньше, чем зрелище того, как некогда умный и жизнерадостный человек на ваших глазах скатывается в пропасть деменции. По оценкам, в настоящее время около 35 миллионов человек во всем мире страдают болезнью Альцгеймера, а ежегодные расходы на медицинскую помощь им превышают 600 миллиардов долларов. В одних только Соединенных Штатах насчитывается более 5 миллионов таких больных, и каждые 68 секунд диагностируется новый случай заболевания. Лечение этих пациентов обходится американской системе здравоохранения в 200 миллионов долларов в год, и примерно такая же сумма тратится на частные медицинские услуги. С увеличением продолжительности жизни в западных странах мы рискуем столкнуться с настоящей катастрофой. Все медицинские отчеты зловеще предупреждают о том, что, если не будут найдены эффективные способы профилактики и лечения, количество пациентов с болезнью Альцгеймера к 2050 году вырастет в три раза. После 50-летнего возраста риск развития деменции удваивается каждые десять лет.
Глядя на болезнь Альцгеймера, некоторые эволюционисты считают, что эволюционный подход вряд ли может помочь в борьбе с этим заболеванием. Дело в том, что типичный возраст начала заболевания – 65 лет и старше. Даже если предположить, что существует определенный набор генов, делающих нас предрасположенными к болезни Альцгеймера, очень маловероятно, чтобы эти гены могли быть вытеснены из популяции естественным отбором, поскольку их последствия проявляются только в пожилом возрасте, после окончания активного репродуктивного периода. Эволюция полагается на дифференциальный репродуктивный успех индивидов в популяции, и этот успех определяет, с какой частотой любой ген или вариант гена будет встречаться в будущих поколениях. В этом смысле эволюцию не интересуют последствия наличия того или иного гена в старческом возрасте. Например, ген, который в старости обладает разрушительным эффектом и приводит к деменции, может никак не влиять на репродуктивный успех индивида в молодом возрасте, даже наоборот, может улучшать его способность к выживанию и репродуктивное здоровье. Следовательно, в отношении этих генов, представляющих собой бомбы замедленного действия, не создается никакого давления естественного отбора – они попросту оказывают свое разрушительное действие за пределами его досягаемости. Вот почему эволюция не в силах защитить нас от «разложения мозга», как назвал эту болезнь один известный исследователь.
Тем не менее я считаю, что ценность эволюционного подхода в медицине состоит в том, что он поощряет провести скрупулезное расследование и добраться до сути происходящего. Увидеть, не задействованы ли здесь какие-либо древние, приобретенные в ходе эволюции механизмы, которые невольно могут вносить свой вклад в патологический процесс, задать въедливые вопросы, почему происходит то-то и то-то, в отношении структуры, физиологии и метаболизма и дать на них исчерпывающие ответы. Не может не тревожить тот факт, что в последние годы исследования болезни Альцгеймера фактически стоят на месте и до сих пор не найдено ни одного по-настоящему эффективного лекарства против этого страшного заболевания. Все имеющиеся на сегодня методы лечения носят паллиативный характер и могут лишь временно облегчать симптомы. Вот почему в этой главе я хочу рассказать о том, как исследователи – намеренно или нет используя в своей работе эволюционный подход – пытаются найти новые пути изучения и понимания болезни Альцгеймера, открывающие двери к поиску действенного лечения. Но сначала давайте посмотрим, как родилась доминирующая в настоящее время гипотеза амилоидного каскада, объясняющая возникновение старческой деменции, и насколько успешно она работает.
Впервые это заболевание было описано немецким психиатром и невропатологом Алоисом Альцгеймером в 1901 году, когда он обследовал женщину по имени Августа Детер, поступившую на лечение в его франкфуртскую клинику. У Августы имелся целый ряд психиатрических симптомов, в том числе прогрессирующее нарушение когнитивных функций, галлюцинации и паранойя. Она часто бредила и страдала от «необузданной ревности мужа». В 1903 году Альцгеймер переехал из Франкфурта в Мюнхен и устроился на работу в Королевскую психиатрическую клинику, которой руководил знаменитый психиатр Эмиль Крепелин. Крепелин прославился тем, что помог поставить психиатрию на прочный биологический фундамент и первым описал комплексы симптомов, характерные для двух основных видов психических расстройств – маниакально-депрессивного психоза, ныне известного как биполярное аффективное расстройство, и раннего слабоумия (dementia praecox), ныне известного как шизофрения. После смерти Августы Детер в 1906 году ее мозг был отправлен Алоису Альцгеймеру для гистологического исследования. Изучая ткани под микроскопом, он обнаружил две странные вещи: во-первых, скопления неких фибрилл, присутствовавших даже в нормальных на вид нейронах, и, во-вторых, «милиарные очаги» – отложения какого-то вещества в верхних слоях коры. Теперь мы знаем, что эти фибриллы образованы аномальной гиперфосфорилированной формой тау-белка (тау-белок является важным строительным материалом, который скрепляет и стабилизирует микротрубочки – специальные структуры внутри нейронов, обеспечивающие транспорт жизненно важных веществ вдоль аксонов). А «милиарные очаги» или бляшки представляют собой отложения нерастворимой формы бета-амилоидного белка. С тех пор избыточно фосфорилированный тау-белок и амилоидные бляшки стали классическими симптомами для диагностики болезни Альцгеймера.
Крепелин поспешил назвать вновь описанную форму деменции «болезнью Альцгеймера», и у подобной спешки существует несколько возможных объяснений. Одни утверждают, что он всеми способами старался вырвать психиатрию из рук психоаналитиков, другие называют причиной конкуренцию со стороны нескольких других лабораторий, которые также обнаружили случаи деменции с аналогичной амилоидной патологией. Говорят, что Альцгеймер был немного смущен внезапно обрушившейся на него славой, но уже год спустя уверенно написал собственное имя в названии диагноза, который он поставил после исследования мозга Иоганна Файгля, 56-летнего пациента психиатрической клиники, куда тот был помещен из-за того, что постоянно уходил из дома, не мог себя обслуживать и в целом был недееспособен. Интересно, что, хотя Альцгеймер обнаружил в мозге Файгля многочисленные бляшки, он не нашел там никаких следов нейрофибриллярных клубков, которые бросились ему в глаза при исследовании мозга Августы Детер и с тех пор стали одним из двух основных диагностических критериев болезни Альцгеймера.
Первыми при болезни Альцгеймера поражаются энторинальная кора (промежуточная часть мозга, находящаяся между новой корой и гиппокампом) и соседний с ней гиппокамп, задействованный в механизмах обучения и памяти. В обеих областях запускается патологический процесс массовой гибели нейронов. Затем болезнь распространяется на другие части коры мозга, увеличивается количество и размер бета-амилоидных бляшек, сам мозг уменьшается в объеме, а его желудочки – полости в центре мозга, заполненные спинномозговой жидкостью, – наоборот, расширяются.
Как указывают в своем кратком экскурсе в историю болезни Рудольф Танзи и Ларс Бертрам из Гарвардской медицинской школы, вплоть до 1980-х годов клиницисты отличали сенильную деменцию альцгеймеровского типа от старческого маразма по обнаруживаемым при вскрытии классическим бляшкам и клубкам, которые описал еще Алоис Альцгеймер. Другими словами, за истекшие восемьдесят лет не было достигнуто никакого прогресса в понимании причинности и прогрессирования этого заболевания; бесплодными оказались и поиски его возможной генетической основы. Затем, в 1981 году, Леонард Хестон из Университета Миннесоты впервые сообщил о высокой частоте случаев деменции у родственников 125 пациентов, у которых посмертное вскрытие подтвердило болезнь Альцгеймера. Это указывало на генетический фактор. Хестон также показал, что в этих семьях часто встречается синдром Дауна – генетическое заболевание, вызываемое наличием дополнительной копии (трисомией) 21-й хромосомы. У людей с синдромом Дауна болезнь Альцгеймера часто начинает развиваться в очень раннем возрасте, а их мозг имеет характерную патологию.
В 1984 году Джордж Гленнер и Кейн Вонг идентифицировали пептид, названный ими бета-амилоидным белком, и вскоре после этого на 21-й хромосоме был обнаружен ген, участвующий в образовании этого белка. Этот ген, который кодирует белок-предшественник бета-амилоида (ген APP), был открыт сразу несколькими группами, включая группу Дмитрия Гольдгабера, ныне работающего в Медицинской школе в Стоуни-Брук, и группу вышеупомянутого Рудольфа Танзи. Эти открытия дали рождение «амилоидной гипотезе» болезни Альцгеймера, которая с тех пор и остается доминирующей парадигмой. Дальнейшие исследования выявили ряд мутаций гена АРР, и все они предрасполагали к семейной (генетически обусловленной) форме болезни Альцгеймера с ранним началом, а вскоре были открыты мутации в двух других генах, кодирующих белки-пресенилины 1 и 2. При расщеплении белка-предшественника амилоида ферментом альфа-секретазой образуются не-амилоидные растворимые продукты. Но, когда этот белок-предшественник расщепляется бета-секретазой, а затем дополнительно гамма-секретазой, в результате получается пресловутый нерастворимый бета-амилоид. Пресенилины являются вспомогательными компонентами конечного ферментного комплекса, завершающего превращение белка-предшественника в бета-амилоид.
Амилоидная гипотеза основана на семейной форме болезни Альцгеймера с ранним началом, которая имеет выраженную генетическую обусловленность. Если у вас есть одна из предрасполагающих мутаций, у вас разовьется это заболевание. Однако эта форма болезни встречается очень редко и составляет менее 1 процента всех диагностированных случаев. Наиболее распространенная форма этой патологии – болезнь Альцгеймера с поздним началом, которая относится к спорадическому типу, то есть не передается по наследству, а возникает под действием неких внешних факторов. Тем не менее трое признанных экспертов в этой области, такие как Рудольф Танзи и Деннис Селкоу из Гарварда и Джон Харди из Университетского колледжа Лондона, усиленно доказывали, что во всех формах болезни Альцгеймера начальным событием и движущей силой является накопление нейротоксического бета-амилоидного белка в головном мозге и что дальнейшее формирование патологических нейрофибриллярных клубков из гиперфосфорилированного тау-белка внутри нейронов обусловлено дисбалансом между производством и выведением бета-амилоида. Следовательно, чтобы вылечить болезнь Альцгеймера, необходимо найти способы либо обуздать производство бета-амилоида путем воздействия на образующие его ферменты, либо ускорить его выведение из мозга, чтобы не позволить ему создавать бляшки.
Амилоидная гипотеза на протяжении десяти лет диктовала направление фармацевтических исследований, которые пытались превратить эту концепцию в конкретные лекарства. Было проведено более двухсот медицинских испытаний, чтобы протестировать эффективность препаратов, предназначенных либо для сокращения производства амилоида, либо для ускорения его выведения из головного мозга. Были потрачены миллиарды долларов, но ни одна попытка до сих пор не увенчалась успехом.
Патрик и Эдит Макгир, вот уже несколько десятилетий идущие рука об руку и в семейной жизни, и в исследованиях болезни Альцгеймера, подвергли амилоидную кампанию, пожалуй, самой сокрушительной критике. Несмотря на то, что оба перешагнули восьмидесятилетний порог, они продолжают активную исследовательскую работу в Университете Британской Колумбии. Одним из первых препаратов, разработанных против болезни Альцгеймера, стала вакцина против бета-амилоида под названием AN1792, клинические испытания которой начались в 2003 году. Препарат представлял собой фрагмент бета-амилоида с прикрепленным к нему адъювантом, а его действие было нацелено на то, чтобы подтолкнуть иммунную систему организма к производству собственных антиамилоидных антител. Хотя предварительные эксперименты на мышах показали его эффективность, испытания на людях пришлось досрочно остановить, поскольку было установлено, что он стал причиной смерти, инсультов или энцефалита у 6 процентов пациентов. Наблюдение за остальными 80 пациентами, отмечают Макгиры, не показало никаких свидетельств того, что эта вакцина остановила прогрессирование заболевания или очистила нейроны от тау-белка.
Затем компания Novartis разработала вакцину под названием авагацестат, мишенью которой был конечный фермент бета-амилоидного пути – гамма-секретаза. Это также не сработало. За этим последовали широкомасштабные клинические испытания с участием тысяч пациентов, в которых тестировались два других препарата, нацеленных против бета-амилоида, – бапинейзумаб и соланезумаб. Были получены некоторые данные, подтверждающие уменьшение количества тау-белка и фосфорилированного тау-белка, но в целом оба препарата оказались неэффективными с точки зрения выведения бета-амилоида или улучшения когнитивных функций. Крупное международное испытание еще одного ингибитора гамма-секретазы, препарата под названием семагасестат, было досрочно остановлено из-за того, что получавшие препарат пациенты чувствовали себя хуже, чем пациенты в группе плацебо, а у некоторых были зафиксированы неблагоприятные побочные эффекты, такие как рак кожи и различные инфекции. После этого внимание исследователей переключилось на ингибиторы, нацеленные на другой фермент бета-амилоидного пути – бета-секретазу, иначе известную как BACE1. Но уже первые результаты, как отмечают Макгиры, были разочаровывающими. Наконец, некоторые фармацевтические компании разработали препараты, цель которых предотвращать накопление бета-амилоида в головном мозге и превращение его в фибриллы и бляшки. Но трамипросат, который должен был ингибировать слипание бета-амилоидных молекул, не позволяя им формировать фибриллы, не оправдал возлагавшихся на него надежд; а сцилло-инозитол, нейтрализатор бета-амилоида, в больших дозах убивал пациентов, а в малых не давал никакого эффекта. Тем не менее международная фармацевтическая промышленность приступает к испытаниям нового поколения ингибиторов ферментов и амилоидных антагонистов, готовясь потратить еще миллиарды долларов – и не желая задумываться над тем, почему амилоидная теория так упорно сопротивляется всем попыткам превратить ее в практику.
По словам Макгиров, часть проблемы состоит в том, что пациенты, принимавшие участие во всех этих исследованиях, имели поздние стадии болезни Альцгеймера с массивной мозговой патологией. На этом этапе процесс заходит слишком далеко для того, чтобы мог помочь какой бы то ни было лекарственный подход. Возможно, лечение было бы гораздо более эффективным, если бы болезнь выявлялась на очень ранних стадиях, но на настоящий момент это невозможно, поскольку бета-амилоид начинает накапливаться в головном мозге по крайней мере за двадцать лет до того, как у пациентов появляются выраженные когнитивные нарушения и может быть поставлен диагноз. К тому моменту, когда они, как и Джейми Грэм, начинают все забывать, страдать перепадами настроения и с трудом стравляться со многими простыми задачами, в их головном мозге уже накопилось огромное количество бета-амилоида и тау-белка, уничтожено бесчисленное число синапсов, и болезнь приобретает необратимый и неизлечимый характер.
В настоящее время проводится несколько крупных испытаний для проверки гипотезы амилоидного каскада на когортах пациентов, являющихся носителями мутаций генов, которые кодируют участвующие в производстве бета-амилоида ферменты. В рамках проекта под названием Инициатива по предотвращению болезни Альцгеймера, возглавляемого доктором Эриком Рейманом, был выявлен кластер семей рядом с городом Медельин в Колумбии, которые имеют одинаковую мутацию гена пресенилина 1. В этих семьях симптомы болезни Альцгеймера обычно начинают проявляться очень рано – уже после пятидесяти лет. Исследователи используют терапию новым моноклональным антителом, кренезумабом, в группе участников, у которых еще не возникли симптомы, чтобы увидеть, может ли заблаговременное блокирование производства бета-амилоида предотвратить развитие болезни Альцгеймера.
Исследование под названием Доминантно наследуемая болезнь Альцгеймера (Dominantly Inherited Alzheimer Network, DIAN) ставит перед собой не менее амбициозную цель. В его рамках собрана глобальная когорта участников, являющихся носителями доминантных мутаций гена пресенилина 1, пресенилина 2 или APP (белка-предшественника амилоида). Как и в предыдущем случае, используются препараты, направленные на блокирование действия ферментов, в надежде на то, что ранняя профилактика позволит замедлить или остановить развитие болезни. Если эти испытания окажутся успешными, возможно, они помогут найти некий достаточно эффективный способ профилактики болезни Альцгеймера. Если же они потерпят неудачу, это может послужить мощным аргументом в пользу альтернативной точки зрения, которая утверждает, что бета-амилоид и производящие его ферменты являются неправильными мишенями. Еще одна проблема состоит в том, что эти исследования сосредоточены на форме болезни Альцгеймера с ранним началом, на которую, как мы уже говорили, приходится всего 1 процент всех случаев заболевания. Вполне вероятно, что такая профилактика может оказаться неэффективной в отношении болезни Альцгеймера с поздним началом. Но в чем же все-таки причина постоянных неудач антиамилоидной терапии? В том, что она начинается на недостаточно ранних стадиях? Или же в том, что бета-амилоид как таковой не является главным фактором, провоцирующим развитие болезни Альцгеймера? Может быть, бета-амилоид – это вовсе не причина, а следствие?
Проблемы и противоречия буквально осаждают классическую гипотезу амилоидного каскада. Начать с того, говорят Макгиры, что токсичность амилоида так и не была окончательно доказана. В лабораторных экспериментах, показывающих, как он убивает нейроны, амилоид используется в концентрации в миллион раз выше той, в которой он присутствует в головном мозге. Кроме того, примерно у 25 процентов умерших в возрасте около 90 лет в абсолютно здравом уме и твердой памяти при вскрытии в мозге обнаруживаются значительные накопления бляшек и нейрофибриллярных клубков. То есть степень амилоидной патологии никак не коррелирует с прогрессированием заболевания. Многие мышиные модели, у которых при помощи генной инженерии индуцируются такие же мутации, которые отвечают за перепроизводство амилоида при семейной форме болезни Альцгеймера у людей, показывают увеличение отложений амилоида, но при этом не теряют своих нейронов и не образуют нейрофибриллярные клубки. Кроме того, амилоидная патология вовсе не является специфическим признаком болезни Альцгеймера. Повышение уровня амилоидов наблюдается после травм головного мозга, например, в результате автомобильной аварии, удара в голову на боксерском ринге или ранения на поле боя. Болезнь Паркинсона, болезнь Пика и деменция с тельцами Леви (патологическими включениями внутри нейронов, образованными альфа-синуклеином и другими белками) – все связаны с накоплением амилоида, как и тяжелая форма ВИЧ-инфекции, энцефалит, а также ряд других тяжелых энцефалопатий, таких как болезнь Лайма, прионное «коровье бешенство» и токсические энцефалопатии, вызванные отравлением различными ядами и токсинами. Но ослепленное амилоидной гипотезой исследовательское сообщество поначалу упрямо не обращало внимания на тот факт, что, сколько бы амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков ни накопилось в головном мозге, для того чтобы начала развиваться болезнь Альцгеймера, требуется наличие еще одного ключевого фактора – значительного уровня воспаления в мозге. Другими словами, это означает, что тут замешана пресловутая иммунная система.
Сью Гриффин, профессор, специалист в области гериатрии из Арканзасского университета, вспоминает, что в 1980-х годах, когда она была молодым исследователем, в иммунологии доминировала догма, что головной мозг является «иммунно-привилегированным органом», т. е. что центральная нервная система полностью изолирована от иммунной системы организма. Она говорит, что не верила этому и нисколько не удивилась, когда Роджер Розенберг из Юго-Западной медицинской школы Техасского университета обнаружил большое количество микроглиальных клеток и астроцитов вокруг нейронов и амилоидных бляшек в пораженных участках мозга. В те времена считалось, что микроглия обеспечивает структурную поддержку и питание нейронов, но, по мнению Гриффин и некоторых других исследователей, эти клетки были удивительно похожи на макрофаги, клетки иммунной системы организма, которые поглощают патогенные микроорганизмы и секретируют провоспалительные цитокины, такие как интерлейкин 1, чтобы стимулировать иммунный ответ. «Тогда я сказала, что микроглия тоже производит интерлейкин 1, который активирует другие клетки, – я предположила, что это астроциты, – и затем они вместе влияют на поврежденные нейроны, пытаясь им помочь».
Гриффин предположила, что поврежденные или находящиеся в стрессовом состоянии нейроны побуждают микроглиальные клетки продуцировать интерлейкин 1, который в свою очередь активирует астроциты, начинающие секретировать другой растворимый провоспалительный цитокин под названием S100 как часть механизма восстановления нейронов. И действительно, исследования показали, что в головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера обнаруживаются повышенные уровни ИЛ-1 и S100. Далее Гриффин использовала синдром Дауна как модель болезни Альцгеймера с ранним началом. Из-за дополнительной копии 21-й хромосомы, на которой находится ген APP, люди с синдромом Дауна продуцируют больше белка-предшественника амилоида, чем люди без утроенной 21-й хромосомы, и уже в начале среднего возраста приобретают характерные альцгеймеровские симптомы, такие как бляшки и нейрофибриллярные клубки. Однако, обследуя маленьких детей с синдромом Дауна, Гриффин обнаружила у них повышенные уровни ИЛ-1 и S100. То есть их головной мозг начинает производить большие количества этих воспалительных цитокинов за много лет до того, как возникают первые клубки и бляшки, что говорит о том, что выработка этих цитокинов индуцируется находящимися в стрессовом состоянии нейронами. Разумеется, при обследовании головного мозга пациентов с ранней формой болезни Альцгеймера исследователи увидели, что формирующиеся бляшки окружены микроглиальными клетками и астроцитами, изливающими на них потоки ИЛ-1 и S100.
Гриффин вспоминает, что неврологическое сообщество во главе со сторонниками амилоидной гипотезы крайне враждебно восприняло эту новаторскую работу. Статья, которую она отослала в научный журнал, вернулась к ней с весьма красноречивой надписью поперек страницы – «Это бред». Главный вопрос, которые задавали скептики, состоял в том, существует ли реальная взаимосвязь между нейронным стрессом, восстановлением нейронов и болезнью Альцгеймера с поздним началом. Амилоидное лобби, говорит Гриффин, пришло в бешенство, когда такая взаимосвязь была наконец-то установлена – чему в немалой степени помогла ее встреча с Дмитрием Гольдгабером, который одним из первых выделили ген APP. «С одной стороны, мое исследование сделало значимым его открытие, – говорит Гриффин. – С другой стороны, он указал мне на взаимосвязь между геном APP и ИЛ-1. Разумеется, приверженцы амилоидов не приняли нашу гипотезу». В эссе под названием «Моя история: Открытие и картирование альцгеймеровского амилоидного гена на 21-й хромосоме» Гольдгабер пишет, что установил взаимосвязь между амилоидом и интерлейкином 1 еще в 1980-е годы. «Мы с коллегами обнаружили, что уровень экспрессии гена АРР повышается под влиянием воспалительного маркера ИЛ-1, и, таким образом, доказали, что сверхэкспрессия гена APP может быть результатом внешнего воздействия. Это говорит о том, что воспаление, сопровождающееся увеличением производства ИЛ-1 в головном мозге, является основным фактором, провоцирующим развитие болезни Альцгеймера».
Гриффин также показала существование взаимосвязи между воспалением и тау-белком, который имеет важное значение для стабилизации микротрубочек внутри аксонов. В экспериментах на крысах она продемонстрировала, что ИЛ-1 увеличивает производство в мозге фосфорилированной формы тау-белка путем повышения уровня фосфорилирующего фермента p38 МАРК. Было обнаружено, что этот фермент в изобилии присутствует в нейронах пациентов с болезнью Альцгеймера, у которых также увеличено количество фосфорилированного тау-белка. Взаимосвязь была установлена.
К 2001 году, отмечают Макгиры, причастность воспаления к болезни Альцгеймера стала неоспоримым фактом. «В головном мозге пациентов с деменцией альцгеймеровского типа были обнаружены повышенные концентрации широкого спектра молекул, являющихся ключевыми медиаторами в периферийных иммунных реакциях». Это не только означало, что болезнь Альцгеймера имеет значимый нейровоспалительный компонент, но и доказывало (и на тот момент это было удивительным открытием), что резидентные клетки мозга способны продуцировать широкий спектр иммунных и воспалительных молекул, включая цитокины и их рецепторы, вместе с комплементом. Комплемент – это группа белков, которые помогают антителам и макрофагам разрушать патогены. В периферической кровеносной системе белки комплемента образуют так называемый мембранный атакующий комплекс, который уничтожает чужеродные бактерии и вирусы, проникая через их внешние мембраны и буквально разрывая их на части. Комплемент является важной частью врожденной иммунной системы.
Согласно Гриффин, воспаление в головном мозге предшествует накоплению амилоида и вызывается нейронами, которые находятся в состоянии стресса. Патрик и Эдит Макгир считают, что воспаление в головном мозге, наоборот, является ответом на накопление амилоида и тау-белка. «Воспалительный ответ, запущенный активированной микроглией, усиливается по мере прогрессирования заболевания. Любые попытки затормозить или остановить развитие болезни были и будут обречены на неудачу до тех пор, пока не принимается во внимание центральная роль воспаления», – утверждают они.
Но если уже в 1980-е и 1990-е годы исследования убедительно указали на воспалительный процесс и врожденную иммунную систему как на главных виновных в развитии болезни Альцгеймера, почему была проигнорирована обратная идея, что снижение воспаления в головном мозге может помочь в борьбе с этим заболеванием? На самом деле ряд ретроспективных исследований предоставил очень убедительные доказательства положительного эффекта нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), таких как аспирин и ибупрофен. Еще в 1994 году Джон Брейтнер из Университета Джонса Хопкинса сообщил, что он исследовал небольшую группу идентичных близнецов, которые были носителями предрасполагающих альцгеймеровских мутаций, но заболели болезнью Альцгеймера в разном возрасте. Оказалось, что близнецы с более поздним началом болезни на протяжении нескольких лет принимали НПВС для лечения воспалительных заболеваний, не связанных с деменцией. Впоследствии он провел клиническое испытание НПВС под названием ADAPT на когорте пациентов старшего возраста. Он хотел использовать аспирин, говорит Гриффин, но врачи из комиссии по медицинской этике не выдали на это разрешения из опасения, что пациенты «истекут кровью», поэтому Брейтнер был вынужден использовать два недавно выпущенных на рынок препарата – напроксен и целекоксиб. К сожалению, эти препараты дали нежелательные побочные эффекты, и испытание было досрочно прекращено. Тем не менее промежуточные результаты показали, что прием напроксена на протяжении двух лет до появления симптомов снижает частоту возникновения болезни Альцгеймера.
За работой Брейтнера последовало роттердамское исследование, в котором было проведено сравнение между 74 пациентами с болезнью Альцгеймера и 232 членами контрольной группы соответствующего возраста и пола. Исследователи скрупулезно собрали из медицинских карт участников все сведения о приеме ими нестероидных противовоспалительных средств и обнаружили, что чем дольше человек принимал НПВС, тем ниже был риск развития болезни Альцгеймера. Прием НПВС в течение шести месяцев и дольше снижал этот риск вдвое. Наконец, в рамках широкомасштабного ретроспективного исследования, проведенного Управлением США по делам ветеранов, были сопоставлены группы из 50 тысяч бывших военнослужащих, заболевших болезнью Альцгеймера, и из 200 тысяч ветеранов, не заболевших ею. Было установлено, что прием ибупрофена в течение пяти лет и более вдвое сокращал риск этого заболевания. Однако Гриффин спешит подчеркнуть, что, несмотря на убедительные доказательства профилактического эффекта НПВС, такого рода средства не могут быть панацеей – уж слишком сложна эта болезнь. Кроме того, в ходе нескольких клинических испытаний на пациентах с поздней стадией Альцгеймера НПВС не показали себя эффективными: они обладают профилактическим, а не лечебным действием. Гриффин полагает, что, как бы цинично это ни звучало, отсутствие интереса исследовательского сообщества к возможностям терапии НПВС отчасти, возможно, объясняется тем, что фармацевтические компании попросту не могут заработать большие деньги на таких дешевых препаратах, как аспирин и ибупрофен. Это печально, считает она, поскольку НПВС могут отсрочить, облегчить и даже предотвратить развитие болезни Альцгеймера по меньшей мере у 10 процентов населения, что вылилось бы в экономию миллиардов долларов ежегодно.
Роль воспаления при болезни Альцгеймера оставалась в тени вплоть до публикации в 2009, 2010 и 2011 годах результатов трех исследований, целью которых был полногеномный поиск ассоциаций при поздних стадиях болезни Альцгеймера. Одно из исследований осуществлено Филиппом Амуйелем и его коллегами во Франции; два других – группой под руководством Джули Уильямс из Кардиффского университета в Великобритании. Полногеномный поиск ассоциаций, как следует из его названия, предполагает исследование всего человеческого генома в поисках генов, которые вносят небольшой индивидуальный вклад в развитие какой-либо болезни. Благодаря масштабам исследований, включающих тысячи участников, становится возможным выявить статистически значимые скрытые ассоциации между геном и болезнью. Полной неожиданностью для неврологического сообщества стало то, что гены, выявленные этими взаимосвязанными исследованиями как наиболее сильно ассоциируемые с болезнью Альцгеймера с поздним началом, попадают в две большие группы: те, которые преимущественно связаны с иммунной системой, и те, которые участвуют в метаболизме холестерина.
Группа генов иммунной системы включает ген CR1, кодирующий рецептор комплемента 1-го типа, белок, который регулирует каскад комплемента, являющийся одним из механизмов врожденной иммунной системы; ген кластерина, белка, который участвует в воспалительных и иммунных процессах; ген PICALM, кодирующий белок, который помогает клеткам врожденной иммунной системы, таким как макрофаги (или микроглиальные клетки в головном мозге), поглощать мусор и патогены; ген BCl3, участвующий в регулировании воспаления; ген HLA-DRB1, кодирующий протеин, который отвечает за презентацию антигенов иммунным клеткам; ген MS4A2, кодирующий рецептор к антителам; ген SERPIN B4, участвующий в модулировании иммунных реакций, и целый ряд генов, связанных с главным комплексом гистосовместимости. Группа генов холестеринового обмена, в частности, включает вариант гена аполипопротеина, известного как аполипротеин Е эпсилон 4 (APOE-epsilon 4), который является признанным фактором риска болезни Альцгеймера с поздним началом и может увеличивать риск развития заболевания почти в 16 раз.
Сторонников амилоидной гипотезы, говорит Уильямс, потрясло не только то, что были выявлены две указанные группы генов, но и то, что обнаружилась группа генов, которая вообще никак себя не проявила: «Люди, сосредоточившие свое внимание на бета-амилоиде и тау-белке как на главных причинах болезни Альцгеймера, не могли понять, почему поиск генов, замешанных в развитии альцгеймеровской деменции с поздним началом, не обнаружил прямых доказательств того, что к этому причастен ген APP, ген тау-белка MAPT, ген BACE1 или гены пресенилинов. Мы не нашли ничего – никаких мутаций, никаких следов причастности этих генов вообще».
Чем больше генов мы находили, поясняет Уильямс, тем более очевидной становилась роль иммунитета как основного фактора, вносящего ключевой вклад в болезнь Альцгеймера. Исследования по полногеномному поиску ассоциаций раз и навсегда изменили наши представления об иммунитете. Иммунная система не просто пассивно реагирует на присутствие амилоида и тау-белка в головном мозге, как утверждают Макгиры, а играет главную роль в развитии заболевания. Мы должны шире взглянуть на эту болезнь, считает Уильямс. Мы слишком долго придерживались ограниченного взгляда, сосредоточившись на амилоиде и тау. Однако оказалось, что гены, вызывающие семейную форму болезни Альцгеймера, не имеют никакого значения в случае доминирующей формы болезни с поздним началом, которая поражает подавляющее большинство заболевших, что объясняет, почему антиамилоидные аппараты показывают себя абсолютно неспособными повлиять на исход заболевания.
«Я не утверждаю, что амилоидная гипотеза в корне неверна, – говорит Уильямс. – Но проблема в том, что мы смотрим на болезнь Альцгеймера исключительно через призму амилоида и тау-белка. Нам нужно взглянуть на это заболевание более широко – увидеть весь спектр способствующих факторов. Помните, что люди могут нормально жить с большим количеством амилоида в мозге, так что альцгеймеровская деменция – это нечто большее, чем просто амилоид и тау. Врожденный иммунитет и нейровоспаление – вот две важные области, на которых мы должны сосредоточить свое внимание».
Кажется все менее вероятным, что амилоидные бляшки между нейронами и клубки тау-белка внутри них являются инициирующими событиями в болезни Альцгеймера. По словам Гриффин, скорее всего они всего лишь побочные продукты, образующиеся в ходе патологического процесса. Болезнь Альцгеймера – это нейронная, а не амилоидная болезнь. До сих пор исследователи совершали такую же вопиющую ошибку в установлении причинно-следственных связей, замечает Гриффин, которая наглядно продемонстрирована в знаменитой «гипотезе о подушке безопасности» в автомобилестроительной отрасли. В ходе аналитического исследования исследователи обнаружили, что во всех случаях аварий с участием современных автомобилей срабатывает подушка безопасности. И наоборот, она никогда не срабатывает во время нормальной безаварийной езды. Таким образом, можно сделать вывод, что основной причиной автомобильных аварий является срабатывание подушки безопасности!
На протяжении всех этих лет по всему миру находились небольшие группы исследователей, которые не были удовлетворены амилоидным объяснением и пытались выяснить, что же на самом деле вызывает болезнь Альцгеймера. Их работа плохо финансировалась, игнорировалась научным сообществом и даже высмеивалась. Хотя никто из этих исследователей не относит себя к разряду эволюционных биологов, все они прямо или косвенно задают о болезни Альцгеймера такого рода вопросы, которые задал бы любой продвинутый эволюционист. Какую роль в норме играет врожденная иммунная система в головном мозге? Почему она вообще активна в мозге, если мозг – это стерильный орган, защищенный надежным гематоэнцефалическим барьером от патогенов, осаждающих остальную часть нашего организма? Что является причиной повреждения нейронов? Что делает амилоид в головном мозге? Является ли он всего лишь патологическим побочным продуктом мозгового метаболизма или же он играет какую-либо нормальную физиологическую роль в функционировании мозга? Поскольку амилоидная гипотеза в настоящее время зашла в тупик и созданные на ее основе методы лекарственной терапии совершенно очевидно не работают, настало время забрать власть из рук амилоидного лобби и передать ее специалистам с более широкими взглядами. Возможно, такая революция в исследованиях болезни Альцгеймера позволит совершить долгожданный прорыв и начать более быстро и уверенно продвигаться к победе над этой страшной болезнью.
В прошлом Брайан Росс был старшим инженером в британских ВВС, где отвечал за работу бригад техобслуживания и внедрение новых технологий. Он принимал активное участие в закупке и адаптации французского вертолета «Газель» для британских вооруженных сил. В 2004 году он ушел на пенсию, и примерно в это же время у него начали появляться признаки нарушения когнитивных функций. Вскоре у него была диагностирована болезнь Альцгеймера. Сейчас ему чуть больше 70 лет, и он принимает участие в клиническом испытании противовоспалительного препарата этанерцепта, который обычно используется для облегчения симптомов ревматоидного артрита. Его жена Мэри хорошо помнит тот день, когда стало очевидно, что с памятью Брайана происходит что-то неладное. Он вешал полки на кухне и обнаружил, что ему нужны металлические кронштейны. Поэтому они с женой сели в машину и поехали в местный хозяйственный магазин. «Когда мы зашли в магазин, Брайан вдруг повернулся ко мне и спросил: "Мы бывали здесь раньше?" Я ответила "Да. Много раз. Давай поищем, где у них лежат кронштейны", на что он сказал: "Что такое кронштейны?" Он был совершенно сбит с толку, и я жутко испугалась. Я подумала: "Как такое могло случиться, что еще несколько минут назад Брайан был нормальным человеком, который полностью осознавал, что происходит, и вдруг – раз, и словно у него в голове что-то выключилось?"»
На приеме у семейного врача она поделилась своими тревогами, и тот направил Брайана в Саутгемптон, чтобы он прошел сканирование мозга и когнитивные тесты, которые выявили у него симптомы деменции с ранним началом. Ему назначили арисепт – препарат, который обычно используется для того, чтобы остановить прогрессирование когнитивных нарушений при деменции легкой и средней степени тяжести. «Мы спросили у врача, что происходит с мозгом Брайана. Он сказал, что некоторые части его мозга уменьшаются и пустота заполняется спинномозговой жидкостью. Больше мы не пытались узнать подробности, потому что мы все равно ничего не могли ни понять, ни сделать».
Сегодня, через десять лет после начала болезни, Брайану становится все труднее справляться со многими вещами. Он по-прежнему уверенно водит машину, но часто не может вспомнить, как доехать в нужное место. «Если Мэри просит меня заехать в супермаркет Sainsbury's и дает мне список покупок, я могу справиться с ее поручением – если сумею найти этот супермаркет!» – горько шутит он. Все маршрутные карты в его голове стерлись напрочь. Он до сих пор любит смотреть документальные фильмы по телевизору, но уже через полчаса совершенно не помнит их содержания. Раньше он очень любил читать, но теперь в досаде бросил это занятие, потому что не может продолжить читать книгу с того места, где остановился. «Когда Брайан читает газету и находит что-то интересное, он обязательно зачитывает мне это вслух. Но не проходит и четверти часа, как он восклицает "Только послушай это!" и читает мне ту же самую статью», – рассказывает Мари. Хотя Брайан этого и не признает, многие домашние дела, которые раньше он делал сотни раз, такие как замена предохранителя в пробке, теперь стали ему не под силу. «На днях Брайан что-то потерял, и я сказала, чтобы он посмотрел в кармане пальто. Он спросил: "Где мое пальто?" "В гардеробной", – ответила я. Тогда он спросил: "А где гардеробная?" Все это чрезвычайно его расстраивает. Иногда он обхватывает голову руками и восклицает: "Что со мной происходит?!"»
Самое печальное, по мнению Мэри, заключается в том, что Брайан все хуже помнит прошлое. Она с трудом сдерживает слезы, понимая, что драгоценные воспоминания о важных и радостных моментах их совместной жизни – воспоминания, которые связывают их друг с другом, – постепенно стираются из его мозга. Но Брайан обладает бойцовским характером и не собирается запирать себя дома. Они каждый день совершают прогулки или выходят куда-нибудь пообедать, а недавно Брайан начал петь в двух местных хоровых коллективах, хотя, к своему смущению, не может запомнить имена своих сотоварищей. «Мне приходится все время сражаться с собственным мозгом, что меня очень злит. Иногда я впадаю в депрессию. Тогда я говорю себе: "Да, ты не хочешь туда идти или не хочешь это делать. Но ты должен заставить себя – ты должен бороться!"»
Клиническое испытание терапии этанерцептом, в котором участвует Брайан и результаты которого еще предстоит оценить, проводит профессор Клайв Холмс, специалист в области биологической психиатрии в Саутгемптонском университете. Его теоретическую основу составляет предположение, что легкие или острые инфекции или же наличие хронических воспалительных заболеваний, таких как атеросклероз, сахарный диабет или ревматоидный артрит, повышают уровни циркулирующих в организме провоспалительных цитокинов, что каким-то образом воздействует на головной мозг и запускает в нем параллельную воспалительную реакцию. Вполне вероятно, что какая-либо начальная инфекция может примировать микроглиальные клетки в мозге таким образом, что впоследствии в ответ на очередную инфекционную атаку или хроническое низкоуровневое воспаление они дают чрезмерно агрессивную провоспалительную реакцию, которая приводит к повреждению нейронов и в результате может стать одним из ведущих факторов, провоцирующих развитие болезни Альцгеймера.
По словам Холмса, все началось с того, что в начале 1990-х годов он посетил в Соединенных Штатах лекцию Патрика Макгира, который рассказал об установленной им взаимосвязи между воспалением и болезнью Альцгеймера. «В то время все были сосредоточены на накоплении амилоида в головном мозге, и всё остальное считалось вторичным… Но после этой лекции я подумал: "Черт возьми, вот что по-настоящему важно!"» Хотя Макгир описывал только механизмы, ограниченные головным мозгом, Холмс сразу же увидел более широкую картину, поскольку, как клиницист, он сталкивался со многими пациентами с болезнью Альцгеймера, которые жаловались ему на то, что инфекции ухудшали их состояние. Может ли периферийное воспаление как-то влиять на течение болезни Альцгеймера?
Вскоре ему неожиданно позвонил Хью Перри, недавно переехавший из Оксфорда в Саутгемптон, где он возглавил кафедру экспериментальной невропатологии. Перри начал серию экспериментов по исследованию прионного «коровьего бешенства» с использованием лабораторных мышей. Он вводил мышам вещество под названием липополисахарид (ЛПС), которое действует аналогично периферийной бактериальной инфекции, поскольку молекулы ЛПС присутствуют на внешней оболочке бактерий. В результате он обнаружил, что у мышей с прионной болезнью, у которых уже была потеряна существенная часть нейронов, эта квазиинфекция значительно интенсифицировала процесс потери нейронов по сравнению с тем, что можно было бы ожидать при обычном течении болезни. Перри хотел узнать, не ухудшают ли периферийные инфекции состояние больных при болезни Альцгеймера. Клайв Холмс подтвердил, что ухудшают, однако, перерыв горы литературы, исследователи не нашли никакого подтверждения своим идеям.
Перри и Холмс решили провести совместное исследование с участием нескольких пациентов, в ходе которого они измерили уровни цитокинов в их крови и опросили на предмет перенесенных в прошлом инфекций. Как они и предполагали, взаимосвязь существовала, и вскоре им удалось получить финансирование на проведение более широкого исследования с участием трехсот пациентов. «Когда я анализировал все эти данные, – говорит Холмс, – я осознал, что с людьми ситуация гораздо сложнее, чем с лабораторными животными. Пожилые люди, которые к нам приходили, уже имели целый багаж воспалительных заболеваний и перенесенных инфекций, в отличие от мышей, которые на момент начала эксперимента были совершенно здоровы». В конечном итоге они выделили два ключевых фактора – хроническое низкоуровневое воспаление (многие пожилые пациенты страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом) и случающиеся на фоне такого воспаления периодические острые инфекции. Исследователи установили, что у пациентов, имеющих какое-либо хроническое воспалительное заболевание, болезнь Альцгеймера прогрессировала в четыре раза быстрее, чем у здоровых людей. А у тех из них, у кого воспалительное заболевание сопровождалось внушительной историей инфекционных заболеваний, болезнь прогрессировала быстрее в десять раз.
Эти результаты убедили Холмса и Перри в том, что периферийное воспаление и инфекции с их повышенными уровнями циркулирующих провоспалительных цитокинов могут каким-то образом воздействовать на головной мозг. Но в те времена за предположение о том, что мозг может реагировать на что-либо другое, помимо нейромедиаторов, наподобие дофамина и серотонина, или же что иммунная система может непосредственно воздействовать на мозг, влияя на химию мозга и поведение, исследователей могли запросто признать еретиками. Эти идеи были совершенно вне лона неврологического мейнстрима. «Психонейроиммунология, как ее тогда называли, была проклятой наукой, – шутит Перри. – Люди считали, что нейроиммунологами становятся только дилетанты, которые не способны стать ни нормальными неврологами, ни нормальными иммунологами! А если вы добавляли сюда еще и слово "психо", это означало, что вы вообще полный ноль!»
К счастью, на одной научной конференции во Франции Перри встретился с главным европейским представителем этой «маргинальной» науки Робертом Дантцером. Дантцер рассказал ему о сформулированной еще в начале 1980-х годов эволюционной теории так называемого «болезненного поведения», которая, в частности, старалась объяснить взаимосвязь между болезнью и тем фактом, что животные практически впадают в спячку в период выздоровления или восстановления после отравлений. Автором теории болезненного поведения был профессор Бенджамин Харт, специалист в области ветеринарии из Калифорнийского университета в Дэвисе. «Известно, что в начале лихорадочных инфекционных заболеваний животные и люди становятся сонливыми и вялыми, теряют аппетит, перестают ухаживать за собой, – писал Харт. – Такое поведение больных животных и людей является не примером плохой адаптации или следствием общего ослабления организма, а развившейся в ходе эволюции целенаправленной поведенческой стратегией, призванной помочь лихорадке в борьбе с вирусными и бактериальными инфекциями. Заболевший индивид находится на грани жизни и смерти, и его организм делает все возможное, чтобы победить болезнь».
Харт ссылался на исследование, проведенное в 1970-х годах Мэтью Клугером, который утверждал, что, поскольку патогены обычно процветают при более низкой температуре, чем свойственна их хозяевам, во всем животном мире развился адаптивный механизм повышения температуры тела в ответ на инфекцию, цель которого – сделать среду внутри организма как можно более враждебной для патогенов. В то же время другой адаптивный механизм значительно снижает активность животного посредством сонливости, вялости, потери аппетита и снижения потребления воды, с тем чтобы перенаправить все ценные ресурсы организма на разжигание огня лихорадки. В своем исследовании Клугер инфицировал кроликов бактериями Pasteurella multocida, вызывающими такое заболевание, как пастереллёз, часто характеризующееся воспалением легких. Он обнаружил, что, когда кроликам давали жаропонижающие средства, они умирали гораздо чаще, чем их больные собратья в контрольной группе, которым позволяли развивать лихорадку. Тот же принцип был использован в лечении людей еще в начале XX века Юлиусом Вагнером-Яуреггом, который, в конечном счете получил за это Нобелевскую премию. Еще до появления антибиотиков он обнаружил, что нейросифилис можно вылечить путем заражения пациентов малярией, вызывающей очень высокую температуру. Выбранный им возбудитель малярии был чрезвычайно восприимчив к хинину, который и давали пациенту, как только сифилис отступал. Разработанная Вагнером-Яуреггом «лихорадочная терапия» впоследствии стала применяться для лечения гонореи и до появления пенициллина оставалась единственным успешным способом лечения этих венерических заболеваний.
Харт идентифицировал три провоспалительных цитокина: интерлейкин 1 (ИЛ-1), фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α) и интерлейкин 6 (ИЛ-6). Перечисленные цитокины вызывают лихорадку и одновременно мобилизуют иммунные клетки, такие как макрофаги, на борьбу с возбудителями инфекции. Эти «эндогенные пирогены», как назвал их Харт, перенастраивают термостат организма таким образом, что животное или человек начинает мерзнуть при нормальной температуре окружающей среды. Это вызывает отток крови от периферии к основным органам, шерсть или волосы на теле встают дыбом, и животное или человек стремится свернуться калачиком и найти как можно более теплую среду, забираясь в нору или постель. Харт прозорливо указал в сторону микроглии, предположив, что острая фаза иммунного ответа – с развитием лихорадки, потерей аппетита и повышенной сонливостью – может регулироваться центральной нервной системой, в частности, клетками мозга, продуцирующими ИЛ-1.
Дантцер модернизировал теорию Харта, объяснив, как именно сигналы об инфекции могут передаваться с периферии в головной мозг, чтобы спровоцировать сонливость, стремление к социальной самоизоляции, потерю аппетита, вялость и боль в суставах. «Головной мозг узнает о том, что на периферии произошло заражение, благодаря цитокинам, – говорит он, – которые действуют либо через традиционный эндокринный путь, через кровь, либо используют прямую нейронную передачу через афферентные ветви блуждающего нерва». Соглашаясь с Клайвом Холмсом и Хью Перри, он говорит: «Если рассматривать болезненное поведение как адаптивный ответ хозяина на проникновение инфекции, возникает еще один важный вопрос: что происходит, когда острая реакция теряет свое адаптивное значение либо потому, что она становится несоизмеримой с инициировавшими ее причинными факторами, либо потому, что она чрезмерно затягивается? Именно это фактически происходит при множестве хронических воспалительных заболеваний». В качестве примера двух возможных негативных последствий такого неадекватного болезненного поведения Дантцер называет хроническую депрессию и болезнь Альцгеймера.
Теория болезненного поведения дала Холмсу и Перри убедительный эволюционный контекст для обоснования выдвинутой ими гипотезы, состоящей в том, что инфекции и воспаление в организме могут повышать уровни циркулирующих цитокинов и инициировать в головном мозге воспаление, приводящее к повреждению нейронов и в конечном итоге к болезни Альцгеймера. Они считают, что, поскольку болезнь Альцгеймера представляет собой постепенно развивающееся, хроническое заболевание, усугубляемое периодическими вспышками острых инфекций, которое не сопровождается какими-либо резкими изменениями состояния, очень сложно идентифицировать надежные предупредительные сигналы, свидетельствующие о том, что что-то идет не так. Недавно Холмс обратил внимание на то, что многие из симптомов, проявляющихся при деменции, также характерны для болезненного поведения – в частности, апатия, депрессия и социальная самоизоляция, – причем эти симптомы наиболее сильно выражены у пациентов, имеющих хронические низкие уровни воспалительных цитокинов. В настоящее время он наблюдает за пациентами с умеренными когнитивными нарушениями (как правило, у половины таких пациентов в течение следующих пяти лет развивается болезнь Альцгеймера, тогда как у другой половины нет). Он хочет узнать, как наличие хронического стресса вследствие неблагоприятных жизненных событий, таких как потеря ребенка или супруга или длительная безработица, или же соматического заболевания, тяжелой инфекции или хронических болей может повлиять на дальнейшее развитие когнитивного состояния. Он просит своих пациентов вести подробный дневник, записывая туда все события и переживания, и впоследствии планирует сопоставить эти дневниковые записи с результатами регулярных анализов крови на уровни кортизола и воспалительных цитокинов, а также когнитивного тестирования.
В русле этой теоретической парадигмы и родилась идея протестировать этанерцепт в качестве лекарства от болезни Альцгеймера. Этанерцепт стандартно применяется для лечения артритов, поскольку он является мощным антагонистом одного из главных провоспалительных цитокинов – ФНО-α. Холмс предположил, что, добившись значительного снижения уровня периферийного воспаления, можно существенно сократить передачу воспалительных сигналов в головной мозг и, таким образом, снизить воспаление и в самом мозге. Эту идею Холмса подтверждают и два недавно проведенных исследования, которые показали, что этанерцепт защищает от развития болезни Альцгеймера, если принимается до того, как появились первые симптомы.
Но почему именно «три срока по двадцать»? Почему старение увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера? Холмс считает, что это может быть как-то связано с половыми гормонами. Уменьшение выработки тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин увеличивает периферийное воспаление. В результате в головном мозге запускается хронический низкоуровневый воспалительный ответ, который, с одной стороны, не является достаточно сильным для того, чтобы стимулировать нормальный механизм отрицательной обратной связи, но, с другой стороны, оказывает постепенное разрушительное действие. Например, этот процесс может вести к образованию реактивных молекул кислорода, которые повреждают нейроны, приводя к их гибели, и стимулируют выработку бета-амилоида. Но когда именно, согласно модели Холмса, начинают формироваться амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки? «Я думаю, что они уже есть и в вашем мозге, и в моем, – говорит Холмс. – И по мере того как хроническое низкоуровневое воспаление продолжается, их накапливается все больше и больше. Возможно, в какой-то момент амилоид примирует микроглиальные клетки, так что те становятся чрезвычайно чувствительными к вторичными воспалительным триггерам. Так начинается путь к деменции».
Перри согласен с этим. Проблемы начинаются тогда, когда адаптивный гомеостатический процесс, характерный для нормального болезненного поведения, перерастает в неадекватный процесс в больном мозге, при котором клетки микроглии перестают подчиняться жесткому регулированию, осуществляемому при помощи механизма отрицательной обратной связи. «Эволюция постаралась обеспечить максимально жесткую регуляцию этих клеток врожденного иммунитета в головном мозге, – говорит Перри, – поскольку на то у нее были весьма веские причины. В отсутствие эффективной регуляции они становятся потенциально опасными и разрушительными». Он указывает на то, что обновление микроглиальных клеток происходит локально, а не за счет клеток, поступающих извне. Следовательно, клетки микроглии могут сохранять своего рода память обо всех предыдущих инфекциях. Вот почему история перенесенных инфекций вместе с уровнем иммунных ответов определяют предрасположенность людей к болезни Альцгеймера. Идея о «примировании» клеток микроглии проистекает из исследований in vitro, которые показали, что, если подвергнуть макрофаг воздействию цитокина, убрать этот цитокин, а затем применить его повторно, макрофаг даст гипертрофированную реакцию.
В пользу модели Холмса и Перри свидетельствуют и исследования на мышах, проведенные Ирен Кнюзель и Димитрием Крстичем, ранее работавшими в Базельском университете в Швейцарии. Их работа, если будет доказано, что ее результаты можно экстраполировать на людей, показывает, что основы болезни Альцгеймера могут закладываться в чрезвычайно раннем возрасте – еще до рождения. Кнюзель вводила беременным мышам на позднем сроке беременности химическое вещество Poly I: C, которое имитирует вирусные инфекции. Это приводило к хроническому повышению уровней воспалительных цитокинов в головном мозге плода, сокращению роста и развития нейронов в период постнатального развития, а во взрослом возрасте вызывало значительное увеличение количества белка-предшественника амилоида и некоторых продуктов его распада в гиппокампе (области головного мозга, которая отвечает за обучение и память и наиболее сильно поражается при болезни Альцгеймера). Также исследователи обнаружили в гиппокампе активированную микроглию и повышенное содержание фосфорилированного тау-белка в нейронах гиппокампа, что предположительно может приводить к нарушению нормального функционирования синапсов – соединений между нейронами. Неудивительно, что эти мыши показали очень плохие результаты в тестах в Y-образном лабиринте, оценивающих пространственную память. Исследователи пришли к выводу, что пренатальное воздействие на иммунную систему может «запускать серию патологических событий, которая приводит к медленному, но неумолимому увеличению производства амилоида, гиперфосфориляции тау-белка и нарушению когнитивных функций, что создает состояние повышенной предрасположенности головного мозга к развитию болезни Альцгеймера».
Все стало еще интереснее, когда исследователи во второй раз ввели вещество Poly I: C взрослым мышам, которые уже подвергались его воздействию в материнской утробе, имитировав тем самым системную инфекцию во взрослом возрасте. Они обнаружили массивные изменения в размере и морфологии микроглии, особенно в области гиппокампа, что исследователи интерпретировали как примирование. Они также увидели аномальную миграцию и скопление вокруг поврежденных нейронов астроцитов (еще один тип иммунных клеток в головном мозге). Наконец, в отличие от мышей из контрольной группы, у дважды инфицированных мышей были обнаружены ярко выраженные амилоидные бляшки, особенно в передней части пириформной (древней) коры и энторинальной коры, т. е. в областях, которые в первую очередь поражаются у людей с болезнью Альцгеймера. Таким образом, исследователи разработали полную мышиную модель развития болезни Альцгеймера со следующей цепочкой событий: инфекция → воспаление в головном мозге → гипертрофированный ответ микроглии и астроцитов → повреждение нейронов → накопление фосфорилированного тау-белка внутри нейронов → накопление амилоидных бляшек между нейронами. Классическая амилоидная гипотеза всегда утверждала обратное – а именно, что мутации генов, отвечающих за амилоидный путь, приводят к увеличению метаболизма белка-предшественника амилоида, накоплению бета-амилоида и фосфорилированного тау-белка и затем к нейровоспалению. Но, как мы видим, разработанная Кнюзель модель болезни Альцгеймера с поздним началом полностью изменила направление этой цепочки связанных между собой событий. Именно воспаление является основным триггером и движущей силой, которая вызывает разрушение нейронов и, как следствие, накопление бета-амилоида и фосфорилированного тау-белка в мозге.
Пожалуй, из всей этой истории с исследованиями болезни Альцгеймера можно сделать один благоразумный вывод, который гласит: «Мы умны ровно настолько, насколько позволяет последний открытый нами ген!» Это особенно верно в случае Рудольфа Танзи. Его лаборатория была в числе исследовательских коллективов, которые в 1986 году обнаружил ключевую мутацию гена APP, лежащую в основе семейной формы болезни Альцгеймера, и с тех пор Танзи оставался верным защитником амилоидной гипотезы. Однако в последние годы он занял более толерантную позицию и признал роль воспаления. Как мы уже увидели, поведение иммунных клеток микроглии кажется ключом к прогрессированию заболевания, и недавно были открыты два гена – CD33 и TREM2, которые влияют на то, выполняет ли микроглия полезную защитную функцию или же действует чересчур агрессивно, давая толчок патологическому альцгеймеровскому процессу. Так вот, именно команда Танзи первой установила, какую роль играет белок CD33 в головном мозге, а также то, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера обнаруживаются повышенные уровни белка CD33 и увеличенное количество продуцирующих его микроглиальных клеток. Как иммунные клетки мозга, клетки микроглии не только секретируют цитокины для запуска воспалительного ответа, но и отвечают за утилизацию мусора. Посредством процесса, называемого фагоцитозом, они поглощают остатки погибших клеток, поврежденные и умирающие нейроны и бета-амилоид. Таким образом, здоровая микроглия помогает удерживать образование амилоидных бляшек под контролем. В 2013 году Танзи показал, что избыточная секреция белка CD33 является единственным необходимым и достаточным условием для того, чтобы микроглия потеряла способность поглощать одну из наиболее токсичных форм бета-амилоида. При этом исследователи обнаружили, что верно и обратное – а именно, что микроглиальные клетки мышей с нехваткой белка CD33 увеличивают поглощение амилоида и что мутация гена CD33, уменьшающая выработку этого белка, защищает от болезни Альцгеймера.
Второй ген, связанный с микроглиальной функцией, TREM2 был открыт Ритой Геррейро из лаборатории Джона Харди в Университетском колледже Лондона. Кодируемый им белок по своему действию прямо противоположен белку CD33. С одной стороны, белок TREM2 стимулирует поглощение микроглией остатков погибших клеток и бета-амилоида, а с другой – удерживает микроглиальные клетки от чрезмерной реакции на воспалительные сигналы, снижает производство провоспалительных цитокинов и регулирует их поведение, заставляя оставаться добропорядочными, неагрессивными уборщиками. «Белки TREM2 и CD33 действуют как инь и ян, – объясняет Танзи. – Если уровень CD33 повышается и/или уровень TREM2 снижается, клетки микроглии прекращают поглощать амилоид, переключаются в воспалительный режим, начинают производить свободные радикалы и цитокины и из добропорядочных уборщиков превращаются в агрессивных солдат. Прекращая выполнять фагоцитарную функцию, они становятся нейротоксическими».
Чтобы найти защиту от болезни Альцгеймера, утверждает Танзи, следует научиться удерживать клетки микроглии в нормальном состоянии, когда они менее воинственны и более эффективны в удалении амилоида из мозга. И, как показало нам открытие генов CD33 и TREM2, станете вы жертвами болезни Альцгеймера или нет в конечном счете может зависеть от того, какие варианты генов врожденного иммунитета вы имеете. Даже с изобилующим клубками и бляшками головным мозгом, если он остается в спокойном состоянии, вы не соскользнете в пропасть деменции. Но если иммунная система вашего мозга реагирует чересчур остро, этой печальной участи вам не избежать.
Недавно эволюционная история болезни Альцгеймера приняла неожиданный оборот. Оказалось, что бета-амилоид является не просто аномальным побочным продуктом ферментативного расщепления белка-предшественника амилоида, а активным агентом врожденной иммунной системы головного мозга. Танзи вспоминает, как несколько лет назад сидел в своем кабинете и размышлял над растущим списком генов врожденного иммунитета, которые оказываются причастными к болезни Альцгеймера. Это было в пятницу вечером – «пивной вечер» в Гарвардской лаборатории, поэтому он отправился в соседнюю комнату, чтобы поговорить со своим младшим коллегой Робом Мойром, которого и нашел с банкой холодного «Коронас» в руке. «Я сказал: "Очень странно, что все эти гены врожденного иммунитета выскакивают просто так, один за другим". Он сказал: "Да? Ну, давай это проверим"». Мойр изучал группу древних молекул, эффективных против бактерий, некоторых вирусов, грибов и простейших микроорганизмов. Все вместе они называются антимикробными белками и существуют во всем животном мире. Люди обладают только одним из них, LL-37, и, когда Танзи и Мойр сравнили этот белок с бета-амилоидом, перечень сходств между ними занял четыре страницы в Excel. Как и амилоид, белок LL-37 может образовывать мелкие сгустки молекул, называемые олигомерами, и нерастворимые полимерные волокна.
Но если белок LL-37 обладает мощным антимикробным действием, задали вопрос исследователи, не может ли обладать им и бета-амилоид? Стефани Соша и Мойр протестировали бета-амилоид против целого ряда распространенных патогенов, включая грибок Candida albicans, поражающий ротовую полость, ногти и половые органы; бактериальные патогены E. coli, Listeria и Enterococcus и несколько видов стрептококков, в том числе пневмококк (S. pneumoniae), являющийся основным возбудителем бактериального менингита. Бета-амилоид оказался эффективным против всех этих патогенов, причем в некоторых случаях был еще более смертоносным, чем белок LL-37. Они опубликовали отчет об исследовании в 2010 году в журнале PLoS1, что вызвало всплеск интереса в научном сообществе, но, поскольку за этим не последовало дальнейших работ, тема в значительной степени была забыта. Но Мойр упорно продолжает исследования в этом направлении, хотя пока и не опубликовал результаты своего труда. «Роб очень осторожен и всегда медлит с публикациями, – говорит Танзи. – Одна из моих обязанностей как его шефа – время от времени пинать его под зад и говорить: „Эй, парень, пора писать статью!“ На настоящий момент у нас накоплено материала на три научных статьи, и я хочу, чтобы он наконец-то подготовил его для публикации».
В своем первом эксперименте Роб использовал клетки нейроглиомы человека в клеточной культуре. Часть из них была генетически модифицирована для увеличения экспрессии бета-амилоидных генов; другие клетки были нормальными. Когда он инфицировал клеточную культуру дрожжевым грибком, продуцирующие амилоид клетки оказались полностью защищены от инфекции. При помощи сканирующего электронного микроскопа он обнаружил, что амилоид образовал фибриллярные шарики – Мойр назвал их наносетями – и поймал в них дрожжевые клетки. Затем он вступил во взаимодействие с активными металлами, такими как медь, и выпустил облако токсичных свободных радикалов, которые атаковали дрожжевые клетки, пробивая отверстия в их мембранах и разрушая их.
В качестве следующей модели Мойр использовал червя-нематоду Caenorhabditis elegans, которого также подверг действию дрожжевого грибка. «Под электронным микроскопом мы увидели жестокую сцену, – говорит Танци. – Дрожжи проникли в нематоду и потом, как в фильме «Чужой», начали вылезать из ее кишок, так что, в конце концов, убили ее изнутри». Но генно-модифицированные черви, которые продуцировали амилоид, успешно справились с инфекцией.
Наконец, исследователи взяли штамм генно-модифицированных мышей с такими же мутациями гена APP и гена пресенилина, которые присутствуют при семейной форме болезни Альцгеймера, как известно, связанной с избыточным накоплением амилоида. Они ввели в гиппокамп мышей бактерии сальмонеллы. Нормальные мыши, не имевшие этих мутаций, умерли в течение нескольких дней, тогда как мыши «с Альцгеймером» прожили в два раза дольше. Это позволяет сделать вывод о том, что эволюция использовала бета-амилоид как очень мощный антимикробный агент в головном мозге человека, однако обратной стороной этой медали является то, что в силу высокотоксичного характера бета-амилоида, способного образовывать сетеподобные сгустки для захвата чужеродных микроорганизмов и уничтожать их при помощи свободных радикалов, она также создала механизм с потенциально разрушительными побочными эффектами. Если в этом защитном механизме происходит какой-то сбой, ничто не может помешать токсичному амилоиду направить свою агрессию против нейронов.
Я надеюсь, что вы уже сложили два и два и теперь хотите спросить: «Но зачем эволюция создала такую систему мощной антимикробной защиты, да еще и обладающую потенциально губительным действием и для нейронов, и для самого человека, если головной мозг – это стерильный орган, надежно защищенный от инфекций непроницаемым гематоэнцефалическим барьером?» Чуть позже вы получите ответ на этот вопрос, но сначала давайте посмотрим на еще один механизм в человеческом головном мозге, который также обладает нежелательными побочными эффектами и может заложить основу для развития болезни Альцгеймера.
В пренатальном периоде и на протяжении всего детского возраста наш головной мозг интенсивно растет и заполняется быстро увеличивающимся количеством нейронов, которые образуют между собой синаптические связи и формируют сложные нейронные сети. Этот интенсивный процесс приводит к избыточности нейронов и связей между ними. В подростковом возрасте эта избыточность избирательно устраняется в пользу формирования точных и эффективных нейронных контуров – при этом недостаточно эффективные синапсы уничтожаются. Существуют доказательства того, что такая нейронная пластичность сохраняется и в зрелом возрасте и подчиняется принципу «что не используется, то теряется», согласно которому недостаточно используемые или относительно неактивные нейронные сети разрушаются, а активно используемые, наоборот, укрепляются. Функцию уничтожения ненужных синаптических связей эволюция возложила на систему врожденного иммунитета головного мозга.
Как известно, система белков комплемента помогает очищать организм от остатков погибших клеток и вторгшихся патогенов. В частности, эти белки маркируют собой болезнетворные микроорганизмы, чтобы те могли быть распознаны и уничтожены макрофагами. Вопреки ранее бытовавшему мнению, оказалось, что система комплемента точно так же активна и в головном мозге. При этом она не только задействована в иммунных процессах, но и принимает активное участие в производстве новых нейронов из клеток-предшественников в период развития или в случае травмы, в миграции нейронов к нужному месту в головном мозге и в ликвидации ненужных синапсов. В процессе ремоделирования мозга белки комплемента аккумулируются вокруг предназначенных для уничтожения синапсов, что привлекает к ним микроглиальные клетки, а затем и астроциты, которые поглощают и уничтожают их. В первую очередь синапсы маркируются белком комплемента C1q, который взаимодействует с белками на их поверхности и образует белок C3. Этот белок распознается рецепторами белка С3, имеющимися у клеток микроглии, и те бросаются атаковать помеченные мишени.
Бет Стивенс из Гарварда из ее коллега Бен Баррес из Стэнфорда считают, что этот процесс может реактивизироваться в более позднем возрасте и именно он несет ответственность за патологическое разрушение синапсов и, следовательно, потерю нейронов, что начинает происходить за много лет до того, как появляются когнитивные симптомы болезни Альцгеймера. Большинство клеток нашего организма защищено от нежелательной атаки белков комплемента благодаря продуцированию мощных ингибиторов. Нейроны не производят таких ингибиторов; эволюция сделала их открытыми для избирательных атак комплемента и микроглии, в противном случае «обрезка» ненужных синапсов была бы невозможна. Но этот же механизм повышения эффективности нейронных сетей стал ахиллесовой пятой нейронов, лишив их способности противостоять комплементу в патологическом контексте.
Недавно Баррес показал, что по мере старения мозга концентрация белка C1q может увеличиваться в нем в 300 раз, причем бóльшая его часть сосредоточена вокруг синапсов, однако требуется «второй удар», чтобы этот белок активировался и запустил процесс ликвидации синапсов. Но что может послужить этим вторым ударом? По словам Барреса, очевидный пример – черепно-мозговая травма. Травма головы резко активизирует врожденную иммунную систему и может временно открыть гематоэнцефалический барьер, что позволяет потокам периферийного комплемента вместе с любыми присутствующими в крови патогенами хлынуть в головной мозг. Системная инфекция – еще одно событие, способное послужить вторым ударом. Барреса и его коллег заинтриговало сообщение Холмса и Перри о том, что периферийная инфекция ускоряет прогрессирование когнитивной дисфункции у пациентов с болезнью Альцгеймера. Именно это и предсказывает их модель, согласно которой периферийная инфекция примирует микроглию и астроциты в головном мозге, которые в результате начинают активно производить белок С3 и истреблять синапсы. Когда Баррес и его коллеги при помощи инъекций липополисахарида сымитировали такие периферийные или системные бактериальные инфекции у лабораторных животных, у тех резко выросло производство белка С3. Исследователи предполагают, что такая инициируемая комплементом нейродегенерация может начинаться уже в очень раннем возрасте. На протяжении многих лет у человека может не проявляться никаких признаков ухудшения когнитивных функций, поскольку головному мозгу удается компенсировать потери за счет быстрого образования новых синапсов. Но в конце концов пожар комплемента разгорается все сильнее и охватывает все новые синапсы, и нарушения в функционировании мозга становятся очевидными.
Но если травма или периферийная инфекция действительно могут играть роль триггеров для запуска массивного перепроизводства комплемента в головном мозге, почему белки комплемента нацеливаются именно на синапсы? Наиболее вероятное объяснение связано с бета-амилоидом. Синапсы находятся в состоянии постоянного гомеостатического контроля. Если бы поток нервных импульсов через синапсы и через нейронные сети никак не ограничивался, это могло бы приводить к гиперактивности, проявляющейся в форме припадков. И наоборот, обучение и память зависят от надежной передачи нервных импульсов по конкретным долговременным нейронным сетям – этот феномен называется долговременной потенциацией. Теперь мы знаем, что производимый нейронами бета-амилоид является важной частью механизма отрицательной обратной связи, который препятствует долговременной потенциации. По предположению Танзи, если что-то нарушает этот деликатный механизм отрицательной обратной связи – такое может происходить, например, из-за накопления бета-амилоида в нейронах, – нарушение прохождения нервных импульсов через данный синапс может посылать микроглии сигнал о том, что через этот синапс проходит меньший трафик, чем через соседний, поэтому «этот синапс можно съесть».
Рабочая гипотеза Танзи состоит в том, что в нормальной физиологической концентрации бета-амилоид играет в головном мозге двойную защитную роль. «Например, вы получаете удар в голову, т. е. травму, – объясняет он. – В рамках реакции острой фазы на месте травмы увеличиваются уровни бета-амилоида, который делает две полезные вещи. Во-первых, амилоид отключает поврежденную нейронную сеть, подавляя активность нейронов. Во-вторых, если у вас нарушен гематоэнцефалический барьер и болезнетворные микроорганизмы проникают в головной мозг, тот же бета-амилоид уничтожает эти патогены. Именно поэтому мы считаем, что эволюция создала бета-амилоид как белок острой фазы, призванный выполнять эту двойную функцию».
Танзи считает, что, снабдив головной мозг таким защитным белком, эволюция, как это ей свойственно, играет с огнем. Эволюционисты называют этот феномен антагонистической плейотропией. То, что позволяет выжить в молодом возрасте, может становиться губительным в старости – как говорится, «живи сейчас, плати потом». Любое накопление бета-амилоида по какой-либо причине, утверждает Танзи, создает условия для запуска неконтролируемой патологической реакции. На самом деле еще в 1992 году Джозеф Роджерс показал, что бета-амилоид связывается с белком комплемента C1q, активирует его и приводит к образованию конечного патологического продукта каскада комплемента – мембранного атакующего комплекса (МАК). Этот комплекс может атаковать неисправные нейроны, наносить им смертельное повреждение и натравливать на них клетки микроглии и астроцитов, чтобы завершить их уничтожение.
Примечательно, что двадцать и даже тридцать лет назад было проведено много исследований, предоставивших нам ценнейшие сведения о функционировании синапсов и нейронных сетей, а также о том, как их функционирование зависит от физиологических концентраций белка-предшественника амилоида и всего семейства его метаболитов, в том числе самого бета-амилоида. Однако эти работы были полностью забыты после появления амилоидной гипотезы. Например, еще в 1991 году Р. Д. Терри установил, что степень потери синапсов коррелирует со степенью тяжести болезни Альцгеймера. Его группа первой разработала метод подсчета корковых синапсов в тканях мозга при вскрытии, и посмертное исследование мозга здоровых пожилых людей и людей с болезнью Альцгеймера показало существование очень слабой корреляция между результатами психометрического тестирования когнитивных функций и плотностью альцгеймеровских бляшек и клубков, но при этом выявило гораздо более сильную корреляцию с плотностью синапсов. За это прорывное открытие в 1988 году Р. Д. Терри был награжден премией Потамкина. Другие исследования показали, что белок-предшественник амилоида в первую очередь необходим для формирования синапсов и регулирования силы синаптических соединений и что при нормальных условиях бóльшая часть белка-предшественника амилоида вообще не превращается в амилоид, а расщепляется ферментом альфа-секретазой с образованием семейства неамилоидных продуктов, которые играют важную роль в защите нейронов, контроле их возбудимости и управлении ростом и ветвлением их аксонов.
Бета-амилоид – очень сложное, многогранное вещество. Он присутствует не только в головном мозге, но и по всему телу и, по мнению Калеба Финча, профессора геронтологии из Южно-Калифорнийского университета, является частью древнего механизма заживления ран и воспаления, появившегося задолго до системы приобретенного иммунитета с ее иммунной памятью и производством специфических Т-лимфоцитов. Воспаление, объясняет Финч, восходит к началу всех начал и встречается у беспозвоночных, включая насекомых, ракообразных, кольчатых червей и иглокожих. Почему, судя по всему, только у людей может развиваться нейродегенерация альцгеймеровского типа с бляшками, клубками и потерей нейронов, остается загадкой. Также не существует адекватного объяснения того, почему в головном мозге нет системы приобретенного иммунитета и мозг вынужден полагаться на древнейшие компоненты врожденной иммунной системы, такие как бета-амилоид и комплемент, на которые эволюция возложила новые жизненно важные роли по формированию и защите мозга, тем самым подвесив над ним дамоклов меч разрушительных эффектов комплемента и амилоида в более позднем возрасте. Судя по всему, эволюция, как всегда, решила проблему наспех, подручными средствами, не задумываясь о пагубных последствиях такого решения.
Даниэла Пуццо из Университета Катании называет бета-амилоид Джекилом-и-Хайдом, который надевает ту или другую личину в зависимости от своей формы и концентрации. При низких концентрациях амилоид выполняет полезные функции и даже может быть необходим для долговременной потенциации, на которой основаны обучение и память; при более высоких концентрациях он может защищать синапсы от перевозбуждения и самопричиненного повреждения через подавление долговременной потенциации; однако при слишком высоких концентрациях он может чрезмерно снижать трафик через синапсы, ослаблять их и ставить под угрозу их существование. То, что мы знаем сегодня о нормальной физиологической роли бета-амилоида, требует предельной осторожности при применении любых лекарственных средств, направленных на снижение его производства: вместо того чтобы служить защитой от болезни Альцгеймера, такое «лечение» может принести гораздо больше вреда, чем пользы.
Таким образом, в наших поисках истоков болезни Альцгеймера мы пришли к тому, что все начинается с нарушения нормального функционирования синапсов. Затем этот процесс распространяется по всем уязвимым участкам мозга, что приводит к массовой потере синапсов и нейронов, когнитивной дисфункции и в конечном итоге к накоплению амилоидных бляшек между нейронами и клубков фосфорилированного тау-белка внутри них, диагнозу болезнь Альцгеймера, прогрессирующей деменции, недееспособности и смерти. Как мы видим, вырисовывающаяся картина возникновения болезни Альцгеймера повторяет общепринятую амилоидную гипотезу с точностью до наоборот. Но что может стать изначальной причиной дисфункции синапсов? Существующие гипотезы указывают на черепно-мозговые травмы, которые могут повреждать гематоэнцефалический барьер и открывать патогенам путь в мозг; на нормальный процесс старения, который также снижает эффективность гематоэнцефалического барьера, или на сигналы о периферийной инфекции и воспалении, которые переводят микроглию в режим тревоги, сообщая ей «Берегись! Надвигается опасность!». Удивительно, но научное сообщество упорно игнорирует наиболее очевидный вывод о том, что на самом деле может быть главным «пусковым» фактором повреждения нейронов и, как следствие, болезни Альцгеймера. Этим фактором может быть долгосрочная инфекция головного мозга, вызванная бактериями, вирусами или другими патогенами. В статье о роли амилоида как антимикробного белка Соша, Мойр и Танзи указывают на ряд исследований, показавших возможность инфицирования центральной нервной системы хламидиями Chlamydia pneumoniae, бактериями Borrelia spirochetes и Helicobacter pylori, а также рядом вирусов. Тем не менее «патогенная гипотеза» является наиболее спорной из всех предположений, которые выдвигаются сегодня для объяснения причин болезни Альцгеймера, и ее сторонники считаются едва ли не еретиками. Но я думаю, что, если рассматривать эту проблему исходя из фундаментальных биологических принципов, трудно не согласиться с тем, что «патогенная гипотеза» заслуживает гораздо большего внимания. Вот почему я хочу закончить эту главу кратким обзором исследований, которые свидетельствуют в ее пользу.
Брайан Балин, профессор патологии, микробиологии, иммунологии и судебной медицины в Филадельфийском колледже остеопатической медицины, не скрывает своего недовольства политикой в области исследований болезни Альцгеймера. «Многие ведущие лаборатории друзья не разлей вода с фармацевтическими компаниями, – говорит он. – Компании используют руководителей этих лабораторий как консультантов, и те говорят им: "Ответ должен быть здесь, и именно сюда вы должны вложить свои исследовательские деньги. Профинансируйте наши исследования амилоида, и вы сможете использовать наши открытия для разработки новых лекарств". Но небольшие маргинальные группы, такие как наша, изучают проблему на основе биологии, и эта амилоидная история никогда не имела для нас смысла».
Вот уже несколько десятилетий, говорит Балин, перед глазами научного сообщества маячит наглядное доказательство «патогенной гипотезы». Общепризнано, что вирус ВИЧ может проникать в головной мозг вместе с кровью, внедряясь внутрь белых кровяных клеток и, таким образом, преодолевая гематоэнцефалический барьер. В мозге вирус быстро инфицирует клетки микроглии и астроциты, в результате чего те начинают активно вырабатывать провоспалительные цитокины и другие токсины, которые разрушают нейроны в коре и особенно в гиппокампе. ВИЧ-ассоциированная деменция является общепризнанным осложнением при этом заболевании и была широко распространена до появления эффективных противовирусных препаратов для лечения ВИЧ и СПИДа.
Команда Балина исследовала бактерию Chlamydia pneumoniae, которая живет внутри клеток и является одной из основных причин пневмонии. Балин давно размышлял над тем фактом, что на начальной стадии болезни Альцгеймера в первую очередь происходит утрата обонятельной функции. Дело в том, объясняет Балин, что слизистая оболочка в верхней части нашей носовой полости, где расположены все наши обонятельные рецепторы, является идеальным местом для проникновения вирусов и бактерий в нервную систему. Этому способствуют такие факторы, как короткий цикл обновления клеток, составляющий всего девяносто дней, постоянная бомбардировка эпителия присутствующими в воздухе токсинами и микроорганизмами, а также воспаление синусов. В результате всего этого мы получаем довольно ненадежный, неплотный эпителий. Балин считает, что благодаря своему относительно небольшому размеру бактерия Chlamydia pneumoniae может проникать в нервные волокна в носу, доходить по ним до обонятельной луковицы в головном мозге и уже оттуда распространяться на энторинальную кору и гиппокамп. Для хламидий это королевская дорога в головной мозг. Балин показал присутствие микроорганизмов в этих нервных путях у людей, а также у животных моделей после их введения в нос.
Исследования in vitro показали, что для проникновения бактерий Chlamydia pneumoniae в мозг может существовать и второй маршрут, аналогичный маршруту вируса ВИЧ. Эти бактерии могут путешествовать внутри белых кровяных клеток, где иммунная система организма не в состоянии до них добраться. Если хламидии сначала попадают в легкие, там они могут проникать в белые кровяные клетки, находящиеся в легочных капиллярах, и, используя их как троянских коней, преодолевать гематоэнцефалический барьер. Проникнув в головной мозг, инфекция распространяется на микроглию, нейроны и астроциты, которые начинают посылать цитокинные сигналы «Тревога! Вторжение врагов!», мобилизующие в мозг еще больше инфицированных белых кровяных клеток, вызывая «второй удар». Развивающаяся инфекция и воспаление стимулируют амилоид и, таким образом, могут активировать всю дальнейшую цепочку патологических процессов, приводящих к видимым симптомам болезни Альцгеймера. Таким образом, получается, что амилоид – это всего лишь следствие, а не причина. Когда инфицированные нейроны умирают, хламидии попадают во внеклеточную среду мозга, где группа Балина и обнаружила их с помощью электронного микроскопа вместе с их химическими следами – молекулами липополисахарида, из которых образованы стенки бактерий, и специфическими антителами. Через внеклеточную среду бактерии легко распространяются в мозговой ткани и инфицируют другие нейроны и клетки микроглии.
Балин также указывает на стоматологическое исследование, проведенное Анджелой Камер и ее коллегами из Нью-Йоркского университета. Как объясняет Камер, наряду с такими заболеваниями ротовой полости, как ассоциированный с зубными бляшками гингивит, который часто встречается у молодых людей и вполне поддается лечению, существуют более тяжелые формы периодонтальных заболеваний, которые носят необратимый характер, вызывают интенсивное воспаление и в результате потерю зуба. Инфекция распространяется от линии десен вглубь соединительной ткани, в которой вскоре развиваются глубокие язвенно-некротические периодонтальные карманы, наполненные бурлящей массой из бактерий, лейкоцитов, макрофагов, Т-клеток, В-клеток, цитокинов и хемокинов. По меньшей мере половина всех американцев в возрасте старше пятидесяти пяти лет страдает хроническим периодонтитом, который может быть постоянным источником циркулирующих воспалительных цитокинов, способных воздействовать на головной мозг. Причем в кровоток могут проникать и сами микроорганизмы, такие как актинобациллы (Actinobacillus), таннереллы (Tannerella), порфиромоны (Porphyromonas) и трепонемы (Treponema). Хотя между результатами проведенных на данный момент исследований существуют некоторые разногласия, спирохета Treponema denticola была обнаружена в узле тройничного нерва, находящемся недалеко от головного мозга. Другое исследование обнаружило бактерии Treponema в головном мозге большинства пациентов с болезнью Альцгеймера, тогда как в контрольной группе это было большой редкостью. Сама Камер обнаружила у пациентов с болезнью Альцгеймера повышенные по сравнению с контрольной группой уровни антител к вызывающим периодонтальные заболевания бактериям. Камер предупреждает, что эти исследования были проведены на небольших группах участников и не позволяют надежно установить, где причины, а где следствия, поэтому для подтверждения найденной взаимосвязи требуются более масштабные лонгитюдные исследования.
Чтобы быть подходящим кандидатом на роль инфекционной причины болезни Альцгеймера, микроорганизм должен относиться к разряду широко распространенных, а не спорадических патогенов. Используя выборочные серологические обследования населения пожилого возраста (старше 65 лет), группа Балина установила, что от 70 до 90 процентов обследованных заражены хламидиями Chlamydia pneumoniae и что у людей этой возрастной группы, страдающих когнитивными нарушениями, инфицирована бóльшая часть белых кровяных клеток. Главный вопрос состоит в том, проникли ли эти микробы в их головной мозг?
Рут Ицхаки, Мэтью Возняк и их коллеги из Манчестерского университета исследуют возможную связь между болезнью Альцгеймера и вирусом простого герпеса первого типа (ВПГ-1), который вызывает латентную инфекцию и чаще всего проявляется в виде периодических болезненных высыпаний на губах. На мысль о существовании этой взаимосвязи Ицхаки натолкнул тот факт, что при болезни Альцгеймера поражаются те же участки мозга, что и при таком, к счастью, относительно редком заболевании, как герпетический энцефалит, вызывающий потерю памяти и нарушение когнитивных функций. После вспышки вируса, приводящей к появлению на губах болезненных герпесных пузырьков, вирус отступает по ветви тройничного нерва в тройничный узел. Здесь вирус дремлет до тех пор, пока стресс, другая системная инфекция или просто процесс старения не ослабят иммунную систему, загнавшую его внутрь ганглия, и он снова может выйти на поверхность. Следует отметить, что тройничный узел расположен в тройничной полости – пространстве между расщепившимися листками твердой мозговой оболочки – и соединен со стволом головного мозга и близлежащей височной корой.
В Орегоне Мелвин Болл и его коллеги изучают роль ВПГ-1 с 1982 года. Как отмечает Болл, в одной из недавних научных статей болезнь Альцгеймера рассматривалась как «вирусная инфекция, которая распространяется от клетки к клетке в головном мозге». Авторы статьи предположили, что болезнь Альцгеймера может вызываться передачей фосфорилированного тау-белка между нейронами. Но Болл смеется над этой идеей. Клубки фосфорилированного тау-белка внутри нейронов, объясняет он, похожи на намотанные на вилку вареные спагетти. Трудно себе представить, чтобы эти рыхлые клубки могли протискиваться сквозь стенки нейронов. Тут нужны пули мелкого калибра, и такой пулей, по мнению Болла, является вирус ВПГ-1. Поскольку узел тройничного нерва находится очень близко к лимбической коре, если вирус выйдет из узла не по той ветви, он окажется вовсе не на губах, а в головном мозге. Почти 90 процентов североамериканцев скрывают в своем тройничном узле ВПГ-1, и Болл нашел этот вирус в головном мозге у 67 из 70 умерших пациентов с подтвержденным диагнозом болезнь Альцгеймера. Кроме того, Болл обнаружил, что постепенное распространение поражения нейронов очень напоминает паттерн распространения инфекции.
Болл – компетентный микропатолог. Общепризнанно, говорит он, что именно вирусный триггер вызывает образование нейрофибриллярных клубков при болезни Паркинсона, а при таком редком нейродегенеративном заболевании, как панэнцефалит, в нагруженных клубками нейронах обнаруживается геном вируса кори. Болл сделал серию микрофотографий головного мозга 87-летнего мужчины, умершего после четырнадцати лет прогрессирующей деменции, на которых отчетливо виден микроглиальный узелок – скопление микроглиальных клеток, которые окружили и поглощают умирающий нейрон ствола мозга, содержащий типичный нейрофибриллярный клубок. Принято считать, что микроглиальные узелки являются характерным признаком церебральной вирусной инфекции. Идеи и Ицхаки, и Болла подтверждаются ветеринарными исследованиями Максима Чирана из Университета Миннесоты, который отследил путь проникновения вируса простого герпеса из узла тройничного нерва в головной мозг у мышиных моделей с герпетическим энцефалитом. Он также обнаружил, что активированная микроглия, скапливающаяся вокруг инфицированных областей, вызывает «долговременное тлеющее воспаление». Тесты с лабиринтами продемонстрировали у инфицированных мышей потерю пространственной памяти, что очень похоже на нарушение пространственной ориентации у людей на ранних стадиях болезни Альцгеймера, которые часто забывают, где припарковали свою машину или как найти дорогу домой.
Наконец, Ицхаки сообщает, что исследования in vitro показали способность антигерпесных агентов сокращать клубки фосфорилированного тау-белка в нейронах, которые были предварительно инфицированы ВПГ-1 и активно накапливали этот белок. Таким образом, также была установлена и обратная связь, а именно, что накопление тау-белка зависит от репликации ВПГ-1. Между тем Болл и его коллеги продемонстрировали, что ВПГ-1 ассоциируется с бета-амилоидными поражениями в головном мозге и что инфицирование глиальных клеток in vitro вирусом ВПГ-1 вызывает значительную патологию нейронов, которая может удерживаться под контролем применением растворимого бета-амилоида или ацикловира – запатентованного противовирусного препарата, часто назначаемого при герпесной инфекции.
Требуется гораздо больше исследований этой потенциально важной патогенной гипотезы болезни Альцгеймера, и, кроме того, мы еще многого не понимаем в том, что касается нормальной физиологической роли белка-предшественника амилоида, амилоида и комплемента в борьбе с патогенами и поддержке нейронов, особенно по мере их старения. Мы также не знаем, что именно распространяется подобно пожару по нейронным сетям при прогрессировании болезни Альцгеймера – проникшая извне инфекция, или тау-белок, или же синаптическая дисфункция, которая поражает синапсы и, таким образом, сами нейроны. Амилоидная гипотеза настолько ослепила научное сообщество, что мы, например, до сих пор не выяснили всю подноготную одного гена, который, как установлено, повышает вероятность развития болезни Альцгеймера в 16 (!) раз – это ген, кодирующий белок аполипопротеин Е (АпоЕ), который существует в трех изоформах: эпсилон 2, эпсилон 3 и эпсилон 4. Повышенный риск сопряжен с вариантом АпоЕ эпсилон 4, но никто не знает почему. Джули Уильямс, руководитель одного из двух масштабных исследований по полногеномному поиску ассоциаций при болезни Альцгеймера, считает, что это упущение сродни преступлению. «Меня огорчает, что так мало людей занимается АпоЕ. Я пытаюсь найти таких людей на научных конференциях, но встречаю их очень-очень редко. Между тем существует чрезвычайно сильная ассоциация, которую нам просто необходимо понять. Это в высшей степени нелогично, иррационально и наносит ущерб нашему пониманию болезни Альцгеймера».
На самом деле существует ряд групп, работающих над ассоциацией между АпоЕ и болезнью Альцгеймера, но, как правильно замечает Уильямс, этого явно недостаточно. Рик Казелли и его коллеги из Аризоны недавно сделали обзор работ, в которых исследователи пытаются установить точную природу взаимосвязи между AпоЕ эпсилон 4 и болезнью Альцгеймера. Тогда как многие современные исследования обвиняют АпоЕ во взаимодействии с бета-амилоидом, по словам Казелли, появляется все больше свидетельств того, что некоторые процессы с участием АпоЕ никак не связаны с бета-амилоидом и могут играть даже более важную роль в развитии болезни Альцгеймера, чем амилоид.
Например, АпоЕ отвечает за транспорт в головной мозг холестерина и других липидов, которые имеют жизненно важное значение для развития и поддержания нейронов и их синапсов. У животных моделей, несущих вариант гена АпоЕ эпсилон 4, транспорт этих веществ оказался нарушен, что может негативно влиять на здоровье нейронов. Изоформа АпоЕ эпсилон 4 усиливает фосфорилирование тау-белка внутри нейронов, что может вести к образованию классических клубков из фосфорилированного тау-белка, являющихся основным патологическим маркером болезни Альцгеймера. Установлено, что у лабораторных мышей нейрофибриллярные клубки в нейронах нарушают способность к обучению и память. У людей наличие варианта гена АпоЕ эпсилон 4 ассоциируется с доклинической формой снижения когнитивных способностей, особенно с потерей памяти, а также с нарушением развития нейронов, что приводит к формированию более тонкой энторинальной коры и уменьшению размера гиппокампа – двух областей мозга, которые первыми принимают на себя удар при болезни Альцгеймера. АпоЕ эпсилон 4 также может нарушать функционирование митохондрий – энергетических станций внутри нейронов и всех клеток – и причинять вред астроцитам, обеспечивающим нейроны питанием и кислородом. У людей – носителей варианта гена АпоЕ эпсилон 4 наблюдается нарушение мозгового сосудистого кровотока, а также недостаточная эффективность жизненно важного гематоэнцефалического барьера, который в норме жестко контролирует, какие молекулы могут входить в головной мозг и выходить из него. Наконец, было установлено, что АпоЕ эпсилон 4 часто приводит к усилению воспаления в мозге, в частности, через стимулирование выработки провоспалительных цитокинов и простагландинов и примирование микроглии.
Казелли считает, что, хотя наличие поразительных ассоциаций между АпоЕ эпсилон 4 и альцгеймеровской патологией несомненно, работа пока ведется в очень ограниченных масштабах в небольшом числе лабораторий и срочно нуждается в более широкой научной поддержке. Между тем некоторые исследователи, в том числе Ицхаки, обнаружили связь между болезнью Альцгеймера, инфекцией ВПГ-1 и вариантом гена АпоЕ эпсилон 4, который, как они считают, увеличивает инфицирующую способность вируса, позволяя ему более легко вторгаться в нейроны и микроглию и распространяться по всему мозгу.
Разумеется, несмотря на всю привлекательность патогенной гипотезы, для ее принятия научным сообществом необходимо убедительно доказать существование связи между наличием патогенов в головном мозге и развитием болезни Альцгеймера. Но Болл, безусловно, прав, указывая на то, что стоимость крупного клинического испытания на людях метода терапии с использованием распространенного и дешевого противовирусного препарата наподобие ацикловира несопоставима с теми колоссальными суммами, которые ежегодно тратятся на исследования в русле амилоидной гипотезы. Как замечает Болл: «Именно исследовательское сообщество в области медицинской бионауки повинно в том удручающе медленном прогрессе, который мы видим на пути к окончательному прорыву и победе над этим заболеванием. Как и в других сферах конкурентной человеческой деятельности, в бионауке существуют свои "фавориты". В настоящее время мы просим федеральные и другие финансовые учреждения немедленно начать выделять по крайней мере половину своих бюджетов на исследования болезни Альцгеймера небольшим молодым лабораториям, которые упорно трудятся над тем, чтобы найти ключевое недостающее звено, ответственное за это трагичное и дорогостоящее заболевание».
Критика Болла удивительным образом перекликается с откровенным и сокрушительным комментарием по поводу амилоидной гипотезы, сделанным несколько лет назад тремя авторитетными исследователями Руди Кастеллани, Джорджем Перри и Марком Смитом из Университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде и Техасского университета. Вот что они утверждают:
Извращение научного метода и манипулирование отчаявшимися людьми, страдающими от этой разрушительной, прогрессирующей и неизлечимой болезни, – вот что характеризует область исследований и лечения болезни Альцгеймера в начале XXI века. Процессы коллегиальной оценки, конкуренции за государственные средства и доминирования устоявшихся «центров мнений» продолжают ничтоже сумняшеся двигаться в том же русле, несмотря на полную стагнацию в области разработки эффективных методов лечения… Патологическая интерпретация нейродегенеративных заболеваний сфокусирована на бляшках и клубках по той единственной причине, что они имеют визуальный характер, и подавляющее большинство исследований болезни Альцгеймера исходит из сомнительного предположения, что эти поражения токсичны по своей природе и, следовательно, являются причиной болезни, а не реакцией на нее. Примечательно, что после четверти века безуспешных попыток взять верх над этим заболеванием путем нацеливания на бета-амилоид, гипотеза амилоидного каскада рассматривается научным сообществом как «некогда спорная».
«В какой-то момент неизбежно возникает вопрос: „Какова отдача на наши инвестиции?“ – замечает Брайан Балин. – И эта „отдача на инвестиции“ напрямую касается судеб миллионов людей, затронутых болезнью Альцгеймера. Чем раньше мы открыто признаем, что те или иные усилия не приносят никакой отдачи, и пойдем в другом направлении, тем лучше».
Давайте вспомним о Брайане Россе и его отважной борьбе с деменцией, которая медленно, но верно поглощает его разум. О Джейми Грэме, которого болезнь Альцгеймера превратила из успешного, высококвалифицированного профессионала и замечательного мужа и отца в беспомощного инвалида. Как говорит его жена Вики: «Я чувствую себя вдовой. Я знала и любила этого мужчину больше пятидесяти лет, но сейчас от него осталась одна оболочка, которая внешне похожа на моего прежнего Джейми, но внутри абсолютно пуста».
Миллионы людей, как и Брайан и Джейми, живут в сумеречном мире болезни Альцгеймера, не имея даже призрачной надежды на излечение. Становится все более очевидно, что амилоидной гипотезе не под силу объяснить это сложнейшее заболевание. К чести многих ведущих представителей амилоидного лагеря, таких как Рудольф Танзи, Джон Харди и Деннис Селкоу, они признали возможность существования альтернативных путей, по которым следует двигаться в поисках истины. Эволюционная биология подсказывает нам новые подходы, позволяющие вдохнуть жизнь в умирающие исследования альцгеймеровской патологии. Конкретно, она позволяет пролить свет на потенциально опасные механизмы, созданные эволюцией для того, чтобы обеспечить эффективное формирование головного мозга и его защиту от травматических повреждений в молодом возрасте – за счет повышения риска разрушения мозга и когнитивного упадка по окончании активного репродуктивного периода.
Разумеется, здесь естественно возникает вопрос, почему далеко не все «старички» становятся жертвой альцгеймеровского слабоумия. Принимая во внимание тот факт, что инфекции неотступно сопровождают нас по жизни, а сердечно-сосудистые заболевания, диабеты, ожирение и широкий спектр иных воспалительных заболеваний являются типичными спутниками старости, вполне вероятно, что конечный исход – перерастает ли воспаление в нейродегенеративный процесс или же мы каким-то образом защищены от этого – зависит только лишь от того, какими вариантами генов наделен каждый из нас. Да, сегодня мы гораздо больше знаем о важной роли воспаления, инфекции и врожденной иммунной системы, однако наиболее трудноразрешимой проблемой в изучении болезни Альцгеймера остается превращение этих знаний в конкретные методы профилактики. Семена болезни Альцгеймера засеиваются в гораздо более раннем возрасте, чем мы считали раньше, и в настоящее время мы не знаем, какие биологические маркеры могут предупредить нас о том, что в нашем головном мозге дали ростки патологические процессы, которые спустя несколько десятилетий выйдут на поверхность в виде пышно расцветшей деменции.
Какова бы ни была подлинная причина болезни Альцгеймера – болезнетворные микроорганизмы, воспаление, заболевание нейронов и синапсов или же это плата за достаточно долгую жизнь, на протяжении которой мы успеваем пострадать от побочных эффектов изобретенных эволюцией механизмов, позволяющих создать такой замечательный орган, как головной мозг, и защитить его от травм и патогенов, столь распространенных в древние времена, – мы должны найти надежный способ выявлять и останавливать этот патологический процесс уже в самом его начале, если мы не хотим уже в ближайшем будущем столкнуться с мировой пандемией деменции, перед которой мы будем абсолютно бессильны. И наша победа в этой борьбе может зависеть от того, прислушаемся ли мы к голосам нынешних «еретиков», предлагающих призвать на помощь эволюцию и разобраться в странном дизайне человеческого тела на основе фундаментальных биологических принципов. Помните, нельзя терять ни минуты.
Благодарности
Я хочу выразить огромную и искреннюю благодарность всем ученым-медикам, которые любезно предоставили мне свое драгоценное время, помощь и доступ к деталям своих исследований. Я глубоко обязан всем им, хотя и не могу перечислить их всех поименно – список был бы слишком велик. Тем не менее есть ряд людей, которые проявили по отношению ко мне особую щедрость, и я хочу поблагодарить каждого из них отдельно. Итак, я хочу сказать спасибо Эндрю Рэггу и Энтони Матуру, а также их пациентам с терминальной стадией сердечной недостаточности из лондонского Госпиталя святого Варфоломея; Джону О'Дауду и Джереми Фэрбанку за консультации в области ортопедической хирургии и возможность пообщаться с их пациентами; Майку Адамсу за консультации по вопросам биомеханики; Грэму Руку за консультации по иммунной системе и гигиенической гипотезе; Рональду Крёгеру за альтернативную точку зрения на строение глаза; Робину Али за объяснение технологий регенерации глаз при помощи стволовых клеток и любезное разрешение использовать в названии главы моей книги его выражение DIY Eye («глаз, который делает себя сам»); Дженнифер Акерман за любезное разрешение использовать ее выражение The Downside of Upright («обратная сторона прямохождения»); Дэвида Хейга за подробное объяснение его теории конфликта между родителями и потомством; Яна Бросенса, рассказавшего мне, как он строит свою исследовательскую работу на базе теории Хейга; Яна Сарджента и Криса Редмана, познакомивших меня с проблемой преэклампсии; Коллин Фармер за консультации по эволюции сердца у позвоночных; Колина Уоттса за разрешение посетить операцию по удалению опухоли головного мозга; Мела Гривза, Карло Мейли, Брайана Рейда, Яна Томлинсона и Тревора Грэма, поделившихся примерами применения эволюционного подхода в исследованиях рака; Сью Гриффин, Рудольфа Танзи, Роба Мойра, Джули Уильямс, Клайва Холмса, Хью Перри, Ирен Кнюзель, Бена Барреса, Рут Ицхаки и Брайана Балина за ценнейшие консультации в области болезни Альцгеймера. Некоторые из этих исследователей любезно согласились прочитать отдельные главы моей книги и сделать критические замечания. Особенно я хочу поблагодарить Рэндольфа Несса за полезные замечания по всем разделам. Помощь всех этих людей неоценима, и надо ли говорить, что во всех ошибках и упущениях, которые остались незамеченными, повинен я один. Я также хочу поблагодарить моего литературного агента Питера Таллака за его энтузиазм и энергию и моего редактора из издательства University of Chicago Press Кристи Генри за горячую поддержку моей идеи и неоценимую помощь и терпение в процессе ее реализации. Наконец, я должен поблагодарить моего дорогого друга Джереми Найта за то, что он напомнил мне тот бородатый анекдот, который я включил во введение к этой книге!



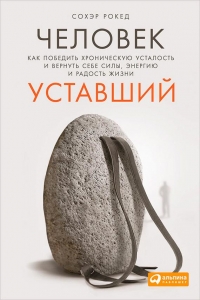





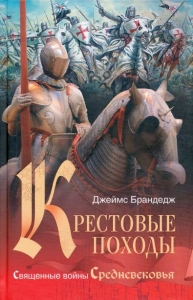

Комментарии к книге «Здоровье по Дарвину. Почему мы болеем и как это связано с эволюцией», Джереми Тейлор
Всего 0 комментариев