Георг фон Вальвиц Мистер Смит и рай земной. Изобретение благосостояния
Georg von Wallwitz
Mr. Smith und das paradies. Die Erfindung des Wohlstands
Данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы Музея современного искусства «Гараж» и ООО «Ад Маргинем Пресс».
© Berenberg Verlag, Berlin, 2013
© Т. Набатникова, перевод, 2015
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2015
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС» / IRIS Foundation, 2015
* * *
«Блестящая книга… Вальвиц как будто рисует огромную фреску и поражает удивительным изяществом, с которым он переходит от Вольтера, через Руссо, к Будденброкам, Чехову, Бальзаку и Диккенсу, а в конце концов и к современным экономическим кризисам».
Handelsblatt«[Георг фон Вальвиц] рассказывает очень занимательную историю развития экономической теории, украшенную многочисленными литературными и культурно-историческими отсылками».
Frankfurter Allgemeine Zeitung«Действительно, историю учений можно рассказывать и совсем по-другому: занятно, местами остроумно и не обременяя себя наукообразной системностью – ровно так, как это делает Георг фон Вальвиц в книге „Мистер Смит и рай земной“».
Süddeutsche ZeitungЗамысел
Что такое благосостояние? В эпоху Просвещения ещё можно было легко ответить на этот вопрос. Благосостоятельным считался тот, кто достиг материальной независимости – в виде земельных угодий, золота или долговых обязательств – и располагал этим по возможности в большем количестве, чем ближний. Но не для всех людей добиться такого положения оказалось осуществимым. Общей была вот какая проблема: каждое поколение, если ему удавалось достичь того, что предшественники понимали как благосостояние, было недовольно своим положением и хотело либо продвинуться дальше, либо вернуться назад, либо двигаться в каком-то ином направлении. Каждая эпоха вырабатывала своё представление о хорошей и сытой жизни.
Экономика как современная наука изначально занималась исследованием средств и путей достижения благосостояния. Официально эта история началась с «Исследования о природе и причинах богатства народов» Адама Смита, великолепного труда, который при всей глубине мысли не испытывал недостатка в конкретных предложениях, как достигнуть этой цели с наименьшими затратами. Но поскольку представления о благосостоянии менялись со временем и с модой, экономике приходилось снова и снова начинать с нуля, чтобы быть услышанной современниками. Сохранялось лишь прежнее название.
Таким образом, ей приходилось не лучше, чем литературе и философии, которые с незапамятных времён говорили о любви, добре, красоте и Боге, но каждые пятьдесят лет понимали под этим нечто иное. Другими словами, она подвергалась тем же переменам моды и взглядов на мир, что и они, пела с того же листа и даже часто попадала в тот же тон. Экономисты зачастую преследовали те же задачи, что и их современники-литераторы, только с совсем другими претензиями. Экономика не меньше, чем литература, становилась отражением своего времени, меняясь при этом как стареющее зеркало, слепые места которого делают его само по себе картиной.
Если верно высказывание Клемансо, согласно которому война – слишком важное дело, чтобы доверить его генералам, и если можно перенести это высказывание на экономику приблизительно в таком виде: экономика слишком важное дело, чтобы доверить его экономистам, – то лучше рассматривать её со стороны, с точки зрения более «мягких» дисциплин и художественной литературы. К сожалению, их представители ощущают себя чаще всего эстетами и не решаются докопаться до значения экономики в жизни. Лишь по очень важному поводу – каким был, например, финансовый кризис 2008–2009 годов – они просыпаются из своей финансовой дремоты, находят слишком сложным то, что видят перед собой, коротко вздыхают, поворачиваются на другой бок и снова закрывают глаза. Британская королева – по случаю посещения Лондонской школы экономики – вынуждена была задать вопрос, почему экономисты проморгали этот кризис и не предостерегли вовремя о надвигающейся беде. Никто не требовал от них точного прогноза рецессии. Но почему – в этом заключался собственно упрёк – у них не хватило фантазии почуять экономический кризис исторического масштаба или хотя бы вообразить себе мир, в котором самые ликвидные рынки, в Лондоне и Нью-Йорке, вдруг пересохнут? В качестве ответа королева получила тогда лишь ряд попыток оправдаться (неблагоприятная групповая динамика, неверные данные, нереалистичные допущения, «толстые хвосты» распределения, начитались романов Айн Рэнд и т. д.), которые сами по себе были интересны, но проку от них не было никакого.
Наверное, было бы лучше описать – с должной краткостью и лёгкостью, – как экономика стала тем, что она представляет собой сегодня, в чём состоит её наибольший прогресс, как она при этом всегда оставалась зеркалом, выражением и плодом своего времени и почему не удается обрушить на неё весь праведный гнев. Жалобы остаются преимущественным правом грядущего поколения. Вот с этого и начнём.
Вольтеровский рай
– А тебя ведь ни знойное лето,
Ни зима, ни огонь, ни моря, ни железо – не могут
От твоих барышей оторвать: никаких нет препятствий!
Только и в мыслях одно, чтобы не был другой кто богаче![1]
Гораций. Сатиры. Книга Первая, сатира первая, стих 38 и далееИстория современной экономики начинается, как и множество других хороших историй, с драки и оскорбления. В этой своеобычной драке на одной стороне выступал Вольтер, а на другой – шевалье де Роган. Точнее говоря, за последнего дрались его присные, поскольку ему самому не пристало и не пришло бы в голову меряться силой с таким парвеню, как Вольтер, который совсем недавно с большим трудом завоевал себе место на самом краешке общества. Если бы оба противника на момент их поединка – глупого, впрочем, и по форме, и по содержанию, – могли догадываться, какому процессу они тем самым дают толчок, оба глубоко призадумались бы, каждый в меру своих способностей и склонностей.
Вольтер в свои тридцать лет уже стал литературной сенсацией. Вообще-то он был сыном примерного и экономного бюргера, который заслужил себе почёт и скромное состояние, будучи средним чиновником. Но Вольтеру совсем не хотелось обитать в этой среде, ведь он был, несомненно, самым честолюбивым поэтом своего века. Закончить как его брат, который в конце своей скучной карьеры унаследовал должность отца, да к тому же ещё был очень набожным, – для Вольтера было хуже смерти. Соответственные чувства он питал к своим родным. Поэтому после того, как у него обнаружился талант, он поставил на кон всё, чтобы преуспеть в качестве писателя.
Лучшие семейства Франции в те времена составляли небольшую клику, жизнь которой с любой точки зрения ничем не была отягощена. Ришелье в XVII веке не только забрал у аристократов власть, но и избавил их от ответственности, перекроив всё государство под короля. Им остались только привилегии и финансовые средства для беззаботной жизни. Желанная государству оторванность аристократии от реальности позволяла ей проводить жизнь в глупостях и сплетнях. Во Франции XVIII века как никогда культивировалось искусство молвы (как правило, дурной). Тонкий ум ценился скорее тогда, когда он был обаятельным, нежели когда был полон глубокого смысла. Острое словцо имело вес, если оно было не только метким, но и уничижительным. Жизнь тех десяти тысяч людей, что входили в высшее общество, была изысканной, но при этом скучной и пустой.
Между тем дела у Франции шли не блестяще. Торговля была задушена по причинам господствовавших тогда экономических теорий физиократов и меркантилистов, налогообложение было коррумпировано, а государственная казна пуста. Придворный штат, который ориентировался скорее на свои потребности, чем на возможности, и воинство, в последнее время всё менее доблестное, но от этого не менее затратное, ввергало государство в большие долги. Общее разложение коснулось и церкви, священство которой редко было в состоянии жить так, как проповедовало. Оно потеряло свой авторитет и подвергалось насмешкам придворных. Епископат, порождённый церковью, был преимущественно того же пошиба, что и Ришелье, но редко того же калибра.
Вольтер стремился пробиться в благородное общество и старался избавиться от всего, что могло выдать его происхождение. Чтобы забыли его положение, он сменил свою мещанскую фамилию Аруэ на де Вольтер. За ранний поэтический триумф король присудил ему ежегодный пенсион, и он прекрасно находил общий язык с мадам де При, влиятельной фавориткой принца Конде. Стиль его был блестящим, темы очень подходили ко времени, и он никогда не давал скучать ни себе, ни пригласившим его хозяевам. Франция XVIII века ценила остроумных людей, поскольку элита не занималась ни политикой (нежелательной для короля), ни экономикой (она была слишком груба), а войну рассматривала как нечто вроде приключенческой игры. Ей оставалась лишь ужасная скука при дворе, обращение к религии, которая пребывала в прискорбном состоянии, или занятия художественной литературой. По-настоящему волнующим было лишь последнее, ибо французский язык открывал доступ ко всей европейской культуре. Кто уважал себя, тот говорил и писал по-французски (языком науки, впрочем, как была, так и оставалась латынь), французская мода была «последним писком» от Санкт-Петербурга до Лиссабона, а пьесы Расина и Корнеля задавали тон на подмостках всего континента, тогда как Шекспир был дохлой собакой (которая, как известно, больше не кусается).
В 1726 году Вольтера вдруг выбила из седла одна история, которую рассказывают часто и в разных вариантах. Спусковым крючком послужило острое замечание в сторону уже упомянутого шевалье де Роган-Шабо, тщеславного и глуповатого отпрыска одного из важнейших семейств Франции, который приблизительно так же вошёл в историю эпохи Просвещения, как Понтий Пилат в Символ веры. Роган высокомерно спросил честолюбивого поэта, как же его фамилия – Аруэ или Вольтер? Тот не полез в карман за злобным ответом и сказал, что как бы его ни звали, честь своего имени он способен защитить. Юмор редко бывает независим от социального статуса, и это замечание оказалось слишком дерзким для эпохи обывательского представления о чести, когда в таких семействах, как Роганы, гордость своим прошлым была самым важным делом. Шевалье рассвирепел и задумал отомстить. При этом ему не пришло в голову ничего оригинального, и при следующей встрече, после представления в театре Комеди Франсез, в гримёрной знаменитой актрисы Адриенны Лекуврёр, он просто повторил свой вопрос. Вольтер отразил его вопрос замечанием: «Шевалье уже получил свой ответ». Тут Роган хотел побить Вольтера, но у Лекуврёр хватило присутствия духа упасть в обморок, и афера вновь была отложена на потом.
Роган перешёл на следующую ступень эскалации, опять же лишённую остроумия, зато эффективную. Несколько дней спустя Вольтер был приглашён на ужин к герцогу Сюлли, своему другу и почитателю. Во время ужина – человеку и тогда хотелось быть постоянно доступным – Вольтера попросили выйти, чтобы лично принять сообщение посыльного. Но перед домом стоял не посыльный, а подручные шевалье, которые тут и довершили то, что их господин чуть было не осуществил прежде своими руками. Поколотили Вольтера. Роган сидел в карете, смотрел на происходящее и давал указания. Должно быть, он приказал, чтобы голова Вольтера не пострадала, ведь она могла пригодиться для дальнейших забав.
– Какой добрый господин! – восклицали зрители, привлечённые этим спектаклем.
Побитый и униженный, Вольтер вернулся к своим гостеприимным хозяевам, которые, однако, ничего не пожелали знать о случившемся. Если писака вступает в спор с одним из важных людей страны, – таков был холодный ответ Сюлли, – он должен быть готов к последствиям и не вправе ожидать, что найдёт поддержку среди людей, по статусу равных обидчику.
К своей ярости Вольтер обнаружил, что всё парижское общество находит реакцию Рогана совершенно нормальной и понятной и никто не хочет за него вступиться. Итак, ему пришлось помогать себе самому и брать уроки фехтования, чтобы вызвать своего врага на дуэль. Но это было более чем некстати, так как не только дуэли, но и вызовы были запрещены. Так Вольтер угодил в Бастилию, одну из уютных тюрем, в которой он уже хорошо ориентировался. Именно там он сочинил своего прославленного «Эдипа», когда десять лет назад был посажен за свою сатиру на регента Филиппа Орлеанского. На сей раз преступление было не так велико, а Вольтер уже был знаменитым поэтом, так что через несколько недель его выпустили на волю с обязательством покинуть страну. Беспомощный и утративший иллюзии относительно Франции и ее высшего общества Вольтер в 1726 году отправился в Англию. Для французского Просвещения и экономики это путешествие стало поворотным моментом, а для монархии одним из важнейших гвоздей в крышку её гроба – о чём в тот момент не могли догадываться ни Вольтер, ни Роган.
В Англии Вольтер обнаружил, что вопреки ожиданиям он оказался без средств. Банкир, на вексель которого он рассчитывал в Лондоне, обанкротился, и его бумаги потеряли ценность. Вольтер был болен, одинок и впал в отчаяние. «Я был в городе, где никого не знал <…> В столь жалком состоянии у меня не было мужества обратиться в наше посольство. Никогда я не был так несчастлив; но такова была моя судьба: испытать все беды». Благодаря какому-то – ныне уже не восстановимому – повороту судьбы он был принят у известного Эверарда Фокенера, одного из самых интересных коммерсантов своего времени, позднее посланника в Константинополе, затем шефа Британской почты и, наконец, в возрасте 53 лет, зятем генерала Черчилля, племянника герцога Мальборо. Там Вольтер вновь – после всех унижений – обрёл свое чувство юмора. Но в первую очередь он научился – что было бы невозможным во Франции – уважать коммерсанта и даже восхищаться им.
До сих пор он смотрел на этот класс свысока, как это было принято тогда среди французских аристократов. Государство нуждалось в предпринимателях, ибо они были теми, кто в конечном счёте организует торговлю и производит товары, а эти товары только и делают жизнь приятной. Они были так же необходимы, как крестьяне, ремесленники или чиновники, но их, однако, поначалу не воспринимали всерьёз как людей, как личности. Жизнь коммерсантов была в глазах Вольтера пошлой, лишённой утончённости, экстравагантности и остроумия. Она проходила в конторах, а не в замках или на какой-либо сопоставимой с замками сцене. Никакой поэт, и уж никак не с амбициями Вольтера, не пришёл бы к мысли добровольно искать общества коммерсантов или предпринимателей. Только крайняя нужда заставила Вольтера завести знакомство с Эверардом Фокенером.
Пребывания за границей, если они плохо подготовлены, чреваты неожиданностями. Вот и Вольтер – после того, как заново обрёл равновесие под защитой Фокенера, – поначалу не переставал удивляться. Он знакомился со страной, которая во всех политических и социальных аспектах намного опережала его родину, что Вольтер до сих пор считал решительно невозможным. Свои наблюдения он обобщил в книге, которую составил как собрание «Философских писем». Адресатом этих писем были оставшиеся на родине соотечественники, которые пребывали в твёрдом убеждении, что Франция и французская культура – это вершина цивилизации, на которую можно лишь с завистью взирать и у которой остальной мир может лишь подсмотреть и что-то – чтобы не сказать всё – перенять для себя. В «Философских письмах» Вольтер видел всё ровно наоборот. Франция отсталая, окостеневшая и обедневшая страна – как в духовном, так и в финансовом смысле. Англия устремлена в будущее, динамична и стала – незаметно для французов – могущественной. Придворный штат, может быть, и не дотягивал до уровня версальского, да и зачем? В расчёт принимались только политические и экономические основы, на которых зиждется общество. Во Франции они были прогнившими, а в Англии почти идеальными. Наглядно описать это для французов и было намерением Вольтера.
Власть церкви в Англии, как описано в этих письмах, заметно сократилась после многолетних религиозных войн, которые велись с большим ожесточением. Воцарилась религиозная терпимость, какой, если вспомнить масштаб власти католической церкви во Франции, можно было только удивляться и радоваться: «Англия – страна сект: Multae sunt mansiones in domo patris mei[2]. Англичанин – человек свободный – отправляется на небо тем путем, какой он сам себе избирает»[3]. Это государство пыталось улаживать свои дела без вмешательства духовенства. «Если бы в Англии была только одна религия, следовало бы опасаться ее деспотизма; если бы их было две, представители каждой перерезали бы друг другу горло; но их там тридцать, а потому они живут в благодатном мире»[4]. Общество в Англии было открытым и плюралистичным. Каждый мог быть счастлив на свой лад. В глазах Вольтера это было основой цивилизованного общества, которого Франции так болезненно (для стороннего наблюдателя) недоставало.
Вольтеру не надо было уезжать в Англию, чтобы отречься от религии. Церковь с незапамятных времён была излюбленной целью его острот. То, с чем он впервые познакомился там, – это с благотворной ролью, какую играли торговцы, коммерсанты и предприниматели. «Если вы придете на лондонскую биржу – место, более респектабельное, чем многие королевские дворы, – вы увидите скопление представителей всех народов, собравшихся там ради пользы людей: здесь иудеи, магометане и христиане общаются друг с другом так, как если бы они принадлежали одной религии, и называют “неверными” лишь тех, кто объявляет себя банкротом; здесь просвитерианин доверяется анабаптисту и англичанин верит на слово квакеру. Уходя с этих свободных, мирных собраний, одни отправляются в синагогу, другие – выпить, этот собирается дать себя окунуть в глубокий чан во имя отца и сына и святого духа, тот устраивает обрезание крайней плоти своему сыну и позволяет бормотать над ним еврейские слова, которых он и сам-то не понимает; иные идут в свою церковь со своими шляпами на головах, чтобы дождаться там божественного вдохновения, – и все без исключения довольны»[5]. Биржа занимала и примиряла людей, которые обычно – хотя бы и по старой привычке – вцеплялись бы друг другу в горло. Торговля социализировала их настолько, насколько никогда не удавалось религии, как ни проповедовала она мир и любовь к ближнему. На рынке никто не призывал людей к братству, однако оно было неизбежным следствием.
В Англии коммерсанты пользовались уважением, и страна благодаря им стала упорядоченной, свободной и богатой. «Торговля, обогатившая английских горожан, способствовала их освобождению, а свобода эта, в свою очередь, вызвала расширение торговли; отсюда и рост величия государства: именно торговля мало-помалу породила морские силы, с помощью которых англичане стали повелителями морей. <…> Всё это вызывает у английского купца справедливое чувство гордости и заставляет его, не без некоторого основания, сравнивать себя с римским гражданином, поэтому младшие сыновья пэров королевства вовсе не пренебрегают коммерцией. <…> Когда милорд Оксфорд управлял Англией, его младший сын был комиссионером в Алеппо, откуда не хотел возвращаться на родину и где он умер»[6]. Англичане поняли, что стремление к личному благосостоянию продвинет страну дальше, чем кнут аристократов или церковные обещания о спасении души. Во Франции всякий, кто хочет, может стать маркизом «и гордо презирать негоцианта; сам негоциант так часто слышит презрительные отзывы о своей профессии, что имеет глупость за неё краснеть. Однако я не знаю, какая из этих двух профессий полезнее государству – профессия ли напудренного вельможи, которому точно известно, в какое время встает ото сна король и когда он ложится, и который принимает величественный вид, играя роль прихлебателя в приемной министра, или же профессия негоцианта, обогащающего свою страну, раздающего из своего кабинета приказания Сюрату и Каиру и содействующего процветанию всего света»[7].
К этому времени в Англии уже назрела и висела в воздухе индустриальная революция. Создавались центральные цеха, куда из окрестностей поставлялись полуфабрикаты, изготовленные по большей части вручную, в домашних условиях. Эти цеха превращались в фабрики, которые производили товар всё дешевле и дешевле. Вольтер прозорливо усмотрел, что такому развитию принадлежит будущее и что государству следует ориентироваться именно на него. Это же стоило бы сделать и французам, если они не хотят окончательно отстать от англичан.
В представлении Вольтера, сформировавшемся во многом благодаря его жизни в Англии, политика должна была стать экономической. Тем самым экономика переставала быть периферийным явлением и пособием для усердных домохозяев и фермеров. Она становилась в его «Философских письмах» организующим элементом общества, которое ставило своей целью благосостояние и тем самым достигало большего, чем все мольбы Франции о рае. Вольтер скрестил экономику с политикой, и это послужило отправной точкой для того удивительного развития, которое началось в просвещённом мире с середины XVIII века. На этом пути экономика стала политической, а стремления людей были направлены уже не на потусторонний обетованный рай, а на обретение благосостояния в этом мире. Рай уже не был тем, чего стоит ждать, ведь на земле можно было найти ему хорошую, реальную, а прежде всего надёжную замену.
Индустриальная революция была как политическим, так и экономическим проектом. Она могла состояться только вопреки интересам правящих элит, поскольку означала переход власти и благосостояния от аристократии к буржуазии. Без институций, которые добивались прав собственности, не могло быть достигнуто процветание, подобное английскому, – но эти институции ограничивали власть короля. Не могло быть процветания и без широкого доступа к рынкам, который подстёгивал конкуренцию и тем самым заставлял буржуазию предпринимать большие усилия. Но это означало свободу, равенство и ограничение привилегий, что тоже не могло понравиться тогдашней старой аристократии. Но она пошла на это. В Англии государственные институции и экономика были согласованы друг с другом, и это привело к огромному успеху. За этим – будущее, как писал Вольтер в своих письмах домой, и, если вы не хотите погибнуть, делайте как англичане!
Экономика и до Вольтера была почётной дисциплиной. Аристотель учредил её как учение о домашнем хозяйстве, но после этого многообещающего начала она проболталась без внимания две тысячи лет. В эпоху барокко то тут, то там возникала какая-нибудь экономическая школа, но не приобретала большого значения. Только через связь с политикой, возникшую в «Философских письмах» совершенно непринуждённо и без больших теоретических фанфар, экономика приобрела фундамент и заняла место, благодаря которому стала тем, чем является сегодня. Тем самым Просвещение получило собственную дисциплину, в которой оно хотя и разочаровывалось довольно часто, но которая стала для него той колымагой, которая развозила по миру всю совокупность его идей. Благосостояние нации было лишь частью вопроса о правильном правительстве. Политическая экономия, как она вскоре стала именоваться, была уже не только – как предшествовавшие ей дисциплины – увеличительным стеклом, через которое можно было разглядывать общество, но и инструментом, с помощью которого общество изменяло само себя. А начало положил Вольтер, и в этом смысле его посещение Англии было «поворотным пунктом в истории цивилизации», как благоговейно назвал это Литтон Стрейчи.
Вольтер пробыл в Англии почти три года. После возвращения он был полон решимости больше никогда не попадать – ни социально, ни финансово-в то положение, в каком он оказался из-за побоев подручных Рогана. Социально ему это не вполне удалось, он всю свою жизнь тосковал по Парижу и по его пустому, рождённому в привилегиях обществу. В старости он даже вернулся в лоно ненавистной католической церкви, что бы под этим возвращением ни понимали он сам и его священник-духовник. Вольтер после своего пребывания в Англии обретался по большей части у границ области, на которую распространялась власть французских королей – в Бельгии, в Лотарингии, на Женевском озере, всегда на расстоянии слышимости от Парижа, где быть услышанным в конце концов было единственным, что имело значение.
В финансовом же отношении он скоро стал очень независим. К его литературному честолюбию теперь добавилась ловкость в обращении с деньгами, почти равная его словесной виртуозности и заставлявшая бледнеть иных спекулянтов на Лондонской бирже. И в самом деле, многие его тамошние деловые партнёры радовались его уходу, ибо понятие порядочного коммерсанта он так никогда до конца и не усвоил. И из Пруссии ему пришлось поспешно удалиться – из-за непорядочного мухлежа с саксонскими государственными займами, который показал, каким мало сдержанным был Вольтер, когда дело шло о получении финансовой выгоды.
В мозгу Вольтера слишком глубоко засел принцип максимизации прибыли. Он был скуп по отношению ко всем, кроме ближайших членов семьи, корыстолюбив, хитёр и, когда речь шла о деньгах, легко забывал приличия. Таким образом он стал богат и мог позволить себе любую роскошь, какую могло предложить его время. Он копил деньги, потому что накопление денег и их демонстрация доставляли ему бесконечное удовольствие и поскольку признание, которое они давали, всегда было для него самым важным. Он был капиталистом в изначальном смысле слова, он копил капитал ради него самого и хотел через проценты и инвестиции стать ещё богаче, не задаваясь вопросом, имеет ли это смысл.
Если переформулировать Вольтера несколько современнее, то он с его пониманием благосостояния недалеко ушёл от той точки зрения, что имеет хождение сегодня. Сегодня бы он, пожалуй, сказал, что благосостояние нации измеряется в stock keeping units (SKU, единицы складских запасов), в каких розничные торговцы дают оценку видам товаров у них в запасах. Если, например, у торговца на складе пять синих и три зелёные юбки, то у него два SKU. Страна благосостоятельна, если в её магазинах предлагается много SKU, ибо это означает не только то, что для каждого здесь найдётся нечто удовлетворяющее его потребностям или даже способное его осчастливить, но и то, что у людей достаточно средств, чтобы купить предложенное. И тогда можно сравнивать. У племени яномами, не тронутого европейскими влияниями и живущего между Ориноко и Амазонкой, как подсчитал Эрик Бейнхокер, генератор идей Глобального института McKinsey, в своей книге «Происхождение благосостояния» (The Origin of Wealth), вышедшей в 2006 году (содержательной и заслуживающей прочтения), многообразие товаров не бог весть какое. Оно не выходит за пределы нескольких сотен и уж точно меньше тысячи SKU. А «племя нью-йоркцев», в отличие от них, может выбирать из десятков миллиардов SKU. Выбору порядка 102 противостоит многообразие предложения величиной 1010. Вот это благосостояние! Вольтер бы рукоплескал, да и вообще великолепно чувствовал бы себя в Нью-Йорке. Благосостояния достиг тот, у кого вещей больше всех. Именно так видит дело любой ребёнок на детской площадке, и даже если бы Вольтер и сегодняшние экономисты выразили бы это сложнее, в целом они бы согласились с малышами.
С таким пониманием благосостояния Вольтер находился в радостном и открытом антагонизме с двумя большими группами хранителей добродетели своего времени. На одной стороне находились христианские традиционалисты, которые в принципе не обращали внимания на мировое богатство и ожидали истинного блага лишь в потустороннем мире. На другой стороне были буржуазные моралисты кальвинистского толка, которые – например, в Женеве или Нидерландах – хотя и имели склонность к зарабатыванию денег, но отвергали роскошь. Их излюбленным примером была Римская республика, закат которой совершенно явно был вызван всеобщей изнеженностью и отказом от строгих обычаев отцов-основателей. В своей поэме Le Mondain («Светский человек») Вольтер, напротив, констатирует:
Ce temps profane est tout fait pour mes mœurs. J’aime le luxe, et même la mollesse, Tous les plaisirs, les arts de toute espèce, La propreté, le goût, les ornements: Tout honnête homme a de tels sentiments[8].Он считал изобилие матерью искусств и ничего хорошего не находил в природном состоянии, которому многие в то время романтично присягали. Он предполагал у людей в первобытном состоянии лишь нехватку личной гигиены и дурные манеры. «Им недостаёт ремесла и благосостояния: разве это добродетель? Это чистое невежество». Разумеется, и это стихотворение вскоре было запрещено.
В вольтеровской картине мира коммерсанты, инвесторы, спекулянты (или как уж там назывались люди, которые обращались с более-менее ликвидным совокупным основным капиталом) умножали благосостояние всего народа тем, что они в рамках закона преследовали свои экономические интересы и строили корабли, создавали фабрики и занимались торговлей. Роскошь богатых давала заработок ремесленникам и слугам. Свобода индивидуумов беспрепятственно заниматься торговлей без вмешательства церкви и без препон, чинимых привилегиями аристократов, была тем, что в итоге и двигало общество вперёд. Свобода богатеть вела к росту общего благосостояния и в конечном счёте к подъёму культуры, расцвету искусств и телесной гигиены. Материальное благосостояние и индивидуальная свобода были двумя сторонами одной и той же монеты, они обусловливали друг друга и вместе создавали основу культурного прогресса, целью которого была сладость, la douceur, цивилизации.
Вольтер так и не сочинил книгу по политэкономии, поскольку он вообще был не особенно систематичным человеком, но его политическое мышление со времён его пребывания в Англии всегда содержало в себе экономический мотив. Благодаря ему этот образ общества и человека надежно обосновался в совокупности идей Просвещения. Больше, чем кто-либо другой, он внёс свой вклад в то, чтобы заменить в головах людей рай небесный – земным благосостоянием. С его подачи экономика стала организующим принципом общества. Она стала тем средством, с помощью которого мечты о сытой жизни (новое для людей желание) могли воплотиться в жизнь. Объединив экономику и политику, Вольтер распахнул ворота в буржуазную эпоху. С тех пор как Просвещение предоставило экономике центральное место, благосостояние смогло расти и стать символом европейской цивилизации.
Теория и практика обнищания
У всех свои страсти[9].
Вергилий. Эклога II, 65Воззрениям Вольтера уже добрых 250 лет, и их, вообще-то, очень легко понять. Если устранить привилегии и господство произвола, а на их место поставить разум и науку, позволить коммерсантам мирно и уверенно вести хозяйство, поставить толковых над нерадивыми – и страна расцветёт в благосостоянии. И действительно, соединение экономики и политики произвело индустриальную революцию, которая после длительного периода нищеты заметно улучшила всеобщее благосостояние. Так разумно сегодня звучит то, что тогда было революционным. Но барокко глубоко застряло у нас в костях, глубже, чем готов воспринимать рассудок, и кое-кто по-прежнему тоскует по привилегиям высшего общества. Никто, достигнув прочного положения, не хочет конкуренции и свободного соревнования. Ведь они означают лишь увеличение нагрузки и уменьшение выгоды, ничего хорошего.
Крупные кризисы в Европе, США и Японии после смены тысячелетия, отмеченные ещё и гордым сознанием того, что конец истории уже близок, во многом связаны с подавленными частными интересами и являются в известной мере воплощением идей барокко. В каждой стране проблема выглядит по-своему, но всюду имеет один и тот же эффект. Привилегии возникают совершенно естественно, и если они однажды установились, если немногие избранные привыкли жить за счёт многих, всякое изменение стоит больших усилий – как революция. Привилегии быстро становятся частью культуры, укореняются в образе жизни и становятся частью системы ожиданий, ибо мало что так инертно и устойчиво, как вера в свою избранность. Государство, которое не хочет стать жертвой непотизма, должно иметь сильные и централизованные институции, чтобы защищаться от дурного кумовства. Но при всей силе оно должно быть открытым, прозрачным и хорошо контролируемым, чтобы самому не стать источником привилегий. В подобном равновесии, которое постоянно приходится находить заново, пребывает не так уж много обществ.
Как бы то ни было, Просвещение положило конец не привилегиям, а разве что только напудренным парикам. В любой стране, в любом обществе возникают те незаслуженные льготы, которые Вольтер клеймил позором. Сегодня, уже не в эпоху Просвещения, этот механизм функционирует, пожалуй, следующим образом: маленькие группы людей, которым надо многого добиться и которые хорошо знают друг друга, охотно объединяются, когда речь идёт о том, чтобы ещё увеличить свою долю в общем пироге. Если их не так много, добыча делится на меньшее количество охотников и участие каждого по отдельности окупается. Например, представим себе весьма обозримое число фирм в индустрии частного долевого собственного капитала, которые предпочли бы платить меньше налогов. Для крупных игроков это может означать экономию порядка сотен миллионов долларов, и для каждого из них соответствующее изменение закона окупилось бы, даже если бы ему пришлось в одиночку оплачивать лоббирование. Тем более для группы в целом это окупается всегда.
К такому проекту охотно примыкают и адвокаты этих фирм, чуя возможность получить гонорар в виде участия в инвестициях частного долевого собственного капитала (который предполагается освободить от налогов). Так некоторые имеют огромный интерес в небольшом изменении закона, по которому выплаты руководству частного долевого собственного капитала больше не облагаются налогом как доход. Тема довольно тёмная, так что дело остаётся закрытым для широкой публичности, и находится достаточно симпатизирующих депутатов, которые очень скоро доводят намерение до состояния закона. На свет такая конструкция попадает, только если какой-нибудь неосторожный член этого общества высунется из окна слишком далеко, как, например, республиканский кандидат в президенты 2012 года, Митт Ромни, налоговая ставка которого в 14 % утаивалась от слишком большой части работающего населения.
Чем больше группы, тем труднее поставить их участников в один ряд. Высшая школа – вот фундамент для создания профсоюзов. Организовать массу людей непросто, потому что нет такого гольф-клуба, в котором весь состав имел бы общее прошлое и мог доверительно договориться о совместных действиях. И прибыль приходится делить между бо́льшим количеством голодных ртов, что для каждого по отдельности может не превысить суммы карманных расходов. Каждый член рискует потерять рабочее место и тем самым основу пропитания семьи, а на другой чаше весов при этом может оказаться разве что весьма скромное повышение заработка. Многие рабочие на стадии основания профсоюзного движения быстро понимали, что их личный доход находится в не очень хорошей позиции по отношению к риску, и вожди протеста (которым надо было выиграть очень много) в XIX веке по существу были заняты тем, что обещали райские кущи и, если требовалось, насильно не допускали штрейкбрехеров к работе. Каждому по отдельности надо было так или иначе разъяснять его интерес.
Но когда привилегии уже достигнуты, инсайдеры прилагают усилия к тому, чтобы как можно меньше людей имели к ним доступ. Делиться доходом всегда нежелательно, так что там, где удалось добиться частных интересов, возникает естественная склонность к эксклюзивности. Профсоюзы добиваются и заключения договора по зарплате, и трудовых прав, которые защищают тех, кто уже имеет работу, от тех, кто хочет её иметь. Врачи держатся за право получения места жительства, которое защищает их от конкуренции. Крестьяне получают премии за сокращение обрабатываемых площадей, даже если они, помимо прочего, получают дотации, чтобы именно на этих площадях возделывать определённые сельскохозяйственные культуры для получения альтернативных источников энергии – а сходные схемы в других отраслях они бы наверняка сочли странными.
Будь то профсоюзный босс, крестьянский руководитель или управляющий частного долевого собственного капитала, они играют на разных инструментах, но по одним и тем же нотам. Они преследуют свои интересы за счёт апатичной массы, утверждая при этом как нечто само собой разумеющееся, что имеют в виду лишь общее благо, и тем самым парализуют общество. Они создают преграды конкуренции и равному доступу к рынкам и институциям, направляют денежные потоки так или иначе в свои карманы и устанавливают всё более сложные правила регулирования со всё большим количеством исключений, особых случаев и льгот до тех пор, пока не возникнет сеть, в которой хорошо устроились только самые ловкие. Из сегодняшних ловкачей получается завтрашний привилегированный класс, который затем, о чём сожалеет Вольтер, тормозит экономический и социальный прогресс самим своим существованием.
Чем слабее институции, тем более «барочны» обстоятельства, о чём можно судить при поверхностном обзоре еврозоны. Там, где централизованное государство слабо, всевозможные заинтересованные группы имеют возможность обеспечивать себя незаслуженными правами, а говоря напрямую – угощаться из общественной казны. Государство там не становится общественным проектом, агентом интересов своих граждан, а понимается как средство использования в личных целях. Банкротство государства в Латинской Европе для граждан, настроенных скорее антигосударственно и знающих по собственному опыту, как позаботиться о себе самостоятельно, не так страшно, как, например, для немцев, которые зачастую без своего государства не знают, за что хвататься.
Современная экономика привилегий наверняка представляет собой культурный феномен, зависимый далеко не только от институций. Таким странам, как Греция, не помогло то, что они переняли законы и государственное устройство у Дании, это в них ничего не изменило. Греческое государство, которое является излюбленным примером европейского упадка, имеет далеко не такую власть над своими гражданами, какую имеют бюрократии Севера, основанные на государственнических традициях. Тут господствует барокко без абсолютизма. Это даёт определённым группам возможность получать синекуры, пока они у власти. То есть, если правительство составлено из социалистов, оно обеспечивает своих однопартийцев работой – например на государственной железной дороге – как это прежде делала буржуазия для своих друзей. Так и в государственных предприятиях или бюрократиях стремятся не столько к достижению внешних целей, сколько к обеспечению инсайдеров за счёт всех остальных.
В результате на греческой государственной ЖД в 2009 году годовому обороту в 174 миллиона евро противостояли расходы по содержанию персонала в размере 290 миллионов евро и проценты по обслуживанию восьмимиллиардного долга в размере 422 миллионов евро. Среднестатистический сотрудник железной дороги зарабатывал в год 65 тысяч евро-от дежурного по переезду до машиниста локомотива. Или: в Греции мужчины могут уйти на пенсию в 55 лет, а женщины в 50, если они работают на тяжёлой или вредной работе. В качестве таковых классифицированы около 600 профессий – в том числе парикмахер, радиодиктор, официант или музыкант. Или: лишь треть всех врачей в Греции вообще платит налоги, остальные зарабатывают, если верить их налоговым декларациям, меньше прожиточного минимума в 12 тысяч евро, освобождённого от налогов. Это не составляет и 20 % зарплаты среднестатистического железнодорожника. Греция до сих пор была страной с самой высокой в Европе долей самостоятельных предпринимателей, что не удивительно, ведь предприниматели практически не облагаются налогами – какой бы высокой ни была налоговая ставка на бумаге. А если кого-то и привлекали к выплате налога, он всегда мог пойти в суд, где дела рассматриваются подолгу – до 15 лет. До тех пор пока кому-нибудь – судьям или финансовой службе – не надоест судиться. Или: тогдашний министр финансов Франции – Кристин Лагард – передала своему греческому коллеге список с именами почти двух тысяч греческих клиентов банка HSBC в Женеве. С них планировалось взыскать неуплаченные налоги – такова была надежда кредиторов Греции из ЕС – и этими поступлениями санировать финансы страны. Госпожа Лагард, видимо, была настолько деликатна, что не просмотрела этот список, иначе ей не пришлось бы удивляться, что он тотчас бесследно пропал. В списке стояла, разумеется, клиентура политического класса, и дело просто кануло в лету. В стране, где каждый так или иначе привилегирован и относится к какой-нибудь клиентуре, никто не заинтересован в переменах и наслаждается жизнью, пока можно. Государство рассматривается инсайдерами как средство обогащения, а всеми остальными – как грабитель.
Так же, как в Греции, дела обстоят во многих частях мира, разве что не так живописно и шумно. Просвещению приходится нелегко, оно может в течение многих поколений безрезультатно нападать на религиозный догматизм и традиционные устои, но его обещание благоденствия, заработанного праведными трудами и эффективностью, чаще всего так и остается неуслышанным, как известие о приходе мессии, возвещённое воплями в пустыне.
Культурный шок, охвативший Европу во время большого кризиса, не нов, это отголосок того, что пережила Италия с момента своего основания 150 лет назад. Северные итальянцы, находившиеся под французским и австрийским влиянием, имевшие могущественные города-государства с сильными и действенными правительствами, привыкшие к правовой традиции, которая пронизывала всё, пережившие Просвещение (по крайней мере со времён оккупации Наполеоном), индустриализацию, прониклись, неизвестно почему, идеей, что итальянцы, живущие южнее Рима, в принципе устроены так же, как они сами. Так сама собой напрашивалась мысль распространить французское понимание государства из Пьемонта на всю страну и избавить братьев из Кампаньи, Сицилии, Калабрии и Апулии от незрелости, в которой те были виноваты сами. О том, насколько подобное предположение было наивно и насколько мало южная «незрелость» поддаётся изменению через пафос освобождения, рассудка и эффективности – роман Джузеппе Томази ди Лампедуза «Леопард». Там князь, символ истории Сицилии, но в то же время человек науки, привыкший видеть глубину сквозь поверхностный кажущийся облик, противодействует захвату власти со стороны Севера, который обещает реформу его стране, застрявшей в средневековье. Руссо[10], представитель нового времени, уверяет князя: «Всё станет лучше, поверьте мне, ваше превосходительство. Люди умелые и честные смогут выдвинуться. Всё остальное останется по-прежнему»[11]. Князь интерпретирует это для Юга: «Эти люди, деревенские либералишки, стремились лишь к легкой наживе. Баста, поставим точку»[12]. Он, а вместе с ним и многие простые люди видят в итальянском объединении под властью Пьемонта лишь смену господствующего класса, старой аристократии – на торговцев и ростовщиков. В конце концов сицилиец смотрит на пьемонтцев так же, как смотрел до этого на греков, римлян, арабов, норманнов, Анжуйскую династию, арагонцев, Габсбургов и Бурбонов; все они приходили с какими-нибудь новыми идеями – и никогда не задерживались тут. Коммерсанты Севера, которые на сей раз обещают новый мир и благоденствие, ничем не лучше, и сицилийцы не станут ради них менять свой образ жизни. Прежний порядок останется – так смола склеивает все внешние повреждения на стволе старого дерева. В этот мир Просвещение может войти лишь совсем иным, чем было когда-то задумано, ибо оно не найдёт здесь почвы, в которой могло бы укорениться.
Почему людям так тяжело даётся всякое изменение, даже если они точно знают, что, следуя выбранному курсу, они экономически потерпят поражение, а морально не выиграют ничего? Антон Чехов описывает в своей пьесе «Вишнёвый сад» паралич привилегированного общества, которое не может ни изменить себя, ни отказаться от себя. Некогда состоятельная русская дворянская семья оказывается в пьесе без средств. Она долго жила очень хорошо и никогда не задумывалась о том, откуда, вообще-то, берутся деньги. Жизненный стандарт семьи был не без элегантности приспособлен к имеющимся ресурсам, они привыкли к нему, как к долго ношенному праздничному костюму. Они и впредь ожидали от судьбы всего того, что полагается удачной жизни – например, возможность годами жить в Париже и иметь незастроенный вид на реку. Голос разума в этой пьесе принадлежит Лопахину, бывшему крепостному семьи, который разбогател на предпринимательстве. Он питает симпатию к прежним господам и пытается довести до их понимания две вещи: что им грозит разорение и как им избежать гибели. Его предложение гласит: самую красивую часть имения, вишнёвый сад, разбить на дачные участки и построить там для горожан летние домики. Но Лопахину не удаётся убедить господ ни в том ни в другом, поскольку семья предпочитает цепляться за призрачные надежды, чем портить себе настроение голыми расчётами и якобы экономической необходимостью:
Гаев. Ярославская тётушка обещала прислать, а когда и сколько пришлёт, неизвестно…
Лопахин. Сколько она пришлёт? Тысяч сто? Двести?
Любовь Андреевна. Ну… Тысяч десять-пятнадцать, и на том спасибо.
Лопахин. Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я ещё не встречал. Вам говорят русским языком, имение ваше продаётся, а вы точно не понимаете.
Любовь Андреевна. Что же нам делать? Научите, что?
Лопахин. Я вас каждый день учу. Каждый день я говорю всё одно и то же. И вишнёвый сад, и землю необходимо отдать в аренду под дачи, сделать это теперь же, поскорее, – аукцион на носу! Поймите! Раз окончательно решите, чтоб были дачи, так денег вам дадут сколько угодно, и вы тогда спасены.
Любовь Андреевна. Дачи и дачники – это так пошло, простите.
Гаев. Совершенно с тобой согласен.
Лопахин. Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Не могу! Вы меня замучили!
Происходит то, что и должно происходить: не происходит ничего. На принудительной продаже с публичных торгов сам Лопахин и покупает имение и затем делает то, что содержит в себе экономический смысл. Вишнёвый сад вырубается. В конце на заднем плане слышится звук топора, которым рубят чудесные деревья, не приносившие, правда, дохода. Вот что случается с обществами, в которых привилегии разрушили воображение: они скорее погибнут, чем реформируются. В этом глубинная причина плохих прогнозов для европейского проекта.
Полем деятельности, которое необходимо открытому обществу и действующей экономике, должен быть безупречный газон, на деле же редко попадается что-либо, кроме ухабистой площадки. Тем отважнее была идея Вольтера вообразить мир разума и заработка, равенства и справедливости, при котором рай на земле будет достигнут и сделается всеобщей реальностью. Ничего такого не было никогда и, пожалуй, не будет, по крайней мере до тех пор, пока человек ищет для себя преимуществ и чурается трудов. Но утописту всё едино, ему можно смело прорываться за пределы вялой инертности людей и расписывать себе, как могло бы выглядеть воплощение царства небесного на земле.
Детская комната экономики
Вы, итальянцы, изобрели вексельное дело и банки; да простит вам Бог.
А англичане – те изобрели политическую экономию, и этого человеческий гений им не простит[13].
Нафта в споре с Сеттембрини. Томас Манн. Волшебная гораНаряду с индейкой на день благодарения – в память об отцах-пилигримах с корабля «Мэйфлауэр» – в США есть ещё один миф об основателях, который вновь и вновь рассказывают молодым людям долгими вечерами у камина. Это история колонистов Джеймстауна, которые первыми заселили английские колонии в Северной Америке.
От англичан в XVI веке не укрылось, что испанцы завладели в Южной и Центральной Америке изрядными богатствами. Модель бизнеса была проста. Испанцы брали в плен местных вождей, используя их в качестве залога, порабощали население и посылали его в рудники, чтобы те добывали золото и серебро для новых господ с острыми бородками. И этого добра у испанцев внезапно скопилось так много, что это привело всю Европу к ощутимой инфляции, из-за чего и англичане обратили внимание на новые возможности. Чтобы прийти к богатству тем же способом, в Лондоне была образована Virginia Company, которая в 1606 году снарядила три корабля и отправила их в Северную Америку. Север был не лучшим выбором, но густо населённые и богатые части континента были уже захвачены иберами, так что англичанам пришлось довольствоваться тем, что ещё оставалось незанятым. Итак, корабли встали под паруса и пустились к Чесапикскому заливу и вверх по реке, которую они назвали именем своего короля Джеймса. 14 мая 1607 года они основали на удобном месте поселение Джеймстаун.
Как только было обустроено самое необходимое, колонисты стали подыскивать подходящего царька, которого можно было бы взять в плен. Вождь Вахунсунакок, который управлял этой местностью, жил милях в двадцати, в Веровокомоко, но он был недоверчив и не собирался попадаться в чьи-либо руки. На такую ситуацию никто не рассчитывал, и англичане растерялись. Им в голову не пришло самим возделывать поля, чтобы снять урожай и сделать запасы на зиму. Никто ведь никогда не слышал, чтобы испанцам пришлось работать самим, и если уж пришлось покинуть Англию, то не для того же, чтобы вкалывать в Новом Свете, как вкалывали у себя дома. Итак, они сидели и ждали царька, который никак не попадался в плен.
Запасов на зиму было мало. Корабли поплыли назад, в Англию, чтобы привезти новых колонистов и продовольствие, но было неясно, когда они смогут вернуться. Руководство колонией взял на себя Джон Смит, рыцарь удачи, который раньше воевал с голландцами за англичан и с турками – за австрийцев (турки взяли его в плен и продали в рабство, но он смог освободиться, украв у своего хозяина одежду и коня, и средь бела дня гордый, как турок, ускакал в Австрию). Смит наладил торговлю со всё ещё сторонящимися их индейцами и тем самым добыл основные продукты питания. Во время одной экспедиции он попал в плен к Опечанканугу, младшему брату вождя, и был доставлен в Веровокомоко. Временами перспективы Смита были совсем нехороши, но Покахонтас, дочь вождя, влюбилась в него и добилась его освобождения. Без такого аспекта миф об основателях, конечно, обойтись не мог.
Постепенно Джону Смиту стало ясно, что испанская модель не переносится на Северную Америку. Во время своего пребывания в Веровокомоко он обнаружил, что у индейцев нет золота. «Всё их богатство состоит в продовольствии», – разочарованно пометил он в своём дневнике. Но он был реалистом и осторожно пытался приучить колонистов к мысли, что им придётся работать самим. В конце концов, когда те начали проявлять в ответ на это несдержанность, он издал закон, согласно которому «he that will not work shall not eat»[14]. И дело больше не выглядело как латиноамериканская мечта.
Колонисты пережили зиму, и корабли привезли новые запасы и новые идеи из Лондона. Теперь план состоял в том, чтобы втереться к вождю в доверие, пригласив его в Джеймстаун, чтобы короновать его в качестве вице-короля под верховной властью Якова I. Для этой цели из Англии привезли пирит, сверкающий камень, который хотели выдать за золото. Это была блестящая задумка, но Вахунсунакок не знал, какой ему толк от такого предложения. И пришлось колонистам самим отправиться к нему, чтобы короновать его в его собственном городе. Но это переполнило чашу терпения. Вахунсунакок, и без того уже издёрганный новыми соседями, которым всё время от него что-то было нужно, прогнал колонистов и прекратил с ними все торговые отношения. После такого фиаско Смит вернулся в Англию, и колонистам опять стало нечего есть. Из 500 жителей, которые населяли Джеймстаун в 1609 году, до следующего марта дожили только 60.
Наступило время опять менять бизнес-модель. Раз уж не удалось заставить аборигенов работать на себя, колонистам придется самим поработать на Virginia Company. Страна была объявлена собственностью фирмы. Колонистов поселили жить всех вместе, как в казарме. Были образованы колонны рабочих, которые подчинялись представителю фирмы. Были изданы законы, по которым карался смертью тот, кто пытался сбежать, кто крал что-нибудь или продавал на сторону продовольствие или имущество. Таким методом, подобным тому, что ныне практикуется разве что в Северной Корее, в Лондоне надеялись хоть что-то извлечь из колонии. Но даже эксплуатация своих людей не привела к цели. Как ни переводили колонистов на казарменное положение, как ни грозили им смертной казнью, каким лишениям ни подвергали, а дело так и не закрутилось. Джеймстаун оставался нищим, а Virginia Company терпела убытки.
Так шло до 1618 года, пока не произошла новая смена стратегии. Теперь несчастных колонистов решили стимулировать работать. Каждый поселенец получил в подарок дом для жизни и по 20 гектаров земли на каждого члена семьи для личного пользования. Обязанность работать на Virginia Company была отменена. Были сняты ограничения на торговлю, и частная собственность получила гарантии неприкосновенности. В 1619 году было введено общее собрание, в котором каждый взрослый мужчина имел право голоса в решении дел Джеймстауна; из общего собрания образовалось правление, и оно действительно пеклось об интересах населения.
Результатом этих реформ стало рождение современной демократии и самостоятельного ведения хозяйства на земле будущих США. Подъём, который незамедлительно последовал, вскоре оставил в тени все достижения испанцев – и оказался совсем другим, чем было изначально задумано. Джеймстаун превратился в благосостоятельный город – даже по британским меркам. Благосостояние установилось, как только общество организовалось так, что люди могли использовать свой труд для самих себя. С тех пор как их стала мотивировать цель, а не принуждение, они вдруг стали не только делать то, что нужно, но и проявляли изобретательность и старание. Общее благосостояние, как учат нынешнюю молодёжь, возникает не из золотых и серебряных рудников, а из усердной, самостоятельной и самостоятельно определённой работы на собственную пользу. Понадобилось всего тринадцать горьких лет, чтобы дойти до этой мысли.
Такие истории, которые давали повод основательно задуматься об организации общества, были в ходу, когда Адам Смит начал задумываться о людях. Он был профессором этики в Эдинбурге и вёл типичную для философа скучную жизнь. Внешне он был мало привлекателен – волочил ноги, тряс головой и, как говорят, был пучеглаз, – но обладал очень острым умом. Ему не удавалось вызвать к себе интерес женщин (хотя он объяснялся в любви многим кандидаткам), зато он привлек к себе внимание тогдашних литературных салонов. И то и другое было связано с его рассеянностью (он мог забыть утром одеться и выходил на улицу в домашнем халате) и его склонностью к чудаковатым долгим разговорам с самим собой.
Известность он приобрёл с первой же книгой, «Теорией нравственных чувств» (1759), и получил возможность оставить свою преподавательскую работу. Он стал хорошо оплачиваемым домашним учителем малолетнего герцога Баклю и сопровождал своего воспитанника в трёхгодичном образовательном путешествии по Франции и Швейцарии. Это путешествие значительно расширило его кругозор, поскольку он познакомился не только с Вольтером в Женеве, но и с остальными ведущими французскими умами того времени в Париже. Самое глубокое впечатление на него произвёл Франсуа Кенэ, личный врач мадам де Помпадур и ведущий физиократ Франции. Физиократы были современной школой экономистов, исходивших из того, что благосостояние страны заключено в производстве товаров – в отличие от господствовавшего прежде мнения, что оно заключается в количестве золота и серебра, которым располагает страна. Государство должно держаться как можно дальше от формирования стоимости продуктов и вести политику невмешательства (laissez-faire). Кенэ допускал формирование стоимости исключительно в сельском хозяйстве. То, что делали с сырьём ремесленники, было, по его мнению, лишь манипуляцией, не создающей добавленную стоимость. И хотя сам Смит не считал себя физиократом, он считал, что многим обязан Кенэ. И только смерть Кенэ незадолго до публикации «Богатства народов» помешала тому, чтобы этот труд был посвящён ему.
Поскольку за все эти годы ему не удалось обучиться беглой французской речи, в своем путешествии Смит подолгу был предоставлен сам себе и начал писать вторую книгу – опубликованное в 1776 году «Богатство народов». С этой книгой он моментально сделался знаменит во всей Европе благодаря своей экономической компетентности и был назначен таможенным комиссаром Шотландии. Это была очень доходная должность, и Смит исполнял её с большим тщанием.
«Богатство народов» – книга, по которой видно, что она написана без спешки. Смит проанализировал в ней всю экономическую литературу своего времени, дополнил, расширил и заново систематизировал. Она пугающе объёмна – не потому, что заявленная в ней теория так сложна, а потому, что Смит, судя по всему, затрагивает все темы, о каких он только думает, и часто больше рассказывает, чем аргументирует. Возникновение богатства и процветания – яркая история, и Смит иллюстрирует её во всей полноте практических примеров. Он легко теряет нить и отвлекается на детали. Его отступление на тему серебра занимает 75 страниц. Он пишет о религии и социологии нравственности, о воспитании, об образовании профессоров, о правосудии, охоте и истории войн.
«Богатство народов» – книга, которая на философские вопросы даёт экономические ответы. Смит спрашивает, что удерживает общество в целости, если людьми не движут моральные чувства или их не принуждают обычаи и религия – а именно так зачастую и происходит. Когда люди в лондонском порту или на улице Парижа встречаются и имеют общее дело, не зная друг друга: как может быть, что оба преследуют собственные интересы, у каждого своя рубашка ближе к телу – и тем не менее они прекрасно ладят? В деревенской общине большую роль играют обычаи, но что происходит в колонии Джеймстауна, где люди не знают друг друга, где нет установленных обычаев и того, что разумелось бы само собой? Как взаимодействуют люди, которых не связывает общая цель? Как философ-моралист Смит интересуется тем, как люди обходятся друг с другом, как должно функционировать общество и как оно функционирует в реальности. Это уже было темой его «Теории нравственных чувств».
В смитовском мире общество незнакомых людей удерживает в единстве рынок. Колонисты и индейцы не стремятся много знать друг о друге (во всяком случае, индейцы не стремятся знать о колонистах), не имеют общей культуры и не преследуют общих целей. Тем не менее вместе их держит торговля. Она координирует, как это обнаружил ещё Вольтер на лондонской бирже, людей с разными интересами. В «Богатстве народов» это выражено так: «…человек постоянно нуждается в помощи своих ближних, но тщетно было бы ожидать ее лишь от их расположения. Он скорее достигнет своей цели, если обратится к их эгоизму и сумеет показать им, что в их собственных интересах сделать для него то, что он требует от них <…> Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими собственных интересов»[15]. Хотелось бы заметить, будет даже лучше, если булочник станет печь ради собственной выгоды, а не из моральных, религиозных или ещё каких-то душевных побуждений. Будет лучше для морали, для религии и для булочек. Так эгоистичный пекарь преумножает благосостояние народа, даже если и не имел таких намерений.
Смит видит, что люди в таких местах, как Джеймстаун, лишь тогда начинают работать всерьёз, когда могут извлечь выгоду. Только мотив выгоды делает возможным экономическое развитие. До Просвещения обогащение рассматривалось лишь как вариант неблагочестивой алчности и его помещали в тот же шкаф для ядовитых веществ, что похоть или леность. Смита это не смущает, он берёт эту мотивацию под защиту, перетолковывает и переименовывает её в собственный интерес, одомашнивает и придаёт ей тем самым haut goût[16]. Выгода – это хорошо, поскольку она сводит людей к их обоюдной пользе, вот как это просто. Насколько тяжело это усваивалось в христианской Европе, видно по примеру Абрахама Рёнтгена, самого крупного краснодеревщика Европы. В его годовых отчётах та строка, в которой указывается прибыль, обозначена словами «дары благодати».
Но для общества мотив выгоды имеет смысл, только если есть соревнование. Конкуренция заботится о том, чтобы предприниматель обходился с ресурсами экономно и предлагал потребителям низкие цены. Пекарь рад бы предлагать свои булочки по цене выше производственных затрат. Но это ему не удастся, поскольку его конкурент может сбить цену и переманить у него покупателей. Ниже производственных затрат никто свои товары предлагать не может, потому что иначе прогорит. Итак, рано или поздно все булочки будут продаваться по стоимости производственных затрат.
Если пекарь хочет разбогатеть, ему придётся либо очень много работать, либо открыть новое поле деятельности, где у него не будет конкурентов или будет мало (и, соответственно, он получит высокую маржу). Он может, в нашем примере, стать кондитером и на какое-то время установить монопольные цены. Но конкуренты прознают про это и, если рынок не отгорожен какими-нибудь мерзкими политическими приёмами, вскоре тоже начнут предлагать пироги и печенье. И тогда опять конец хорошей прибыли.
Рынок заботится не только о том, чтобы предлагались те вещи, на которые есть спрос, он заботится также о нужном количестве. Если спрос на пироги велик и превосходит производимое количество, то вряд ли кондитер устоит перед соблазном назначить более высокую цену. Однако его высокие доходы привлекут конкурентов, которые, в свою очередь, тоже начнут производить желаемый товар. Дело будет оставаться выгодным до тех пор, пока не насытится и этот рынок и больше нельзя будет извлекать высокую прибыль. Если всё устроено необдуманно, временами будет производиться даже больше, чем требуется. Тогда цены падают – даже ниже стоимости производственных затрат. Убытки, разорения и безработные кондитеры будут до тех пор, пока вновь не установится равновесие.
На этом примере грубо описано, как функционирует рынок. Смит объясняет, как собственный интерес заставляет людей предлагать продукты, которые нужны их согражданам. Он показывает, почему они при этом действуют эффективно и предлагают свои товары по максимально низким ценам. Смит описывает рынок как саморегулирующуюся систему, которая автоматически – через конкуренцию или банкротство – корректирует высокие прибыли или убытки. Это бесплановое, но лишь на первый взгляд хаотическое регулирование функционирует, потому что человек, как правило, реагирует на стимулы. Он высчитывает свою выгоду и прикидывает, во что это ему обойдётся (то есть затраты). Рынок деликатно маячит на заднем плане и не должен пробиваться в сознание: «Отдельный человек <…> не имеет в виду содействовать общественной пользе и не сознает, насколько он содействует ей <…> Он преследует лишь собственную выгоду, причем в этом случае, как и во многих других, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения; при этом общество не всегда страдает от того, что эта цель не входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более действительным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это»[17].
Адам Смит описывает, как и все экономисты, своё время. Во второй половине XVIII века, пожалуй, и впрямь существовало нечто вроде свободного рынка. Цены и заработки росли и падали вместе с предложением и спросом. Предприятия были маленькими и достаточно гибкими для того, чтобы быстро перестроить производство. У Смита перед глазами скорее сельская экономика – приблизительно как в зрелом Джеймстауне, с мелкими ремесленниками и торговцами, которые честно соревнуются друг с другом. Но уже тогда он мог наблюдать, что открытость конкуренции быстро оказывается под угрозой. Меньшинству зачастую удаётся сказочно разбогатеть, нечестно меняя систему в свою пользу. Торговцы всегда имеют тенденцию исключать своих конкурентов, чтобы самим получать наибольшую выгоду и взимать «чрезмерную подать с остальных своих сограждан. К предложению об издании какого-либо нового закона или регулирующих правил, относящихся к торговле, которое исходит из этого класса, надо всегда относиться с величайшей осторожностью, его следует принимать только после продолжительного и всестороннего рассмотрения с чрезвычайно тщательным, но и чрезвычайно подозрительным вниманием. Оно ведь исходит из того класса, <…> который обычно заинтересован в том, чтобы вводить общество в заблуждение и даже угнетать его…»[18]. Государство должно следить, чтобы хитроумные ловкачи не провели его, поскольку богатство внезапно оказывается лишь у некоторых в ущерб всей остальной стране.
Судя по всему, Смит мог списать этот пример с образца английской колонии Барбадос, где в 1680 году была проведена проверка. Из 60 000 жителей 39 000 были рабами из Африки и являлись собственностью 175 крупных плантаторов. В Барбадосе есть свободные рынки и притязание на собственность проводится в соответствии с британским правом. Если один плантатор сахарного тростника продаёт землю или рабов другому, он может в любой момент обжаловать в суде исполнение сделки. Суды весьма компетентны в этих делах, ибо 29 из 40 судей острова по своей основной профессии крупные землевладельцы. Как, впрочем, и восемь военных высокого ранга. Хотя на Барбадосе есть свободный рынок, хорошо организованные институции и мягкая зима, тамошнее благосостояние не может сравниться с благосостоянием североамериканцев. Не хватает элемента участия. Если прибыль оседает только у 175 сограждан, остальные не заинтересованы в том, чтобы работать старательно. Стимулы должны быть сформированы так, чтобы они были и у тех, кто это благосостояние создаёт. В противном случае действует зачастую столь же верная, сколь и неправильно толкуемая пословица: «If you feed peanuts, you get monkeys»[19].
Сам собой напрашивается вывод: надо – как в Джеймстауне – привлечь к управлению как можно большую часть населения. Так будет гарантирована забота государства о материальной заинтересованности и о конкуренции. Это точка, в которой демократия и рыночная экономика пересекаются. Действующий рынок, свободный и приносящий благосостояние, может устойчиво существовать только в свободном обществе, институции которого ориентированы на общее благо, а с привилегиями идёт борьба – эти условия соблюдены скорее (но не исключительно) в странах демократии. Адам Смит не хотел заходить так далеко, но и он видел, что для благосостояния страны существенно – держать рынки максимально открытыми и препятствовать доминированию избранных. Чтобы рынки могли функционировать, государство должно при необходимости не только вмешиваться в рынок (как насчёт аграрной реформы на Барбадосе?), но и заботиться, например, о том, чтобы население было хорошо образовано. Хорошее образование обеспечит известное равенство шансов и конкуренцию – не так, как на Барбадосе.
Хорошее образование ведёт не только к более осознанной материальной заинтересованности, но и к росту и лучшему качеству продукции, а это и есть настоящий ключ к благосостоянию народа. Уровень жизни зависит от того, что и сколько производится. Обученный пекарь, который выпекает 200 булочек в час, как правило зарабатывает больше, чем необученная помощница, которая может выпечь только 50. Производительность, определяемая как количество товаров и услуг, которые рабочий производит в час, – решающий регулировочный винт удобной жизни. Чем выше производительность, тем выше стандарт жизни.
Смит видит: наряду со свободным и хорошо отрегулированным рынком, хорошим образованием и открытой конкуренцией – источником высокой производительности и тем самым более высокого благосостояния является прежде всего разделение труда. «Основное правило каждого благоразумного главы семьи состоит в том, чтобы не пытаться изготовлять дома такие предметы, изготовление которых обойдется дороже, чем при покупке их на стороне. Портной не пробует сам шить себе сапоги, а покупает их у сапожника. Сапожник не пробует сам себе шить одежду, а прибегает к услугам портного. <…> Все они находят более выгодным для себя затрачивать весь свой труд в той области, в которой они обладают некоторым преимуществом перед своими соседями, и все необходимое им покупать в обмен на часть продукта, или, что то же самое, на цену части продукта своего труда»[20]. Эффективность повышается, когда каждый ограничивается тем, что умеет лучше всего, когда все приёмы хорошо отработаны – короче: когда не приходится много раздумывать. Где производство эффективное, там производится много, а где много производится – там возникает благосостояние. Итак, организовав общество таким образом, можно воплотить представление Вольтера о земном счастье. К нему в настоящий момент мало что можно добавить, и мы по сей день считаем его действующим представлением о счастье.
Адам Смит многое упустил, поскольку был на удивление чужд современности. Так, он почти не заметил индустриальную революцию, хотя её первый расцвет состоялся у него на глазах. Хотя он видел, что коммерсант в конце концов снимал с аристократа-землевладельца последнюю рубашку (потому что аристократ не вникал в свои же собственные интересы и поддавался на уговоры коммерсанта), но он также верил, что единоличный коммерсант в спорной ситуации всегда превзойдёт акционерное общество. Акционерное общество, по его мнению, не имеет будущего ввиду конфликта интересов между корыстолюбивым менеджментом и в большинстве своём флегматичной массой акционеров. Наёмные директора рассматривают в первую очередь собственные финансовые интересы и лишь во вторую очередь пекутся о благе фирмы. Подобно стае саранчи они сметают то, что некогда построили единоличные предприниматели. В этом Смит не так уж и неправ, и проблема управленческого класса, мало связанного с судьбой предприятия, остаётся до сих пор, но благодаря индустриальной революции возникают всё более крупные фабрики, строительство которых и последующее производство превышает возможности частного предпринимателя и, вопреки всем конфликтам интересов, даёт акционерным компаниям решающее преимущество.
Но даже в отчаянии Смита всё-таки можно найти нечто успокоительное, а именно: человек за последние два столетия капиталистической экономики не стал ни лучше, ни хуже. Те черты, в которых Смит находил нечто общее с саранчой, были одинаково присущи ему и тогда, и сейчас.
То, что описывал Смит, было существенно ближе такому микрокосму, как Джеймстаун, чем современному индустриальному обществу. Его мир был миром мелких коммерсантов на мелких рынках с мелкими покупателями и преимущественно приличными мотивами. Его симпатии на стороне мелкого коммерсанта, лавочника, и он тревожится оттого, что они имели слишком дурную славу. Он описывал Англию как «nation of shopkeepers»[21], не имея в виду ничего плохого. Он мог объяснить принцип функционирования простых рынков, но того невинного мира, каким он когда-то был, к тому моменту, когда вышла в свет книга «Богатство народов», больше не существовало. Может, вечные книги могут быть написаны только теми людьми, которые сами выпали из времени.
Связь, которую Вольтер установил между экономикой и политикой, благодаря Смиту стала конкретной. Он изложил, что должно делать общество для того, чтобы возникло богатство, наступил рай земной. Богатым был тот, кто имел много вещей, а большинство вещей мог произвести свободный рынок. Таким образом, благосостояние – естественный продукт рынка. Смит выявил путь, как скорейшим способом наладить жизнь в просвещённой свободе, преодолев нужду и бедность. На этом пути мы находимся и поныне. Первым соотнес идеи Смита с миром индустриальной революции Давид Рикардо.
Рикардо и первая глобализация
Французская революция столкнула хорошо упорядоченные идеи Просвещения с мрачной реальностью. От этого обеим сторонам стало только хуже. Великолепные, смелые, глубокие идеи, попав в руки практиков, в большинстве своём стали неузнаваемы; их приспособили для фактически или иллюзорно преобладающих особых случаев, упростили для широкой публики и подчинили интересам тех, кто благодаря им пришёл к власти. XIX век, отсчёт которого в целом можно вести с революционного 1789 года, был очень богат на идеи, а поскольку доброе старое время (по крайней мере поначалу во Франции) не могло оказать сопротивления, новое время вторглось в мир с головокружительной быстротой.
Ещё в 1800 году Европа имела больше общего со средневековьем, чем с модерном. Она была куда ближе к 1400 году, чем к 1900. Люди жили преимущественно в деревне, всем обеспечивали себя сами, мало что покупали и то и дело переживали нужду и голод; ими управляли король, аристократия и церковь, а горизонт их жизни не выходил за пределы нескольких ближайших деревень. Офицеры и служащие носили парики с косичкой, а дворянство одевалось как можно пышнее и ярче. Транспорт функционировал соответствующим образом и в большинстве случаев был хуже, чем во времена Римской империи, воловьи и лошадиные повозки громыхали по плохим дорогам, если погода вообще позволяла передвигаться. Ремесленники были организованы в гильдии, а гордые мещане обладали железными привилегиями. Со всем этим было быстро и радикально покончено.
Великая революция была восстанием против привилегий дворянства и духовенства и привела к власти буржуазию. Лишь недолго – с июня 1793 года до свержения Робеспьера – господствовала, к ужасу буржуазии, парижская чернь. Обстоятельства были крайне неупорядоченными: роялисты противостояли республиканцам, город – деревне, католики – антиклерикалам, либералы – привилегированным, французы – всем остальным – и устрашали и завораживали всю Европу. Но испуг продлился недолго, из революции получилась лишь эмансипация буржуазии, которая вырвалась из средневековых устоев, носителями которых были ремесленники и торговцы. О пролетариате тогда не было и речи. Мотором революции был гнев буржуазии на высокие налоги, на незаслуженные привилегии других и на экономический и военный упадок страны. Буржуазия смастерила себе такое государство, какое ей было нужно. Отчётливым знаком этой революции было то, что она пощадила имущество крупной буржуазии. Богатые боялись за свои деньги, которыми они ссудили погибающую монархию, но зато смогли позаботиться о том, чтобы государственная казна была санирована за счёт церкви – путём огосударствления монастырской собственности. Грабить предпочли церковь, но не рантье.
Буржуазия во Французской революции окончательно пришла к власти, как можно понять из многочисленных законоположений того времени. В них вошло много чего не только от Руссо, но и от Вольтера, и Адама Смита. Так, были отменены привилегии не только обычных подозреваемых, но устранены ВСЕ привилегии вообще (по крайней мере в теории – Жозеф Фуше, самый крупный оппортунист времён революции и реставрации, умер самым богатым человеком Франции). Были запрещены и гильдии, и им подобные объединения, которые защищали свои рынки от множества конкурентов. До этого в каждом городе имелся строгий порядок, кому что можно производить и продавать. С этим было покончено, парижские сапожники теперь могли предлагать свой товар в Лионе и наоборот. Обрадовать это могло лишь фабрикантов, которые могли производить много и дёшево. Под запрет объединений подпали и профсоюзы, которые были разрешены во Франции лишь в конце XIX века. Но и от этого выигрывал только промышленник, поскольку он мог сталкивать рабочих лбами, если не было согласованного со всеми единого заработка. С отменой зон, защищённых от свободной конкуренции, которые предлагал старый порядок, возник пролетариат. Ремесленники как наемные рабочие были включены в цепочку видов деятельности, которую сами они не контролировали. Раньше они работали, когда хотели и сколько требовалось, чтобы заработать себе на жизнь. Теперь они стали винтиками в анонимном механизме.
Ситуация, которую описал Адам Смит, теперь начала развиваться, поначалу как затяжной процесс, который затем, однако, необычайно ускорился. Конкретно индустриальная революция поначалу выглядела так: ремесленники из деревень, окружающих город, в какой-то момент между 1750 и 1850 годами начали производить не предмет целиком, а поставляли заказчику лишь части, а тот затем собирал целое. Так, в старые добрые времена швея сидела у себя дома в деревне на кухне, окружённая детьми, и шила платье, которое затем продавалось в город или в замок. Теперь, в эпоху разделения труда, она только вышивала кайму. Раз в неделю являлся кто-нибудь и забирал то, что она произвела. На фабрике другие швеи закрепляли эту кайму на платье. Эти швеи уже продвинулись на один скорбный шажок дальше, чем их коллеги из деревни: у них был твёрдый почасовой режим и они находились под строгим присмотром безжалостной надзирательницы. Они уже не были хозяйками своего распорядка дня и больше не могли одновременно заботиться о своих детях. Под это же иго в обозримом будущем попадут и вышивальщицы, когда этого потребует уплотнение производства.
Индустриальная революция означала не только разделение труда, она означала и непрерывную работу. Швея в деревне работала тогда, когда у неё был заказ и свободное время на его исполнение. Швея на фабрике имела заказ всегда, об этом заботился фабрикант. Он мог – поскольку у него не было простоев и он производил эффективно – предлагать свои товары дешевле, чем деревенская портниха. У последней поэтому не было другого выхода, кроме как работать на фабриканта, поскольку заказов на полный пошив она больше не получала. Либо она кланялась фабриканту, принимая его ритм и его условия, либо должна была искать другую деятельность.
Швея всё чаще сталкивалась не с хозяином или владельцем имения, а лишь с анонимной иерархией. Рабочие подчинялись бригадиру, который отвечал за безупречное производство, чтобы владелец фабрики в Лондоне, Париже, Барселоне или Милане получал прибыль, на которую рассчитывал. Бригадиры сами были лишь частью механизма и получали место как раз за свою беспощадность. Они следили за временем, за производимыми предметами, за порядком и результатом, а больше ни за чем.
Эта бездушная холодность, возможно, и была маркёром эпохи и основанием для бегства в романтику. Если почитать у Чарльза Диккенса, с какой жестокостью воспитывался Дэвид Копперфильд, как били детей и мучили женщин, как корыстолюбие определяло самые тесные и интимнейшие отношения, то становится ясно, почему писатели отчаянно искали добро и благородство во всей тогдашней грязи. «Отверженные» Виктора Гюго, «Жерминаль» Эмиля Золя, «Красное и чёрное» Стендаля или «Отец Горио» Оноре де Бальзака описывают честолюбие, беспощадность и алчность, которые сопутствуют восхождению по социальной лестнице, отмеченному постоянным страхом падения в нищету. Для карьеристов любовь к ближнему и стремление к искусству больше не являются целью существования, это лишь отвлекает их внимание от собственной персоны. Несовершенство мира, насквозь пронизанного экономикой, где любой разговор, любое обязательство, любая симпатия всегда отражается в вопросе о корысти в денежном выражении, является – по крайней мере в литературе, – ровесником индустриальной революции.
Может быть, самую живую картину ужасного состояния на фабриках даёт Золя, хотя пишет он только во второй половине XIX века. В «Жерминале», романе, действие которого помещено в середину XIX века, речь идёт о бедствиях и ярости шахтёров на северо-востоке Франции, в конце концов выливающихся в забастовку. Хотя все догадываются, что это восстание принесёт так же мало проку, как и все предыдущие, но рабочие просто больше не выдерживают постоянного сокращения заработной платы, потому что им и впрямь не хватает на жизнь. Когда забастовка начинает рушиться, герой романа Этьен Лантье, затеявший этот мятеж, вынужден поддержать моральный дух пламенной речью, в которой он описывает положение рабочих. Бедность и голод на протяжении жизни целых поколений он противопоставляет «толстобрюхим членам Правления, напичканным деньгами, со всей этой сворой акционеров, которые, как девки на содержании, более ста лет бездельничают, услаждая свою плоть <…> целое поколение мужчин, от отца к сыну, издыхает на дне шахты для того, чтобы министры получали взятки, а знатные господа и буржуа задавали пиры и жирели в тепле и холе! [Лантье] изучил болезни шахтеров <…> малокровие, золотуха, чахотка, астма, от которой люди задыхаются, ревматизм, приводящий к параличу. Несчастные служат пищей машинам, их скучивают, как скот, в поселках, большие компании постепенно поглощают их, обращают в рабство <…> миллионы рук – и все ради прибылей какой-нибудь тысячи тунеядцев. Но шахтер уже перестал быть невеждой, скотиной, раздавленной в недрах земли. В глубине шахт растет армия граждан, богатая жатва, которая в один прекрасный день пробьется на поверхность. <…> Труд потребует отчета у капитала, этого безликого, неведомого божества, восседающего где-то в тайниках своего святилища и пьющего кровь бедняков, за счёт которых он существует! Они туда пойдут и осветят его лицо заревом пожаров, потопят в крови это гнусное существо, этого чудовищного идола, пожирающего человеческую плоть!»[22]. И так далее. Обвинительный текст Золя имеет объём в 600 волнующих страниц, и не надо быть экономистом, чтобы относительно быстро понять, что имеется в виду.
Буржуазия не печётся о множестве людей, потерпевших поражение в этой борьбе за богатство, и почитает в качестве ориентира Вольтера. Таким образом она может богатеть, не испытывая мук совести. Литература и экономика – каждая на свой лад – являются попыткой описания и понимания мира. Иногда они очень выигрывают друг от друга, если пребывают в одной и той же реальности, если литература одалживает у экономики чувство реальности, а экономика берёт у поэтов чувство возможного. Но в большинстве случаев они непригодны для широкой публики, если погружаются каждая в свой собственный мир и ссылаются только на самих себя.
Идеи экономистов – всегда часть более широкой интеллектуальной конституции времени. Экономика никогда не формулирует свои теории изолированно, ибо она есть попытка выявить у всего происходящего в мире смысл и взаимосвязь. Поэтому литература и экономика часто берут одни и те же феномены в качестве исходного пункта. В современности это всегда трудно распознать, но потом, когда становится уже ясно, кто написал хорошую экономическую работу или книгу на все времена, слышишь в них созвучие. Так и в раннем XIX веке литература и экономика имеют одни и те же темы. Речь идёт о насыщении общества законами рынка, которые одного ввергают в бедность, а другому приносят феноменальное богатство. Поначалу они констатируют (Рикардо и Мальтус как «классические экономисты», Стендаль и Бальзак как писатели), что это, пожалуй, естественный ход вещей. Но с середины XIX века появляется убеждение, что обстоятельства жизни больше не могут оставаться такими (Диккенс, Гейне и Золя от литературы, Милль и позднее Маршалл – от экономистов). Позднее об этом ещё пойдёт речь.
Итак, кем был Диккенс для литературы, тем Давид Рикардо был для экономики. Оба описывают нищету индустриальной революции. Рикардо умер ещё в 1823 году, задолго до того, как начали задумываться о социализме и распределении, и это заметно по его экономическим теориям. Он был сыном биржевого игрока, переехавшего из Голландии в Англию, и поначалу обучался у своего отца, но потом был отвергнут семьей из-за того, что хотел жениться не на той женщине. Мать никогда больше с ним не разговаривала, но у отца для этого было гораздо меньше возможностей, поскольку сын тоже стал маклером, а на бирже все разговаривают со всеми, как с удивлением обнаружил ещё Вольтер. Да к тому же ещё Рикардо в короткое время перещеголял своего отца и приобрёл авторитет и богатство. Знаменитыми стали его сделки на исход войны против Наполеона, в которых Рикардо дёшево скупал английские государственные займы, когда мир был ещё ослеплён маленьким корсиканцем.
Однажды на летнем отдыхе, пользуясь благами своего внушительного состояния, Рикардо прочитал «Богатство народов». Книга произвела на него сильное впечатление, и он начал самостоятельно размышлять об экономике. По счастью, он уже сколотил себе состояние, ибо кто знает, не стало ли бы этому помехой отвращение Смита к акционерным обществам и крупной промышленности. По крайней мере он стал не только очень влиятельным теоретиком экономики, но сделал заметную политическую карьеру, в ходе которой стал видным членом парламента. И он написал книгу «Начала политической экономии и налогового обложения», в которой описывал экономику с точки зрения торговца и владельца фабрики. Он расширил, систематизировал и довёл до логического конца то, чему Адам Смит в своей толстой книге установил границы. Он приспособил учение о создании богатства к условиям индустриальной революции. XIX век наблюдал огромное увеличение производства и производительности, а у четверти населения, которая имела счастье причислять себя к буржуазии, ещё и фантастическое улучшение качества жизни, которое, конечно, имело мало общего с праздностью и douceur (приятностью) мира Вольтера. Благосостояние этой четверти выросло так сильно, что зажиточный буржуа в 1860 году располагал такими удобствами, о которых ещё два поколения назад обезглавленный впоследствии французский король не мог и мечтать. Это развитие индустрии, её неудержимая глобализация и печальный жребий рабочих разыгрывались на глазах Рикардо.
Его темой была торговля, и в качестве отправной точки можно считать то, что Смит сказал о разделении труда. Рикардо придумал понятие сравнительных преимуществ, под которым он понимал то, что мир устроен лучше всего, если каждый делает то, что он умеет делать лучше всех. Англия могла бы сама производить вино (кислое) и сукно, но, пожалуй, будет лучше, если она приостановит виноделие, зато будет ткать больше сукна, которое сможет затем обменивать у своего давнего союзника Португалии на вино (сладкое). Если бы португальцы могли производить и то и другое дешевле – за счёт более низкой зарплаты, – то разница в качестве сукна была бы не так велика, как в случае с вином. И Рикардо подсчитал (c помощью некоторых нестандартных допущений, как, например, отсутствие транспортных расходов), что как португальцам, так и англичанам было бы лучше, если бы каждый из них ограничился производством того, что он может производить дешевле всех своих торговых партнёров. На примере английского вина каждому сразу становилось ясно, что протекционизм неразумен. С тех пор все экономисты – убеждённые сторонники свободной торговли.
Адам Смит описал мир, гармонизированный экономикой, в котором всем становится со временем всё лучше и лучше. Но Рикардо достаточно было выглянуть в окно, чтобы убедиться, что благосостояние наступило далеко не у всех и что о гармонии не может быть и речи. Он видел не только борьбу рабочих за обычное выживание, но и борьбу за распределение внутри класса имущих. Владельцы земли подобно саранче тянули соки из предпринимателей, требуя с них всё более высокую арендную плату за землю. Из-за этого дорожал хлеб, и предпринимателям приходилось платить всё более высокие зарплаты, чтобы их рабочие просто могли выжить. Не ударив палец о палец землевладельцы становились всё богаче за счёт предпринимателей, вынужденных крутиться. Как и плантаторы сахарного тростника с Барбадоса, землевладельцы стремились к политической ренте (Rent-seeking), манипулируя социальным порядком так, чтобы богатеть, не создавая нового богатства. В этом они были ничем не лучше средневековых гильдий, которые искусственно поддерживали высокие цены путём ограничения доступа к товарам и удобно устраивались за счёт общества.
Рикардо описывает экономику вообще как арену борьбы, на которой, однако, снова и снова само собой устанавливается оптимальное равновесие. Слишком высокие или слишком низкие цены корректируются тем же рыночным механизмом, как и избыточное или недостаточное предложение. Решающий фактор для установления равновесия – предложение товаров. Для теории Рикардо важно, что избыточного предложения не может быть никогда. Томас Мальтус (1766–1834), его друг и сам оригинально мыслящий экономист, аргументировал, что при убывающей покупательной способности и убывающей численности населения может возникнуть избыток предложения. Нам, сегодняшним, эта мысль совсем не чужда, но Рикардо считал её чистым идиотизмом. По мнению Рикардо, если предприниматель производит товары, то он хочет их сбыть. Он будет понижать цену до тех пор, пока не найдёт покупателя. Никто не производит товары про запас, это было бы разорительно. Поэтому закон, названный именем Жан-Батиста Сэя (1767–1832), гласит, что спрос определяется предложением. Что бы ни было произведено, оно найдёт покупателя путём уменьшения цены. Нет производства без рынка. Всё остальное означало бы недооценку давления, под которым находятся производители: их капитал (за который они вынуждены платить проценты) не может пролёживать на складе без дела.
Механизм, по которому цены должны падать до тех пор, пока на товар не найдётся покупатель, является также обоснованием железного закона, который полвека спустя Фердинанд Лассаль приписал Рикардо. По этому закону зарплаты должны падать до тех пор, пока рабочая сила не подешевеет до уровня, который обеспечит лишь чистое выживание рабочего. Если она станет ниже, рабочий умрёт от голода, и его рабочая сила пропадёт. Если она станет выше, то легко найдётся безработный, согласный работать за более низкую зарплату. И хотя Рикардо говорил в своих «Началах» о том, что зарплата зависит не только от прожиточного минимума, но и от общих условий жизни и что в гуманном обществе зарплата не может быть ниже прожиточного минимума, это дополнение охотно оставляют без внимания – и не только Лассаль; в печальной первой половине XIX века это дополнение не играло никакой роли.
Итак, мир, который описывают экономисты и литераторы XIX века, функционирует следующим образом: ремёсла и торговля свободны от государственного вмешательства и рынок заботится о том, чтобы товары и услуги в нужном количестве и в нужное время попадали к тем людям, которым они нужны. Никакое управляющее учреждение не в силах быть таким эффективным и изобретательным, как свободный рынок, чтобы обеспечить людей тем, чего они хотят. Таким образом, государство – ради снабжения своего населения – старается больше не вмешиваться в экономику, а любовь к народу демонстрирует другим способом. Но если люди хорошо обеспечены, они естественным образом быстро приходят к идее дальнейшего размножения – этот аргумент, приведённый Мальтусом, вызвал в довикторианской Англии не только экономическую, но и моральную оторопь. Чем лучше дела у людей, тем сильнее эта склонность – до тех пор пока численность населения не перегрузит экономический базис. Благодаря избытку свежепроизведённой рабочей силы предприниматели оказываются в завидном положении, когда им приходится выплачивать в виде зарплаты лишь прожиточный минимум, поскольку всегда находится голодный, которому существование дороже гордости. Из-за перенаселённости буйствуют голод и нужда, и жизнь превращается в борьбу за существование. Поэтому для Мальтуса будущее человечества не видится ни радужным, ни вдохновляющим, а представляется непрерывной битвой за недостающие ресурсы и рабочие места. Либидо терпит от этого большой урон, и люди теряют охоту и силы для размножения. После чего рождается меньше детей. Как следствие падающая численность населения ведёт к нехватке рабочей силы и тем самым к повышению зарплат. Рынок труда регулируется сам по себе. Теперь экономические возможности опять догоняют потребности населения. И когда у всех опять всё хорошо, люди снова переключаются на другую – и все на одну и ту же – мысль. И цикл бедности и перенаселённости может начаться с начала. Таков несколько причудливый взгляд на мир у Мальтуса и Рикардо, на него же опирается и Маркс, и из моды он выходит лишь в начале XX века: с падением рождаемости на Западе.
Мир, который мы здесь описали, был безотрадным, и Томас Карлейль создал устойчивую формулировку, назвав экономику «мрачной наукой» (dismal science). Экономика Рикардо стала поистине безутешной из-за того, что безнадёжность современного положения объяснялась вечными законами – и тем самым пророчила неизменность нужды и бесконечные муки. Она же стала описанием того, как везучая четверть общества пришла к богатству. О всеобщем счастье, которое видел в своих мечтах Адам Смит, когда говорил о богатстве народов, больше речь не идет. Склонность Просвещения работать над земным благополучием вместо того, чтобы уповать на потусторонний рай, для большинства людей обернулась ситуацией полного проигрыша, потому что теперь у них не оказалось ни того ни другого. И экономика, которая выступила в качестве инструкции, как организовать общество процветания, хотя и могла ответить на вопрос, как повысить эффективность и производство в индустриальном обществе, молчала о том, куда же подевалось благосостояние. Ведь под благосостоянием понималась не только красивая жизнь имущей буржуазии?
В этой безутешности в среде политиков и экономистов начало рождаться подозрение, что со всеми этими теориями что-то не так. Система, которую установила буржуазия, породила слишком много проигравших. И те, кто в XIX веке попадал в число проигравших, были действительно бедны, и ни они сами, ни их дети не имели реальных шансов когда-либо уйти от этой участи. И хотя возникали денежные состояния и производилось заметно больше товаров и лучшего качества, чем в XVIII веке, огромное большинство населения не имело своей доли в этом богатстве. А поскольку со времён Вольтера политика и экономика составляли одно целое, бедность стала политической проблемой. В народе накапливалась неукротимая ярость против буржуазии, эта ярость находила выход в забастовках, бунтах и покушениях. Анархизм и коммунизм для многих стали единственно приемлемым ответом на эксплуатацию.
Китайская модель роста
Общее свойство людской натуры таково, что власть над средствами существования человека означает власть над его волей[23].
Александр ГамильтонА как сегодня обстоят дела с учениями классиков? Рикардо занимает заметное место в каноне классиков экономики. Всем известно, что он что-то значил, он упоминается во всех учебниках, но конкретика в этом знании встречается редко, поскольку, если быть точным, Рикардо, в отличие от Адама Смита, был важен только для XIX века, и историками культуры иногда овладевает недоброе чувство, что он и интересен был лишь постольку, поскольку Маркс многое у него списал. Но было бы неправильно утверждать, что одна дохлая собака поддерживает жизнь другой, это несправедливо по отношению к обоим и, кроме того, полностью игнорирует их принципиально разный подход к обращению с миром: один хотел изменить мир, другой хотел от него что-то получить. Но оба всё-таки важны главным образом для позапрошлого века, ибо в XX веке состояние науки ушло так далеко, что в обычных текстах они встречаются разве что в сносках, да и там занимают совершенно незаслуженное место. Надо бы им зачесть то, что они были беззащитны перед лицом своих сторонников (в случае Маркса это были приверженцы советской системы) или противников (иначе не назовёшь позицию школы Кейнса по отношению к классикам), причинивших им такой урон, после которого от них действительно мало чего осталось. Но так уж вышло, история плохо обошлась с обоими, а лагеря их последователей отвешивают реверансы по сей день скорее из чувства долга, чем из внутреннего убеждения, скорее чтобы создать историю и глубину собственной традиции, чем для того, чтобы привлечь внимание современников к их идеям.
Насколько мертвы обе дохлые собаки, можно судить по китайской модели роста. Китай после культурной революции обнаружил пред собой груду экономических и моральных руин, и ему пришлось начинать всё сначала. В лице Дэн Сяопина Китай имел вождя, который во многих битвах и войнах досконально изучил все высоты и глубины жизни и на старости лет стал прагматиком. Апеллировать к Марксу он больше не хотел, но и к идеям Рикардо тоже не обратился, поскольку в принципе был равнодушен к системам.
Китайская модель, запущенная Дэном, ориентируется по большей части на идеи, противоположные Рикардо. Теория сравнительных преимуществ, с помощью которой англичане заставили португальцев менять драгоценное вино на дешёвое полотно, не казалась Дэн Сяопину перспективной. Может быть, и имело смысл какое-то время обменивать сельскохозяйственные продукты на продукты промышленного производства, но придерживаться этого всегда было бы не очень умно, ибо это означало бы, что индустриализация оставалась закреплённой лишь за некоторыми немногими странами. Китай гораздо охотнее следовал рекомендациям Александра Гамильтона, первого министра финансов США, который в своей знаменательной речи перед конгрессом в 1791 году ратовал за переход от сельского хозяйства к индустрии и не хотел довольствоваться тем, что сравнительные преимущества распределяются статично. Преимущества можно и заработать своим трудом, точно так же как и потерять их. Гамильтон аргументировал, что необходимо стимулировать промышленный труд, поскольку промышленность даёт полезные вещи: оружие и механизмы, – и является производительнее, чем сельское хозяйство. Она не знает вынужденных перерывов, связанных с зависимостью от дневного света или времени года, и благодаря внедрению машин и механизмов многие работы могут выполнять также женщины и дети, у которых до сего момента было слишком много свободного времени. Поэтому индустриальное общество создаёт самое высокое благосостояние, и было бы безрассудно надолго оставаться лишь экспортёром пшеницы и хлопка. Соединённым Штатам пришлось приложить усилия, чтобы построить собственную промышленность, которая не уступала бы английской, и государству при этом надо было играть активную роль, а не просто наблюдать за происходящим.
Плохое состояние, в котором Китай находился в конце 1970-х годов, убедило Дэн Сяопина не быть слишком щепетильным в выборе экономического образца и не бояться гамильтонской рекламы детского труда и производства оружия (и то и другое тогда считалось результатом благих намерений). С тех пор Китай старается ликвидировать отставание. Свободная торговля, которую ещё Рикардо рассматривал как источник всеобщего благосостояния, в глазах китайского плановика является, скорее, средством подавления, которым Запад пытается закрепить за собой преимущество, достигнутое из-за исторической случайности. Китай не хочет длительное время служить инструментом в руках индустриальных наций и оставаться чем-то вроде официанта там, где он способен стать хозяином заведения. Прибыль фирмы Foxconn, которая собирает в Китае айфоны, айпэды, киндлы, планшеты, игровые приставки и т. д., составляет от силы четверть того, что получает её заказчик. Кто изобретает продукты, кто выводит их на рынок и продаёт, тот и зарабатывает деньги. А кто занимается их сборкой, того можно заменить. Благосостояние – вкупе с большей частью добавленной стоимости – остаётся у заказчика.
Чтобы освободиться из этого положения, Китай позволил Марксу и Рикардо стать «хорошими парнями» и действует следующим образом. Самое лёгкое упражнение – манипулирование валютой. Власти утверждали, что китайская финансовая система, как в любой развивающейся стране, нестабильна и поэтому необходимо контролировать приток и отток денег. Приятный побочный эффект – возможность держать низким обменный курс собственной валюты и благодаря этому сделать производство в своей стране дешёвым, а потребление иностранных продуктов дорогим. Если отечественные товары дёшевы и популярны, а заграничные дороги, то люди работают больше и расходуют не так много, то есть пребывают в кальвинистском раю. Германия проделала это после Второй мировой войны и стала чемпионом мира по экспорту благодаря низкому курсу немецкой марки в 1950-е годы. Кто производит дешевле всех, может ниточка за ниточкой выткать сеть фабрик и получать внутри страны всё большую часть добавленной стоимости. Китайцы делали это по образцу немцев, пока их – как и немцев в своё время – в целом терпеливые США не заклеймили как манипуляторов. И больше китайцы не могли прятаться за своей отсталостью. Тогда лёгкие прибыли остались позади, и препятствовать свободной торговле стало труднее.
Поскольку теперь в стране уже организовалось много производств, а вместе с ними и специальных знаний, самым естественным ходом стало красть интеллектуальную собственность – в конце концов теперь уже было известно, что с ней делать. На этом этапе развития Китай тоже опирался на США и Германию, которые в начале XIX века поглядывали на Англию и наловчились заимствовать там лучшие идеи. Кто больше не может и не хочет производить только дёшево, должен иметь лучшие товары, а для этого надо использовать идеи, которые самостоятельно все не породишь. Поневоле приходится смотреть на лидеров рынка, и в итоге модели молодых китайских автомобильных фирм пока что похожи на «Фольксваген». Но рано или поздно даже самый добродушный торговый партнёр разгадывает эти хитрости и жалуется правительству, которое хотя и постепенно, якобы из благих намерений, но всё-таки рекомендует своей индустрии в производстве товаров больше опираться на отечественную культуру.
Параллельно приводится аргумент Infant-Industry (несовершеннолетней индустрии), тоже пущенный в оборот Александром Гамильтоном и закреплённый в теоретическое понятие вюртембергским экономистом Фридрихом Листом (1789–1846). Это оградительные таможенные пошлины для молодой индустрии, которая нуждается в особой протекции государства, поскольку она ещё маленькая и слабая. Подвергнуть её жестокой логике рынка было бы бессердечно и прямо-таки враждебно прогрессу, ибо как может пробиться в джунглях нежный росток? Там большие не позволяют меньшим расти, а кто хочет позволить новым идеям эволюционировать, должен дать им воздух для дыхания и свет для жизни. И таким образом для защиты слабых, что само по себе звучит приятно на слух, вводятся оградительные таможенные пошлины – не для того, чтобы обогатить государство или навредить иностранцам, ни о чём таком официально никто и не помышлял. Оградительные таможенные пошлины будут существовать лишь до тех пор, пока китайские предприятия не достигнут технологического или ценового лидерства. Правда, это ожидание может продлиться долго, с чем загранице придётся бессильно примириться и довольствоваться теми сегментами рынка, которые правительство откроет для настоящей конкурентной борьбы.
Но тут есть проблема. Недостаточно подкармливать дотациями собственную индустрию до тех пор, пока она кажется ранимой, и охранять её от конкуренции. Она становится от этого сытой и вялой задолго до того, как достигнет чего-то заметного, она удобно устраивается в своём гамаке и чувствует себя окружённой страховочной сеткой государственной благосклонности (так было недавно и с немецкой индустрией солнечных батарей, любимым ребёнком политиков). Поэтому трюк с оградительными таможенными пошлинами слишком часто не даёт результата, если эти пошлины затуманивают дух предпринимателя, а собак на охоту приходится нести на руках. Нельзя допускать, чтобы ограждение от внешней конкуренции привело к тому, что конкуренции не было бы вообще. Если, например, развивается лидер рынка, который достаточно велик, чтобы превзойти всех отечественных конкурентов, но слишком вял, чтобы быть способным к международному соревнованию, то дотации – просто подаренные деньги. Национальное соревнование должно быть беспощадным.
В Китае (полу)государственные предприятия поощряются государством, насколько это возможно. Стеклянная промышленность получает своё сырьё за бесценок, поставщики автомобильной промышленности получают сталь и технологии ненамного дороже (28 миллиардов долларов ушло на дотации за десять лет, начиная с 2001 года). Бумажная индустрия получила между 2002 и 2009 годами дотации в размере 33 миллиардов долларов. И так далее. Эту дружескую поддержку получают не только старые государственные предприятия, но и новые частные фирмы, – такие как Geely Automobile (дотации 2011 года: 141 миллион долларов) или China Yurun Food (84 миллиона долларов). Все крупные фирмы получают дешёвые деньги от государственных банков, куда китайцы вынуждены – из-за контроля за движением капитала – класть свои деньги под гротескно низкий процент (намного ниже темпов инфляции); таким образом эти дотации не отражаются в официальной статистике, а передаются напрямую от населения предприятиям.
Во что могут превратить предприятие дотации, показывает пример Wuhan Iron & Steel, четвёртого по величине в Китае сталелитейного предприятия, которое положилось на множество добрых друзей в партии и государстве и всегда могло рассчитывать на руку помощи, хотя фирма давно уже вышла из «детского возраста». Её бизнес-модель незаметно претерпела изменения, и хотя она всё ещё производит сталь, но между тем обнаружила, что вообще-то может сберечь усилия, если сосредоточится на том, что умеет лучше всего: на привлечении дотаций. Так Wuhan Iron & Steel пришла к мысли инвестировать 4,7 миллиарда долларов в производство свинины. Такая фирма, как Wuhan, очень хорошо работает в разных областях, а в сельское хозяйство направляется очень много государственной помощи. Что в такой ситуации может быть логичнее диверсификации в сторону обработки земли и животноводства? Правда, речь тут не идёт ни об эффективности, ни об экспертизе, а делается это всё не для того, чтобы повысить благосостояние Китая, а оправдано лишь выгодой самой фирмы и её акционеров. Вот что государство может получить, когда слишком балует свои фирмы.
Кстати, немцы после Второй мировой войны сделали это гораздо лучше. Бесчисленные средние компании находились между собой в беспощадном состязании, которое понуждало предприятия к постоянному обновлению техники и производственного процесса. Так выработалась культура осмысления затрат, которая ещё усилилась в следующей фазе непрерывной ревальвации немецкой марки и которая сегодня в глобальном соревновании является огромным преимуществом. В Китае менеджмент зачастую слишком много думает о том, как бы подобраться к дотациям, тогда как в Германии на первом плане стоит продукт, а государственная помощь, как правило, лишь вишенка на торте. Так многие фирмы привыкли к своим дотациям и оградительным таможенным пошлинам, и в правительстве никто не усвоил урок из «Вишнёвого сада» о том, насколько тяжело расставаться с привилегиями.
Но вот что китайцы умеют делать лучше, чем немцы, – это обращаться с зарплатами, которые повышаются ещё до того, как страна действительно оказалась в первой лиге. Западная Германия после войны имела возможность держать зарплаты низкими, поскольку до возведения Стены постоянный приток мигрантов с Востока заботился о том, чтобы безработных всегда хватало. Тем самым страна следовала вычитанному у Смита и Рикардо учению, по которому низкие зарплаты – благо для экономического роста, укрепляющее конкурентоспособность на международном уровне. Но Китай – подобно США в XIX веке – вот уже несколько лет как отказался от использования новых необученных рабочих из нецивилизованных западных провинций ради дешевизны продукции. Повышение зарплаты на 25 %, как в 2012 году у Foxconn, не рассматривается как ослабление конкурентоспособности. Китай оценивает такое развитие скорее как позитивное – как принуждение промышленности к повышению конкурентоспособности путём инноваций и как средство стимуляции отечественного потребления, без которого экономика не может иметь среднесрочного роста. Страна пытается сбалансировать рост спроса между потреблением и инвестициями, что не только звучит разумно, но и неизбежно, если иметь в виду размеры Китая и число его жителей. Но переход к менее экспортозависимой и больше базирующейся на отечественном потреблении экономике, к слову сказать, будет не так прост.
Итак, этими средствами, которые противоречат всему учению Рикардо о свободной торговле и нищенской зарплате, Китай пытается перестроить свою экономику – прочь от сельского хозяйства к гораздо более продуктивной индустрии, чтобы поднять до приличного уровня материальный уровень жизни страны. И это естественно, ибо история плохо отнеслась к попыткам прийти к благосостоянию путём безоговорочной открытости рынков. Такое удалось лишь торговым городам – таким как Сингапур или Гонконг.
Зрелище, какое представляла собой в последние годы Еврозона, пожалуй, лишь укрепило китайцев в выбранной ими модели роста. В Европе господствует полная свобода торговли, или по крайней мере что-то очень к этой свободе близкое. Тот энтузиазм, с которым в Евросоюз устремились страны Латинской Европы, ослеплённые обещанием экономической респектабельности и низких процентов по кредитам, обернулся чистым безумием, продлившимся добрый десяток лет, чтобы затем превратиться в тотальный разлад и недоверие. Эти страны стали жертвой того, что мы назвали бы рикардистским трюком: купились на аргумент, согласно которому достаточно лишь открыть границы, как благосостояние вырастет само собой. Немцы – условно назовём так всю северную середину Европы от Вены до Хельсинки – заметили, как велики их преимущества из-за валютного союза, лишь тогда, когда для всех остальных было уже слишком поздно что-то менять. Что происходит с валютным союзом в зоне свободной торговли? Индустрия концентрируется там, где она имеет сравнительные преимущества. Это значит: там, где есть квалифицированные рабочие, умеренные зарплаты, хорошая инфраструктура, правовые гарантии и сеть поставщиков. Никому не пришло бы в голову открывать химическое или автомобильное производство в Греции, Португалии или Южной Италии, если его можно построить в Баден-Вюртемберге. Единственные козыри, которые есть в распоряжении менее развитых стран – а это оградительные таможенные пошлины, дотации, девальвация валюты, – в Еврозоне недоступны (и тем ценнее они оказались для китайцев). Так, в Германии производительность высока, поскольку там промышленное производство, а в Латинской Европе благосостояние возникает разве что в качестве иллюзии, на займах, на короткое время. Сравнительные преимущества устанавливаются раз и навсегда, латиноевропейцы могут конкурировать с немцами разве что путём радикальных инноваций или значительных трансфертных платежей. Но то и другое неправдоподобно.
Китайцы не попались на рикардистский трюк. Они выбрали классическое учение и больше доверились историческому опыту. Пока что у них всё получалось хорошо, но и их нетрадиционная модель роста имеет определенные границы. Если они в скором времени не найдут рынок экспорта, перманентно готовый к приёму, в какой-то мере эквивалент латиноевропейского рынка для германской экономики, то им нужно быть готовым к тому, что в той части экономики, которая производит инвестиционные товары, они вскоре понесут жестокие потери. Если рост упадёт с 10 % до 6 % в год (что как раз правдоподобно), то инвестиции сократятся с 50 % ВВП до 30 %. Но тогда на чём-то скажется нехватка 20 % ВВП, которую не так просто будет заменить из ничего. Вся система в настоящий момент стимулирует инвестиции, банки дают кредиты, партия и государство дают землю, дотации и защиту от конкуренции. Но отдачи от этого всё меньше, инвестируемые сегодня доллары принесут отчётливо меньше прибыли, чем приносили ещё десять лет назад.
Но, может быть, в Китае вскоре появится и другая проблема. Финансовая система приняла там форму, которая не сможет продержаться долго. Богатейший процент населения контролирует там состояние приблизительно в 2000 миллиардов долларов, это соответствует где-то двум третям огромных валютных резервов. Цены на землю колоссально выросли: в городах с 1000 юаней в 2002 году до 3130 юаней десять лет спустя (в среднем по всей стране). Участки под строительство жилья на Восточном побережье, переживающем бум, стоят сейчас местами в два раза дороже, чем в Лондоне, а за последние пять лет цена выросла в четыре раза. В Китае многое финансируется с помощью цен на недвижимость, через ссуды, взятые под залог этих экстравагантных цен. Сторонний наблюдатель не удивится, если и этот пузырь однажды лопнет.
Дивясь чуду китайской модели роста, мы, таким образом, держим в уме, что в истории уже бывало много экономических чудес, из которых в итоге ничего не получалось. Преимущества крупных концернов, привилегии для однопартийцев и слабое развитие частных институций вызывают у стороннего наблюдателя по крайней мере некоторое недоверие, не меньшее, чем у коммунистической партии Китая вызывают учения Рикардо и Маркса.
Руссо и первые огорчения
Новое время начинается, когда устремлённый на мир взгляд видит «этот хаос и эту чудовищную путаницу» (Паскаль), не особенно ужасаясь им.
Роберто Калассо. Руины КашаАдам Смит описывает мелкобуржуазную идиллию (которой нынче даже в далёком Китае отдают предпочтение) благоустроенного общества, с рынками, регулируемыми словно бы невидимой рукой, и трудолюбивыми гражданами, которым никто не подсказывает, в чём состоит их задача, и которые в своей двойной функции добропорядочных отцов семейства и недооценённых коммерсантов в конечном итоге всё-таки удерживают общество в целости, а то и гармонизируют его и тем самым обогащают во многих смыслах. Червивая аристократия и закосневшие моралисты старомодных или раннехристианских школ не хотят понимать благо, исходящее из мотива выгоды, и настаивают на абстрактных добродетелях, созданных не для мира сего. Тот же, кто идёт по жизни с открытыми глазами, видит, насколько далеко благодать экономического образа мысли и умонастроения выходит за рамки чистого предоставления земных благ в виде товаров. Так это видел шотландский философ, однако сопротивление его образу мыслей началось задолго до судьбоносного 1776 года, когда было опубликовано «Богатство народов» и множество маленьких североамериканских Джеймстаунов превратились в США.
Безоблачная радость от растущих доходов, от поступлений, от постоянного расширения ресурсов розничного торговца могла производить и удручающее впечатление, особенно на тех, кто вырос в этом мире. Подобный опыт наложил отпечаток на Жан-Жака Руссо, современника Смита и врага Вольтера. Он рос в Женеве, где жизнь была ориентирована не только на Бога, но и на собственность и эффективность, на деньги и работу. Руссо рано начал испытывать сомнения, действительно ли эти вещи продвинут вперёд его или общество.
В 16 лет он прервал своё обучение на часовщика и сбежал от кальвинистской ограниченности. Мелкобуржуазную ремесленническую идиллию он ощущал как лишение свободы и как унижение. Первой остановкой в его отныне начавшемся странствии, продлившемся почти всю жизнь, был дом известной красавицы Луизы де Варанс, которая сделала своей жизненной задачей обращение из кальвинизма в католицизм и приняла очевидно чувствительного и нуждающегося в защите Руссо с распростёртыми объятиями. Он с первого взгляда влюбился в свою гостеприимную хозяйку, которая была на 13 лет старше его, и ему вскоре было позволено нежно называть её «маман». Руссо быстро дал себя убедить, стал католиком и растянул своё пребывание – с некоторыми перерывами – почти на десять лет. Мадам де Варанс взяла на себя заботу о его надлежащем воспитании и образовании в качестве музыканта и композитора и, наконец, сделала его – когда его половая зрелость была уже вне сомнений – своим возлюбленным. Он прожил несколько беззаботных лет при своей «маман». Перенял от неё манеры высшего общества, которые впоследствии оказались весьма полезны в его попытках утвердиться в Париже в качестве писателя. Он наслаждался лесами и полями, простой жизнью на природе и беззаботным существованием. Но когда в 1737/38 году он уехал на несколько месяцев, счастье оборвалось, поскольку «маман» заскучала и взяла себе нового любовника – своего секретаря с красивым именем Жан-Сэмюэль-Родольф Винцинрид. Некоторое время они пытались жить втроём, но всё было уже не так, как раньше, и Руссо вскоре окончательно распрощался – сперва с мадам де Варанс, а позднее и с католицизмом.
Он перебивался в качестве домашнего учителя, музыканта и, наконец, секретаря во французской дипломатической миссии в Венеции. Нигде он не мог как следует закрепиться, что наверняка было связано с его вспыльчивым характером, его привычкой спорить на основополагающие темы и отсутствием чувства юмора. В 1745 году он был близок к тому, чтобы пробиться в музыкальную элиту, когда переработал комическую оперу Вольтера и Рамо, которую должны были разыграть перед королём. Однако обнаружилось, что его имя не будет стоять в программе, из-за этого у него случился нервный срыв, и с тех пор он был убеждён, что театральные люди – коварная банда интриганов.
В этом кризисе его утешала Тереза Лавассёр, простая женщина, на девять лет моложе его; она не умела ни читать, ни писать, ни считать, зато была привлекательна и внешне, и по характеру. Они стали парой, и у них родилось подряд пятеро детей, которых Руссо, однако, сдавал одного за другим в сиротский дом, поскольку они своим шумом мешали его творчеству. Тереза с удивительной кротостью делила с ним кочевую жизнь, почти непрерывную финансовую нужду и очень нестабильную психику мужчины, который только после 23 лет сожительства официально заключил с ней брак. Её неграмотность послужила ей во благо: она не могла узнать, что в 1776 году Руссо начал свой последний большой труд «Прогулки одинокого мечтателя» фразой, которую ей было бы обидно отнести на его счёт: «И вот я один на земле, без брата, без ближнего, без друга – без иного собеседника, кроме самого себя»[24].
Руссо жил в основном переписыванием нот. Он работал чисто и аккуратно, уверенной рукой, и всегда имел заказы, когда нуждался в них. Кроме того, какое-то время ему помогало продержаться наследство, оставшееся от отца, а также эпизодические пожертвования состоятельных меценатов. Он бы рад был зарабатывать своими музыкальными сочинениями, но, когда однажды его посетил успех с оперой Le Devin du Village («Деревенский колдун», которая иногда ставится и по сей день) и открылись перспективы на получение королевской пенсии, он отказался явиться на обязательную аудиенцию к Людовику XV. Так ничего не вышло с гарантированным обеспечением.
С доходов от своих книг Руссо тоже не мог жить, потому что к тому времени всё, что можно было продать, молниеносно выходило в «пиратских» изданиях и авторам не доставалось ничего. Единственной возможностью были подписные издания для высшего общества, с которым автор должен был ладить. А поскольку Руссо – наряду с людьми театра и королём – презирал также и аристократию, буржуазию и интеллектуалов и был полностью лишён социальной гибкости Вольтера, то и эти целевые группы были для него недоступны.
Нужда и неуверенность в завтрашнем дне, которыми была отмечена жизнь Руссо, были именно тем, что Вольтер после причиненного Роганом унижения никогда больше не хотел испытывать. Поэтому он считал своего младшего коллегу хоть и умным, но заслуживающим сочувствия человеком. Ответное презрение исходило тоже от всей души, поскольку Руссо в принципе отвергал мир, в котором процветали Вольтер и Просвещение. Критику по отношению к Просвещению он однажды сформулировал в своем ответе, представленном на конкурсе Дижонской академии, темой которого был вопрос: «Содействовало ли возрождение наук и художеств очищению нравов?». В трактате Руссо ключом била ярость к Просвещению, которое Вольтер считал прогрессивным, научным, разумным и благим, а Руссо объявлял не более чем инструментом господства. Пусть Просвещение пошатнуло суеверия церкви или даже совсем избавило от них, но в итоге оно всё-таки послужило лишь тому, чтобы оправдать власть утончённой и в итоге декадентской элиты. Агенты Просвещения апеллировали к разуму, а на самом деле хотели только упрочнения приоритета клики, литературно и научно образованной и финансово обеспеченной.
Этому Руссо противопоставлял радости простой, связанной с природой жизни, в которой не было ни тщеславия, ни фальши, ни Версальского двора. Добрые чувства неиспорченных и не тронутых цивилизацией людей были характерны для совместной жизни в деревенских общинах, там не было ни гордости, ни корысти, ни подавления. Человек был в глазах Руссо от природы хорошим, и портила его только цивилизация. Он формулировал это настойчиво и уверенно, как будто сам пребывал в природном состоянии. В этой фазе человек жил в равновесии между инстинктом самосохранения и состраданием. Подобно животному он не мог называться ни моральным, ни аморальным. Поистине хорошо было человеку лишь в конечной фазе природного состояния, когда он жил уже в обществе, но не знал ни частной собственности, ни разделения труда, и изначальные добродетели ещё были живы. «Таким образом, хотя люди и стали менее выносливы и естественная сострадательность подверглась уже некоторому ослаблению, все же этот период развития человеческих способностей, лежащий как раз посредине между безразличием изначального состояния и бурною деятельностью нашего самолюбия, должен был быть эпохой самой счастливою и самой продолжительною»[25].
Но с милой вялостью вскоре было покончено, поскольку распространились стремление к выгоде, разделение труда и частная собственность, которые оказались настоящим бичом человечества: «До тех пор, пока люди довольствовались своими убогими хижинами, пока они ограничивались тем, что шили себе одежды из звериных шкур с помощью древесных шипов или рыбьих костей, <…> словом, пока они были заняты лишь таким трудом, который под силу одному человеку, и только такими промыслами, которые не требовали участия многих рук, они жили, свободные, здоровые, добрые и счастливые, насколько они могли быть такими по своей природе, и продолжали в отношениях между собою наслаждаться всеми радостями общения, не нарушавшими их независимость. Но с той минуты, как один человек стал нуждаться в помощи другого, как только люди заметили, что одному полезно иметь запас пищи на двоих, – исчезло равенство, появилась собственность, труд стал необходимостью, и обширные леса превратились в радующие глаз нивы, которые надо было орошать человеческим потом и на которых вскоре были посеяны и выросли вместе с урожаем рабство и нищета»[26]. Самому сильному, изобретательному и искусному удавалось накопить больше земли, железа и собственности, чем любому другому, «и при одинаковой затрате труда один зарабатывал много, а другой едва существовал. Так незаметно обнаруживает свое возрастающее значение естественное неравенство…»[27]. Собственность, которая изначально возникала только благодаря труду, утратила свое основание и выросла за пределы естественных границ. Связь между работой и благосостоянием исчезла, от рая не осталось и следа.
Логическим последствием возникновения собственности была война всех против всех, в которой каждый пытался схватить то, что мог. Имущим это всеобщее состояние войны не могло нравиться, ибо им было что терять. Поэтому они придумали право, суды и адвокатов – как финальное выражение больной цивилизации, – чтобы гарантировать владельцам право собственности. В этом насильственно усмирённом состоянии хитрость, обман и тщеславие стали единственным средством снискать себе уважение в обществе, которое стало жестокосердным. Жизнь теперь подчинялась конкуренции, противопоставлению интересов и «скрыто[му] желани[ю] выгадать за счёт других. Все эти бедствия – первое действие собственности и неотделимая свита нарождающегося неравенства»[28]. А поскольку земля в какой-то момент была поделена, богатство могло расти только за счёт других. Внутри стран эта битва распределения выигрывалась за счёт судов, в другие же государства посылались войска.
Вольтер находил сочинения Руссо забавными и глупыми и никогда не считал нужным всерьёз дискутировать с ними. Руссо посылал их ему, и Вольтер благодарил письмами, которые немедленно становились известны публике: «Я получил, мсье, вашу новую книгу против человеческой расы и благодарю вас. Никто ещё не применял столько умственных способностей, чтобы превратить нас, людей, в зверье. Прочитав вашу книгу, хочется встать на четвереньки. Но поскольку я уже более шестидесяти лет назад отказался от этой привычки, я, к своему несчастью, чувствую для себя невозможным вновь её обрести». Для Вольтера, который очень хорошо относился к собственности и разделению труда, взгляды Руссо отражали финансовую безуспешность последнего. Добродетель, аскетизм и отказ от собственности проповедовались тем лучше, чем беднее был человек. То, что мелкие буржуа и пролетарии мечтали совсем о другом разделении собственности, было не удивительно, они завидовали удачливым и успешным в том, чего никогда не удалось бы достигнуть им самим. Такие люди, как Руссо, никогда не знали роскоши и избытка – ничем иным, как бедностью, Вольтер не мог объяснить отказ от того, что только и делало человека человеком. Зачем тосковать по примитивной жизни, если бывает и по-другому? Вольтер видел в рассуждениях Руссо лишь мелкобуржуазную вонь.
Можно было подумать, что они жили не в одном и том же мире. Вольтер воплощал только что осознавшего себя буржуа, который приписывал себе главную роль в мире. У Жан-Жака Руссо закрадывалась мысль, что, может, дело ладилось бы и без таких людей, как Вольтер, который восхищал его своим стилем, но, по его мнению, имел отвратительный характер.
Для Руссо благополучие состояло не в богатстве, не в накоплении денег, земли и должностей, а в гармонической жизни в природе и с природой. Благосостояние выражалось в том, что не надо было заботиться о собственности и владениях, что можно было оставаться свободным от вечных раздумий о владении и предметах. Что проку в обладании многими вещами, если ты при этом теряешь душу? Представленная Адамом Смитом идиллия в образе мелкого торговца, который постоянно всё больше производит и больше приобретает, где каждый первым делом печётся о том, чтобы увеличить своё имение, для Руссо было концом благосостояния как земного, доступного счастья. Трудолюбивые женевские граждане, среди которых он вырос, могли похвастаться изрядной собственностью, но разве они стали счастливее от этого? Тот ли это был мир, в котором свободомыслящий человек хотел бы и мог бы жить? Это ли было благосостояние?
Этот конфликт между Вольтером и Руссо, между победителями и побеждёнными буржуазной революцией, до сих пор так и не разрешён. Французская революция обошлась со своими идейными первопроходцами диалектически, почитала их обоих, как будто их расхождения во взглядах касались разве что второстепенных пунктов, заботилась лишь о настоящем и вскоре имела на руках более практические проблемы, чтобы разбираться с теоретическим различием взглядов на природу человека. Так оба они после первого упоения сгинули в бурях революции, но не пропали окончательно, а снова вынырнули на другой стороне хаоса, каждый на своём исконном месте, Вольтер – как голос буржуазии, Руссо – как гневный рупор бесправных.
Вольтер снова вошёл в моду первым: во Франции в Июльской революции 1830 года абсолютизм уступал либерализму, и крупная буржуазия брала верх над реинкарнацией старого режима, в который всё больше и больше деградировало правление Карла Х. Последний был сменён Луи-Филиппом, буржуазным королём. Луи-Филипп хотя и был номинально тоже Бурбоном, но ещё в юности рано примкнул к революции и во время обстрела Вальми был на стороне революции. И теперь он был – по меньшей мере в первые годы своего правления – королём во вкусе крупной буржуазии.
Под девизами Laissez-faire (невмешательства) и Enrichez-vous (обогащайтесь!) Луи Филипп позволил буржуазии делать с экономикой то, что она умела лучше всего, чем она охотнее всего и занималась. Она составляла всего лишь около 20 % населения, но поскольку избирательное право и право ношения оружия в Национальной гвардии были привязаны к собственности, диспозиция с самого начала была ясной. Имущим классам, к которым причислялись также остатки прежней аристократии, фактически удалось подчинить государство собственным интересам. Тон задавали банкиры и промышленники, и свобода означала свободу торговли и денег. Государство должно было держаться подальше от интересов буржуазии, которая предпочитала сама определять свою судьбу. В унисон этому духовному климату во Франции вокруг Фредерика Бастиа (1801–1850) образовалась либеральная школа экономистов, которая весьма успешно пропагандировала и развивала учения Смита и Рикардо. Но во всём опьянении свободой забылось то, что касалось большинства населения: деньги – воплощённая свобода, а масса населения оставалась голой и голодной. В этом смысле она могла и должна была чувствовать себя обманутой в свободе, за которую боролась революция.
Наслаждаться богатством лучше всего было в Париже, которому в 1830-е годы было что предложить. Луи-Филипп, как и надеялись, во многом оставил свой народ в покое, каждый мог довольствоваться, чем хотел. Буржуазия посвятила себя своим предприятиям, а интеллектуалы могли высказывать свое мнение как угодно. Поскольку развитие и упадок общества были напрямую связаны с его достатком, а при короле-буржуа не было ничего более нестабильного, чем экономическая ситуация, жизнь превратилась в карусель. Состояния появлялись и исчезали в тот же день. Финансисты и промышленники заботились о том, чтобы государство не становилось помехой в этой свободной игре сил. То было время, будто специально созданное для романа, в котором авантюристы внезапно обретали влияние и так же быстро снова исчезали со сцены и в котором коррупция и спекуляция слишком часто цвели в одном и том же саду. Никто не мог позволить себе угрызения совести – ни за голодающий пролетариат, ни за общество. То были джунгли, в которых обретались не самые милые существа. Париж 1830-х годов был очень далёк от того города, которым гордились граждане XVIII века и эры Наполеона, когда буржуа можно было стать путём трудов, стараний, заслуг и добродетелей и тем приятно отличаться от дворянства, которому всё это ни о чём не говорило и которое отращивало себе длинные ногти. Порядочные буржуа превратились теперь в филистеров, которых ничто не волновало так, как состояние их счёта, – как будто они хотели воплотить в жизнь самые худшие фантазии Руссо. Социальный ранг, ценность и польза человека (очень важные в буржуазном мышлении) измерялись теперь не по его происхождению, а по его богатству.
В «Отце Горио» Бальзак описывает, как дочери печального заглавного героя постепенно лишают его изрядного богатства, чтобы блистать в обществе, от которого они скрывают своего отца, потому что по нему заметно его простое происхождение. Его деньгами они финансируют пристрастие к азартным играм своих любовников и убыточные сделки своих мужей. Обманщики и те, и другие. В конце концов, они даже не приходят к нему, когда он умирает. Горио всё готов им отдать, он не привязан к деньгам, скромен и хочет только счастья своим детям. Но он не встречает ответной любви и получает лишь неблагодарность. Слишком поздно он распознаёт механизм, который срабатывает и в его дочерях: «Деньги означают жизнь, деньги делают всё». И Растиньяк, в душе приличный молодой человек, который под конец заботится об отце Горио и становится свидетелем всей нищеты, равнодушия и алчности парижского общества, тоже не может избежать соблазнов этого гудящего днём и ночью улья и как раз там и пытает своё счастье – и уже заранее можно догадаться, что вскоре он лишится своей невинности.
Но Париж 30–40-х годов XIX века был не только неприглядным и фривольным, но также и энергичным и свободным, как никогда раньше. Буржуа высоко ценили качественную информацию, и в обществе установилась широкая свобода печати и высказываний. В это время наряду с Францией есть лишь две заслуживающие упоминания страны с более или менее свободным устройством: Англия и Швейцария. Но поскольку там было холодно и скучно и местное население не проявляло никакого интереса к пришлым, все горячие головы того времени собирались в Париже. Город притягивал не только финансовых, но и политических авантюристов и революционеров. Они бежали от реакционных правительств остальной Европы, особенно из Пруссии, где доминировали лишённые юмора юнкера, из России, ставшей невыносимой при Николае I, из разделённой Польши, из габсбургской Венгрии и итальянских городов-государств. Таким изгнанникам, как Генрих Гейне, Карл Маркс, Мадзини, Иван Тургенев, Александр Герцен или Михаил Бакунин, достаточно было лишь сидеть в нужном кафе или литературном кружке, чтобы познакомиться с Оноре де Бальзаком, Виктором Гюго, Жорж Санд и Пьер-Жозефом Прудоном. Париж как магнит притягивал художников и мыслителей Европы, которые бежали от конформизма своих родных стран и находили общую тему в протесте против тирании и привилегий и которые были едины против церкви, обывателей и новой денежной аристократии. Там сочинялись памфлеты и манифесты, в салонах и трактирах день и ночь шли дискуссии, там спорили, ругались, а под конец пили на брудершафт. Всё новые изгнанники приносили всё новые идеи и не давали духовной жизни закоснеть. То было время энтузиазма, когда никакая мысль не казалась слишком утопичной, чтобы её не приняли всерьёз и не обсудили. То была духовная питательная почва, на которой возник социализм.
Однако семя всходило на удивление медленно. На пути становления социализму пришлось сначала переварить учение Смита, а немного позже – идеи Рикардо. Первым, кто после революции во Франции разработал собственное связное экономическое учение, был Анри де Сен-Симон (1760–1825). Он в 17 лет отправился добровольцем в Америку, чтобы там сражаться под знаменами Лафайета за независимость. Вернувшись назад во Францию, он примкнул к революции, из-за которой потерял своё богатство, но не держал на неё зла за это. Он кое-как перебивался сперва как предприниматель, потом как ученый, причём получал существенную материальную помощь от одного разбогатевшего бывшего слуги. Двадцать лет это в нём бродило, пока в конце концов вместе со своим секретарём Огюстом Контом он не опубликовал между 1820 и 1825 годами ряд книг, которые были в равной мере как социально-революционны, так и утопичны. Из этих книг следует, что лишь рабочие и производители услуг являются ценными членами общества. То, что дворянство, духовенство и военные паразитарны по своей сути, знала уже революция. Новым у Сен-Симона было понимание, что и рантье, живущие не работая за счёт своих доходов, откуда бы они их ни получали, были ничем не лучше. В таком видении мира предприниматель и финансист имели право на существование, только если были трудолюбивы и что-то создавали. Их наследники, напротив, были лишними, если не трудились как следует. Кроме того, Сен-Симон брал с собой в революционную лодку и церковь, обнаружив, что перераспределение богатства есть долг всякого христианина.
Сен-Симон группирует мир по историческим категориям. Он не экономист в узком смысле, и его интерес касается порядка и возникновения буржуазного общества. Он придерживается той точки зрения, что история есть череда битв между разными экономическими классами – между теми, кто щедро осыпан благами, и теми, кто их должен ещё добиться и хочет вырваться из зависимости от имущего класса. Люди – как господа, так и слуги – не способны к разумному распределению богатства в интересах всех. В особенности имущие классы, которые в конечном счёте всегда исходят лишь из своих собственных выгод и не используют свою собственность разумно, не работают на всеобщее благосостояние. По Сен-Симону, новые господа, как правило, не лучше старых, поскольку поддаются коррупции, получив доступ к земле и людям, и в итоге они уже не отличаются от того класса, который они свергли с трона. Но в современном обществе есть надежда, поскольку на передовые позиции выдвигаются трудолюбивые и хорошо образованные специалисты: банкиры, инженеры, профессионалы управления. При них возникает новое общество, в котором больше нет места паразитарному существованию военных и рантье.
Такое же большое влияние на ранний социализм оказал женевский сын пастора и экономист-теоретик Жан Шарль Леонар Сисмонди (1773–1842), который рано увидел, что с приходом индустриальной революции наступает конец эпохе дефицита товаров. Как и Мальтус, он даже считает возможным, что на базе технологического прогресса будет произведено больше, чем может быть употреблено – это объяснило бы распространившуюся в его время безработицу. Если в прежние времена было мало причин для классовой борьбы, теперь, по Сисмонди, конфликт смещается на другой уровень. Чтобы вообще удалось продать произведённое количество товаров, они должны быть максимально доступны. Борьба между группами капиталистов за бо́льшую долю на рынке и за самый дешёвый продукт приводит, если проигравшие в итоге обанкротятся, ко всё новым экономическим кризисам и в конце концов к коллапсу. Сисмонди видит в качестве неотвратимого выхода вмешательство государства; лишь оно способно создать стабильный порядок и уберечь силы рынка от саморазрушения, заботясь тем самым о возникновении благосостояния.
Парижские изгнанники и революционеры благодаря Сисмонди и Сен-Симону обрели вкус к экономике. С этими тезисами можно было что-нибудь затеять! Чувство несправедливости и несвободы было тем семенем, которое пролежало в земле со времён Руссо, но смогло взойти лишь тогда, когда соединилось с идеями экономистов. Экономика стала его практическим удобрением и его теоретическим солнцем. В противном случае из всего парижского брожения не вышло бы ничего, кроме крестьянского восстания.
Главным связующим звеном между пролетариатом и политической экономией был лидер левой сцены в Париже Пьер-Жозеф Прудон (1809–1865). По рождению мелкий буржуа из провинции, он обучался на наборщика и самоучкой вознёсся на высоту экономической дискуссии. Социальный класс, к которому он относился, после свержения Бурбонов обнаружил, что прежние господа всего лишь сменились новыми, а девиз времени – Enrichissez-vous (обогащайтесь!) – уж никак не распространялся на возникший слой промышленных рабочих и мелкой буржуазии. Самообогащение элит он громил своим знаменитым – настолько же броским, насколько и бескомпромиссным приговором: «Собственность есть кража!». Вот так просто, и следствием этого могло быть только общество без собственности. Он никак не мог разделять веру Сен-Симона в спасение общества промышленностью и банкирами. От государства и от власти ещё никогда не исходило ничего хорошего для людей, и государство уж никак не способствовало приходу рабочего люда к благосостоянию. Для Прудона решение состояло не в сильном, регулирующем государстве, а в его устранении, в анархии. А поскольку он был склонен к легко запоминающимся формулировкам, о его взглядах вскоре заговорили все вокруг:
«Тобой управляют, то есть тебя караулят, инспектируют, шпионят, направляют, регламентируют, подводят под законы, классифицируют, учат, набивают чужими мнениями, контролируют, ценят, оценивают, урезывают, заставляют повиноваться себе люди, не имеющие на то ни права, ни знания, ни достоинства. Тобой управляют, то есть при каждом твоем действии, при каждом сношении, при каждом движении твоем тебя отмечают, записывают, сосчитывают, назначают тебе продажную цену, отмечают тебя клеймом, привешивают к тебе ярлык, патентуют, разрешают, дозволяют тебя, расписываются на тебе, сдерживают, взнуздывают, переделывают, поправляют и исправляют тебя. Под предлогом общественной пользы и общего интереса тебя грабят, дрессируют, эксплуатируют, монополизируют, обкрадывают, давят, мистифицируют; а при малейшем сопротивлении, при малейшей жалобе начинаются усмирения, взыскания, унижения, поругания, травля, торможение, заушения; тебя обезоруживают, вяжут, сажают в тюрьму, расстреливают, жарят в тебя картечью, судят, приговаривают, ссылают, приносят тебя в жертву, продают, предают и в довершение надувают, дурачат, оскорбляют, бесчестят! Вот что такое правительство, вот что такое правосудие, его мораль»[29].
Прудон выводит две основополагающие причины нищеты своего времени. Во-первых, рост промышленного и финансового капитала, который углубляет социальную несправедливость и ведёт ко всё более жестокому соревнованию а-ля Сисмонди. Вторая основная беда – соединение экономической и политической власти в плутократию, в господство богатых. Государство превращается в их руках в инструмент экспроприации, чтобы отчуждать собственность у мирных масс в пользу немногих привилегированных, тем самым принимая легализованную форму воровства. Мелкие буржуа теряют свои естественные права и становятся безнадёжно обделёнными.
Конкуренция, которая так важна для буржуазии и либералов, сводит существование человека лишь к одному: к его способности обводить сограждан вокруг пальца и за их счёт добывать себе выгоду. Это не может быть здоровой основой для общества. Поэтому конкуренция должна быть подавлена и заменена кооперативной системой, в которой каждый имеет столько собственности, сколько ему нужно для того, чтобы жить достойно, но в которой избыток капитала не скапливается в руках меньшинства. Так исчезает бедность и безработица, так возникает благосостояние и удовлетворенность. Но проповедовать это буржуазии и прочим выгодополучателям общественного порядка, по его мнению, бессмысленно, поскольку они никогда не прислушаются к другой логике, кроме той, что в их собственных интересах. Поэтому он прямо обращается к мелкой буржуазии и пролетариям и пытается убедить их в мирной революции, в шансе на успех ненасильственной перестройки общества. Семя угнетения должно взойти переворотом, который в итоге устранит государство и вместе с ним причину всех несправедливостей.
Лично Прудону в качестве революционера не везло. Он надеялся на помощь Маркса, но тот ничего не хотел знать об анархии, был настроен совершенно несолидарно и поэтому в 1847 году постарался разобрать, опровергнуть и уничтожить Прудона в двухсотстраничном труде «Нищета философии». После этого Прудон больше не считался теоретиком революции в соответствующих парижских трактирах. И когда в следующем году наконец грянула революция, он понял, что не в состоянии идти с народом на баррикады, поскольку отвергал насилие, а от вида крови у него подгибались колени. Итак, поскольку у него не получилось ни с теорией, ни с практикой революции, Прудону оставалась только журналистика, которая, как известно, нечто среднее между тем и другим. Так он избежал по крайней мере того, чтобы ещё при жизни оказаться в полном забвении.
Распределение и справедливость
Богатство мы ценим лишь потому, что употребляем его с пользой, а не ради пустой похвальбы.
Признание в бедности у нас ни для кого не является позором, но больший позор мы видим в том, что человек сам не стремится избавиться от нее трудом[30].
Фукидид. История Пелопоннесской войны, II, 40, IВ этой главе уже абсолютно невозможно избежать разговора о деньгах, ибо именно о них идёт речь, когда говорят о справедливом распределении богатства – проблеме, не решённой со времён раннего социализма. Благосостояние и справедливость с тех пор сроднились, одно является существенной составной частью другого. Но дискуссии на эту тему ужасно затянулись во времени – оттого, что оба понятия не поддаются простым определениям.
За деньги стоит побороться, ведь они дают пространство для свободы, исключительности, личной сферы и фантазии, благодаря чему они, если подражать Прудону, облегчают, окрыляют, оживляют, успокаивают, волнуют, осчастливливают, веселят, помогают, усиливают, привилегируют, дают возможности, удовлетворение, освежают, умощняют, уполномочивают, подчиняют, исцеляют, гарантируют, утешают – и поэтому многие люди принимают их за само благосостояние. Поскольку лишь немногие экономисты хотели бы определиться, в чём же конкретно оно состоит, авторитет денег так и остаётся в мире несокрушимым. Кто бы не хотел их иметь? Только нереалистичные, кислые и безрадостные люди – фундаменталисты, варвары и моралисты – подавляют, уличают деньги и плюют на них. Говоря словами Толстого, «без оговорок можно было бы выразить дело так: у кого есть деньги, у того в руках те, кто денег не имеет».
Итак, здесь сталкиваются экономика и мораль, вопрос о благосостоянии и вопрос о справедливости. С распределением собственности и обязательств дело обстоит так же, как с футбольным матчем, который на другое утро становится темой обсуждения всего города. У каждого на этот счёт своё мнение, но правда события лежит на поле – не поддающаяся формулировкам и постижению – и ускользает от всех слов и всякой логики. Гораздо проще сойтись в оценке того, чего не было, чем фактически произошедшего. И как в случае с футбольным матчем, молчать об этом не получится, поскольку распределение, справедливость и благосостояние имеют связь, которая кажется очевидной.
Вначале надо зафиксировать, что экономическое неравенство само по себе не предосудительно. Речь идёт (насколько это вообще поддаётся описанию) о более естественном состоянии, чем состояние равенства. Люди стараются заработать денег и по возможности иметь их больше, чем имеют другие. Некоторые в этом более талантливы, чем остальные, или, может, серьёзнее относятся к делу, и результатом становится неравное распределение, как в коктейльном бокале. Приблизительно на 20 % населения приходится около 80 % доходов и собственности. Это распределение, впервые открытое в 1900 году Вильфредо Парето, на удивление постоянно во всех культурах и эпохах, оно и в сегодняшней Германии такое же, как в Италии XIX века и в кальвинистской Женеве, и немногие попытки всерьёз его изменить – в ту или иную сторону – почти всегда плохо кончались. Соотношение настолько устойчиво, что даже в точках экстремума картина такая: трое ныне богатейших людей – Карлос Слим, Уоррен Баффет и Билл Гейтс – вместе имеют приблизительно столько же, сколько следующие за ними семеро. Так ли выглядит естественное состояние?
Без неравенства, видимо, не бывает благосостояния. Богатые непременно должны существовать – не только для их собственного, но и для всеобщего достатка, и в этом они также управляются зачастую не столько собственными намерениями, сколько невидимой рукой. Ибо лишь тот, кто получает больше, чем расходует, может экономить и инвестировать и тем самым двигать экономику вперёд. Обладание некоторым капиталом необычайно облегчает возможность вести себя как капиталист и основывать или расширять предприятия и производить полезные продукты. Если же все будут проедать всё заработанное, нищета в обозримом времени останется неизменной.
Но неравенство распределения имеет и границу, нарушив которую, оно становится убыточным для благосостояния. Общество держится вместе, только если люди могут себя с ним идентифицировать. Но причастность к нему стоит денег – на посещение школ, на участие в школьных экскурсиях, на кино, телевизор, на книги по физике – зависит от предпочтений. Горняки XIX века не имели ни денег, ни будущего, и терять им было нечего. Анархия и революция для них – по меньшей мере не самая худшая альтернатива. Поэтому общества с несправедливым распределением часто нестабильны. В одной из таких ситуаций рабочие занимаются организацией забастовок, а предприниматели – защитой своего состояния, вместо того чтобы сосредоточиться на производстве хороших и полезных вещей. Ещё одна неприятная особенность – финансовые кризисы, которые возникают особенно часто, если совсем маленькие группы людей (элита) располагают особенно большой частью финансового богатства. Богатые любят говорить между собой о своих деньгах, и это часто приводит к сговору в определённых отраслях. Кто в нужный момент не инвестирует в тюльпаны, железные дороги, недвижимость или интернет, тот не считается ни крутым, ни умным, и ему грозит социальная изоляция в своём классе. Это часто приводит к избыточным инвестициям с плохим результатом. И хотя таким образом можно во всех странах прийти к большому скачку развития с высоким ростом, но народные хозяйства, в которых доход и имущество распределены более равномерно, имеют тенденцию к тому, чтобы и расти равномернее и более устойчиво, чем таковые с бо́льшим неравенством – до тех пор пока законы рыночной экономики не окажутся бессильны (тогда уже не растёт почти ничего)[31].
Однако то, как должно быть сформировано такое неравенство, чтобы перед Богом и людьми оно столько лет не сдавало позиции, можно описать – как и правду о полуторачасовом событии на футбольном поле – только негативно. Так, можно констатировать, что требованием равной платы за равный труд не добьёшься равенства, потому что работа, особенно если она интересная, редко бывает равноценной. Известные футболисты, например, обладают способностями, которые высоко ценятся другими и являются достаточным основанием для добровольной чрезмерной оплаты. Это нечестно по отношению к волейболистам, которые обладают не меньшими талантами и тренируются не менее напряжённо, однако в конце своей карьеры вынуждены подыскивать себе настоящую работу. Но альтернатива, которая состоит в том, чтобы каждый получал оплату лишь за время, проведённое на рабочем месте, гораздо нелепее. Дело не в том, как долго человек находится на каком-то месте; решающим является то, что он там делает – а это зачастую трудно выразить в деньгах. Надо ли измерять работу Пикассо или Стива Джобса часами, которые они провели у полотна или в офисе? Они создают вещи, с которыми другим за всю жизнь не справиться. Желание оплачивать их достижения соответствующей почасовой оплатой было бы наивно.
Деньги в вопросе распределения, как и вообще в жизни, фатально переоценены. На самом деле лишь малая часть благосостояния умещается в деньгах, и их перераспределение редко представляет собой нечто большее, чем лечение симптомов. Даже если все располагают сопоставимыми суммами, что тогда будет с красивыми, красноречивыми, обаятельными, прилежными, одарёнными? Их очевидные преимущества не перераспределишь на всю серую массу. Во всяком случае, не с помощью денег, ибо как измеришь ущерб некрасивого человека по сравнению с красивым? И кто будет перераспределять? Каждый должен сам устанавливать, сколько ему надо, или это должно взять на себя государство? И даже если бы сегодня все смогли располагать одинаковой суммой, через пять лет распределение будет предположительно таким же, каково оно сейчас.
Дело не так уж сильно зависит от того, что и сколько ты имеешь, а скорее от того, что ты с этим сможешь сделать. Обладание автомобилем не сделает слепого богаче. Это также не повысит существенно уровень жизни европейского горожанина, который может поддерживать свои социальные связи, перемещаясь на велосипеде или пользуясь общественным транспортом. Вопрос «зачем?» ставится – как во всякой долгой истории – преимущественно лишь в конце. Гораздо больше, чем от денег, дело зависит от возможностей, которыми мы располагаем, чтобы вести успешную жизнь. Для девушки, обладающей способностями Эйнштейна, не иметь доступа к учебникам по физике равносильно увечью, тогда как другие и не заметят эту потерю.
Государство именем социальной справедливости снова и снова пытается через налоги и пошлины урезать доходы богатых, чтобы дать что-то нуждающимся. Но перераспределение – нелёгкая задача. Где кончается справедливость при отъёме? Сколько можно отнять у молодых и отдать старым, прежде чем дело дойдёт до нарушения справедливости в отношениях между поколениями? А повышение возраста выхода на пенсию – это подлость или всего лишь справедливость? Гибкие рынки труда – средство эксплуатации или возможность интегрировать молодых людей в рынок труда? Или ещё более принципиальный вопрос: может, перераспределение приносит больше вреда, чем пользы, если оно делает получателей инертными или если государственные инстанции только попусту транжирят деньги, как бывает в большинстве случаев, когда излишек времени и денег искушает бюрократию глупыми мыслями? Оказывают ли бедным услугу, давая им подачку, которая всегда обязывает к чему-то и в итоге ничего не меняет? Государство так несостоятельно в создании справедливости, потому что само это понятие неуловимо, но ответственные политики всегда должны о нём говорить.
«Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе», – высечено над входом высшего налогового органа США в Вашингтоне. Надпись верна, хотя и помещена там. Мы платим эту цену за современную инфраструктуру, за правовую систему, за безопасность, за защиту собственности и окружающей среды, за внутренний мир, за образование и обучение населения, а часто и за функционирование церковных общин. Разумеется, школы, университеты, больницы, музеи, театры, дороги, аэропорты и всю остальную цивилизацию можно организовать и финансировать частным образом, и государство должно спросить себя, какие задачи оно может, должно и обязано решать. Этот список должен быть максимально коротким. Но если государство совсем отступает в сторону, вскоре всё идёт как в диком XIX веке и образуется привилегированная элита, которая имеет мало общего с массой населения. Этого сегодня никто не пожелал бы себе – не только из страха перед революцией и насилием, но и потому, что никакое общество не выдержит долго столько нищеты, несправедливости и безнадёжности.
Налоги относятся к основам благосостояния, и никакой воспринимаемый всерьёз экономист никогда не сомневался в том, что имущие – ставшие таковыми за счёт своих заслуг или везения – должны платить больше, чем граждане, по невезению или по неспособности менее зажиточные. Поскольку состоятельные граждане имеют больше преимуществ от хорошо обустроенной государственной системы и поскольку то, что других уже задавило бы, для них вовсе не является бременем. И так как совместная жизнь в государстве – это не деловые отношения (в которых совершенно в порядке вещей, что процветающее предприятие зарабатывает ещё больше, тогда как бедствующему и крохи порой не перепадает), а то, что имеет нечто общее с солидарностью и миром и согласием, то налоговые тяготы распределяются так, что давят на каждого в равной степени, хотя это означает, что один платит больше, чем другой.
Нельзя, чтобы налоги были так низки, что цивилизация (которая в разных странах и в разное время обходится в разную цену, и это не позволяет задать цифру для «правильной» налоговой ставки) пострадала бы, но они и не могут, как всякий акт солидарности, взыскиваться неограниченно. Налоговое государство имеет свои границы в желании и в возможностях налогоплательщиков. Если хорошо зарабатывающие – каковыми являются в большинстве случаев верхушка среднего класса или предприниматели – будут обложены слишком высоким налогом, они в какой-то момент сдуются и источник денег иссякнет. Это выразил – немного обобщенно, но так, что понятно каждому, – Авраам Линкольн: «Нельзя сделать слабого сильней, ослабляя сильного. Нельзя сделать людей богатыми, удерживая их от бережливости. Нельзя помочь тому, кто получает зарплату, погубив того, кто зарплату выплачивает».
Но в большинстве случаев дело до этого не доходит, поскольку на практике государство имеет лишь ограниченный доступ к деньгам своих граждан. Налоги – это вмешательство в свободу людей, которое государству надо бы как следует обдумать: оно отнимает у своих граждан часть их денег. Оно должно объяснить им это. В Швеции налоговая мораль в хорошем состоянии – хотя налоговые ставки высоки, – потому что у людей есть чувство, что они живут в надёжно управляемом обществе, которое стоит их денег. Чиновники приветливы, инфраструктура выдающаяся, школы считаются одними из лучших в мире, а правительство неподкупно. В Греции или в Италии налоговая мораль, несмотря на низкие налоговые ставки, неразвита, потому что людям трудно избавиться от впечатления, что их деньгами финансируются лишь привилегии элит. Поэтому никто не отдаёт свои деньги легко.
Если у государства нет хорошего обоснования, налогоплательщики начинают восставать, либо меньше работая и меньше инвестируя (последнее относится к предпринимателям, которые в случае успеха должны отчислить бо́льшую часть прибыли государству, а в случае неудачи вынуждены нести свои потери в одиночку), либо всё чаще задумываясь о том, как бы оптимизировать налоги. Уклонение от налогов, по утверждению Кейнса, единственная интеллектуальная деятельность, которая окупается финансово. Мотив выгоды, который двигает вперёд экономику и благосостояние, относится, как мы знаем ещё от Адама Смита, к личной прибыли, то есть к прибыли после вычета налогов и сборов. Это легитимно и не должно никого удивлять. Чем выше налоги и чем хуже их обоснование, тем быстрее уходят на дно прибыли предпринимателей, чтобы вновь вынырнуть на поверхность в более благоприятных налоговых режимах. Это могут быть виды доходов, более умеренно облагаемые налогами, или прибыль приходится на один из странных британских островов со множеством почтовых ящиков. Или, или, или. Фантазия предпринимателей в этом вопросе намного богаче, чем воображение их противников в налоговых органах. И чем сложнее налоговая система, тем больше простора для фантазии.
Италия показывает, как можно уничтожить страну, используя больную налоговую систему. В первое десятилетие нашего нового века лишь Гаити и Зимбабве росли медленнее, чем Италия. Рост очень сильно зависит от обеспеченности предприятий капиталом, ибо лишь тот, у кого есть капитал, может инвестировать, покупать оборудование и наращивать продуктивность. Капитал возникает (грубо говоря) из прибыли прошлого, в Италии же – из страха перед налогами – никто не хочет показывать прибыль и предпочитает, чтобы она поступала куда-нибудь в другое место. Так экономическая сила страны стагнирует, и любой рост финансируется только долгами.
Итак, даже если экономическая справедливость не поддаётся твёрдым определениям, а у налогового государства нет отчётливых границ, от этого правда, которая находится на игровом поле, ещё не вполне потеряна. Можно, например, без всяких сомнений сказать, что хорошее образование – действенное средство против бедности и может восприниматься как несправедливое неравенство. Хорошо образованный человек редко впадает в бедность. Кто нормально социализирован и многому обучился, может сам позаботиться о себе и не рассчитывает на подачки или перераспределение. Ни на что другое государство не может потратить деньги так разумно и оправданно, как на воспитание, образование и повышение квалификации. Было бы правильно чему-то обучать слои, далёкие от образования, и давать им рекомендации, как позаботиться о себе самому. Школы и университеты не только приводят людей в состояние продуктивной работы, но и помогают им раскрыть свой потенциал и тем самым занять подобающее место в обществе. Тут мы приближаемся к тому, чего можно ждать от высоких налогов и перераспределения.
В странах, где население в целом хорошо образовано, где не разрушены или не закоснели структуры, где действительно можно чего-то достигнуть старанием и хорошими идеями, вопрос распределения стоит не так остро. Чем шире активная прослойка, тем меньше приходится винить других в своем малом достатке. Рост и благосостояние удивительно независимы от налогов и распределения. В США в 50-е и 60-е годы рост был экстремально высок, хотя максимальная ставка налога не опускалась ниже 70 %, а чаще всего превышала 90 %, но имущество было распределено относительно равномерно. Это во многом связано с эффектами навёрстывания после Второй мировой войны, с инновациями военных лет, с инвестициями «Нового курса» в инфраструктуру, с финансовой стабильностью, растущей международной торговлей, гибким рынком труда и тогда ещё эффективными государственными институциями, которые умели обходиться с деньгами ответственно. При всех этих условиях даже высокие налоги не могли повредить общему благосостоянию. Даже наоборот, считалось, что низкие налоги – не панацея. С началом нового тысячелетия Буш-младший в США заметно понизил налоги, но рост оставался слабым. Если же остальные условия не дотягивают, если государство коррумпировано, или оголодало, или расточительно и не позволяет развиваться конкуренции, благосостояние там не возникает. В четырёх ныне наиболее конкурентоспособных странах – Швейцарии, Сингапуре, Финляндии и Швеции – дела идут приблизительно одинаково хорошо, но их налоговые системы и уровень налогов очень разнятся. То есть распределение в итоге больше связано с обычаями, чем с необходимостью. В хорошо управляемом обществе, где доверие к институциям не подорвано, имущество может распределяться так или этак, не причиняя при этом вреда благосостоянию. Точно так же в государстве, во главе которого стоит банда грабителей, любая выплата налогов, независимо от их уровня, будет восприниматься как убыток.
Но как благосостояние распределяется на практике? Богатство постепенно растрачивается рано или поздно почти у всех семейств, как некогда у Будденброков и как недавно у Оппенгеймов. Мало кому удаётся продержаться так долго, как Ротшильдам, Вестминстерам или Турн-и-Таксисам. Причина не может заключаться только в дурном воспитании в богатых семействах. Крупные состояния тоже должны иногда переживать то войны, то глупости. Но долгосрочно удерживать у себя деньги на самом деле могут только те семьи, которым удаётся испортить у своих членов удовольствие от денег.
Торстейн Веблен (1857–1929) в своей книге «Теория праздного класса» принимает этот феномен как данность и объясняет, почему люди всегда так небрежно обращаются с деньгами, хотя, казалось бы, они должны быть для них так важны. Текст книги безобидно замаскирован под теоретический трактат, по правде же это сатира. Веблен изобрёл совершенно индивидуальный род текстов, поскольку обычно экономистам тяжело даётся юмористическое зерно их мыслей.
Веблен рос крестьянским мальчиком на Среднем Западе США, изучал философию у Чарльза Сандерса Пирса, основателя прагматизма, был, несмотря на прекрасные оценки, долгое время безработным и, наконец, стал преподавать экономику – сначала в Чикаго, а позднее в Стэнфорде и в университете Миссури. Он не был частью истеблишмента Восточного побережья, но мог наблюдать его вблизи во время своей учёбы в Йеле. В опубликованной в 1899 году «Теории праздного класса», казалось бы, он всего лишь объясняет, почему богатые люди тратят много денег, а на самом деле он разворачивает яркий паноптикум человеческих тщеславий.
Распределение – это нечто происходящее само собой, словно с помощью невидимой руки, и функционирует, по Веблену, приблизительно так: человек в родоплеменные времена усвоил, что он лишь тогда будет считаться среди соплеменников кем-то, если совершит великие и впечатляющие деяния. Если он ударит врага дубиной по голове или завоюет особенно много рабов, то он улучшит свой статус и будет считаться молодцом. От этого образца поведения мы не можем избавиться и в новейшее время – и, пожалуй, даже не пытались. Но сегодня наши деяния выглядят иначе. Самый большой подвиг состоит в том, чтобы скопить особенно много денег и потом наслаждаться сладкой жизнью. Ведь современный человек давно добился удовлетворения своих основных потребностей, ему не приходится бояться ни голодной смерти, ни бездомности. Если мы, несмотря на это, и дальше усердно занимаемся повышением своего жизненного уровня, то причина заключается в инстинкте великого достижения, который выражается в нашем честолюбии стать богаче соседа. Просто чувствуешь себя лучше, если имеешь больше, чем твой ближний, с которым вам долгое время приходилось себя сравнивать. И уж точно чувствуешь себя ужасно, если имеешь меньше, чем он. Итак, человек вступает в практически бессмысленную гонку за большее имущество (Pecuniary Emulation), ибо если что-то имеешь, то сам представляешь собой что-то.
Но статус вырабатывается и закрепляется лишь в том случае, если другие могут видеть, как велико твоё имущество и удача. Самое верное средство здесь – так называемое демонстративное потребление (Conspicuous Consumption), то есть приобретение предметов, практическая польза которых не имеет никакого разумного отношения к цене. Сюда попадает в основном всё, что выставлено для продажи в Нью-Йорке на Пятой авеню, в Лондоне на Бонд-стрит и в Цюрихе на Банхофштрассе. Сумочки, часы, предметы одежды, сигары, вина, автомобили и лодки имеют смысл лишь тогда, когда их выставляют напоказ самой широкой публике, которой становится ясно, что их обладатель располагает толстым бумажником. Здесь во всей красе предстаёт сегодня так называемый эффект Веблена: некоторые товары или недвижимость продаются по более высоким ценам лучше, чем по слишком низким. Если золотые часы не продаются за 10 тысяч евро, владелец лавки выставляет ценник на 25 тысяч и тем самым может повысить свой шанс на успешную продажу. Классическая теория гласит, что более низкая цена обеспечивает более высокую статистику продаж. Наша ветвь первобытного племени – причина тому, что в демонстративном потреблении всё наоборот.
Ещё одна возможность обозначить свою значимость – это броско и хвастливо проводить свободное время (Conspicuous Leisure). Кто не делает ничего полезного, кто не занят работой или занят нерегулярно, кто много времени проводит со своим личным тренером, чтобы быть стройным, сильным, красивым и самым лучшим на сноуборде, верхом на коне, на вейкборде и на йоге в Индии, тот хотя и заслуживает симпатии современных анархистов и бездельников, но вообще-то ищет лишь признания людей, которые сами зарятся на вершину пирамиды и могут оценить, что значит высокозатратное ничегонеделание.
Веблен разрабатывает трудную тему, которая расположена близко к ядру экономики. Почему человек не останавливается в зарабатывании денег, по сегодняшний день остаётся загадкой, зачастую, а то и никогда не получающей удовлетворительного ответа. Маркс считал, что это как бы метафизическое свойство капитала – желание аккумулироваться. Кейнс предвещал конец в принципе нездоровой любви к деньгам ради них самих, как только проблема обеспечения действительно будет решена. Родоплеменная сатира Веблена, вероятно, ближе к правде, чем все научные рассуждения.
Насколько трудна эта тема, видно уже по названию книги Веблена. Немецкий язык не знает понятия «Leisure Class». Перевод этой книги на немецкий язык носит название «Теория изысканных людей». Как мало общего праздный класс имеет с изысканными людьми, можно узнать из короткой экскурсии по соответствующим адресам. На Максимилианштрассе в Мюнхене сыщется так же мало утончённых людей, как и на Пятой авеню. Там кишмя кишат богатые арабы, русские, китайцы и местные нувориши, брокеры и строительные магнаты, у которых непомерное «демонстративное потребление» и про которых можно с уверенностью сказать, что они не смогут основать династию. Люди эти крикливые выскочки, они хотят что-то доказать себе и миру. А «изысканные люди» знают своё происхождение и своё место, имеют хорошее, но не выставленное напоказ чувство собственного достоинства, которого Leisure Class полностью лишён. Наблюдения Веблена, согласно которым Leisure Class выказывает на удивление мало подлинного стиля и вкуса, явно актуальны и поныне. В нём много показного шика и подражательства; они и сегодня так же, как тогда, если выразить это одним словом, неизысканны.
Бакунин, Милль и несостоявшаяся революция
Прудон хотя и появился в нужное время, но был не тем человеком. Он не мог видеть кровь, боялся баррикад и не переносил порохового дыма. Такой человек никогда не станет вождем революции. Точно так же и Карл Маркс (1818–1883): имел образ мысли, но не жизни революционера; он владел диалектикой как профессор, но никогда не был замечен в уличной борьбе. О нём и о его коммунизме мы ещё поговорим позднее. Но ярость униженных и требования справедливости в мире, который трещал по швам, породили и полнокровных революционеров, из которых Михаил Бакунин (1814–1876) был, пожалуй, самым честным, самым яростным и блестящим. В его жизни разгораются все духовные и политические конфликты середины XIX века.
Бакунин, будучи сыном дворянского землевладельца, вырос в русской провинции. Уже очень рано он развил в себе два существенных для революционера качества: он был неспособен признавать авторитеты и не имел пристрастия к деньгам. Так что он был прирождённым бунтарем. Отец отправил его на военную службу, к которой Бакунин не проявил достаточного рвения, и в наказание был отправлен на границу империи. Но и это не сделало из него солдата, как писал один друг: «[Бакунин] не исполнял службы и дни целые лежал в тулупе на своей постели. Начальник полка <…> ему напомнил, что надобно или служить, или идти в отставку. Бакунин <…> тотчас попросил его уволить»[32].
Он был без особых эмоций отвергнут семьёй и отправился в Москву, где стал учителем математики, читал Гегеля и благодаря Александру Герцену увлекся социализмом сен-симоновского толка. Герцен – как дитя «сердечной» связи богатого русского дворянина и дочери мелкого чиновника из Штутгарта – тоже держался особняком по отношению к обществу. Он стал другом Бакунина на всю жизнь и, будучи наследником большого состояния, был его главным кредитором. При помощи сочувствовавшего ему банкира Ротшильда (используя ловкую схему, которую сегодня назвали бы Asset-Swap, обмен активами) Герцену удалось вывести из России своё изрядное состояние, хотя он уже находился в розыске как революционер. В финансовом плане Герцен играл для Бакунина ту же роль, что и Энгельс для Маркса. Почти за каждым значительным революционером всегда стоит крупное состояние.
В случае Бакунина такое состояние было необходимо. Он всю свою жизнь был банкротом и совершенно не тяготился этим. Он много ел, много пил, много потел, был толст и жил на широкую ногу, где только удавалось. Он одалживался практически у всех, с кем был знаком. Поскольку он в равной мере был приятен и безнадёжен, он с лёгкостью получал не только деньги, но и по большей части списание долгов. Его кредиторы, судя по всему, не держали на него обиды. Лишь однажды Александр Герцен оцепенел, когда при встрече после долгого перерыва Бакунин, едва поздоровавшись, сразу спросил: «Можно ли здесь заказать устриц?»[33]. Он был подкупающе искренним, чего не скажешь о его куда более успешном коллеге Марксе.
В 1840 году Герцен пригласил Бакунина отправиться в Берлин, чтобы на месте изучать немецкую философию. Там он познакомился с Иваном Тургеневым и вскоре посещал салон в доме Фарнгагенов. Представители «Молодой Германии» перетянули его на сторону революции. В октябре 1842 года он смог опубликовать в Дрездене свою первую революционную работу в «Немецком ежегоднике» Арнольда Руге, которая начиналась воззванием к свободе и заканчивалась понятием созидательного разрушения: «Дайте же нам довериться вечному духу, который только потому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечно созидательный источник всякой жизни. Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть!»[34].
В Бакунине семя чувства несправедливости взошло в очень своеобразной, аристократической, воинственной, радикальной форме. Он разработал свою собственную совокупность идей, центром которой была безусловная свобода. Он отвергал любой вид государственного принуждения, он верил в жизнь в свободных деревенских или полуиндустриальных общинах (синдикатах), считал весь народ (а не один только пролетариат) способным к революции. Он ни во что не ставил коммунизм, который в его глазах «не свободное общество, не действительно живое объединение свободных людей, а невыносимое принуждение, насилием сплоченное стадо животных, преследующих исключительно материальные цели и ничего не знающих о духовной стороне жизни и о доставляемых ею высоких наслаждениях»[35]. Правда, коммунизм возникает из «священных прав» и «гуманнейших требований» и играет поэтому неопровержимую роль. Но для Бакунина это ничто, ибо всякая форма авторитарного господства противна его душе, будь она хотя бы и в одеянии марксизма.
Он был одарённый народный трибун, движимый чувством сострадания к рабочим в их бедствиях по всей Европе и отвращением ко всем реакционным режимам, особенно в России и в империи Габсбургов. Они скоро тоже перестали говорить с ним по-хорошему, с тех пор и до конца своей жизни Бакунин находился более или менее в бегах. Естественным местом пребывания для революционера в это время был Париж, куда он и приехал в 1844 году.
Как и в Берлине, в Париже философия Гегеля тоже была для всякого респектабельного революционера тем игольным ушком, через которое надо было как-то пролезть. Точнее говоря, не только философы, но и почти все другие гуманитарии были увлечены учением знаменитого берлинского профессора. Его система была великолепной, всеохватывающей и имела претензию дать ответы даже на самые безумные вопросы. То был радикальный разрыв с системами Просвещения, которые хотели установить логические порядки и вечные истины и которые больше интересовались бытием, нежели становлением, и поэтому упускали из виду динамику, присущую делам человеческим. Так Гегель всякую проблему укрыл покрывалом истории. Мировая история, на его взгляд, есть борьба противоположностей, при которой новое побеждает старое и растворяет его в себе. Она в постоянном движении, её прогресс неудержим и проявляется в катастрофах. С её пути отступают прежние формы, образы, ставшие бесполезными, пустые понятия. История обладает вечно беспокойным сердцем, «всемирная история не есть арена счастья. Периоды счастья являются в ней пустыми листами»[36]. Действительность есть вечное превращение, разумность которого можно усмотреть лишь впоследствии, и она не заботится о проигравших в этом всепоглощающем прогрессе. В итоге всё что угодно (и, как говорят его критики, ничто не) поддаётся пониманию с помощью этой исторической концепции из тезы, антитезы и синтеза.
Тем не менее цель истории ясна: примирение с самой собой, большой синтез, в котором движение мирового духа приходит в состояние покоя. Но как выглядит конец истории? Гегель не размышляет об образе будущего, это предоставлено его ученикам. Но ему, чья юность пришлась на то время, когда Наполеон держал всех в напряжении, ясно, что в конце может устоять лишь государство, в котором власть и право сходятся вместе. Власть даёт право, и таким образом победители Наполеона – в своём праве, как он сам был в праве до тех пор, пока господствовал на полях сражений Европы.
Тяжёлые, честные, но зачастую запутанные мысли. Система Гегеля была попыткой понять действительность как нечто динамичное, пребывающее в постоянном движении. Статичные системы его предшественников были ему скучны. Но всё же это была система, в которую он хотел втиснуть мир, пусть это было и достаточно просторное одеяние. Но всякая система есть самонадеянность, ибо кто хочет охватить всё, может только потерпеть поражение в этой амбициозной попытке. Гегель намеревался понять всё происходящее, отождествляя действительное с абстрактным. Тем самым он давал в руки своим ученикам, которым недоставало его блеска и глубины, громкий словесный аппарат, с которым можно было оправдать всё, власть и насилие, Бога и свободу, государство и искусство. Интеллектуалы Европы были увлечены системой, с которой можно позволить себе всё – гигантская арена для образованных сословий.
Вот через это игольное ушко должен был пролезть и бедный Бакунин, если хотел что-то значить в бурлящем, развивающемся Париже. Там картина мира была сравнительно ясна: с Сен-Симоном историю человечества можно было постичь как классовую борьбу. Гегель дал теоретическую надстройку, почему революция была правильной. Ввиду неприемлемого положения вещей в Европе революция должна была явиться и дать возникнуть общественной форме, которая базируется не на собственности, алчности, неравенстве и подавлении, а на чём-то противоположном. Вооруженный этим теоретическим аппаратом, Бакунин посвятил остаток жизни тому, чтобы приблизить революцию.
В 1844 году он познакомился в Париже с Карлом Марксом. Он уважал его, но по-настоящему они не сблизились, как вспоминал об этом позднее Бакунин: «Именно в эту эпоху он выработал первые основания своей нынешней системы. Мы виделись довольно часто, так как я весьма уважал его за науку и страстную и серьезную приверженность делу пролетариата, хотя и постоянно смешанную с личным тщеславием. Я с жадностью искал разговоров с ним, всегда поучительных и возвышенных, когда они не вдохновлялись мелочной злобой, то, что случалось, увы, слишком часто»[37]. Однако мнение об учёности Маркса он считал преувеличенным, для Бакунина важнее были дела и человечность. Маркс «портит работников, делая из них резонёров. То же самое теоретическое сумасшествие и неудовлетворенное, недовольное собою самодовольствие»[38].
Главным упрёком Бакунина было то, что Маркс был «с ног до головы властен (Autoritär)»[39], да к тому же «он чрезвычайно честолюбив и тщеславен, сварлив, нетерпим и абсолютен»[40]. Это впечатление разделяли почти все независимые современники, знающие Маркса, – за исключением Энгельса. Авторитарная организация – такая, какой был организованный и руководимый Марксом «Первый интернационал», призванный форсировать революцию, – не нуждалась в независимых умах. Случись Марксу жить в XX веке, его бы не удивило, что всякая марксистская система заканчивалась диктатурой. Ленинизм был заложен уже в марксизме. Маркс всегда имел в виду индустрию и её рабочих, хорошо организованные фабрики в хорошо организованном государстве. Без централизованного государства он не мог себе представить революцию и переход к бесклассовому обществу. Для Бакунина же, напротив, всё дело заключалось в свободе, без которой он не мыслил достойную человеческую жизнь. Его идеалом был крестьянин в сибирских просторах, который был избавлен от всего, что пахло организацией и государством, и которому не приходилось задумываться о таких предметах, как собственность и прогресс.
В отличие от Маркса, ведущего жизнь профессора, Бакунин не был революционером письменного стола. Он презирал Маркса за то, что тот медленно и методично планировал революцию на тот день, когда история для неё созреет. Коммунизм был образом мысли, тогда как анархизм был образом жизни, и каждый так и остался верен выбранному пути. Бакунин был человеком, который здесь и сейчас, сегодня готов был броситься на совершение переворота. Выжидание он считал трусостью.
Когда в 1848 году повсюду в Европе разразилась революция, он в Париже тотчас был на баррикадах. Он жил в казарме с пятьюстами рабочими, которым проповедовал при всяком удобном случае анархизм. Но временное правительство хотело быстро избавиться от него (один прагматик[41] говорил, что «В первый день революции это просто клад, а на другой день надобно расстрелять»[42]) и отправило его с деньгами на восток, чтобы вовлечь в революцию славян. Но когда он добирался до Берлина, Вроцлава, Познани и Лейпцига, восстания там были уже подавлены. В октябре 1848 года Вена снова была в руках его кайзерского величества, а в ноябре Берлин заняли прусские войска.
Бакунин был уже близок к тому, чтобы отчаяться («Только анархическая крестьянская война с одной стороны и исправление буржуазии банкротством с другой могут спасти Германию»[43]), но в марте 1849 года прибыл в Дрезден, где предчувствовал шанс на успех. Он познакомился с Рихардом Вагнером, который тогда был сходным образом радикален и сочинял революционные тексты, которые по силе языка и неистовству честного гнева ни в чём не уступали «Манифесту коммунистической партии», появившемуся в то же время. Вагнер изображал в своих мемуарах (не поднимающих острых тем, написанных в приятной благосклонности к баварскому королю), какое впечатление произвёл на него Бакунин: «Все в нем было колоссально, все веяло первобытной свежестью <…> В спорах Бакунин любил держаться метода Сократа. Видимо, он чувствовал себя прекрасно, когда, растянувшись на жестком диване у гостеприимного хозяина, мог дискутировать с людьми различных оттенков о задачах революции. В этих спорах он всегда оставался победителем. С радикализмом его аргументов, не останавливающихся ни перед какими затруднениями, выражаемых притом с необычайной уверенностью, справиться было невозможно <…> Привести в движение разрушительную силу – вот цель, единственно достойная разумного человека. Развивая свои ужасные идеи и заметив, что я страдаю глазами, Бакунин целый час держал, несмотря на мое сопротивление, свою широкую ладонь против резкого света лампы»[44].
В начале мая разразилось восстание, когда король Саксонии отказался признать конституцию, принятую Немецким законодательным собранием в церкви Св. Павла, и распустил парламент. Но он не был героем, бежал при первых беспорядках и призвал на помощь прусские войска. Бакунин взял на себя военное руководство в Дрездене. Вагнер был впечатлён хладнокровием, с каким тот, совершенный аристократ и совершенный революционер, «в черном фраке, с неизбежной сигарой во рту»[45] обходил баррикады и город.
В майском восстании наряду с Вагнером и Бакуниным принимал участие ещё один известный гражданин: Готфрид Земпер, который в это время как архитектор был занят расширением архитектурного ансамбля Цвигнер. Для всех троих общим свойством всю жизнь была безудержность в обращении с деньгами их меценатов. Земпер отвечал за строительство баррикад. Сообщают, что Вагнер и Земпер – чтобы спрямить фронт баррикад – подожгли наряду с несколькими жилыми домами и место работы Вагнера – Оперу. Должно быть, его захватила эйфория «гибели богов»[46]. Кстати заметим (на полях), что Вагнер позднее добровольно служил при дворе баварского короля, а Земпер поначалу делал карьеру в Лондоне, а затем строил Императорский форум в Вене, получил прусский (!) орден Pour le mérite и, наконец, – он сам не укрылся от иронии истории – стал архитектором нового дрезденского придворного театра, который ныне называется Оперой Земпера, тем самым став преемником Оперы, им же и подожжённой в 1849 году. Саксонские короли были заметно прагматичнее саксонских революционеров.
Вскоре оказалось, что Дрезден не удержать силами честных горожан, скорбящих по своим красивым деревьям, которые рубили в качестве материала для баррикад на аллее Максимилиана. Бакунин находил это постыдным и смешным. С такими людьми не сделаешь революции. У него никогда не было интереса к бессмысленному кровопролитию, он быстро дал отбой восстанию и организовал побег 1800 революционеров в Богемию. Вагнер и Земпер тоже скрылись, чтобы в будущем преумножать славу своих правителей.
Сам Бакунин был арестован, и для него началось долгое время страданий. Сначала он был приговорён пруссами к смерти, затем выслан в Австрию и там тоже приговорён к смерти. Что было позволено пруссам и австрийцам, того хотел и царь. И Бакунин был переправлен дальше и в Санкт-Петербурге в третий раз приговорён к смерти и заточён в Петропавловскую крепость. Когда царь потребовал от него признания вины, Бакунин отказался писать что-либо пригодное для этой цели. Это не сказалось положительно на условиях его содержания. По причине недоедания у него началась цинга, и зубы выпадали со страшными болями. После восьми лет заточения в крепости ему заменили приговор на ссылку в Сибирь. Там, в Томске, он на некоторое время обрёл покой и даже женился. Но и это усмирило его ненадолго (его жену тоже: их дети, судя по всему, были от других мужчин), и он воспользовался тем, что один из его двоюродных братьев был командующим русскими войсками в Сибири, чтобы бежать через Японию и США назад в Европу, где он в 1861 году, спустя 13 лет после дрезденского восстания, снова встретил в Лондоне Александра Герцена.
Маркс между тем стал «вожаком» социалистов в Лондоне, выстроил свой Интернационал, и его претензии на власть не терпели никакой самостоятельно и нестандартно мыслящей головы вроде Бакунина. Во имя сохранения строгой дисциплины и дееспособности организации Бакунин по инициативе Маркса вскоре был исключён из Интернационала. Социалистическое движение начало раскалываться, что порождало ненависть не только к эксплуататорам, но и к конкурентам в собственном кругу единомышленников.
Но такого человека, как Бакунин, полного гнева и отвращения к несвободе и эксплуатации, нельзя было сломить. Его энтузиазм по отношению к революции был неодолим, и он снова агитировал, где только мог. В первую очередь он попробовал себя в Северной Италии, которой управляли реакционные австрийцы, но откуда уже однажды, во время правления Наполеона, повеяло духом нового времени. Бакунин всегда держался того мнения, что революцию следует устраивать прямо сейчас. Но удачи в жизни ему больше не было отпущено. Он перестал поспевать за временем. При восстании Коммуны 1870 года его потянуло в Лион, и он стал членом революционного центрального комитета, который требовал отсрочки действия ипотечных процентов и налогов, учреждения народного правосудия, отмены государства и устройства свободных коммун. Но народ не интересовался революцией, и она была подавлена национальной гвардией за несколько часов.
Бакунин состарился, был удручён и после разгрома в Лионе больше сам не верил в то, что ему удастся когда-нибудь дожить до неизбежной революции: «Милитаризм и бюрократизм, юнкерская наглость и протестантский иезуитизм пруссаков, в трогательном союзе с кнутом моего драгоценного государя и повелителя, императора всероссийского, станут господствовать на Европейском континенте бог знает в продолжение скольких десятилетий»[47]. В этом отчаянии он потерял и свою способность здраво рассуждать и дал себя убедить Сергею Нечаеву, одному из безумных фанатиков, в том, что революцию можно форсировать только путём покушений на дворян и крупную буржуазию. Непростительно много времени потребовалось, чтобы Бакунин узнал, что Нечаев тиран и убийца, а человечности в нём нет ни капли. Это ему анархисты обязаны своей дурной славой кровожадной банды. Бакунин не особенно хорошо разбирался в людях, для этого он был слишком наивным, слишком грандиозным, слишком мало интересовался нюансами, слишком готов был верить в хорошую сторону людей.
В конце Бакунин был настолько честен, что признался в решающей проблеме революции: он решил, что бесполезно желать невозможного, а нужно смотреть правде в глаза и отдавать себе отчёт в том, что «в данное время народные массы не хотят социализма»[48] (пишет он в 1874 году одному другу). Сходным образом видит положение и Александр Герцен в своих мемуарах: что делать революционеру, если рабочие и крестьяне, которых он хочет освободить, вообще-то вполне довольны своим жребием, не питают интереса к переменам и не могут избавиться от чувства, что их маленькое и, по сути, убогое существование – это всё, что у них есть, и потому именно это они и желают сохранить?
Маркс не ведал таких сомнений. Его не интересовало ни Возможное, ни Желательное, поскольку у него была теория. Она была обобщением того, что зарождалось в его время, обобщением, поднявшимся до системы и до религиозной догмы.
От Рикардо и классических экономистов Маркс перенял веру в железный закон заработной платы: никакой пролетарий не может зарабатывать больше, чем необходимо для элементарного выживания. Тем самым он перенимает закон Сэя, который гласит, что цена всякого товара и рабочей силы должна падать до тех пор, пока на них не найдётся покупатель или работодатель. От Гегеля ему достались сверхчеловеческие амбиции – упорядочить мир в систему; но он пошел ещё дальше, утверждая, что мировую историю можно предсказать. Какая глупость! От Сен-Симона он научился понимать мировую историю как борьбу экономических классов. У Сисмонди он позаимствовал мысль, что борьба капиталистов за части рынка и всё более низкие цены должна приводить к краху, и из краха отдельных единиц он делал выводы о крахе всей системы. Объединив все эти идеи, он описал капитализм как динамическую систему, которая сама приводит себя в движение и не может уйти от собственных законов и тем самым готовит себе погибель. Капиталистическая динамика, которую Адам Смит хвалил за то, что она гарантирует обеспечение населения и повышает его благосостояние, на самом деле – по Марксу – ведёт ко всё более глубоким кризисам и, наконец, к финальному коллапсу.
Крушение, по предсказанию Маркса – неизбежное следствие индустриальной революции, могло быть разве что ускорено революционерами, сам же ход был задан неотвратимо. Что последует потом, было не ясно, так что русские революционеры, которым впервые как раз в наименее индустриальной стране удалась революция, поначалу были скорее беспомощны в том, что теперь делать практически. Тезис «от каждого по способностям, каждому по потребностям», выдвинутый Марксом в своих удручающе общих формулировках, совершенно не подходил для такой темы, о чём уже говорилось намёками в предыдущей главе. Ибо что это означает на практике? Кто что должен отдавать, кто и когда получал достаточно? И кто решает? И если рынки и стимул к получению прибыли исчезнут, откуда фабрика узнает, что ей производить? Чтобы практические вопросы не вставали слишком остро, в Советском Союзе были введены пятилетние планы, а для верности ещё и диктатура – от политической группировки, которая вскоре была объявлена в качестве единой партии, но в которой заправляли не наивные рабочие, а в основном интеллектуалы в гегельянских очках, хотя особой прозорливостью и не обладавшие, зато обладавшие большим влиянием.
Можно с успехом рассуждать о том, как история двинулась бы дальше, если бы социализм был сформирован не столько Марксом, сколько Бакуниным или ещё какой-то более приближенной к реальности, менее профессорской, менее самовосхищённой личностью. Так или иначе, нельзя было терпеть, что некоторые становились сказочно богатыми, тогда как огромная часть населения пребывала в нищете. Пусть такое состояние дел сложилось в Европе ещё до Французской революции, точно так же, как на Барбадосе. Но теперь это больше было неприемлемо. Если результат экономики Рикардо выглядел так, то она была либо неверной, либо не вполне истинной. Широкие народные слои тоже хотели что-то иметь от того богатства, что так соблазнительно разворачивалось у них на глазах. И среди буржуазии тоже распространилось понимание, что дальше так не пойдёт, не может идти. Экономика обязана была теперь задумываться не только о возникновении, но и о моральных основаниях и распределении богатства и о подходящих для этого государственных институциях. Что и стало кругом тем, интересующих Джона Стюарта Милля.
Милль и социал-демократия
1848 год был не только годом революции, годом, в который Маркс и Энгельс опубликовали свой «Коммунистический манифест», но и годом экономически низшей точки. В 50-е и 60-е годы XIX века начался заметный подъём, в том числе зарплат, и улучшение условий жизни рабочих. И пусть развитие было медленным, но хотя бы нищета шла на спад. В двух поколениях между 1848 годом и началом Первой мировой войны в индустриальных странах доход на душу населения удвоился (в Германии вырос даже в два с половиной раза), а поскольку несправедливость распределения больше не могла нарастать, то даже у бедных и их многочисленных детей кусок получаемого пирога становился всё больше. Действительно наметилось нечто вроде благосостояния, которое перестало быть богатством немногих. К сожалению, Маркс уже не мог осмыслить это в своём «Капитале», сочиняемом в то время, поскольку его теория уже давно была отлита в бронзе и гласила, что зарплаты могут только падать. Маркс уже больше никогда не смог бы признать, насколько гибок на самом деле капитализм, который и так вызывал у него удивление своей гибкостью. Он не мог поверить, что экономические отношения меняются сами по себе, без всякой пролетарской революции. На практике зарплаты росли существенно, потому что в среде буржуазии действительно распространялось что-то вроде сострадания, а также потому – и это было более действенным, – что возникли профсоюзы, которые впервые дали рабочим голос, организацию и силу, чтобы добиваться своего. Они росли ещё и потому, что железный закон зарплаты попросту был неверным. Владельцы фабрик поняли, что для более сложной деятельности нужны обученные и опытные рабочие, которыми нельзя поступиться в борьбе с конкурентами только из-за того, что это давало выигрыш в несколько крейцеров. Для работодателя не было и нет ничего хлопотнее, чем терять дельную рабочую силу.
В 1848 году, в этом ключевом году XIX века, Джон Стюарт Милль (1806–1873) также опубликовал свои «Основание политической экономии». Милль был интеллектуальным вундеркиндом своего времени. Он очень рано научился обращаться почти со всеми инструментами духа и по всем дисциплинам писал произведения непреходящей ценности: он был своего рода Моцартом философии. Своему отцу, который тоже был философом, он служил объектом исследований, в которых тот выяснял, что получится, если ребёнка с первых дней пичкать чистым разумом в форме латинской и греческой грамматики, логики, геометрии и арифметики, истории, химии и зоологии. Вместо пышногрудой гувернантки у него был воспитатель Джереми Бентам, философ высокого интеллекта, которому и по сей день воздаётся слава изобретателя утилитаризма. Бентам изолировал маленького Джона Стюарта от других детей и вообще от всего того, что, по его мнению, не имело пользы. Милль начал изучение древних языков в возрасте трёх лет и в семь лет читал «Диалоги» Платона в оригинале. Для расслабления были Плутарх и на сладкое «История Великобритании» Юма. К десяти годам он прочитал бо́льшую часть классической литературы и владел древними языками на университетском уровне. Говорил по-немецки и по-французски. Сравнительно поздно, в возрасте тринадцати лет, он начал изучение трудов Адама Смита и Давида Рикардо – что могло быть связано с тем, что ему до одиннадцатого года своей жизни, 1817-го, пришлось ждать, когда выйдут в свет «Начала политической экономии и налогообложения» Рикардо.
В возрасте 14 лет Милль приобщился к спорту, играм и своим ровесникам. Жизнь стала благодаря этому, с одной стороны, ярче, с другой стороны, сложнее и непостижимее, чем мир книг. Ввиду плохого устройства и ужаса действительной жизни в юности Милль пережил глубокую депрессию, которая оказалась отнюдь не последней. Такое состояние души не предусматривалось в теориях его отца и Бентама, и этот эпизод сказался на всём теоретическом и практическом каркасе его жизни. Большинство интеллектуалов видят мир глазами своих идей, и лишь немногие поступают наоборот: взвешивают теории в свете мира. К последней группе принадлежал и Милль после своей депрессии. Он проглотил и переварил всё интеллектуальное знание своего времени, но не стал от этого снобом. Он стал хорошо заземлённым человеком, воспринимающим жизнь такой, какая она была, а не такой, какой должна быть.
Мнение Милля о Бентаме не было благосклонным, потерянное детство преследовало его всю жизнь. Он ставил в укор учителю свою эмоциональную пустоту, он был хотя и весёлым человеком, но не способным к сильным чувствам и глубокому опыту. Тем самым Бентам дисквалифицировался в его глазах и как философ, поскольку не преподнёс ученику человеческий опыт: «Соответственно, этими границами и определяется знание Бентамом природы человека <…> Он не обладал ни внутренним, ни внешним опытом; спокойная, равномерная мелодия его жизни и здоровье его духа лишали его того и другого. Он не знал ни богатства, ни бедности, ни страсти, ни пресыщения. У него не было даже опыта болезни, он прожил с детства до 85 лет, обладая юношеским здоровьем. Он не знал ни уныния, ни тяжести на сердце. Он никогда не воспринимал жизнь как утомительную тяготу. Он до конца оставался мальчиком. Самонадеянность, этот демон гениальных людей нашего времени – от Вордсворта до Байрона, от Гёте до Шатобриана, – которому наша эпоха обязана столь многим в своей радостной и печальной мудрости, так никогда и не проснулся в нём. Он не ведал, как много человеческой природы в нём дремало, и мы тоже не можем это знать». Отнюдь не благосклонное суждение.
В Англии 1848 года Милль был уже всюду признанной величиной – как философ и как политический интеллектуал. Он самый значительный представитель утилитаризма, в котором названо вслух то, что экономисты втайне думают и предполагают. Утилитаризм глубоко заглядывает человеку в глаза, сокрушённо качает головой и констатирует, что человек стремится только к тому, чтобы максимизировать свою выгоду, добиваясь удовольствия и избегая страдания. Исходя из утилитаризма, можно объяснить поведение людей и животных (хотя человеку и присущи более изысканные удовольствия – например, философия). Утилитаризм – философия, которая часто подвергается нападкам, но она обладает большим преимуществом: абсолютной убедительностью, поскольку всякий, кто слышит про этот принцип, сразу чувствует себя пойманным с поличным. А что ещё человеку делать – стремиться к страху и неприятностям? Экономисты разделяют эту картину мира, ибо человек становится предсказуемой, статистической величиной, если реагирует на побуждения, поддающиеся измерению. Точнее говоря, утилитаризм со времён Милля для большинства экономистов – единственно мыслимая философская опора, как бы худо она ни выглядела. Экономисты не знают, что делать с людьми, которые не ищут выгоды и остаются всегда милыми и альтруистичными. Экономисты становятся совсем холодными, в стиле Бентама, и растерянными, когда, например, благотворительное пожертвование объясняется его полезностью для улучшения социального статуса.
Но важнее другая философская установка, с помощью которой Милль действительно реформировал экономику. Он был консеквенциалистом. Для таких людей последствия гораздо важнее, чем мотивация. Если я помогаю старой даме перейти улицу потому, что получу за это деньги, то результат хорош – тем самым хорошо и действие. Если она не будет переведена и её задавит машина, то результат плох, а плох он был оттого, что очевидно не нашлось никого, кто помог бы старой даме – неважно, по каким мотивам. И если я помогаю старой даме перейти через улицу бескорыстно и только ради неё самой, но она всё-таки попадает под машину, то последовательный человек тоже не сочтёт мой поступок хорошим. Результат не был хорошим, и поэтому всё своё действие я мог бы оставить при себе.
Консеквенциалисты тем самым – антиподы кантианцев, для которых ничто не хорошо так, как доброе намерение, независимо от результата. Итак, Милль ввёл в экономику консеквенциализм. Конкретно это означало следующее: если экономический порядок ведёт к тому, что большая часть населения попадает под колёса, то с теорией что-то не так. Она может быть логичной, элегантной и убедительной сама по себе, но для практики не годится. Так Милль видел экономику индустриальной революции: она не вела к максимально возможной пользе для как можно большего числа людей и потому не была хороша.
Итак, Милль оглядывается и обнаруживает, что следствия современного экономического порядка неприемлемы, и потому привносит в экономику социал-демократический мотив. Он звучит приблизительно так: «Сознаюсь, меня вовсе не прельщает идеал жизни, который питают люди, считающие, что естественное состояние человека есть борьба за существование; что положение, при котором каждый топчет, теснит, расталкивает и преследует других по пятам – представляющее современный тип социальной жизни, – есть самая желательная участь человечества, а не печальный симптом одного из фазисов экономического развития»[49]. Милль хотя и подтверждает, что свободные рынки, частная собственность и т. п. есть фундамент благосостояния, но говорит также, что вопрос возникновения изобилия следует отделять от вопроса о его распределении. То, каким путём становишься богатым, не имеет ничего общего с тем, как поступаешь с деньгами. Общество может установить такое распределение, благодаря которому будет достигнута наибольшая польза для людей, измеряемая максимумом удовольствия и минимумом страдания. Поэтому для Милля благосостояние нации состоит не только в возможно более эффективном производстве благ. Для экономиста речь должна идти о наивысшей степени всеобщего благополучия нации.
Как и все другие экономисты, Милль описывает мир вокруг себя. В отличие от времён Рикардо социальное движение давно достигло сердец, а иногда и умов буржуазии. В Англии парламент учредил в 1834 году систему работных домов, где наиболее нуждающимся хотя и было уготовано самое жалкое существование, но где они имели крышу над головой и какое-никакое пропитание. В Пруссии и Саксонии уже в 1840-е годы появились зачатки социального законодательства, которые Отто Бисмарк затем – в 1870-е годы – распространил на всю Германию. Государство повсюду стало регламентировать и контролировать использование детского труда, рабочие часы и условия работы. Так проходила демократизация Европы. Людям больше недостаточно было просто взирать на свои правительства, они хотели говорить и своё слово. Избирательное право и полномочия парламента были расширены. Это был изматывающе медленный процесс, но сегодня мы знаем, что как-то так он и должен был идти. И Миллю выпало быть летописцем этого движения для экономики.
На взгляд Милля, развитию всеобщего благосостояния не будет конца, если обложить высокими налогами такие незаслуженные случаи везения, как наследство и рост цен на земельные наделы, – чтобы этими деньгами оплачивать задачи общества в целом. К этим задачам решительно относятся такие статьи, как благотворительность, а также образование и воспитание детей. Но перераспределение имеет, как и всякое вмешательство государства, свои границы там, где оно ограничивает свободы граждан. Государство должно брать то, что ему нужно, чтобы оптимизировать общее благосостояние – но ни центом больше. Оно определённо не должно быть в ответе за то, чтобы всем гражданам было хорошо. Поэтому налоги должны быть такими низкими, как только возможно в честном обществе.
Милль обладал глубоким пониманием индивидуализма, который в английских высших кругах XIX века часто переходил в открытую эксцентрику. Благодаря этому он полностью избавлен от социальной романтики, да и социал-демократизация находит свой предел в его любви к свободе. То представление, что общество и/или государство могут давать людям предписания, кроме какого-то минимума, это анафема для Милля. Моя свобода может быть ограничена единственно и только тогда, когда она угрожает свободе других. Всё прочее – моё личное дело. Покрашу ли я свой дом в лиловый цвет, стану ли растранжиривать своё время, буду ли скуп с моими деньгами, хорошо ли или плохо буду обращаться со своим здоровьем, никого не касается, пока я сам несу за это ответственность и принимаю на себя все последствия.
Милль подчёркивает, что в экономике, помимо голых цифр, речь идёт и о кое-чём другом. Она исследует, как достигнуть самой большой материальной пользы для наибольшего числа людей. В этом месте она смыкается не только с философией, но и с политикой. Для того чтобы иметь возможность сказать, что такое хорошо, в чём заключается благосостояние, что есть достижимое счастье людей, мы первым делом должны задуматься о том, в каком обществе мы, собственно, хотим жить. Только когда разъяснён основной политический вопрос, экономика может сказать, как и какой ценой достижимо идеальное общество, какова стоимость равенства и свободного предпринимательского азарта. В правильном контексте и то и другое звучит хорошо, но ни то ни другое не достаётся даром.
Поскольку Милль философ, он, естественно, задумывается и о конце истории. Его идеал – стационарное состояние, в котором вечная погоня за прогрессом и ростом останавливается, и в этом покое люди довольны тем, что имеют, когда нет ни бедности, ни зависти, ни унижения, а есть много досуга для игр, для друзей и для наполненной духовной жизни. Вот что такое для него благосостояние. Алчность к деньгам ради них самих он находит, как и всякий образованный человек, неаппетитной. Рост на конечной планете не может быть безграничным, и если всем всего хватает, то больше нет оснований для того, чтобы и дальше действовать по-прежнему. Сытое, стабильное общество, которое завершает экономическую историю, в котором «существовало бы сословие рабочих, получающих хорошее вознаграждение и пользующихся достатком; не было бы громадных состояний, а личное имущество состояло бы из того, что заработано и накоплено в течение одной человеческой жизни; но зато существовал бы несравненно более обширный, чем теперь, круг лиц, не только освобожденных от черной работы, но ещё пользующихся достаточным и умственным, и физическим досугом, освобожденным от мелочного механического труда; в силу чего они могли бы свободно развивать в себе высшие интересы и в этом отношении служить примером для других классов, находящихся в менее благоприятных условиях для своего развития»[50]. Это описание благосостояния в равной мере далеко от того, что представляли себе Вольтер, Смит и Рикардо, Руссо, Бакунин и Маркс. Но является ли это благосостоянием, и если да, не ужасно ли оно скучно?
Сегодня мы знаем, что с идеалом в нашем мире вряд ли что выйдет. Кейнс позднее даст ответ на то, почему мы никак не можем устроиться просто удобно. Но всё-таки стоит об этом задумываться. Книга Милля 1848 года станет стандартным учебником для двух следующих поколений экономистов, в Оксфорде она дожила до 1919 года. Она даёт экономике новое направление и взрывает ставшие слишком тесными горизонты классики. Она выступает за способность системы к реформированию, система должна преображаться, чтобы уцелеть. Она указывает на возможные примирения в конце революционного и воинствующего века. Она является путеводителем к тому, что Карл Поланьи ровно сто лет спустя назовёт «The Great Transformation».
Чаепитие
Социальная ответственность бизнеса – наращивать прибыль.
Милтон ФридманНаследники Бакунина составляют сегодня на левом фланге несколько очень цивилизованных и, вообще-то, вполне безобидных объединений, как, например, движение Occupy Wall Street. «Оккупай» возник из гнева по поводу долговой лавины, накатившей после большого экономического и финансового кризиса на государственные бюджеты американцев и европейцев. В течение нескольких месяцев это движение оккупировало самые известные площади в городах денег (Зуккотти-парк в Нью-Йорке, временами Парадеплац в Цюрихе, площадь перед Европейским центральным банком во Франкфурте). Там были разбиты палатки и с большой серьёзностью велись разговоры о будущем после краха капитализма, там был гальванизирован анархистский эксперимент – без иерархических структур, без партийных программ, мирный, ненасильственный и дружественный, с привкусом Вудстока.
«Оккупай» верил, как и Бакунин, что стоит на пороге эпохального поворота, провожая конец капитализма. Но движение оказалось слишком нестабильным, слишком сложным, слишком анархичным, чтобы стать политически релевантным. Ему выпала та же участь, какую бессчётное число раз претерпевал Бакунин, вначале будоража сердца людей справедливым требованием, но потом не имея возможности представить конкретное решение проблемы, которое убедило бы людей в смене системы (говоря словами Дэвида Гребера, их идейного вдохновителя: «Простое стремление гласит – политический порядок в Америке абсолютно и безнадёжно коррумпирован, обе партии куплены и проданы одним самым состоятельным процентом населения, и, если мы хотим жить хоть в как-то демократическом обществе, нам придётся начинать с нуля»[51] – но что потом?).
Сам Гребер видит причину проблем в безбожной связи государства и власти, которая заявляет о себе горой долгов, цементирующей в наши дни господство финансовой элиты. В качестве решения он предлагает отказ от долговой и тем самым от денежной экономики. Поскольку имущественные активы слишком велики, жизнь слишком хорошо организована, представления слишком разнятся, массы слишком инертны, безуспешность «Оккупая» вполне предсказуема. Несколько небрежное обращение Гребера с деталями современного экономического порядка тоже не помогло[52]. Притом что основная интенция – что в мире слишком много долгов и частичный отказ от требований со стороны кредиторов необходим – совершенно справедлива. Но она тонет в путанице высказываний «Оккупая». Может быть, Маркс был не так уж и неправ в своём подчёркивании высокой значимости организации. Спонтанно революции возникают разве что во Франции, но даже и там они не всегда успешны.
Интереснее «Движение чаепития», преемник Бакунина на правом фланге. В настоящее время крёстный папа «Движения» – Рон Пол; как и Гребер, он экономист по второй профессии (этот гинеколог, тот антрополог), но ему удался трюк – скомбинировать анархизм Бакунина с любовью Маркса к партийной организации и тем самым, кто бы мог подумать, воодушевить консервативную Америку. Лицом «Движения» долгое время была Сара Пэйлин, что по крайней мере вывело её в кандидаты на должность вице-президента США по мандату республиканцев. Как и все анархисты, «Движение чаепития» убеждено в том, что от государства исходит лишь насилие против своих граждан и поэтому оно должно быть сокращено до абсолютного минимума. С точки зрения участников «Движения», не собственность, а налогообложение является грабежом, поэтому решение всех проблем – терроризма, иммиграции, медицинского страхования, криминалитета – в регулярном понижении налогов. Как и Бакунин, «Движение чаепития» в качестве идеала видит живущего в своём лесу (вооружённого) единоличника, который не заботится ни о чём, кроме своих нужд, и для которого государство существует разве что на обочине, вне его повседневности, а свой мир он лучше организует снизу, через добровольные местные связи, чем посредством тяжёлой руки государственного порядка. Как и часть «Оккупая», часть «Чаепития» выступает за отмену денег в том виде, в каком мы их знаем, и хочет заменить их золотой валютой, которая вводится в обращение не Центральным банком (подлежащим отмене), а может чеканиться кем угодно.
Ещё в ходе финансового кризиса 2011 года Рон Пол был уверен в гибели Запада. Будучи депутатом конгресса, он обязан был раскрывать свои частные инвестиции, чтобы можно было перепроверить, сходятся ли его речи с делами. И действительно, 64 % своего состояния он вложил в золотые и серебряные акции, 21 % в недвижимость, а 14 % держал в наличных. Одно вложение в акции у него ещё оставалось – в форме double inverse-фонда, который каждый день делает удвоенное встречное движение по отношению к индексу котировки акций, против которого он таким образом играет. Такой портфель вложений, в котором не хватает только мясных консервов и расфасованной воды, имеет смысл лишь перед лицом непосредственно близкого конца цивилизации.
С «Движением чаепития» тесно связаны либертарианцы (это понятие впервые использовано в письме анархиста Жозефа Дежака Прудону), это школа, из которой изначально вышел Рон Пол и у которой на знамени начертана безоговорочная свобода индивидуума. Если кто-то подрывает своё здоровье наркотиками и не хочет защитить себя от болезней, это его личное дело. Если кто хочет носить оружие, так тому и быть (до тех пор пока не начнёт беспричинно стрелять в своих сограждан), равно как и всё остальное, что не ограничивает свободу сограждан. Эти анархокапиталисты стоят одной ногой в либерал/ утилитаристской традиции, правда, без её социал-демократических тенденций, поэтому они не хотят, чтобы на них навешивали понятие «либерал», воспринимаемое как левобуржуазное, и пустили в обращение такие названия, как либертарианец или неолиберал, по которым не так заметно их прошлое.
Плодородная почва, на которой сегодня процветает анархизм «Чаепития», почти непрерывно удобрялась весь XX век. Запустил этот процесс смутный страх перед миром, пронизанным бюрократией, каким он, среди прочего, намечен в 1910–1920-е годы во фрагментах великих романов Кафки «Замок» и «Процесс». Кафка описывает непроницаемые иерархии и силы, которые наблюдатель воспринимает лишь как всемогущую и вместе с тем безучастную бюрократию. От буржуазной свободы мало что заметно, правящий авторитет обособился и стал безликим и тоталитарным. Отдельная личность бессильна и может разве что изобразить самоопределение или влияние. Кто однажды попал в шестерёнки бюрократического механизма, у того и поныне поджилки трясутся от страха, который возникает, когда всё решает папка заведённого дела, а главная бумага там отсутствует, или когда норма не соблюдена, или невозможны доводы разума. Бюрократы следуют своим правилам, не ведая ни смысла, ни ответственности, и не интересуются последствиями своих дел – ни для себя, ни для других.
В королевско-императорской Австро-Венгрии, судя по всему, бюрократия внушала особенно большой страх, ибо не только для Кафки, но и для австрийских экономистов того времени бюрократия была темой, вызывающей содрогание. В 1922 году из экономистов во всеуслышание заявляет о своей позиции Людвиг фон Мизес, выступая против экономического соратника бюрократии – планового хозяйства, которое расцвело к этому времени в советском коммунизме и рассматривалось в качестве возможного образца для остального мира. В своём сочинении с ни к чему не обязывающим названием «Народное хозяйство» Мизес описывает рыночную экономику как некую большую вычислительную машину, которая может перерабатывать необозримое количество информации. Информация (что, когда и где требуется, какие есть технические возможности для производства, какие ресурсы имеются в распоряжении) всегда децентрализована, поэтому централизация решений неизбежно ведёт к ошибкам и заблуждениям, для которых тогда ещё не было механизма корректировки, в итоге никто ни за что не отвечает.
Все попытки достичь благосостояния через плановое хозяйство иллюстрируют данную проблему. Центральный плановый орган никогда не будет иметь необходимых данных, чтобы формировать цены так, что спрос и предложение были бы уравновешены. Плановики, правда, могут изготовить список товаров и услуг, которые они хотят произвести. Но что потом? Откуда плановику знать, не превысит ли потребительская цена велосипеда стоимость ресурсов (металл, резина, работа), необходимых для производства велосипеда? Имеет ли вообще смысл производить велосипеды? Плановик никогда не знает, эффективно ли используются ресурсы или бессмысленно растранжириваются. Последнее, разумеется, более вероятно. Поэтому спасение благосостояния от плановых органов заключается в рыночной экономике. В рыночных ценах отражается, что, кому, где, когда, какого качества и как срочно необходимо. В рынке информация канализируется и распределяется без необходимости кормить центральную определяющую инстанцию. Эта способность координировать между собой мелкие единицы, как в экосистеме, делает рынки столь эффективными и открытыми для прогресса.
Этот аргумент был подхвачен Фридрихом фон Хайеком, тоже австрийским экономистом, и в равной степени проработан и популяризован. Изначально Хайек был даже в некотором роде социалист, а в студенчестве большую часть времени проводил в кафе Ландмана рядом с Бургтеатром в Вене, куда нехватка жилья сгоняла всех заинтересованных людей. Позднее он сделал себе имя в качестве экономиста благодаря очень точному предсказанию мирового экономического кризиса (в феврале 1929 года) и так попал в 1931 году в Лондонскую школу экономики, где вскоре проявил себя как противник (правда, без многочисленных сторонников) Кейнса. Хайек очень хорошо постиг слабости системы рыночной экономики. Он видел тенденцию успешных предпринимателей стремиться к монополии и власти. Он видел неэффективность, которая возникает, когда хорошо информированным инсайдерам удаётся использовать сравнительную неосведомлённость окружающих. Он видел, что вытекающее из этого экстремальное неравенство может привести к неприемлемым социальным напряжениям. Он видел, что отдельные участники пытаются переложить свои затраты на общество (например, путём загрязнения окружающей среды). Хайек понимал эти слабости и пытался устранить их, упорядочивая экономику, но не вмешиваясь при этом в конкретные решения.
Во Вторую мировую войну – а Хайек в 1938 году получил британское гражданство – он решил посильно поддержать военных, переехал из Лондона в Кембридж и писал там книгу, которая призвана была воодушевить британские силы обороны в борьбе против тоталитарных идеологий. К сожалению, сочинение книги длилось так долго, что, когда в свет вышла его «Дорога к рабству», война уже почти закончилась. Но всё равно успех был бесспорный, ибо он, подобно Марксу, попробовал себя в предсказании будущего, что всегда вызывает у читателя приятные мурашки по коже. Его предсказание было для Запада поистине зловещим, поскольку Запад скатывался по наклонной плоскости в плановую экономику. «Мы последовательно отказались от экономической свободы, без которой свобода личная и политическая в прошлом никогда не существовала. <…> мы отметаем принципы индивидуализма, унаследованные от Эразма и Монтеня, Цицерона и Тацита, Перикла и Фукидида»[53]. Коллективистское устройство общества разрушает то, что составляло западную цивилизацию: «уважение к личности как таковой, т. е. признание абсолютного суверенитета взглядов и наклонностей человека в сфере его жизнедеятельности, какой бы специфической она ни была…»[54]. Тезис о том, что всякое вмешательство государства оборачивается кабалой, был настолько же резким, насколько и ошибочным, но он находил много сторонников в то время, когда тоталитарные режимы аннексировали всё бо́льшие части мира.
Философский фундамент под это мировоззрение подвёл Карл Поппер, который при содействии Хайека тоже перебрался в Лондонскую школу экономики из Австрии окольным путём через Новую Зеландию. Две его главные книги того времени («Нищета историцизма» и «Открытое общество и его враги») – атака на Платона, Гегеля и Маркса, которых он уличает в коллективистских и антидемократических тенденциях. Их историцизм, как его обозначает Поппер, исходит из существования незыблемых законов в историческом развитии. Поппер приписывает своим противникам из более старшего и более молодого поколения философов ту точку зрения, что судьба человечества не открыта, а предначертана и даже может быть предсказана одарёнными пророками. Согласно Попперу, эта точка зрения есть вершина антинаучности. Нашёптывания этих философов он находит неспецифическими, так что содержание истинности их тезисов не поддаётся верификации. Но на этих нашёптываниях держится самонадеянность коллективистов, которые должны быть очень уверены в будущем, чтобы вмешиваться своим планированием в развитие общества. Только тот, кто мнит о себе, будто знает, как «правильно» должно протекать развитие, – такой вывод делает Поппер, – обладает и необходимой наглостью, чтобы объявить согражданам, как они должны формировать свою жизнь.
Мизес, Хайек и Поппер лишь поверхностно писали об угнетённых народах на европейском континенте. Им было дело лишь до Великобритании и США, где в ходе «Нового курса» государственное регулирование простиралось всё шире. Франклин Рузвельт, американский президент, не был авторитарным правителем, но много раз был близок к тому, чтобы стать им. Он принял страну в чрезвычайном положении, и неизвестно, как бы он среагировал, если бы конгресс сам же не отказался от своих законодательных инициатив (основные составляющие которых были позднее аннулированы Верховным судом). Когда Рузвельт в январе 1933 года вступил в должность, он заставил американцев, которые ввиду руинированной экономики скопили золото, продать его государству по твёрдой цене. Кто после назначенного контрольного дня всё ещё владел золотом, карался десятью годами тюрьмы и высоким денежным штрафом. Как только золото было сдано, доллар сильно обесценился. Рузвельт остановил отток денег из банков, на 28 дней сделав всю банковскую систему герметичной и снова открыв её лишь тогда, когда положение успокоилось. Он не доверял свободным рынкам в целом и финансовым воротилам в частности. Ему было слишком очевидно – перед лицом мирового экономического кризиса, – что государству нельзя оставлять их без присмотра. Налогообложение предприятий подвергалось непрерывным изменениям. Самая высокая налоговая ставка поднималась в войну выше закалённых 90 %. Праву собственности в то время приходилось нелегко. Люди принимали это – то ли потому, что им больше нечего было терять, то ли потому, что отчаяние подсказывало им веру в более высокий разум технократов. Невидимая рука рынка была заменена даже у англосаксов дирижёрской палочкой государственной бюрократии. Беатриса Вебб, одна из самых известных учениц Кейнса, написала в 1935 году книгу, озаглавленную угрожающе: Soviet Communism: A New Civilisation, в которой сталинская Россия со всей серьёзностью рассматривалась в качестве настоящей альтернативы. Кейнс, женатый на русской, мог трезво оценить тамошнюю реальность, но даже если он и имел другое мнение, всё равно учение, связанное с его именем и распространившееся в странах англосаксов, семимильными шагами отдалялось от рыночной экономики. Лишь немногие экономисты не могли примириться с теорией Кейнса и практикой «Нового курса». Для них эта смычка выглядела как путь в кабалу. Это будило антитоталитарные инстинкты австрийцев, труды которых в конце концов и подготовили почву для мешанины мыслей, которая лежит в основе неолиберализма.
Самым ярчайшим знаменосцем движения стала Айн Рэнд, родившаяся в России и жившая в Нью-Йорке писательница и философ, семья которой в царской империи достигла скромного благосостояния и вынуждена была бежать, когда революция вознамерилась схватить за шиворот даже мелких предпринимателей. Рэнд поначалу направилась в Голливуд, чтобы стать сценаристкой, но постепенно превратилась в успешную романистку, картина мира которой явно носила отпечаток опыта, полученного в Советском Союзе. Она стала политически активной, познакомилась с Людвигом фон Мизесом, а попутно и с политико-экономическими взглядами австрийской школы, которые быстро стали для неё убедительными благодаря продолжительному изучению Ницше на прежней родине.
Во время Второй мировой войны Рэнд начинает писать свой самый большой (и вместе с тем последний, вышедший в 1957 году) роман «Атлант расправил плечи». В нём она описывает положение США в неопределённом будущем, в котором страна скатилась в диктатуру с очень социалистическими и слегка фашистскими чертами. Страна управляется государством, захваченным мародёрами и прихлебателями, которые эксплуатируют талантливых и деятельных людей. Грабители добиваются своего посредством власти (налоговых) законов (которые приняты нерадивыми для нерадивых), тогда как прихлебатели специализируются на том, чтобы внушать согражданам чувство вины. Из этого мира вдруг стали исчезать предприниматели, всё больше и больше, и действие романа подолгу сосредоточено на том, как героиня выходит на след этой тайны. Причина, как выясняется позже, кроется в забастовке, которую затеяли герои экономики. Они предоставляют бездельников самим себе. Пусть, наконец, увидят, кто они есть. Без предпринимателей государство не может процветать, поскольку глухая масса не в состоянии изобретать, созидать, отваживаться и творить. Это они в конце концов держат на себе общество, как в греческих мифах Атлант держит мир на своих плечах.
Предприниматели в своём укрытии строят собственное маленькое общество, где всё происходит просто и справедливо и где люди могут сохранять за собой плоды своего труда. Джон Галт, организатор забастовки, заявляет, что «[п]олитическую систему, которую мы построим, можно описать одной формулой: никто не должен отнимать ценности у другого посредством физической силы»[55]. И далее: «права не могут существовать без права воплощать их в жизнь – думать, трудиться, распоряжаться результатами труда, что означает право на собственность». В этой логике налоговое государство, которое под принуждением требует от людей жертв, всегда есть бесправное государство. «Мы бастуем против самопожертвования. Мы бастуем против догмы незаслуженных вознаграждений и невознагражденных обязанностей. Мы бастуем против доктрины, что стремление человека к счастью есть зло и невознаграждённые заслуги. Мы бастуем против догмы, что стремление к счастью есть зло». Но что происходит, когда бастуют производительные, креативные элементы общества? Оно обрушивается, свет гаснет. Таков конец романа.
Всякому государству следует лелеять своих предпринимателей, ибо их свойства редки и совершенно необходимы для всеобщего благосостояния. Это простое понимание, которое обосновывает Айн Рэнд – с большими метафизическими затратами, в целом совершенно лишними, учитывая практическую очевидность доказываемого. Большое радиообращение, которое Джон Галт записывает в конце, полно рассуждений об устройстве бытия, значении свободы и превосходстве добродетели. При этом рай земной, совсем как у Вольтера, прочно укоренён по эту сторону бытия и зиждется на праве собственности: «Веками битва за нравственность шла между теми, кто утверждал, что ваша жизнь принадлежит Богу, и теми, кто утверждал, что она принадлежит вашему соседу; между теми, кто проповедовал, что благо – это самоотречение ради призрачного рая, и теми, кто проповедовал, что благо – это самопожертвование во имя убогих на земле. И никто не сказал, что ваша жизнь принадлежит вам и благо состоит в том, чтобы прожить ее».
Лучшие формулировки Рэнд вкладывает в уста медного магната Франциско Д’Анкония: «Уходите без оглядки от любого, кто скажет вам, что деньги – зло. Эти слова – колокольчик прокаженного, лязг оружия бандита». Деньги – это добро, эссенция свободного общества и уж точно не то, чего надо стыдиться: «Деньги придают вес и форму основному принципу: люди, желающие иметь дело друг с другом, должны общаться посредством обмена, давая взамен одной ценности другую. В руках бездельников и нищих, слезами вымаливающих плоды вашего труда, или бандитов, отнимающих их у вас силой, деньги теряют смысл, перестают быть средством обмена. Деньги стали возможны благодаря людям, умеющим производить. Видимо, они, по-вашему, источник всех бед? <…> Целый океан слёз и все оружие в мире не смогут превратить листы бумаги в вашем кошельке в хлеб, который необходим вам, чтобы жить. <…> В какое бы время среди людей ни появлялись разрушители, они начинали с уничтожения денег, поскольку именно деньги являются защитой от произвола, основой моральной устойчивости общества. Разрушители первым делом изымают у населения золото, подменяя его кучей бумаги, не имеющей объективной ценности <…> Бумажные деньги – это отражение богатства, которого ещё нет, они существуют только благодаря оружию, направленному на тех, от кого требуют создать во имя отражения сам предмет. Бумажные деньги – это чек, выписанный вам ворами в законе на счет, который им не принадлежит: на достоинство своих жертв». Деньги – по крайней мере для всех, у кого они есть, – без сомнения, хорошее дело, которое они хотели бы оставить за собой. Так же смотрели бы на дело грабители и бездельники, если бы они могли чего-то достичь, а не полагаться только на работу вьючных животных.
Хорошие идеи сильно искажаются, если их берут на вооружение второразрядные деятели искусства, практики или революционеры. То, что могло бы принести хорошие плоды, пожирается ими, словно стаей саранчи, и обесценивается. Как ни хорош отказ от планового хозяйства и недоверие по отношению к вмешательству государства в жизнь людей в целом и в экономику в частности, а в радикализированной форме он становится просто глупым.
Айн Рэнд стала светочем неолибералов. Она собрала вокруг себя кружок молодёжи, который она, с великолепным юмором, называла «Коллектив» и который раз в неделю собирался для философско-экономических дебатов. Членом этого кружка, впоследствии знаменитым, был Алан Гринспен, который стал высшим экономическим советником президента Форда и затем главой эмиссионного банка США. Пока левые в Европе ещё только обсуждали низвержение институций, неолибералы уже давно к этому приступили. Гринспен возглавлял Федеральный резервный банк в твёрдом убеждении, что финансовые рынки сами лучше знают, что для них хорошо. А государство не должно даже пытаться управлять рынками, и, если дело плохо, это всё равно можно будет диагностировать лишь задним числом, поэтому задача Центрального банка состоит не в противодействии эксцессам, а разве что в смягчении последствий. В своей автобиографии, вышедшей в свет в 2007 году, незадолго до коллапса финансовой системы, Гринспен не отрекается от своего увлечения Айн Рэнд (которую он даже приглашал на свою первую присягу в Белом доме) и признаётся, что многим в своём мировоззрении он обязан ей.
Публичным лицом и влиятельнейшим представителем неолиберализма стал Милтон Фридман, экономист высокого ранга, автор выдающихся статей на тему инфляции и денежной политики. Будучи на 13 лет младше Хайека, он обладал большим коммуникативным талантом и через телевидение внушил широким массам своё неприятие коллективизма и свою восторженность по отношению к свободе. Он смог даже чиновников (или, может, в особенности чиновников) убедить в ненужности почти всей правительственной деятельности. Хайек же проявлял горячий интерес к безусловному основному доходу и упорядоченному вмешательству государства в случае выхода рынка из строя. (Да и в современной макроэкономике речь идёт практически о том же самом: в каких отраслях и насколько это осуществимо и целесообразно – отступать от принципа Laissez-faire (невмешательства) в условиях свободного рынка?) Фридман был гораздо радикальнее, в ходе своей карьеры становился всё экстремальнее и под конец пришёл к той точке зрения – по сути анархистской, – что государство вообще всё делает не так, за что ни возьмётся. Подобное большому неуклюжему человеку, оно, может, и хотело бы сделать хорошо, но всё-таки было бы лучше, если бы оно сидело тихо и избавило бы мир от своей помощи. Внутренняя и внешняя безопасность – вот задачи государства, а всё остальное – по Фридману – лишнее.
Фридман воспользовался аргументом Хайека, по которому даже толика социализма неизбежно приведёт к кабале. Но под социализмом он понимал уже совсем безобидные вещи – например, общеобразовательные школы, строительные нормы или установленные государством стандарты для образования врачей. Или государственное регулирование применения медикаментов. Если какое-то лекарство недейственно или вредно, об этом быстро пойдут разговоры и врач, прописавший его, впредь не станет этого делать – из беспокойства за свою репутацию. А если оно действенно, то многолетний процесс получения лицензий не будет препятствовать его немедленному внедрению.
Фридман устанавливает такой низкий порог к социализму или к тому, что к нему приводит, что практически всякая альтернатива его мировоззрению автоматически попадает под подозрение в тоталитаризме. Тем самым он оказывает медвежью услугу своему учению, ибо лишает его способности принимать умные аргументы противоположной стороны и за счёт этого совершенствоваться. Учение пыталось избежать натиска встречного аргументирования, заменив его чувством морального превосходства. В итоге это привело к небрежению правилами хорошего тона и позволило Фридману без видимых колебаний вступить в диалог об экономике с таким диктатором, как Аугусто Пиночет в Чили.
Самое впечатляющее при этом – самоуверенность, которая может развиться у таких экономистов, как Фридман (но не только у него), в тех областях, где они ничего не смыслят. Почему он решил, что может судить о процессе разрешения на применение лекарств, не совсем понятно. Должно быть, он видит себя – в силу знания вечных экономических принципов – обладателем универсального инструмента для понимания любых человеческих дел. По духу Фридман, как только он покидает узкую область экономики, недалеко ушёл от гегельянцев и марксистов. Те тоже пытались объяснить мир, распространяя на всё, что попадётся, принцип, который они однажды открыли, а в особенности на то, что им всегда мешало. У Гегеля таким инструментом была диалектика и история, у Маркса – классовая борьба.
Отсюда до Бакунина один шаг, не такой уж и большой. Существенное различие – любовь к собственности, без которой неолиберал не мыслит своего существования. Для этого и только для этого ему нужно государство. Анархистам оно для этого вообще не требуется. Может быть, Бакунин действительно воплощает последовательно доведённый до предела неолиберализм.
Образованные либералы (к которым относится и Карл Поппер), как правило, обходят неолибералов стороной как можно дальше. Своё недоверие по отношению к плановому государству они формулировали иначе и многослойнее, чем мальчики из кружка Айн Рэнд. Один из лучших примеров тому – тоненькая книжечка Исайи Берлина «Ёж и лиса». Берлин тоже был изгнанником, перебравшимся в Англию, а также другом и спутником Поппера. Оба имели печальный опыт столкновения с тоталитарными режимами, и в то время, как слишком многие интеллектуалы тешили себя коллективистскими фантазиями, они вошли в число главных поборников либеральной демократии. «Ёж и лиса» формально представляет собой интерпретацию «Войны и мира» Толстого, но вообще-то является совершенно самостоятельным эссе о сути свободы.
Толстой описывает – особенно в интерпретации Берлина – походы Наполеона как событие, которое подчиняется внутренней необходимости. Армии плещутся волной с Запада на Восток и обратно, словно вода в ванне, в которую кто-то плюхнулся слишком резко. Никто не в состоянии контролировать ни большое событие военного похода, ни мелкие его детали. Правда, императоры, короли и полководцы мнят, что они страшно важные и могут управлять ходом времени, однако их власть и свобода – иллюзия. «Провидение заставляло всех этих людей, стремясь к достижению своих личных целей, содействовать исполнению одного огромного результата, о котором ни один человек (ни Наполеон, ни Александр, ни ещё менее кто-либо из участников войны) не имел ни малейшего чаяния». Подобно вытесненной из ванны воде, у которой нет выбора и которая подчиняется только действующим внешним силам, французам пришлось маршировать в Россию точно так же, как русские затем должны были двигаться на запад. Человеку – если он воображает, что свободен, – это трудно принять, но Толстой не может обнаружить в великолепных планах великолепных полководцев ничего другого, кроме этого воображения. Например, Толстой так изображает динамику, которая ведёт к пожару Москвы: нет никого, кто хочет поджечь город, но пламя кроется в логике событий. Построенный в основном из дерева город разом покидают его жители, победившая армия задаётся вопросами о смысле и всё больше чувствует себя проигравшей, к этому добавляется вакуум власти и падающая дисциплина, и в самой сердцевине император, которому якобы покорённый народ просто не хочет присягать – как это могло не привести к пожару?
В рамках такого развития событий Толстой видит человека – и в особенности Наполеона – как во многом бессильную фигуру. Говоря словами Берлина, «[м]ы – часть системы куда более масштабной, чем можем себе представить»[56]. Правда, император французов мнит, что планирует свои военные походы, и все победы в полном объёме приписывает себе. Но: «“велики[е] люд[и]”. Кто же это такие? Обычные люди, в достаточной степени тщеславные и невежественные для того, чтобы принять на себя ответственность за жизнь общества»[57]. И что реально происходит на поле боя? Мужчины рубят, колют и стреляют друг в друга. При этом ни о какой стратегии они не думают. Что решает исход битвы? Решающим является, устоит ли русский гренадер в Бородине перед обстрелом, игнорирует ли он опасность и станет ли сражаться дальше или побежит, потому что не захочет кончить жизнь так, как его товарищи, уже разорванные пушечными ядрами. Самая великая стратегия, самый лучший план ничего не дадут, если гренадер больше не сможет или не захочет. Исходы сражений решаются обстоятельствами, на которые стратеги повлиять практически не могут. Это детали, прихоти природы заставляют жизнь двигаться в том или ином направлении. Великолепные проекты удаются – если они удаются, – совсем по другой причине: оттого, что они так и так не могли иметь другой исход. Поэтому Наполеон на острове Св. Елены так и не мог понять, почему он, по собственному ощущению величайший полководец всех времён, должен проводить остаток жизни на маленьком острове в Южной Атлантике между пингвинами и англичанами.
«Фатализм в истории неизбежен, – пишет Толстой в начале третьего тома “Войны и мира”, – для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем). <…> Каждый человек живет для себя, пользуется свободой для достижения своих личных целей и чувствует всем существом своим, что он может сейчас сделать или не сделать такое-то действие; но как скоро он сделает его, так действие это, совершённое в известный момент времени, становится невозвратимым и делается достоянием истории, в которой оно имеет не свободное, а предопределённое значение»[58].
Наполеону недостаёт того, что Исайя Берлин называет «практической мудростью», то есть «умение[м] видеть неизбежное, то, что при существующем порядке мироздания непременно должно произойти, и, напротив, то, чего не стоит или не стоило бы делать. Мудрый понимает, почему некоторые планы должны кончиться неудачей, хотя к тому и нет никаких видимых или научно обоснованных причин. Эту редкую способность мы справедливо именуем “чувством реальности”, а можно назвать и чувством совместимости или несовместимости тех или иных предметов. Выступает оно под разными именами: озарение, мудрость, практический разум, здравый смысл, знание жизни и людей»[59]. Одним словом, планы и плановая экономика (хозяйство) подойдут для многоцветной жизни разве что по чистой случайности.
У людей с экономикой нередко дело обстоит так же, как у Наполеона Толстого. На крупные экономические процессы они вряд ли в состоянии повлиять, даже если таблицы в программе Excel, посредством которых они приводят в форму действительность, постоянно возвещают близкую победу, подобно грандиозному плану битвы. Экономическое развитие зависит от технологических прогрессов, от изобретения оборотного плуга, механического ткацкого станка, двигателя внутреннего сгорания, интернета. Какое правительство, какое крупное предприятие могло бы принять решение изобрести нечто подобное? Решение можно принять о крупных проектах – вроде высадки на Луну или строительства атомной бомбы, – и при этом могут появиться новые технологии и познания. Но какие – это выясняется только потом, когда победители поздравляют друг друга и приписывают к своим заслугам цепь случайностей и необходимостей.
В экономическом развитии настолько многое зависит от культурных и институциональных данностей, что государственное планирование вряд ли может оказаться успешнее, чем борьба с ветряными мельницами. Вот каков экономический подтекст книги «Ёж и лиса». Коррумпированы ли чиновники, справедливы ли суды, защищена ли собственность, работает ли правящий класс только сам на себя или господствует честная и открытая конкуренция – на эти решающие факторы не могут оказать влияния никакие органы.
Каждый предприниматель знает, что таблица Excel – очень лестный посредник, в ней всё выглядит очень красиво, и все суммы возрастают. Но удачным ли окажется бизнес-план и будет ли работать идея, зависит от людей, которые делают продукт, зависит от времени, которое должно созреть, дело может потерпеть неудачу в производстве, в распространении, в рекламе, в конкуренции, в бюрократических органах или просто в том, что затея в корне была неумной и никто из участников не осмелился в этом признаться. Экономика – это всегда испытание возможного. Совершенно как у Наполеона в «Войне и мире». Такие предприятия, как Apple или Nestlé никогда не могли бы быть основаны в Казахстане или управляться оттуда. И такая страна, как Болгария, не может быть превращена в Швейцарию или Сингапур даже самым честным, самым благонамеренным и компетентным руководителем правительства. Потому что болгары не смогут посодействовать этому.
Кейнс и «Великая трансформация»
Если мы готовы встречать опасности скорее по свойственной нам живости, нежели в силу привычки к тягостным упражнениям, и полагаемся при этом не на предписание закона, а на врождённую отвагу, – то в этом наше преимущество. Нас не тревожит заранее мысль о грядущих опасностях, а испытывая их, мы проявляем не меньше мужества, чем те, кто постоянно подвергается изнурительным трудам.
Фукидид. Пелопонесская война, II, 39, 4Экономика – зеркало и вместе с тем выражение своего времени. Философия вплоть до эпохи Просвещения (и включая её) колышками отмечала рамки, необходимые людям, чтобы ориентироваться в мире, чтобы придать смысл и направление всякому непорядку, несправедливости, жестокости, красоте, добру и правде. Немного тайком, украдкой – как будто она находила это неподходящим и как будто следовала лишь неукротимому желанию полакомиться, – экономика отняла у философии функцию толкования во всех общественно релевантных темах. Сегодня именно экономисты говорят нам, что удерживает общество в целости, почему демократия лучше автократии, почему мы действуем так или этак, почему мы завистливы, альтруистичны или тщеславны, что справедливо и что несправедливо. Так, например, Стивен Левитт, который ныне преподаёт в Чикаго, опубликовал под несколько извиняющимся заглавием «Фрикономика» ряд исследований, в которых он объясняет, почему легализация абортов в 1970-е годы привела к уменьшению показателя преступности в 1990-е годы. Или почему наркодилеры по большей части живут у своих мам, или почему учителя и борцы сумо имеют склонность к жульничеству. Раньше это были темы для этиков, политиков или философов – а то и вовсе для писателей. Экономисты сегодня стали публичными интеллектуалами, как некогда Вольтер, разве что не могут выражаться так остроумно.
Но влияние функционирует и в обратную сторону. Познания и истины экономики – это продукты своего времени, в них мало вечного, на которое они в большинстве случаев претендуют. Так, классическая экономика XIX века существовала в эпоху достоверностей, которые, к сожалению, были действительны лишь для двух поколений. То ли она была ослеплена блестящими суаре своего времени и одеяниями с рюшами, то ли грандиозными изобретениями, и поныне не превзойдёнными в своей полезности. Экономика XIX века описывала мир, организованный по схеме спроса и предложения, предпринимателя и рабочего, верха и низа, глобализации и роста, – и таким этот мир действительно был тогда, но только тогда.
Оказалось, экономику нельзя долго обходить стороной, потому что мировой дух в первой трети XX века отчётливо созревал. Некоторые изменения были довольно медленными и не сразу заметными, открывались они лишь чутким натурам, пока великая катастрофа Первой мировой войны не обострила чувства в целом и не подготовила бесславный и явный конец викторианско-вильгельминской идиллии предпоследней смены веков. Война сломала железные законы старого порядка и оставила после себя обедневшую, лишённую управления, беспомощную Европу. Социалисты и руководители профсоюзов – силы, к которым буржуазия относилась с глубоким недоверием, – стремились к власти и кое-где завладели ею полностью. В России сбылась мечта Маркса и осуществился страшный сон Бакунина. Почти всюду установилась демократическая форма правления, в большинстве случаев даже со всеобщим избирательным правом.
Самым явным гвоздём в крышку гроба старого экономического порядка стала отмена золотого стандарта, который прежде мог считаться символом и смазочным средством благосостояния. Для состоятельной буржуазии золото было идеальным платёжным средством: на него можно было покупать товары по всему миру и быть защищённым от внезапного обесценивания путём девальвации и/или инфляции, и сохранялась уверенность, что можно будет покупать на него и впредь. Имущие слои с давних пор смотрели на государство с недоверием, поскольку оно всегда так или иначе претерпевало банкротство и имело заинтересованность в том, чтобы через налоги или инфляцию (которая обесценивает государственные долги) посягнуть на состояние богатых. До тех пор пока валюты можно было обменять на золото по твёрдому курсу, то есть до тех пор, пока дебет и кредит в конечном счёте выражались в золоте, плоды буржуазной деятельности были защищены хотя бы от постепенного обесценивания, ибо валюта оставалась стабильна.
Как бы много буржуазия ни говорила об инфляции, всё же была ещё одна, умалчиваемая, но по меньшей мере столь же важная причина для любви к золотому стандарту, то есть к тому ограничению, что государству нельзя бездумно выпускать в обращение валюту в количестве, много превышающем золотой резерв, которым оно располагает. Если страна из-за какой-либо неэффективности производит слишком дорого, то вскоре она импортирует больше, чем экспортирует. Если, например, немецкая отвёртка была дешевле, чем такого же качества итальянская, то рано или поздно множество отвёрток из Германии отправится в Италию и, соответственно, столько же золота (или привязанной к золоту валюты) перетечёт в обратном направлении. В какой-то момент золото (а с ним и деньги) будет кончаться, и люди (в данном случае итальянцы) останутся без того и другого. В этой ситуации они могут делать долги (что у них будет получаться лишь ограниченное время, пока кредиторы не почувствуют, что запахло жареным, и не перестанут давать в долг) или производить дешевле, пока отечественные отвёртки не станут по цене выгоднее немецких. Самым простым, самым быстрым и верным средством стать конкурентоспособным было в этой ситуации понижение зарплаты. Конечно, можно оптимизировать и производственный процесс или инфраструктуру, но это требовало времени. Итак, первое и лучшее средство выйти из экономического кризиса – ужать рабочих и служащих. Кто обладал состоянием, тому в тяжёлые времена приходилось страдать – при наличии золотого стандарта – далеко не так, как наёмным работникам. В этом и заключалась, собственно, магия золотого стандарта для имущих слоёв[60].
Конец золотого стандарта, от которого во время или вскоре после Первой мировой войны отказались все значительные страны с развитой экономикой, кроме США, был внешним знаком развития, которое австро-венгерский историк и социолог Карл Поланьи описал в 1944 году как «Великую трансформацию». Социальные издержки системы твёрдого обменного курса стали непосильными, поскольку властные отношения и институции XIX века ликвидировались. И побеждённым в войне было хуже, чем победителям. Те плюнули на золото и печатали бумажные деньги, из-за чего ценные бумаги с фиксированным процентом, векселя, ссуды, закладные листы, «военные займы» (у французов «займы победы», у американцев «займы свободы») и все остальное, что составляло основную финансовую обеспеченность экономной буржуазии, обесценивались. Если стабильные, привязанные к золоту или какой-то валюте обменные курсы обеспечивались только ценой падения зарплаты, то не стоит удивляться, что в новых демократиях девальвацию (за счёт имущих слоёв) предпочитали понижению зарплаты (за счёт рабочих). При демократическом устройстве, в котором рабочие имели голос в делах правительства, решение больше не принималось автоматически в пользу имущих слоёв. Демократии, поставленные перед выбором, порой предпочитали внутренний мир сохранению стабильного обменного курса.
Тот, кому за Первую мировую войну и последовавшую затем инфляцию в побеждённых странах удалось спасти свою жизнь и даже своё состояние, мог считать себя счастливцем. Но наступившее облегчение, к тому же сопровождаемое забвением, вселяло в наследников не осторожность, а спесь. И настроение в 1920-е годы скоро снова улучшилось, и государства, поверив, что они теперь снова прежние, возвращались под ликование буржуазии назад к золотому стандарту (США его никогда и не отменяли). Дела у предприятий шли хорошо, поскольку потребление, которое во время войны поневоле было выбито из колеи, теперь навёрстывало упущенное. Одновременно разрабатывались новые технологии, которые делали возможным массовое производство потребительских товаров. Вдруг стали доступными для большей части среднего класса – пусть и через кредиты – автомобили конвейерного производства. В 1929 году в США было произведено уже 5,4 миллиона автомобилей. Снабжение городов электричеством сделало невозможным отказ от приборов нового образца – таких как радио. В США, где доход распределялся очень неравномерно и многие могли позволить себе многое только в долг, объём потребительских кредитов за десятилетие после 1919 года вырос в 70 раз. У многих дела пошли лучше – от рабочих до директоров фабрик. Эти годы не были сытыми, но были отмечены оптимизмом, мужеством и жизнерадостным мироощущением, избавленным от злых духов войны. В декабре 1928 года уходящий президент Кулидж в своей последней речи о положении в стране смог заявить под бурные аплодисменты, что «ещё никогда положение нации не являло собой столь приятного зрелища, как сегодня. Дома у нас покой и довольство <…> и впереди столько лет благосостояния, сколько ещё никогда не было <…> Мы с удовлетворением можем смотреть на настоящее и с оптимизмом – в будущее».
Хорошее настроение и вольные деньги не могут продержаться долго, когда-то пузырь лопается, сначала в биржевых бюллетенях, затем в головах. В октябре 1929 года акции на Уолл-стрит начали своё падение в бездонную пропасть, потеряв в следующие три года 90 % своей стоимости. Но, в отличие от прежних крахов, на сей раз биржа утянула за собой в бездну всю экономику. В ничто превратилось не только бумажное, но и производительное богатство. Равновесие никак не устанавливалось, всё шло дальше и дальше под уклон, в абсурдную бездну. Никакой способности рынка корректировать невидимой рукой слишком высокие и слишком низкие цены больше не наблюдалось.
Так в период с 1929 по 1932 годы возникла нисходящая спираль, которую в голых цифрах можно описать приблизительно так: промышленное производство упало в США на 46 %, в Великобритании на 23 % и в Германии на 41 %. Цены оптовой торговли упали в США на 32 %, в Великобритании на 33 % и в Германии на 29 %. Внешняя торговля упала в США на 70 %, в Великобритании на 60 % и в Германии на 61 %. Безработица выросла в США на 607 %, в Великобритании на 129 %, а в Германии против 12 миллионов занятых стояли 6,1 миллиона безработных.
Государство почти всё делало не так. Президент Гувер и так-то никогда не симпатизировал спекулянтам, а теперь тем более находил только справедливым и правильным, что они теряли свои деньги. Морально он был в этом совершенно прав, но нищета жертв усугублялась. Федеральному резерву понадобилось времени до февраля 1930 года, чтобы понизить процентную ставку с 6 % до 4 %. Конгресс утвердил в июне Закон Смута-Хоули о тарифе, который вводил оградительные таможенные пошлины и повлёк за собой торговую войну, в которой в итоге все проиграли. Великобритания в 1931 году отказалась от золотого стандарта и тем самым существенно смягчила кризис, но США были решительно настроены его защищать и поэтому повысили процентную ставку. Это углубило рецессию и ускорило крушение банковской системы.
Жертвы были огромными и ныне трудно вообразимыми. Германия попыталась стабилизировать ситуацию с помощью политики дефляции и декретом понизила зарплаты, арендные ставки и цены. Тем самым она надеялась производить дешевле, чем заграница, и выйти из кризиса через экспорт. Заграничные товары стали недоступны, а долги, выставленные в рейхсмарках, золоте или долларах, едва могли обслуживаться. Давление на население стало экстремальным, и население начало радикализироваться. Англичанам отказ от золота обошёлся легче, но всё равно ситуация была катастрофической. Состоялся целый ряд голодных маршей из промышленных городов севера в Лондон. Около 200 000 человек попали в трудовые лагеря, которые частично продолжали действовать до 1939 года. В США сельскому населению пришлось хуже всего. Из-за сокращения цен вдвое фермеры в массовом порядке вынуждены были капитулировать. Десятки тысяч теряли свою землю, работу, будущее и достоинство и перебирались в трущобы больших городов. Джон Стейнбек в «Гроздьях гнева» описал, как образуется колонна беженцев из голодных и отчаявшихся людей, которые направляются из Оклахомы в Калифорнию. Но и там нищета никуда не исчезла, и некоторые формулировки читаются так, будто за восемьдесят лет, с тех пор как Золя писал «Жерминаль», ничего не изменилось: «Чем можно испугать человека, который не только сам страдает от голода, но и видит вздутые животы своих детей? Такого не запугаешь – он знает то, страшнее чего нет на свете».
Нет ничего хуже для науки, если она не может объяснить такие интересные явления в своей области. Классическая экономика с кризисом мирового хозяйства очутилась в глубокой дыре, поскольку драма не поддавалась её пониманию. Она столкнулась лицом к лицу с проблемой, угрожающей её существованию. Её мир был миром свободных рынков, пребывающих в равновесии, где каждый продукт находил своего покупателя и где благосостояние возникало само по себе, если только людям предоставлялась свобода хозяйствовать так, как они считали нужным. Равновесие удерживалось хозяйственным разумом людей, стремление которых к выгоде делало его предсказуемым. Необъяснимы для классической экономики были спирали падения в мировом экономическом кризисе, устойчиво растущая безработица, всеобщая нестабильность.
Экономику, правда, не пришлось изобретать заново, но она переживала смысловой кризис. Благосостояние, о котором, по сути, шла речь, исчезло средь бела дня, но экономисты не могли ни себе, ни другим внятно объяснить, что происходит у них на глазах. Науке о благосостоянии постыдным образом грозила потеря темы.
Человеком, явившимся как раз вовремя, спасителем цивилизации был Джон Мейнард Кейнс. Он был одним из редкостных экономистов, как некогда Адам Смит и Джон Стюарт Милль, которые умели мыслить как философы. Он сам был сыном экономиста, вырос в элитарном мире Кембриджа, в школе учился в Итоне и с 1902 года получал высшее образование в королевском колледже в своём родном городе. В юности он застал ещё полный блеск и прочное великолепие викторианской мировой империи, и старые университеты Англии полагали себя в качестве её морального станового хребта и интеллектуальной вершины. Некоторое плохо скрываемое чувство превосходства по отношению к друзьям и врагам, склонность к схоластике, безупречная светская маска в качестве защиты радикально-независимого духа и огромное любопытство ко всему происходящему в мире были наследием его происхождения, от которого он так никогда и не избавился.
Его интересы поначалу были сосредоточены скорее вокруг философии и математики, что было неудивительно ввиду таких харизматичных и глубокомысленных личностей, как Бертран Рассел (которому Кейнс приписывал «самый острый и ясный ум», какой ему когда-либо встречался), Дж. Э. Мур и Людвиг Витгенштейн, которые в начале XX века разрабатывали в Кембридже аналитическую философию. В первый университетский год Кейнса вышла в свет Principia Ethica Мура, а Рассел уже ломал голову над своей Principia Mathematica, два по-своему эпохальных труда, которые покончили с почти непоколебимым столетним доминированием утилитаризма и немецкого идеализма в английской философии. Кейнс в 1938 году описал в коротком тексте «Мои ранние убеждения» то воздействие и влияние, какое Мур оказал на него и его поколение: «Он возбуждал, будоражил, он был как начало Ренессанса, новое небо раскрывалось над новой землёй, мы были предшественники нового порядка, мы ничего не боялись. Может, мы – оттого что выросли с этим – даже в наши мрачнейшие и наихудшие мгновения никогда не теряли некоторой гибкости, которой более молодое поколение, судя по всему, никогда не обладало». В Кембридже он был воспитан на «платоновской концентрации на хорошем самом по себе, на схоластическом хитроумии, превосходящем Фому Аквинского, на кальвинистской сдержанности перед радостями и успехами ярмарки тщеславия и был угнетён всеми страданиями Вертера». Мир Мура был полон чистых мотивов к хорошим действиям, не запятнанным «властью, политикой, успехом, богатством, тщеславием; экономический мотив и экономический масштаб играли в нашей философии ещё меньшую роль, чем для святого Франциска (который собирал пожертвования хотя бы для птиц)». У Мура было важно быть хорошим – творить же добро было не столь интеллектуально волнующим.
Как в то время было заведено в Кембридже почти у всех, Мур в своей этике тоже исходил из исследования языка и его основополагающих понятий. «Хорошее» было понятием, не поддающимся упрощению, как, например, и «зелёное» – либо ты знал, что под этим понималось, либо нет. Во всяком случае, бессмысленно было пытаться объяснить кому-нибудь, что есть хорошее, или плохое, или зелёное, если тот сам этого не видел. Либо ты узнавал это сразу, либо вообще не узнавал. Исходя из этого, Мур объяснял, что ценными могут быть лишь духовные состояния и что под этим выше всего ценится «радость от межчеловеческих контактов и от красивых объектов». Из этого следует, что правильные действия опознаются по тому, вызывают ли они состояния, заслуживающие в этом смысле того, чтобы стремиться к ним (лучше всего: состояния духа). «Только ради этих вещей – чтобы как можно больше людей жили этим какое-то время – и сто́ит выполнять свои личные или официальные обязанности». Кейнс принимал это очень близко к сердцу.
То, что формулирует Мур, отчётливо противоречит утилитаризму Бентама и Милля, в котором мало места отводится духовным состояниям. Кейнс называет «бентамскую традицию <…> червем, который подтачивает современную цивилизацию изнутри и который повинен в современном моральном упадке». Основная проблема утилитаризма – «повышенная оценка экономического критерия», который закрывает глаза на многообразие жизни и в конечном материалистическом итоге неизбежно впадает в марксизм.
Итак, философией, с помощью которой социализировался Кейнс, было исповедание кембриджской цивилизации, направленное против утилитаризма, который, собственно, был и остаётся философией экономистов. Эта враждебность, от которой он не избавился за всю свою жизнь, и сделала его, так сказать, экономистом не той масти, белой вороной. Идеализм муровского толка утверждал, что человек ни в коем случае не стремится только к своей выгоде и что он и не должен так делать, чтобы стать хорошим или счастливым. В жизни главное – хорошее душевное состояние, которое всем нам знакомо по тому времени, которое мы проводим с друзьями или любимыми людьми, или когда внимаем искусству, или создаём творение, или испытываем вдохновение. Что должна представлять собой категория выгоды, непонятно, ибо выгода совершенно второстепенна. Поистине нам хорошо лишь тогда, когда наша симпатия не связана с выгодой.
Всю свою жизнь Кейнс окружал себя людьми, которые были во власти этой очень элитарной духовной установки. Он был постоянным членом Блумсберийского кружка, образованного вокруг Вирджинии Вулф, Литтона Стрейчи и Э. М. Форстера, где он мог вновь и вновь погружаться в мир, присягнувший красоте и добру, когда его утомляли дела в науке, на бирже или в политике. Это окружение было биотопом для современных индивидуалистов, оно ограждало их от материализма духа времени, который всё более запутывался в экономических и коллективистских категориях. Это была цивилизация, за которую стоило бороться и сохранение которой Кейнс вновь и вновь воспринимал в качестве своей задачи. Но он отличался от своей элитарной группы тем, что обладал неподавляемым чувством реальности, которое не позволяло ему заниматься исключительно красивым, добрым и истинным. Он стремился в мир, в котором хотя и видел угрозу цивилизации Кембриджа и Блумсбери, но который представлял для него также и вызов, и этот вызов он охотно принимал.
Его друзья отнеслись с непониманием к тому, что Кейнс не остался в университете, а решил сделать карьеру правительственного чиновника. На эту практическую жилку Кейнса указывало уже то обстоятельство, что в Кембридже он стал образцовым учеником Альфреда Маршалла, самого значительного экономиста в Англии со времён Милля. И так в 1906 году он сперва поступил служить в Департамент по делам Индии, а с началом Первой мировой войны – в министерство финансов. Там он занимался обеспечением гарантий внешнего (преимущественно американского, координируемого JPMorgan) финансирования военных нужд. При этом он многому научился по части обращения с чувствительностью рынков капитала, по части постоянно меняющихся эмоциональных состояний финансистов и по части зависимости политиков («practical men») от их идейных вдохновителей. Он быстро поднимался по карьерной лестнице, стал сначала важным, потом незаменимым, при этом он симпатизировал движению отказников совести и вероятно был – говоря словами Вильгельма II – достаточно «непатриотичным парнем», чтобы и самому отказаться, если бы его призвали на службу. По счастью, до крайности дело не дошло, поскольку он обладал неповторимой комбинацией аналитически-теоретического блеска и осознанием практических возможностей, и этой комбинации замены не было.
После войны Кейнс был в составе британской делегации по мирным переговорам в Версале. Но он не очень ладил с премьер-министром Ллойдом Джорджем, считал его нечестным и не доверял ему. Тот отвечал на эту неприязнь тем же, но казначейство не могло отказаться в этих переговорах от своего лучшего ума. Кейнс очень страдал в Версале, поскольку видел себя в окружении властных политиков, для которых важна была не стабилизация Европы и не восстановление цивилизации, а национальный эгоизм, ближайшие выборы и личная власть. Кейнс оставил прекрасное описание хода переговоров, действующих лиц, не только со стороны союзников, но и со стороны побеждённых, в этом описании его подолгу преследует чувство, что его единственным разумным партнёром во всём этом тщеславном балагане переговоров был гамбургский банкир Карл Мельхиор.
Но этого ему было мало, и он в конце концов покинул делегацию незадолго до подписания договора, чтобы сесть за книгу обо всём том, что, по его мнению, было в Версале неправильно. В работе «Экономические последствия Версальского мирного договора» он обличал экономическую (и следующую из этого политическую) дестабилизацию Центральной Европы, которая являлась результатом требований по репарациям. Они лишили целые поколения жителей побежденных стран шанса пробиться наверх. Если уж союзники хотели доить немцев и австрийцев, они должны были сперва дать им возможность восстановить хозяйство и самим достичь благосостояния. Если от коровы ждут жирного молока, то надо дать ей и корма. Версальский же договор ничего не давал не только в финансовом смысле – голому человеку в карман не залезешь, – он приводил, по мнению Кейнса, к политической радикализации в Центральной Европе и новой, ещё большей войне. «Политика, стремящаяся обратить Германию в рабство на целое поколение, поставить миллионы людей в нищенские условия существования, лишить целую нацию счастья, должна быть признана ужасной и возмутительной; она остаётся таковою, даже если бы она была целесообразна, если бы она могла обогатить нас самих, если бы она не вносила зародыши упадка и разрушения в культурную жизнь всей Европы»[61]. Кейнс видел в политике победителей именно разрушение той цивилизации, от которой зависел в конце концов его любимый Кембридж.
Книга продавалась на удивление хорошо, и Кейнс обрёл некоторую финансовую свободу. Правда, она сделала невозможным его присутствие в правительстве и в высших кругах, но тем не менее он стал public intellectual, одним из мыслителей, воспринимаемых широкой общественностью. Он вернулся в Кембридж, где начал преподавать и выступать в качестве публициста. Но не менее естественным было для него профессионально заниматься рынками капитала, интерес к которым у него развился во время службы в Казначействе, и работать в лондонском Сити в качестве инвестора. Вплоть до Второй мировой войны, когда он вдруг снова оказался востребован в правительственных кругах, он делил своё время между тремя этими деятельностями – университетского экономиста, публициста и инвестора на бирже.
Там Кейнс мог наблюдать, как человек действует, когда он в состоянии стресса должен пытаться максимизировать свою выгоду. Ему действительно не встречались в операционном зале холодные вычислительные машины, он видел лишь людей, которые впадали в замешательство и эмоциональность, в то время как там всегда требовалось хладнокровие и твёрдая рука. Для происходящего на бирже он разработал теорию, согласно которой росли не те акции, которые выгодно оценивались, а в гораздо большей степени те, которые пользовались в глазах общества большей популярностью. Акции или сырьё, из будущего роста которых исходили многие спекулянты, ими же и покупались, а то, что покупалось, росло по курсу. По мнению Кейнса, курс подгоняли, собственно говоря, ожидания, а не глубокомысленный анализ, проведённый рациональными участниками. На бирже Кейнс усвоил, как важна в экономических решениях роль ожидания, спекуляции и эмоций.
Кейнс стал знаменитым и состоятельным, собрал заметную коллекцию живописи (в Париже в 1917 году, когда там слышалась пушечная канонада, он приобрёл на аукционе картину Сезанна за 327 фунтов, что и тогда было незначительной суммой), женился на русской прима-балерине, разводил розы и внешне был так хорошо устроен, как только можно было желать. Но интеллектуально и финансово он всегда был готов к чему-нибудь дерзкому и бесстрашному.
Так получилось, что к моменту кризиса в Нью-Йорке Кейнс оказался без денег (но не без картин). В предыдущем году он понёс заметные потери в спекуляциях на рынке сырья, но у кого из спекулянтов в 1929 году не оказалось денег на инвестирование, к тому, считай, судьба была особо благосклонна. Лично Кейнса катастрофа не коснулась, он мог смотреть на неё со стороны, анатомировать и пытаться понять. Результатом стало не что иное, как его magnum opus, «Общая теория занятости, процента и денег», всеохватывающее повествование для мира, в котором от депрессии могли страдать не только окостеневшие народные хозяйства – такие как британское, – но и юношески-динамичные, как американское, которое стояло гораздо ближе к идеалу свободного рынка.
Тем самым Кейнс изобрёл макроэкономику, изучения хозяйства с высоты птичьего полёта, когда в центре рассмотрения стоит не одно предприятие, а сводные понятия – такие как совокупный спрос или валовой внутренний продукт. Классическая теория, как она была сформулирована по Адаму Смиту и Рикардо, была в ней лишь частным случаем для нормальных и спокойных времён.
Тем, что в мировом экономическом кризисе бросилось в глаза не только Кейнсу, но и неэкономистам, был ощутимый всеми чувствами и осязаемый на ощупь отказ рынка, исчезновение невидимой руки, чего классическая теория просто не могла постичь и не хотела понимать. Пол Самуэльсон, один из самых значительных экономистов после Второй мировой войны, впоследствии вспоминал удивляющихся студентов, которым профессора со всей серьёзностью объясняли, что, вообще-то, нет никакой безработицы, а есть лишь слишком высокие выплаты, которые удерживают от работы, равно как и естественная склонность к свободному времени. Очереди из безработных на раздаче бесплатного супа, которую можно было наблюдать из окон аудитории, таким образом, вовсе не существовало.
Рабочие и служащие в современном мире уже при сравнительно небольших сокращениях зарплаты начинают расходовать существенно меньше денег. Тем самым возникает проблема, которой не было прежде – когда большинство людей так и так имело лишь самое необходимое для жизни (и потому их расходы уже некуда было сокращать), а те, что были элегантны и привилегированны, предпочитали скорее влезать в долги, чем адаптировать образ жизни к сократившимся доходам. Из-за растущего благосостояния всё больших слоёв наёмные рабочие занимают новое положение и выполняют новую функцию в экономике: они стали незаменимы как потребители, ибо их покупательная способность – один из маховиков, которые держат систему в движении. В глазах Руссо это, может, и упадок, но экономически это означает новый мир. Экономика 1930 года совершенно иначе, что 100 лет назад, нуждается в том, чтобы население не только работало, но и покупало продукты. Если зарплаты и впрямь упадут до голодного уровня, кто же тогда будет покупать автомобили, холодильники, радиоприёмники, кастрюли и тряпки? Когда зарплаты падают довольно низко – а в современном обществе до этого не так далеко, – очень быстро падает и производство, поскольку предприниматели видят, что покупателей становится меньше, и сокращают своё производство до нового минимума. А что им делать, производить дальше и надеяться?
Кейнс приводит доказательство того, что рынки могут стабилизироваться на уровне, который никак не являлся оптимальным и оставлял неиспользованным большой потенциал. Система рыночной экономики может и с неполной занятостью держать себя в равновесии или хотя бы в балансе, отмеченном безработицей и бедностью, который представляет собой скорее ловушку, нежели состояние гармонии. Причина – недостаточный спрос. Если люди предпочитают приберечь свои деньги (как в любом кризисе), предприниматель не должен инвестировать, поскольку он и так не продаст свои товары. А его работники имеют теперь ещё больше причин накапливать сбережения, поскольку рабочие места под угрозой. Предприятие, в которое нет инвестиций, подтачивается изнутри, и ни от одного наёмного работника это дуновение смерти не скроешь. В таком положении производится меньше, чем возможно, и благосостояние меньше, чем могло бы быть. Это может длиться изматывающе долго, если рынок сам по себе не выйдет из полосы невезения и люди не начнут приспосабливаться к своему печальному положению. Вот что такое ожидание конъюнктуры, которая снова придёт в движение, – и покупательная способность клиентов, глядишь, снова наберёт силу, а она и определяет производство и вместе с ним занятость. В марксистской терминологии и в грубо упрощённом виде можно было бы сказать: сознание определяет бытие; гораздо важнее, чем скучная реальность, – её интерпретация, поскольку она решает, чего нам хотеть и что делать. Ожидания выступают – в форме и в функции Deus ex machina – в «Общей теории» наряду с исключительно исчислимыми величинами, рассматриваемыми и раньше – такими как капитал, производительность и работа. Здесь кроется и причина, почему экономические прогнозы так часто оказываются неверными: ожидания и психология играют существенную роль, но их очень трудно выразить в цифрах.
Теория выглядит – в общих чертах, если рассматривать её подобно рентгеновскому снимку, где отображается лишь существенное, – приблизительно так: продукция, или, соответственно, доход (Y) в народном хозяйстве складывается из того, что потребляется (С) и что инвестируется (I). То есть Y = I + C. Доля сбережений (S) есть то, что остаётся, если от дохода отнять потребление. То есть S = Y – C. Если подставить во вторую формулу первую, то получится: S = I, то есть утверждается, что сбережения равны инвестициям. То, что люди несут в банк, будет отдано кому-нибудь взаймы, и он это инвестирует (построит фабрику, купит квартиру и т. д.).
Из этой формулы кое-что безболезненно считывается. Классики ещё допускали, что сбережений достаточно не бывает, ибо экономность есть добродетель и угодна Богу, и чем больше сэкономишь, тем больше будет инвестировано, а чем больше инвестировано, тем больше будет благосостояние. Кейнс, напротив, говорит, что сбережений бывает избыточно много, а именно: когда продукция (Y) не поспевает. Если сбережения (S) отчётливо превышают продукцию (Y), то из формулы S = Y – C следует, что потребление (С) должно сильно сократиться. Если потребление сокращается, то предприниматели уменьшают свои инвестиции, поскольку кто же станет производить впрок? Если ослабевают инвестиции (I) и потребление (С), то же самое происходит и с их суммой (продукция или, соответственно, народный доход, Y = I + C), тем самым отстаёт и занятость.
Это можно сформулировать как paradox of thrift (парадокс сбережений). Для индивидуума рационально сберегать и откладывать деньги на чёрный день. И когда чёрный день наступил, индивидууму рекомендуется придержать свои сбережения и тратить как можно меньше, ведь никогда не знаешь, сколько продлится кризис. Из этого вытекает предпочтение ликвидности: в ненадёжные времена деньги не инвестируются в далёкое будущее, их предпочтительнее иметь под рукой – например, под матрацем или в кухонном шкафу. Но то, что разумно для индивидуума, в этом случае нехорошо для общества в целом, поскольку его отказ от потребления означает падение спроса, а падение спроса лишает предпринимателей смелости – и безработица растёт. Из этого следует, что сберегать может индивидуум, но никак не замкнутое народное хозяйство. Поскольку сокращённые расходы одного означают сокращённые доходы другого. Если потребление в целом становится меньше, то понижаются вместе и продукция, и доходы, и тогда в кризисные времена все эти сбережения и все предыдущие самоограничения идут коту под хвост.
До этого времени не делалось большого различия между частным домашним бюджетом и бюджетом государства. Теперь же оказалось, что они – по крайней мере частично – функционируют по разным принципам. Частный бюджет почти всегда может безболезненно сократить свои расходы на 5 %. Государство не может этого, потому что тут же окажется в опасности значительно ослабить спрос, а с ним и экономику в целом. Тем самым оно подрывает налоговую базу и сводит на нет свои попытки сэкономить. Всё это в нашей современности легко считывается по очень различающимся сценариям развития британской и американской экономик после большого финансового кризиса 2008 года. Британцы были добродетельны и экономили в хозяйстве на всём, на чём только можно было сэкономить. Американцы экономили разве что поневоле, потому что конгресс не мог прийти к общей позиции по бюджету. Британцы сегодня (2013 год) далеки от того, чтобы снова достигнуть экономического уровня 2007 года, тогда как щедрые американцы (так же как и немцы) уже давно достигли нового рекордного уровня. И британцы сегодня гораздо более далеки от сбалансированного бюджета, чем США (и Германия). Именно это и проповедует Кейнс: не получится консолидировать государственный бюджет подобно частному бюджету только путём экономии. Макроэкономика – нечто другое, чем учение об экономике предприятия.
Если проблемой является спрос, то эту проблему и нужно решать. Кейнс – человек, мыслящий практически. Государство может вмешиваться, чтобы поддерживать общий спрос стабильным. Если его граждане экономят, то государство должно как раз тратить деньги, ибо, как известно из paradox of thrift, всеобщая экономия приводит к всеобщей потере благосостояния. Если граждане страны решают копить своё богатство и ждать более дешёвых цен или лучших времён, государству приходится брать денежные займы и замещать ими спрос. Когда настроение хорошее, это приводит к большому эффекту мультипликатора. Он функционирует приблизительно так: каждый евро, который расходует государство, есть чей-то доход. Если государство строит дороги, строительные рабочие получают зарплату, которую сами они – хотя бы частично – тратят. То, что тратит строительный рабочий, опять же оказывается чьим-то доходом – например, хозяина пивной или крестьянина-молочника. Из этого дохода молочник опять же часть расходует – например, на сельскохозяйственные машины, – и так далее. То есть всякий евро, который государство берёт в руки, создаёт спрос не в размере одного евро, а ощутимо больший – насколько больший, зависит от условий, об этом и по сей день ведутся оживлённые дебаты.
И здесь Кейнс тоже решительно отклоняется от классиков. Каждый, кто знаком с работами Смита, знает, почему государство предпочитает держаться особняком от экономики. Каждый сам лучше всего знает, что для него хорошо, и, если государство примется его опекать, из этого не получается максимальной выгоды ни для него, ни для общего благосостояния, а получится только коррупция и неэффективность. Но в трансформированном мире XX века государство больше не может беспомощно взирать, как падает спрос и рушится экономика. По мнению Кейнса государство не только может, но и должно осмысленно вмешиваться, когда возникает опасность. Laissez-faire больше не может оставаться единственным принципом, которым руководствуется государство в вопросах экономической политики.
Кейнсианство – под другим названием, в другом образе – в любом случае явилось бы в 30-е годы, оно уже витало в воздухе. Рузвельт с 1933 года широко проводил в Америке «Новый курс», показательный образец практической политики в духе Кейнса, не обратив внимания на того, кто позднее дал этому направлению имя. В Японии правительство реагировало на мировой экономический кризис девальвацией йены и программой государственных выплат, финансируемой за счёт кредитов. Страна смогла – единственная нация с рыночной экономикой – даже показать между 1929 и 1933 годами заметный экономический рост[62]. Проект Кейнса наложил отпечаток на экономическую науку следующего поколения, потому что он смог синтезировать, развить и сформулировать то, что уже вертелось на языке, а не потому, что он в одиночку совершил большой рывок в уединённом кабинете.
Кейнс даже в Казначействе, в качестве государственного служащего, был уполномочен управлять экономикой так, чтоб она могла поставлять финансовые и материальные ресурсы для войны. Он понял из опыта, что государство, если оно располагает образованными, компетентными, благонамеренными и неподкупными служащими (ведь у Кейнса перед глазами был личный пример), может вмешиваться, направляя и не действуя при этом разрушительно. Вмешательства должны быть кратковременными и должны ограничиваться исключительными ситуациями – такими как мировой экономический кризис, – но если альтернативой вмешательству является всеобщая депрессия, то и дольше. Ибо пока вмешательство государства остаётся ограниченным и точно нацеленным, это не причинит свободной рыночной экономике большого вреда. Кейнс не считал капитализм больным – будь или не будь в нём мировые экономические кризисы, – но считал лишь нестабильным. То есть менять экономическую систему не надо, достаточно лишь разумно регулировать её, чтобы она могла быть привлекательной альтернативой плановой экономике и социализму.
Все долгосрочные планы всё равно бессмысленны. Модели экономики функционируют, если вообще функционируют, только в призрачной вероятности, в непостоянном, непоследовательном и потому вряд ли предсказуемом мире. Правда, для Кейнса математика – правильный язык для экономических взаимосвязей. Потому что как только из экономики устраняются цифры, недолго ждать и упадка. Экономисты должны играть с цифрами, как маленькие дети с языком, цифры – их доступ к реальности. Но в итоге люди ведь делают то, что они хотят, и все попытки смоделировать ожидания, которые привели бы к решениям, заведомо обречены на провал. Поэтому Кейнс питает большую симпатию к краткосрочным решениям. Лучше эффективное лоскутное одеяло, чем грандиозная теория, которая теряет связь с реальностью или истинность которой покажет себя лишь в неопределённо далёком будущем. «В долгосрочной перспективе все мы умрём. Экономисты слишком облегчили бы свою задачу и лишили бы ее какой бы то ни было ценности, если бы они во время бури могли нам только сказать, что когда шторм будет далеко позади, океан вновь успокоится». Практики в большинстве своём довольны, если могут оценить, как их дела пойдут в ближайшие шесть месяцев, а все более обширные планы и далёкие горизонты – это нечто для теоретиков и политиков.
Поведение людей всегда непредсказуемо. Классическая экономика делает ошибку, полагая, что человеческое поведение можно смоделировать по одной только логике максимализации выгоды в мире дефицита. Но так же, как ньютоновская механика описывает видимый мир, являясь при этом лишь частным случаем теории относительности, так и «Общая теория» должна выдерживать неопределённости. Люди действуют в неопределённом мире, и их инвестиции всегда сопровождаются страхом перед будущим, которое, может статься, будет совсем не таким, как они надеялись. Точнее говоря, неопределённость так велика, что ни один разумный человек не стал бы делать инвестиции, горизонт которых дальше, чем пять или десять лет. Только дух предпринимательства, animal spirit, может объяснить такое поведение. Со времён Кейнса известно, что одна из благороднейших задач экономической политики и центральных банков – держать animal spirit в состоянии бодрствования и побуждать предпринимателей к инвестированию, вселяя в них веру в большие прибыли и блестящее будущее.
Страх потери animal spirit сидит в костях у целого поколения, отмеченного мировой войной и экономическим кризисом, и нет ничего удивительного в том, что тема снова и снова поднимается в литературе времён между войнами. Гансу Касторпу, герою романа Томаса Манна «Волшебная гора», 24 года, он здоров и энергичен и приезжает в санаторий в Давосе на три недели, чтобы навестить там туберкулёзного кузена перед тем, как отправиться волонтёром на корабельную верфь. Но атмосфера оказывается слишком заразной. Все эти покашливающие, вялые, температурящие, «подтачиваемые изнутри» люди с нездоровым цветом кожи оказывают на Касторпа такое затягивающее действие, что он не может вырваться оттуда и из «Ганса-счастливчика» превращается в хворое существо, серьёзного участника бесконечных лежаний на воздухе и в конце концов остаётся в санатории на семь лет. К профессии коммерсанта он, правда, относится с уважением, но просто не находит интересным подсчёт, взвешивание и поиск выгоды. Он предпочитает предаваться подробным рассуждениям о божественной телесности человека, слушать дебаты верующего в прогресс просветителя Сеттембрини с католически-социалистически-иудейским иезуитом Нафтой, влюбляться в хлопающую дверьми, скатывающую хлебный мякиш в шарики Клавдию Шоша, которой в ночь любви будет доказывать идентичность болезни и похоти, и всё-таки остаётся при всех этих волнениях всегда твёрд в своём внеэкономическом параллельном мире.
Ту же тему Манн обыгрывал ещё в «Будденброках», там маленький Ганно Будденброк одухотворён противоположностью animal spirit. Он смотрит на мир «со столь же робким, сколь и отторгающим выражением»: к безмерному разочарованию отца он совсем не рождён для коммерции, поскольку не может ни обращаться с цифрами, ни достигать успеха под давлением (в прилюдной игре на пианино). В школьном дворе Ганно только толкают туда-сюда более сильные, драчливые мальчишки, и ранняя смерть избавляет его от ответственности.
Или «Смерть в Венеции»: история начинается с того, что писатель Густав фон Ашенбах, который и так-то не унаследовал от своих предков ни гроша, теряет свою творческую силу, и его охватывают сомнения в себе. Он решает, что пора сменить обои, и едет в Венецию, чтобы прийти к другим мыслям. Там он влюбляется в красивого подростка и некоторым образом – в отдалённых запретных «переглядках» – находит то, что искал. Эта любовь делает для него невозможным отъезд, хотя он узнаёт о том, что разразилась эпидемия холеры, которая угрожает жизни местных жителей. Так мальчик-подросток становится ангелом смерти. В итоге Ашенбах совсем теряет благоразумие, находит забвение в рассуждениях Платона о красоте и любви и в конце концов предаётся своей судьбе.
Герои Томаса Манна дают бесконечный наглядный материал об изысканных, симпатичных людях, лишённых малейшего духа предпринимательства, которые не могут защититься от реальности. 1920-е годы – также время, когда Зигмунд Фрейд, любимый автор Томаса Манна, обогащает свою теорию противоположностью animal spirit, влечением к смерти. Если до сих пор на переднем плане бесспорно стоял принцип удовольствия (утилитаристское стремление к получению удовольствия и уклонение от неприятного), то Фрейд усомнился, действительно ли это всё. В своей книге «По ту сторону принципа удовольствия» он признаёт, что человеку свойственна склонность к агрессии и деструкции, а также тенденция к саморазрушению. Иногда человек страдает охотно, ему доставляет удовольствие самобичевание, и среди прочего он делает также совершенно сознательно экономически бессмысленные вещи. Бывают игроки, которым вполне ясно, что они потеряют свои деньги, и тем не менее они не могут лишить себя наслаждения делать то, от чего экономист только покачал бы головой. Слишком упрощённому образу человека, принятому в экономике, тогда требовалось – как, пожалуй, и сейчас опять требуется – дополнение другими гранями: моральной и эмоциональной. Человек состоит не только из эго и похоти, он хочет быть любимым, а не скрупулёзным; он не всегда охотник за выгодой или карьерист, но иногда и безрадостный горемыка на диване, или добрый благочестивый человек, или верная заботливая дочь.
С источенными сомнениями и тоскующими по смерти людьми экономике Кейнса делать особенно нечего, но именно описанная в литературе и психологии 1920-х годов духовная установка начинает действовать, когда предприниматели или потребители постоянно предаются мыслям о том, что всё может пойти наперекосяк. Список опасений всегда слишком длинный, чтобы принять решение, выходящее за пределы завтрашнего дня. Это существенное свойство предпринимателя (если вообще не единственное его свойство) – мужество, animal spirit для того, чтобы что-то начать, хотя опираться он может только на полный шарма образ воображаемого будущего, но никак не на точные цифры, на которые можно положиться.
Для чего вообще всё это? В первую очередь, естественно, чтобы иметь теорию, которая позволяла бы понять феномен мировых экономических кризисов и покончить с ними. Кейнс ставил перед собой, наряду с совершенно практическими, также и моральную цель. Экономика, на его взгляд, неутомима в вопросах о том, как произвести как можно больше вещей (Stock Keeping Units). Он хочет приспособить её к тому, для чего она в конечном счёте и существует. Она должна готовить почву для того, что Кейнс называет цивилизацией, и она выступает за «манеры, благовоспитанность и определённый ум», если верить Канту. Цель экономики – не только повышение продуктивности, но главным образом создание условий для пристойной жизни. Благосостояние в том и заключается, что мы можем быть культурными, вежливыми и моральными, что у нас есть пространство и свобода во всех аспектах жизни, без угрозы кризисов. В том, что мы оставляем позади любовь к деньгам и можем посвятить себя высшему. Искусство и наука облагораживают нас. «Любовь к деньгам как к собственности – в отличие от любви к деньгам как средству в обращении с друзьями и реальностями жизни – признаётся в качестве таковой [когда достигнуто всеобщее благосостояние] как противное болезненное состояние, одна из тех полукриминальных, полупатологических наклонностей, в которых с гадливостью сознаёшься специалистам по психическим болезням. <…> Но будьте осторожны! Время ещё не пришло. В ближайшие как минимум сто лет мы должны притворяться перед всеми остальными, что красота уродлива, а уродство красиво. Потому что уродство выгодно, а красота нет. Алчность, ростовщичество и осторожность ещё должны какое-то время побыть нашими богами. Ибо только они могут вывести нас из туннеля экономической необходимости к дневному свету». Количество SKU в наших магазинах может быть всегда лишь средством, но никак не самоцелью. В конечном счёте дело в состояниях, к которым имеет смысл стремиться, как красиво сформулировал Мур, дело в добре и в необходимом для этого состоянии души. Благосостояние тем самым, вообще-то, имеет моральную природу, причём оно и впрямь не причина и не следствие цивилизации, а представляет с ней одно и то же.
Экономика – наука, которая должна осуществить благосостояние, чьим этическим измерением является цивилизация. Её смысл в том, чтобы избежать кризисов, угрожающих благосостоянию. Причём речь идёт не столько о материальном ущербе. Есть достаточно экономистов, которые видят в рецессиях и крушениях очистительный ливень, рыночную фазу, которая необходима, чтобы отсеять слабых игроков. Фабрики можно отстроить заново после всякой войны и всякого крушения. Существенно нечто другое: если варварство однажды разрушило цивилизацию – а это происходит быстро, – то её не так легко снова восстановить. Это урок, усвоенный из послевоенной (после Первой мировой войны) нищеты, об усугублении которой Кейнс предупреждал на переговорах в Версале. И это также урок из мирового экономического кризиса, который во многих странах привёл к радикализации и повсюду к одичанию нравов. Мир, который упустил из рук цивилизацию, не так легко поддаётся восстановлению.
Из этого духа Кейнс развивает теорию экономического порядка, в котором конъюнктурные циклы должны сглаживаться, а тяжёлых кризисов удаётся избежать вообще. Если мы предоставим экономическое развитие естественному ходу вещей, это может стоить нам цивилизации. Благосостояние фабрик окружает цивилизацию как мягкая обивка салона, которая не имеет смысла, если внутри нет жизни. Ради цивилизации необходимо сохранять благосостояние, и задача государства поэтому – избегать опасных кризисов. Это и есть понятие благосостояния, которое составляет лицо Кейнсовой теории. Дж. Э. Мур, философ добрых дел, мог бы гордиться своим учеником.
Исландское столпотворение
Несчастье Милтона Фридмана заключается в том, что его экономическая политика была опробована.
Джон Кеннет ГэлбрейтОсенью 2008 года цивилизации вновь пришёл конец. Как это происходит, наверное, лучше всего видно с самого края цивилизации. То есть из Исландии. Тамошнее проявление великого финансового кризиса (ВФК) и вплотную примыкающий к нему кризис государственного долга были пышной горкой взбитых сливок и создавали видимость развития: от этой горки осталось только мокрое место. Генетики охотно рассматривали эту страну как большую лабораторию, ибо туда за последние 1100 лет заглядывало не так много пришлых с целью размножиться, и таким образом всё население в основном породнилось между собой. Это делает исландцев поистине особым народом, и многое, что там произошло во время ВФК, имеет совершенно особенный оттенок, но при этом может выступать в качестве примера.
Майкл Льюис – пожалуй, самый забавный комментатор событий на финансовых рынках – изобразил историю в одной длинной статье для Vanity Fair следующим образом: Human Development Index видел Исландию до 2008 года на первом месте – остров прогресса, который, может, и выглядит несколько диковато, с превосходно образованным населением, с отличными показателями здоровья, эмансипированными женщинами и вообще всем, чего только мог себе пожелать сотрудник органов социального обеспечения. Множеству образованных людей этого острова находилось не так много применения, поскольку Исландия жила доходами с рыболовства, для которого нужнее опыт, чем дипломы. Воды Исландии чрезвычайно богаты пищей, и как только были изобретены рефрижераторные суда, а рыба поднялась до разряда экспортных товаров, страна становилась всё состоятельнее. Вторая благодать, которую природа уготовала Исландии, – энергия, которая таится в вулканической земле – правда, её нельзя экспортировать, как нефть или газ. По счастью, этого было достаточно, чтобы американская фирма Alcoa подселилась сюда вместе со своей печью, в которой получают алюминий. Но и это был ещё не предел для их экономики, по крайней мере так все думали.
Очень симпатичны исландцы не только потому, что они с огромной выносливостью выдерживают жизнь на не особенно приветливом куске суши, а потому, что они сохраняют интересные элементы традиции, которые в других местах Европы давно пали жертвой христианизации. Так, хульдуфоулк, называемые также эльфами, как прежде, так и теперь играют известную роль в духовном устройстве страны. Лишь 28 % населения считают существование эльфов неправдоподобным, а 55 % исходят из того, что эльфы существуют. Эльфы – мерцающие неземные существа, одетые в серое, с чёрными волосами, и живут они на камнях, на деревьях и на холмах, совсем как их близкие родственники – гномы и тролли. По этой причине Alcoa, прежде чем она смогла соорудить печь, должна была получить свидетельство от эксперта, работающего в правительстве, что место застройки не обжито эльфами.
В Исландии в конце 1990-х годов сошлись вместе три момента: деньги, культура викингов и население с заниженными требованиями. Катализатором, который привёл эти стихии к тому, что они стали вступать друг с другом в реакцию и произвели нечто совершенно новое, было банковское инвестирование.
Оказалось, что ряд молодых исландцев получили образование в США и там они научились создавать благосостояние кредитами, а балансы составлять так, чтобы они выглядели как нечто существенное. Они были, такова уж природа вещей, неопытными и голодными, когда пришли к руководству исландскими банками, приватизированными в 2002 году. Они убедили своих земляков брать деньги в долг под 3 % – в йенах и швейцарских франках, – чтобы затем перевести их в исландские кроны и вложить под 15,5 %. Центральный банк ничего против этого не имел, поскольку в Исландии решили применять на практике учение неолиберализма. От регулирования отказались, налоги понизили, государство из экономики устранилось. Давид Оддссон, в то время премьер-министр, был жарким почитателем Милтона Фридмана и не испытывал потребности больше ни в каких других теоретических опорах, поскольку его призванием была поэзия, которой он предавался и в месяцы глубочайшего кризиса. К тому моменту он стал президентом Центрального банка, и, пожалуй, останется в обозримом времени последним поэтом, занимавшим этот пост.
Поначалу дело ладилось: между 2003 и 2007 годами исландский рынок акций вырос девятикратно. Совсем без долгов это сделать не получалось, но – как известно всякому читателю комиксов и книжек про Астерикса – викинги не ведают страха ни перед чем, и так они набрали обязательств на 140 миллиардов долларов, это соответствовало 13-кратному ВВП или, если перевести на подушный уровень, на каждого из 330 тысяч жителей острова приходилось по 424 тысячи долларов долга. Бюджеты заимствовали под 213 % своего наличного дохода, банки взяли за границей в долг около 50 миллиардов евро. С такими хорошими деньгами исландские банкиры и управляющие хедж-фондами пускались по миру в шопинг-туры, выступали под звучными именами вроде «Тора», приобретали авиакомпании, концерны розничной торговли, другие банки, футбольные команды и вообще всё, кроме алюминия и рыбы – которых, правда, у них было уже достаточно, но в которых они хотя бы что-то смыслили. Вместе с высокими ценами, которые они платили за свои трофеи, они и алюминий с рыбой вписывали в свои балансы, которые становились всё внушительнее и таким образом позволяли им брать всё больше денег в долг.
Поощряемые очень расслабленной денежной политикой США, они за счёт низких процентных ставок поднимали цифры всех состояний, как прилив в порту поднимает все лодки – и исправные, и негодные. И до тех пор пока всё становилось дороже и дороже, было приятно владеть акциями, сырьём, капиталовложениями и т. д., пусть даже и в долг. Только когда музыка смолкла, а стула поблизости не оказалось, вспомнили то, что надо было бы знать всегда: что рычаг кредита действует в обе стороны – как вверх, так и вниз. В 2008 году внезапно оказалось, что и ржавого гвоздя не стоило то, что совсем недавно считалось инвестицией века, и потери в банковской системе достигли 100 миллиардов долларов. На такое поэт во главе Центрального банка не рассчитывал. Банки рухнули, исландская крона упала на две трети по отношению к доллару и евро, а правительству пришлось просить помощи у своих северных соседей и МВФ. Виноватыми политика назначила как всегда международный финансовый капитал, хедж-фонды, которые своими ставками на скорый упадок Исландии якобы сами его и вызвали. Оддссон говорил о «бессовестных дилерах, которые решили привести исландскую финансовую систему к краху». Притом что для этого достаточно было поэта в качестве шефа Центрального банка, философа в качестве министра экономики и ветеринара в качестве министра финансов – в стране с населением немецкого города Билефельда.
Все долги теперь швырнули под ноги государству. Каждый из трёх больших банков Исландии был уже сам по себе слишком крупным, чтобы его можно было спасти, но в одном из смелых и фаталистических жестов правительство решило национализировать их все. Если страна теряет банки, то не надо больше платить зарплаты, исчезают счета фирм и замирает всякая торговля, выходящая за пределы обмена китовых зубов. Страна возвращается назад во времена викингов и снова живёт рыболовством. Поскольку у правительства тоже не было денег, чтобы обслуживать зарубежные долги банков, их кредиторов облопошили, это значит, что они и по сей день ждут своих денег (или возместили убытки за счёт своей государственной банковской страховки). Для того чтобы немногий уцелевший капитал не исчез совсем за то время, пока было неясно, кто какое бремя несёт, был введён контроль за движением капитала (как при крахе Кипра весной 2013 года). С тех пор государство прилагает усилия к спасению цивилизации, культуры, обычаев и традиций, хульдуфоулк, учебных заведений, социальной защиты, доброжелательного обращения друг с другом.
Приблизительно так же, только менее заметно – с учётом численности населения – проходил ВФК в США и частях Европы, здесь ещё помноженный на изматывающий валютный кризис. Об этих драмах часто рассказывают по-разному, и примечательно, что версий очень много, но мы здесь хотим сослаться на них в целом, чтобы указать на собственно примечательное обстоятельство: экономические дебаты о том, как выбраться из невезенья ВФК и кризиса евро, сегодня по существу протекают по тому же образцу и с теми же аргументами, что и 80 лет назад борьба с последствиями мирового экономического кризиса. Это нечто отрезвляющее для всех, кто верил в прогресс человечества – но кто хотел бы ещё быть причисленным к этой группе? Это как если приходишь спустя многие годы в свою привычную пивную – а там стоят всё те же типы с теми же напитками в руках и обсуждают те же самые темы, которые волновали ещё их отцов. Освещение всё такое же плохое, оно погружает всю картину в дымку полумрака, в которой все посетители чувствуют себя явно хорошо. Все знают друг друга, имеют полное представление о предпочтениях и незалеченных ранах, и если бы в этих разговорах дело не шло о чести, они могли бы хорошо понимать друг друга.
В одном углу пивной сидят люди скорее консервативных взглядов, хитрые лисы сбережений, которые стали успешными и обеспеченными за счёт везения или усердия и теперь боятся за свои отданные взаймы деньги. Благосостояние нации, как выводят они с серьёзными лицами, состоит в её сбережениях, и с начала нового времени никогда не подвергалось сомнению, что размер сокровищ в подземельях короля – решающая мера процветания. Сокровища, дескать, возникают за счёт педантичного исполнения гражданского долга (соблюдать договорённости! брать на себя ответственность!) и за счёт последовательного исполнения гражданских добродетелей (копить, работать, копить, работать). Всякое отклонение от этого является, мол, неправильно понятой толерантностью. Добропорядочные люди не должны доверять коллективу, потому что коллектив всегда хочет лишь плодов труда честных граждан, в данном случае отчуждая их путём пренебрежения к признанным долговым отношениям, из-за чего права собственности и тем самым общее благосостояние подвергаются опасности. Решение современных кризисов состоит якобы в санировании социальных бюджетов путём накоплений, поскольку веры заслуживают лишь финансы, и тогда бы страхи ушли и процентные ставки понизились бы сами по себе, снова пошли бы инвестиции, долги бы отработали, и в итоге старые добродетели победили бы вялую халатность. Поскольку в Европе кредиторы, воплощённые в лице строгих и экономных немцев, одержали бы верх, социальные бюджеты там благодаря общей позиции отречения скоро пришли бы в порядок и общее благосостояние восстановилось. Отказ от требований по греческому образцу способствует лишь повторениям, а обесценивание долгов путём инфляции якобы разлагает экономическую и моральную субстанцию Европы. Так что никакой путь не позволяет обойти пунктуальное соблюдение однажды обещанного.
У стойки в пивной стоят спасители цивилизации, для которых буржуазные добродетели не так много значат, они твёрдо держатся за добро в человеке и в особенности в себе самих. Заслышав слова из-за стола, одни замирают, другие качают головой, а третьи чувствуют, что им брошен вызов речью, которую они могут воспринимать не иначе как отсталую и тупую. Они усвоили труды и позицию Кейнса, согласно которой всё дело в сохранении органов экономики, в способности производить, в сети мелких и крупных предприятий, которые только и делают экономику, основанную на разделении труда, столь эффективной. Проблема заключается в сокращении долга, а не в делании долгов, так они говорят, ибо расходы одного являются доходами другого, и наоборот. Если теперь оба одновременно попытаются сократить свои долги, сокращая свои расходы, то у обоих упадёт доход, и так они будут ещё меньше в состоянии исполнять свои обязательства. Итак, если не хочешь обострить долговую проблему и спровоцировать массовую безработицу, то экономность нужно отложить до лучших времён. Разумеется, при этом, если действовать неправильно, хитрый лис сбережений может попасть в жернова инфляции, – но у стойки, по взвешенному размышлению, готовы пойти на риск для своих сограждан. Дескать, в США в такие дни уже придерживались Кейнса и получили хорошие результаты, которые в Европе нигде не проявились. Утверждение, что Центральный банк и правительство закидают проблему деньгами, вводит в заблуждение и при попытке научного обоснования подобный подход оказывается несостоятельным.
Тут ещё наслушаешься небылиц, – язвят в ответ со стороны стола, где лица от предыдущей речи уже слегка разрумянились, а руки скрестились на животах. Банкротство есть банкротство, и закончится оно рано или поздно самым худшим образом, тут не помогут ни знахарство, ни заклинания именем animal spirit в традиции Кейнса. Выбирать приходится между инфляцией, стагнацией и присягой должника в суде. Инфляция, мол, самое расхожее средство, должник возвращает при этом своим кредиторам «плохие» деньги, на которые тот уже ничего не сможет купить. Инфляция, мол, означает экспроприацию экономного и старательного среднего класса и экономическую (и как следствие также политическую) ненадёжность. Мол, кто знает историю, тому точно известно, что государство почти всегда избавляется от своих обязательств именно таким образом, поэтому порядочному буржуа можно посоветовать инвестировать своё состояние в золото или недвижимость, ценность которых и в состоянии всеобщего обесценивания сохраняется без ущерба.
Если государство выберет вторую опцию из возможных и действительно станет постепенно погашать свои долги, это означало бы более высокие налоги для граждан и, соответственно, меньшие инвестиции, и меньшее потребление, ибо откуда ещё взять денег несчастному субъекту налогообложения? Это, дескать, ведёт к стагнации на годы, цена этой стагнации – потеря конкурентоспособности и тем самым благосостояния, поскольку в это потерянное время конкурирующие нации не спали (достаточно вспомнить о живом, не замутнённом социальным страхованием, прилежании азиатов), и теперь они в состоянии обновиться и завоевать рынки. Третьей возможностью является в конце концов присяга должника в суде: если долги не будут выплачены, для кого-то это станет экспроприацией собственности, да такой, которая долгие годы будет кормить адвокатов. Неряшливое обращение с правами собственности создаёт неуверенность, которая в долгосрочной форме тоже будет стоить благосостояния – тут примером может служить Аргентина, которую и до сих пор с содроганием вспоминают слишком многие состоятельные люди за столом: страна, облагодетельствованная нефтью, рудами и плодородными землями, умудряется вновь и вновь – через экспроприации (обычно со стороны кредиторов государства, но в последнее время также со стороны заграничных промышленных предприятий и отечественных частных пенсионных фондов) и через инфляцию держать подушный доход ниже уровня растерзанного войной Ливана[63]. Так капитал бежит из этой богатой страны, инвестиций нет, и не возникает никакой промышленности, которая выходила бы за рамки эксплуатации природных ресурсов.
Интеллектуалы у стойки заявляют протест, что свалены в одну кучу с правительственными бандитами, и предусмотрительно заказывают ещё по одному пиву. Мол, разумеется, каждый должен платить и пусть платит (по моральному пониманию Иммануила Канта) свои долги, которые он обязался обслуживать. Но что, если должник не может – а если и может, то только за счёт всеобщего благосостояния (что в глазах утилитаристов и консеквенциалистов было бы в высшей степени аморально)? Стандартная теория экономистов, основанная во времена Кейнса и хорошо работающая также в современные кризисы, оставляет, однако, открытым ещё один выход, о котором сытые накопители золота за столом помалкивают. Решение проблемы долга заключается в росте. Если экономика растёт, ей легче переносить долги. Насколько упрощается дело, когда экономика развивает собственную динамику, можно увидеть на примере Англии, которая в 1816 году, после того как битва при Ватерлоо завершила почти 125-летнее состояние войны с Францией, с долгами в 240 % ВВП терпела, по традиционным меркам, банкротство. Одна только выплата процентов составляла приблизительно половину государственного бюджета. Однако долги не привели к катастрофе, а разрешились сами собой – в индустриальной революции. Спустя полтора поколения долги – благодаря сильному росту экономики – упали уже до 90 % ВВП, и больше никто уже не чувствовал себя плохо. Поэтому государству и сейчас следует влезать в долги, чтобы стабилизировать спрос, насколько это целесообразно и насколько позволяют рынки. Теоретически и практически правильно будет стимулировать рост путём отмены привилегий для наёмных работников и предприятий, а также борьбой с коррупцией, энтузиазмом от соревнования и отставкой бездарного руководителя правительства. Дух предпринимательства и стремление к выгоде как были, так и остаются лучшей надеждой на экономический успех. А вот с нисходящей спиралью из сокращения спроса, исчезновения рабочих мест, коллапсирующей собираемостью налогов и, соответственно, всё бо́льших дыр в бюджете помочь никому нельзя. Государству не удастся вдруг стать платежеспособным как предприятие, на котором можно добиться понижения затрат. Следовало бы заглянуть за этот горизонт и тем, кто сидит за столом.
Рост, кстати, не только самое простое решение всякой долговой проблемы, но более того: во многих случаях недостаточный рост вообще только и является причиной бед. В Италии или Японии очень вялое экономическое развитие последних десятилетий было обусловлено не высокими долгами, а наоборот, скорее, долговую гору следует рассматривать как следствие периода отсутствия роста.
За столом не согласны с тем, что неважно, стагнация ли обусловила долги или наоборот. Вы там у стойки, дескать, полегче, играйте низкими передачами, а то, путая причину и следствие, рискуете стать посмешищем. Но Япония и впрямь может служить предостерегающим примером того, что недостаточно стабилизировать спрос выше долгов – из этого одного экономическая динамика не возникнет, в чём там могли убедиться за последние двадцать лет.
На этом мы с чистой совестью можем покинуть заведение, эти дебаты продолжаются, как уже говорилось, почти восемьдесят лет, и конец их плохо просматривается – ввиду спёртого воздуха и тусклого освещения. Но мы уходим с тем впечатлением, что рост, который у Милля и многих других чувствительных натур пользуется такой дурной славой, стоит дальнейшего изучения и заслуживает второго шанса, если можно так сказать. Рост и второй шанс – вот темы всей жизни Йозефа Шумпетера.
Шумпетер
В конце XIX – начале XX веков Вена соответствовала клише finde-siècle больше, чем любая другая европейская метрополия, потому что там всё ещё продолжал как-то жить забытый революциями Старый Мир. Император Франц Иосиф сидел на троне с 1848 года, окружённый аристократией, которой – благодаря её богемским владениям – не пришлось ничего менять в стиле жизни. Индустриальная революция считалась чем-то неприличным, и аристократы и интеллектуалы одинаково связывали её с массовым обществом и инженерной наукой. Дамские шляпы по-прежнему оставались большими, а талии осиными, а церковь была глубоко католической. Пусть где-то там, на окраинах империи, в Северной Италии, Богемии и Будапеште возникала индустрия и буржуазия, но в Вене мало кто был настроен воспринимать это всерьёз. Правда, город был стремительно электрифицирован, банкиры, промышленники и адвокаты играли всё более заметную роль, доходы и жизненный уровень существенно выросли даже у широких масс, – но всё же ясно было, кто тут парвеню, а кто нет. Старый порядок, который в Англии, Франции и значительных частях Германии переживал тяжёлые времена, в Австрии сохранялся и – в отличие от России – стал на старости лет дорог и сердцу мил.
Но и совсем уж в порядке этот мир тоже не был. Императрицу убили анархисты, а кронпринц, эрцгерцог Рудольф, покончил жизнь самоубийством при скандальных обстоятельствах. Общество было потрясено. Модернизм в это время не обошёл Вену стороной, только принял другие формы, был элитарным, культивирующим искусство и всё, что касалось души. Зигмунд Фрейд начал заниматься психоанализом, Георг Тракль сочинял экспрессионистские стихи, Карл Краус заново изобретал сатиру, во особняке Витгенштейна желанными гостями были Клара Шуман, Густав Малер, Иоганн Брамс и Рихард Штраус. Людвиг Больцман разрабатывал статистическую механику, а Эрнст Мах философствовал об этом. Густав Климт, Эгон Шиле и Оскар Кокошка писали на грани между модерном и экспрессионизмом. Духовная Вена чувствовала конец Ancien Régime, видела восход индустриальной эпохи, но не помышляла о своём уходе и предпочитала предаваться мировой скорби, тоскуя о смерти, или впадала в декадентство, если набиралась храбрости.
Философом текущего момента был Фридрих Ницше. Он как никто другой умел ругать филистеров и мещан, которые в забрезжившей демократической эпохе видели свой час. Массовое общество в его глазах было самой посредственностью, бескультурной и низменной. Но Ницше был и ответом на свинцовых гегельянцев, которые со своим историческим методом, со своим пустозвонством о тезах, антитезах и якобы синтезах сужали взгляд не только философии, но и почти всем гуманитарным наукам. Исторические школы в духе Гегеля преобладали в общественно-политических науках (правящим нравилась теза, что действительность – разумна), то есть в правовых и политических науках и в экономике. Но те, для кого статус-кво, «здесь и сейчас» не казались ни действительными, ни разумными, ни желанными, могли утешиться ницшеанскими проклятиями истории как бесполезного поводыря для будущего. Кто видел себя – по-гегельянски – продуктом и частью великого, неизменяемого потока истории, тому мало чего оставалось делать и мало на что надеяться: «что ещё нужно сделать исторически образованному человеку <…> только продолжать жить, как он жил раньше, продолжать любить то, что он любил, продолжать ненавидеть то, что он ненавидел до сих пор, и продолжать читать газеты, которые он читал до сих пор; для него существует лишь один грех – жить иначе, чем он жил до сих пор»[64]. Точнее и не ткнёшь пальцем в рану гегелевского понимания истории. Ницше был, как и его эпоха, ярко выраженным элитарием. У него было чувство упадка мира, тон его был маниакальным или депрессивным, и он всегда писал на захватывающем немецком языке. Тем самым он задевал чувства того слоя общества, который был в настроении конца времён и который возникновение массового общества небезосновательно приравнивал к собственному упадку и ошибочно – к закату Запада.
Австрия породила школу экономики, которая включила закат в свою программу. Человеком, который в своей экономической теории отразил настроение венцев как литератор из кофейни и который философию и экономику своего времени раскачал в синхронном колебании, был Йозеф Шумпетер.
У Шумпетера была самая беспокойная жизнь, какую только может вести экономист. Драма началась в 1893 году с его приёмом в дипломатическую гимназию Терезианум в Вене, куда посылали своих детей и родовитые семейства, чтобы они там обучились письму и чтению. Шумпетер, чьё малозаметное происхождение (он был сыном рано умершего текстильного предпринимателя) делало его там аутсайдером, быстро усвоил манеру поведения своего окружения и вскоре стал отличаться от товарищей только своими выдающимися успехами в учёбе. Он учился верховой езде и фехтованию, завязывал полезные знакомства, умел шутить и обладал шармом, вскоре обнаружив своё влияние на женщин. Он перенял вкус и обычаи аристократии, которая застала ещё свои лучшие дни. С того времени его любимой одеждой был костюм для верховой езды – и даже будучи уже профессором, он любил появляться на лекциях в твиде и со стеком.
С 1901 года он изучал экономику на общественно-политическом факультете университета в Вене, где точно так же покорял одну за другой академические высоты. Речь при этом шла об исторической школе в экономике, организованной целиком в духе Гегеля, надо было лишь прилежно собирать цифры и данные, чтобы таким образом выйти на след экономических закономерностей истории. Если путём изучения истории ты однажды усваивал, как функционирует экономика, это позволяло описывать и современность. Историческая школа всегда видела экономические взаимосвязи как часть и результат конкретной – в пространстве и во времени – исторической ситуации. Гегельянцы не искали в экономике вечные законы, облачённые в одеяния математики, поскольку они не верили в homo oeconomicus. Согласно их взглядам, у человека в голове совсем другие вещи, чем преумножение собственной выгоды, и его поэтому не втиснешь в простую модель. Историческая школа видела свою задачу в том, чтобы формулировать осуществимое и возможное решение для конкретных ситуаций.
В Венском университете образовалась целая группа профессоров (Карл Менгер, Ойген фон Бём-Баверк и Фридрих фон Визер), которые смотрели на дело совсем иначе. В стиле и методе они следовали скорее английской традиции. Согласно их взглядам, экономическое исследование состояло не в том, чтобы выискивать мелкие статистические данные и выжимать из них законы, а, наоборот, исходить из теории и описывать мир согласно её ожиданиям. Выискивать в действительности разумное – любимое упражнение всякого гегельянца – казалось Австрийской школе (названной так впоследствии) мрачным отступлением в эпоху Давида Рикардо и Адама Смита. В их глазах положение вещей было таково: есть экономическая теория, которая описывает определённые закономерности, которые не изменишь какой-нибудь хитростью разума. Разделение труда целесообразно, свободные рынки эффективнее бюрократии, и преследование собственной выгоды ведёт к производству товаров, которые люди хотят купить. Из этих вечнодействующих аксиом надо исходить, выстраивать теоретическую базу и описывать действительность, которую не изменишь никакой революцией. Всё прочее не заслуживает того, чтобы именоваться наукой.
Австрийская школа вышла победителем в этой полемике, историческая школа полностью исчезла в следующем поколении. Соответственно, расправили плечи все экономисты, которые в это время учились в Вене, но самая широкая грудь была у Шумпетера.
Его биографы необоснованно любят задерживаться на тех годах, которые сформировали Шумпетера: когда он развил любовь к аристократии, к элите в ницшеанском духе и к идее упадка. В действительности же он почти всю жизнь потратил на то, что разрабатывал свои собственные идеи. Несомненным являлось поначалу лишь его откровенно выраженное честолюбие – стать самым желанным любовником Вены, лучшим наездником Австрии и самым значительным экономистом мира. С сожалением он констатировал позднее, что достиг только двух из этих целей, намекая при этом, что с верховой ездой сложилось не вполне.
Шумпетер блестяще и быстро завершил свою учёбу и отправился путешествовать, как тогда было заведено. В Англии он (в отличие от Германии и Франции перед этим) нашёл ходы в общество, которое считал уместным для себя, и женился, когда ему было всего 24 года, под воздействием шампанского, на Глэдис Рикард-Сиверс, которая была в полтора раза старше его, дочери одного из высокопоставленных лиц англиканской церкви. Брак впервые столкнул его с двумя проблемами, с которыми он так и не справился за всю свою жизнь: супружеская верность и необходимость зарабатывать деньги.
Есть у Шумпетера одна запись, в которой он перечисляет семь вещей, которые в жизни отвлекали его от работы. На седьмом месте стоят «деньги», причём, по всей видимости, имелась в виду их нехватка. На шестом месте «путешествия», выше «политика», на четвёртом месте стоит «наука (и философия)». Всё это – веские причины, которые должны убедить кого угодно. Но по-настоящему интересно и характерно то, что действительно отвлекало Шумпетера: «спорт (и лошади)» на третьем месте, затем «искусство (и архитектура)» и, наконец, бесспорно на первом месте – «женщины».
Багаж, набитый лучшими костюмами из «Сэвил Роу», он потащил вместе со своей женой дальше, в Каир, который тогда был пристанищем авантюристов и спекулянтов, приблизительно как в наши дни Арабские Эмираты. Египет со времен завоевания Наполеоном совершил огромный скачок вперёд. Во-первых, американская гражданская война 1860–1861 годов ввела Египет в игру в качестве экспортёра хлопка (южные штаты надолго выпали из числа поставщиков). Затем строительство Суэцкого канала принесло в страну ещё больше денег, ноу-хау и европейские обычаи. Каир был широко электрифицирован, строились современные дома, биржа переживала бум, и страна чувствовала себя на одном уровне с европейцами. Город был многоязычный, англичане, французы, немцы и османские турки доминировали в общественной жизни, которая ничего не хотела знать о fn de siècle и была ещё вполне оптимистичной. Это в точности отвечало вкусу Йозефа Шумпетера.
Но как раз когда Шумпетеры прибыли в Каир, эта страница истории была перевёрнута. Всё началось в 1906 году с сильного землетрясения в Сан-Франциско, которое привело к большим выплатам по английским страховкам и – через два-три финансовых хода – вызвало крах на биржах мира. Но Шумпетер по счастью сдал в Вене юридический экзамен и теперь мог хорошо зарабатывать в качестве адвоката на обработке заявлений по обычным после краха взаимным обвинениям и требованиям. Кроме того, он работал управляющим состояния дочери вице-короля Египта (доходы по которому он за короткое время удвоил), подолгу просиживал в кофейнях, как будто это было в Вене, однако не упускал из виду и своего честолюбия на поприще любовника и экономиста.
Брак продержался в целости всего лишь несколько недель, зато всё остальное продвигалось очень хорошо: Шумпетер зарабатывал в Каире хорошие деньги и написал свою первую большую работу – «Сущность и основное содержание теоретической национальной экономики», которая была издана в 1908 году. С такой базой он мог паковать чемоданы и возвращаться в Вену, где год спустя был избран на должность приват-доцента.
Но по-настоящему сдружиться с фривольно одетым и скандалёзным коллегой венские профессора не могли. О его научных трудах ходило гораздо меньше разговоров, чем о его историях с женщинами и о его обыкновении каждое утро по целому часу наряжаться. И хотя его учителя сходились во мнении о блеске его трудов, но блестящих людей в Вене перед войной было в избытке и без него. Поэтому свою первую экстраординарную профессуру он получил в Черновцах – если смотреть из Вены, это было где-то на самом краю кайзеровско-королевского мира, в новообразованном университете с числом студентов, может быть, человек в пятьсот, где у Шумпетера опять появилось много времени для его больших целей и маленьких отвлечений. Там он сочинил свою вторую большую книгу – «Теория экономического развития». Между делом победил на дуэли университетского библиотекаря, не сойдясь с ним по вопросу доступа студентов к книгам, да и в целом выказывал желание как можно скорее покинуть это место.
В 1911 году в возрасте 28 лет Шумпетер, наконец, становится настоящим ординарным профессором, хотя и всего лишь в Граце. Студенты и профессора встретили в штыки эту яркую птицу, но времена были ещё кайзерские, и Ойген фон Бём-Баверк воспользовался этим, пошёл к императору Францу-Иосифу, и тот назначил Шумпетера профессором – и баста. Грац был всего в двух с половиной часах езды от Вены на поезде, это было терпимо. Но Глэдис представляла себе Грац чем-то похожим на Черновцы и вернулась назад в Англию. На стиле жизни Шумпетера это никак не сказалось.
Постепенно росла его слава как экономиста. Он работал в США на должности приглашённого профессора, но и в своей стране он уже стал что-то значить. Его заслуга состояла в объяснении того, как возникает рост. Почему уровень жизни очень долго оставался по сути неизменным в период между Рождеством Христовым и Французской революцией? Почему с тех пор он резко вырос? У 90 % населения уходило до 90 % времени на то, чтобы просто выживать – отчего же в Европе XX века вдруг всё стало иначе? В начале XIX века жизненный стандарт самой богатой тогда страны (Нидерланды) был лишь в три с половиной раза выше, чем в беднейших странах. В 1900 году разница была уже почти девятикратной. Что привело к такому внезапному, аномальному и исторически беспрецедентному росту благосостояния?
Для Шумпетера прибыль – вот ключ к пониманию этого феномена. В стационарной экономике, без роста и без внутренней конкурентной борьбы, по Шумпетеру, нет и прибыли. Предприниматель получает не больше, чем была бы его зарплата, будь он наёмным менеджером. Всё остальное тает, потому что зарплаты в стагнации достигают своего максимума и возможное превышение отдачи на капитал предприятия становится недостижимым из-за нехватки новых рынков[65]. Прибыль и экономическая динамика (конкуренция и рост) являются, таким образом, двумя сторонами одной медали: без одной нет другой.
Прибыль с незапамятных времён имела в экономике непрозрачный статус, поскольку никогда не могло быть вполне ясно, почему она возникает именно у того, кто предоставляет капитал. Представим себе лопату, которой обрабатываются поля. Владелец земли получает арендную плату, рабочий получает зарплату, а прибыль остаётся у предпринимателя, который арендует землю и даёт в руки рабочему лопату. Но почему? Разве конструктор лопаты не должен получать и свою долю? А рабочий разве не должен участвовать в прибыли? Разве это не чистая эксплуатация, если вся прибыль остаётся у предпринимателя, который предоставил деньги только на приобретение лопаты, на выплату арендной платы и зарплаты? Что делает его столь важным?
Ко многим существующим ответам на этот вопрос Шумпетер добавляет и собственный. Предприниматель – единственное звено в цепи добавленной стоимости, которое не поддаётся замене. Прибыль – и тем самым рост и благосостояние – возникает через инновации, кредит и дух предпринимательства. Эти три силы воздействуют на экономический прогресс, которого нет без личности предпринимателя.
Предприниматель в универсуме Шумпетера – созидающая стихия, превосходящая тупо бездействующую массу, которая управляется государством, а также превосходящая и чистых эстетов, в обладании которых, может, и есть высокое самосознание и более чистая истина, но которые живут в конечном счёте лишь в поверхностном, кажущемся мире. Так сформулировал бы, пожалуй, Ницше, идеи которого просматриваются у Шумпетера то тут, то там. У того, по крайней мере в «Рождении трагедии», креативные люди – это банда визионеров, воодушевлённых богом Дионисием, полуголых, пляшущих, увенчанных виноградными венками и захмелевших от наркотиков. Дионисийский принцип сам по себе не создаёт красивые формы, он есть необузданное, дикое влечение, которое ищет себе выражение и непременно хочет стать двигателем творческого процесса. Так описывает это Ницше, а у Шумпетера это входит в экономическую теорию – в более мягком пересказе венских философов из кофеен[66].
Конкретно Шумпетер представляет себе возникновение благосостояния так: в начале стоит инновация. «Основной импульс, который приводит капиталистический механизм в движение и поддерживает его на ходу, исходит от новых потребительских благ, новых методов производства и транспортировки товаров, новых рынков и новых форм экономической организации, которые создают капиталистические предприятия»[67]. Эта инновация подхватывается дионисийским предпринимателем (или создаётся им), и то, что перед этим существовало только в головах, теперь воплощается в действительность – прежде всего его крепкими руками. Затем его предприятие производит продукт, который в течение какого-то времени некоторым образом не имеет конкурентов – иначе он не был бы инновацией – и может продаваться с высокой маржой. Так возникают прибыль и другая сторона медали – рост. В отсутствие предприимчивых людей существует в основном только работа по инструкции, никто не открывает новые континенты (Колумб с деньгами испанцев, взятыми в долг), не создаются персональные компьютеры (Билл Гейтс) и айфоны (Стив Джобс). Тысячи бюрократов не могут заменить одного Карла Бенца. У предпринимателя это в крови – создавать что-то новое, ломать традиции и двигать общество вперёд. Он делает экономическое развитие не только возможным, но и непредсказуемым. Никто не может предвидеть, какие инновации прорвутся вперёд в ближайшее время. Это делает предпринимателя подозрительным для массы, но всякая попытка обойтись без предпринимателя заканчивается, как предсказал Шумпетер ещё в 1911 году, тяжёлой стагнацией.
В его представлении среди бизнесменов происходит то же, что в дикой природе – по Дарвину (который в то время был в моде). Кооперация бывает, вообще-то, только внутри семьи, а правило таково: инновативное предприятие вытесняет старших. Если немногим инновативным фирмам повезёт, их продукцию будут покупать, но многие просто исчезнут с рынка, терпя банкротство. Шумпетер называет это созидательным разрушением. «В капиталистической действительности <…> значение имеет <…> конкуренция, основанная на открытии нового товара, новой технологии, нового источника сырья, нового типа организации <…> Эта конкуренция <…> угрожает существующим фирмам не незначительным сокращением прибылей и выпуска, а полным банкротством»[68]. Старое исчезает и заменяется новым, лучшим. Жертвы айфона Стива Джобса – такие фирмы, как Nokia, Motorola и Blackberry, продукция которых вдруг выглядит устаревшей. Но настолько же верно и то, что айфон рано или поздно тоже окажется лишним из-за какой-то новой идеи. Так возникает экономический прогресс.
Но почему развитие было таким стремительным после индустриальной революции, как случился этот мощный подъём производства и повышение жизненного уровня вплоть до начала Первой мировой войны? Первая причина – уже упомянутый предприниматель. С подъёмом буржуазии таланты коммерсантов смогли раскрыться совершенно иначе, нежели прежде. Рынки больше не блокировались гильдиями, и прибыль не изымалась государством произвольно. Подрыв власти церкви тоже означал свежее дуновение, поскольку наука и техника больше не обязаны были останавливаться на уровне Аристотеля. Благодаря этим свободам предприниматель смог внедрять свои инновации и извлекать из них свою прибыль. Другим существенным фактором, который продвигает капиталистическое общество вперёд, является кредит. Предприниматель может тем легче внедрить свои инновации на рынок, чем легче для него доступ к деньгам. С помощью кредитора он может гораздо быстрее и лучше провести необходимую организацию или построить необходимые машины, чтобы сломать старые привычки и таким образом реализовать рост. К кредитам он приходит через банки, которые отвлекают ресурсы от их прежнего применения и направляют в новые продукты.
Без их роли в оценке и определении рисков экономическое развитие продвигалось бы вперёд гораздо медленнее или не продвигалось бы совсем. Пусть после ВФК это звучит не так бравурно, но добрая часть общественной пользы банков состоит в том, что они иногда что-то пробуют, поддерживают финансово новые идеи и молодые предприятия. Но они не должны при этом сразу прогорать. Банк, в котором самое главное – не терять деньги, никогда не станет разговаривать с предпринимателем. Волнующий, азартный, временами переживающий крушение финансовый сектор есть часть цены, которую мы платим за прогресс. Поэтому не следует – при всём понимании правильной меры контроля – портить animal spirit кредиторов и пресекать азарт рискованных сделок. Можно ведь зарегулировать экономическую активность насмерть. Охота к делу и эксперименту имеет свой смысл, равно как и банкротство, равно как и чрезвычайная прибыль.
Тем самым названы все существенные драйверы, которые продвигают вперёд свободную экономику и позволяют возникнуть благосостоянию. Всё прочее следует из этого. За предпринимателем идёт толпа подражателей, которые копируют его инновации и тоже хотят что-то поиметь от роста. Достаточно вспомнить Samsung или китайскую бизнес-модель последних двадцати лет. Но и подражатели тоже нуждаются в кредитах, чтобы как можно быстрее выйти на рынок, и так растут процентные ставки (из-за повышенного спроса на деньги), тогда как одновременно с этим ухудшается качество должников (маржа сокращается с каждым новым конкурентом). Так получаются циклы бума и краха, периодов грюндерства и экономических кризисов. Крушения – оздоровительный холодный душ для экономики, которую они в конечном счёте двигают вперёд. Кредит увеличивает амплитуду подъемов и спадов, поскольку он привязан к таким зыбким критериям, как доверие, репутация и виды на будущее, но пока хорошие времена более чем уравновешивают плохие, прогресс – при всём промежуточном отчаянном заламывании рук – всё-таки сохраняется. Сглаживание циклов и препятствие большим крушениям, как это предвидит Кейнс, препятствуют, по мнению Шумпетера, очищению рынков и рискованным кредитам и тем самым возникновению нового благосостояния и роста.
Из молодых инновационных предприятий – если они переживут свою бурную юность – получатся большие и прочные компании. По стопам предпринимателей идут менеджеры, которые управляют успехом и должны тормозить снижение. Большие предприятия способны самофинансироваться и больше не нуждаются в банках. Если им это удаётся, то возникает монополия или олигополия (например, Visa, Mastercard и American Express), из которой можно долгосрочно извлекать высокие проценты, не опасаясь конкурентов. Такими бизнесами затем могут управлять и бюрократы – пока дело не дойдёт до перелома на рынках и пока инновации не учинят со старыми большими предприятиями то же, что сделало с динозаврами падение метеорита.
Условием благосостояния является его ненадёжность. Только в мире, где старые предприятия и старое благосостояние могут погибнуть, где нувориши могут снять со старой элиты последнюю рубашку, вообще может существовать благосостояние. Только в мире экономической динамики и перманентного перераспределения может существовать прибыль. Где всё гарантировано, предписано и закреплено, где всякую новую идею надо записать на бланк и отправить на рассмотрение по инстанциям, чтобы она тихо скончалась в каком-нибудь пыльном кабинете, где менеджеры озабочены собственной позицией в иерархии, там нечего распределять – или, точнее, всё, что подлежит распределению, нужно сперва у кого-нибудь отнять (за отсутствием роста).
Шумпетер всегда – Ницше там, или не Ницше – имел некоторую слабость к Марксу. Марксизм был тогда его входным билетом в политику, в которую он вмешивался начиная с 1916 года, ибо его честолюбие было ещё далеко не утолено. Он сделал себе имя на мирных инициативах и на резком выступлении против аншлюса Австрии к Германской империи. Когда после окончания войны и крушения монархии его студенческий друг Отто Бауэр, представитель левого крыла социал-демократической партии и основатель австромарксизма, стал министром иностранных дел, в марте 1919 года Шумпетер попал по его рекомендации в правительство в качестве министра финансов.
То была должность, на которую, пожалуй, никто не претендовал, ибо страна стояла не только на грани исчезновения, но была голодной, холодной и банкротом. По тогдашнему ощущению наступили последние дни человечества. Австро-венгерская империя распадалась на свои национальные части. Всё, что оставалось от государства, спасению не подлежало из-за долгов по военным займам и по репарационным требованиям победителей. Армия численностью в восемь миллионов человек понесла потери убитыми и ранеными три миллиона и пленными – 1,7 миллиона. Улицы Вены были наводнены истощёнными репатриантами, ампутированными калеками и бездомными. Снабжался город недостаточно. Союзники держали блокаду до подписания мирного договора, а сельское население предпочитало накапливать продовольствие, а не поставлять его в столицу по предписанным твёрдым ценам. В городских парках валили деревья, потому что угля больше не было. Осень 1918 года добавила к нищете и голоду ещё испанский грипп.
Шумпетер вошёл в кабинет министров не только из-за своего хорошего отношения к левым социалистам, но и потому, что ещё до окончания войны он сочинил своего рода манифест под заголовком «Границы налогового государства». В этой работе он разбирает, что может сделать государство, финансы которого полностью разрушены. Нормальным сбором налогов его не санировать, ибо налоги должны быть так высоки, что они либо задушат экономическую жизнь, либо приведут к стратегии уклонения. Высота дохода от налогов имеет естественную границу, сколько бы мытарей государство ни посылало. Поэтому предложением Шумпетера было – разом санировать государство единовременным налогом на имущество. Это разорит многих фабрикантов и землевладельцев, которым придётся разрушить свои владения, чтобы осилить налог. Но Шумпетер всегда умел найти в разорении некий шарм. Поскольку потом вырастает нечто новое, не в последнюю очередь благодаря иностранным деньгам, которые неизбежно потекут в государство с санированными финансами и открытой экономикой. Благодаря свежим деньгам можно ожидать неплохих цен на имущество, подлежащее продаже, и вынужденные продажи совсем не обязательно должны будут заканчиваться слезами.
Эти взгляды сделали Шумпетера симпатичным для социалистов, равно как его суждения о Марксе. Для своей собственной модели Шумпетер позаимствовал у Маркса объяснение внутренней динамики капитализма – снова и снова разрушать имеющееся и создавать новое. Классика объясняла рост интенсификацией торговли и разделением труда или внешними влияниями – такими как технический прогресс. В своей любви к мере и равновесию она, однако, не охватывала дионисийский двигатель экономического развития. Описание чудовищной тяги к изменению, которая присуща капитализму, удивляло Шумпетера у Маркса и сблизила его после войны с социалистически настроенными друзьями юности, которые намеревались делать карьеру в молодой республике.
С другой стороны, австрийских марксистов что-то раздражало в Шумпетере, поскольку он при всей нищете вёл жизнь, стиль которой даже не намекал на сочувствие и единение с рабочим классом. В то время как его коллеги по кабинету министров приходили на заседания в изношенных до дыр костюмах и рваных башмаках, Шумпетер уделял своим туалетам – как прежде, так и теперь – безграничное внимание. Костюмы он как всегда приобретал в «Сэвил Роу» в Лондоне, его платочки в нагрудном кармашке пиджака продолжали ослеплять своей белизной. Он снимал в Вене номер люкс в отеле «Астория», квартиру в Штрудльхофгассе и половину графского дворца. Так много места ему требовалось для того, чтобы координировать свои разные виды деятельности, но также и для того, чтобы давать роскошные обеды для аристократов и богачей. Он со всей очевидностью одалживался у них, поскольку министерский оклад приносил не так много.
Консерваторы, как и социалисты, с недоверием относились к его интернационализму и его недостаточной боязни соприкосновения с богатыми семействами еврейского происхождения – такими как Ротшильды и Витгенштейны. Чтобы привлечь иностранные деньги в бедствующую Австрию, Шумпетер согласился на продажу части лесной и горнодобывающей промышленности итальянской группе Fiat, что вызвало бурю негодования, поскольку это рассматривалось как распродажа активов международному крупному капиталу и как предательство национальных интересов. Пресса окружила Шумпетера, который представлял собой лакомую находку для неё. Его поносили со всех сторон, и ни в одной из партий у него не было личной власти. Так он очень скоро стал изгоем, и в ноябре 1919 года, пробыв в правительстве чуть больше полугода, лишился своей должности министра финансов.
Теперь у Шумпетера опять появилось много свободного времени, чтобы задуматься о финансировании своего стиля жизни. На прощанье он попросил у парламента вместо пенсии выдать ему банковскую лицензию. Руководствовался он при этом следующими соображениями: государство всё в долгах и не может выполнять свои обязательства только за счёт сбора налогов. Сбор с имущества в том виде, в каком он его предлагал, тоже не стоял на повестке дня, пока страна управлялась правительством национального единства, то есть находилась под влиянием консерваторов. Иметь в стране иностранный капитал тоже не хотели. Единственная оставшаяся возможность ослабить бремя долгов состояла в экспроприации кредиторов посредством инфляции.
В ходе инфляции хорошо тому, кто взял деньги в кредит и купил на них реальные ценности – такие, как акции, сырьё или недвижимость. С собственным банком Шумпетер мог легко выйти на скрытые деньги (например, на сбережения клиентов банка) и инвестировать их во что-то солидное. Это действие давало сказочно хорошие доходы, и даже когда инфляция (временами свыше 1000 %), пусть и совершавшаяся в итоге под контролем, галопировала, акции продолжали расти. Шумпетер вскоре снова оказался наверху, мог позволить себе свежих лошадей, новые знакомства и старый стиль жизни. Собственная репутация его не интересовала. Когда деловые партнёры просили его быть скромнее, он демонстративно разъезжал в открытой карете по нищей Вене с блондинкой на одном колене, с брюнеткой на другом и явно наслаждался прогулкой. Он был теперь инвестиционным банкиром.
Но долго такое вряд ли могло продолжаться, поскольку обычно те, кто хватался за быстрые деньги, через быстрые же деньги и разорялись. Так же случилось и с Шумпетером, который хотел бы, чтоб это продолжалось вечно. При крахе 1924 года он потерял не только собственные, но и заёмные деньги. Так же быстро, как тогда исчезали состояния, исчезали и друзья. Он был окончательно выгнан из банка и едва ли имел какие-то перспективы расплатиться по долгам. Судьба, которую он провоцировал своим высокомерием и честолюбием, вдруг захотела заглянуть в его карты. Но у него теперь было, как-никак, и практическое представление о собственной концепции созидательного разрушения экономического существования.
Последний отрезок жизни Шумпетер провёл в США. Он покинул Европу и отправился в Гарвард, где он достаточно хорошо зарабатывал, чтобы выплачивать свои долги, и был достаточно далеко от родины, которая не принесла ему счастья. В Америке он малодушно культивировал мрачные мысли о конце цивилизации, о которой он всегда подозревал, что дело с ней добром не кончится.
1940-е годы были вообще плохими и отмеченными ожиданием конца времён. Тоталитарные режимы намеревались поделить мир между собой, и казалось, у них это получится. Их системы выглядели так, будто они могли организовать государство посредством могучего военного аппарата и аппарата управления лучше, чем хаотичные и постоянно спорящие демократии, управляющий персонал которых избирался без технической экспертизы и лишь на основе их обещаний – всегда неисполнимых. Большинство интеллектуалов Запада были глубоко шокированы, и им потребовалось время – иногда до 1989 года, – чтобы очнуться от догматической дремоты.
Большое влияние в это время имела, например, вышедшая в 1941 году книга с заглавием «Революция управляющих» Джеймса Бернхема, убеждённого троцкиста, в которой было нарисовано будущее, где правительства не были ни социалистическими, ни капиталистическими, а представляли собой фашистский коллектив, управляемый технократами. Экономика, по Бернхему, была уже в руках менеджеров, финансистов, акционеров и анонимной бюрократии. «Новый курс» Рузвельта он считал «подготовкой США к относительно мягкому переходу к фашизму». На этом пути он видел ряд стран, причём Советский Союз, Германия и Италия явно опережали других. Тоталитаризм был самой естественной формой правления для общества, управляемого менеджерами. Бернхем предсказывал, что в итоге США, Япония и Германия поделят мир между собой, будучи авторитарными правлениями. Тогда это звучало так убедительно, что Джордж Оруэлл это разделение мира на три блока, ведущих непрерывные войны, перенёс в свой классический роман «1984», в котором можно найти практические советы, на что надо настраиваться в повседневной жизни.
То же глухое настроение и то же безрадостное существование описывает Йозеф Шумпетер в своей последней опубликованной при жизни книге «Капитализм, социализм и демократия» (1942). Там тоже решающий вопрос стоит так: «Может ли капитализм выжить? Нет, на мой взгляд, нет». Капитализм погибнет вместе с классом предпринимателей. В мире, всё более автоматизированном и бюрократизированном, тип предпринимателя становится всё менее востребованным, его пробивная сила и его видение не так уж много значат в больших организациях, которые всё чаще доминируют в экономике. Его «индивидуальное лидерство, которое стремилось к успеху на основе личной силы и личной ответственности», утратило свою социальную пользу. Современная организационная форма акционерного общества больше не находит места для собственников или предпринимателей, она управляется анонимным менеджментом с менталитетом саранчи, который первым делом печётся о собственной пользе и только потом о фирме (вспомним о таком же обвинении со стороны Адама Смита). Крупные концерны в силу своего господства над рынком могут позаботиться о том, чтобы не было молодой поросли предпринимателей. Монополисты таким образом парализуют процесс созидательного разрушения и тем самым экономическое развитие. Это происходит с благословения государства, которое довольно тем, что экономика организована в крупные, легко контролируемые единицы. Пространства свободы становится всё меньше из-за сокращения свободы предпринимательства и роста централизованных органов. Бюрократии сосредоточивают в своих руках власть, структурируют процесс, контролируют, управляют и не проявляют понимания ни в чем. Свободы всегда вызывают у них подозрение.
Рыночная система сама роет себе могилу. Она больна той же болезнью, что и Просвещение в целом, она ведь его дитя. Она не выдвигает людей, которые станут проламывать стены за Бога, короля, отечество или свободу. Тому homo oeconomicus, в которого динамика системы превращает каждого из нас, в конечном счёте важно лишь, чтобы сходилась касса. С такими людьми можно зарабатывать деньги, и общество хорошо с ними пожило. Но если капитализм пронизывает всё общество, а власть имеют только пустые бюрократы и торговцы или, что ещё хуже, далёкие от мира интеллектуалы, то и идеалы пропадают, и соки из общества уходят. Тогда господствуют бюрократы, и буржуазный мир рушится. Если Шумпетер правильно прогнозирует динамику капитализма, то двигатель благосостояния заглохнет сам по себе.
Он позволяет заразить себя логикой конца времён и не присоединяется к воинствующему идеализму неолибералов. Тон его работ становится разочарованным и холодным. Когда-то он выступал с объяснением, каким образом буржуазная эпоха могла создать такой аномальный материальный прогресс. А заканчивает он прогнозом, что это благосостояние не будет устойчивым и исчезнет вместе с предпринимателями и крупной буржуазией в однообразном безотрадном мире.
Конец рыночной системы является также и концом благосостояния. Оно в теории Шумпетера – результат креативности и выгоды предпринимателей. Как только в экономике возьмут верх руководимые менеджерами монополисты, ничего нового больше не возникнет, созидательное разрушение придёт к концу и мир впадёт в стационарное состояние, в котором в лучшем случае будет перераспределяться то, что есть, а новое благосостояние больше не возникнет. Люди свыкнутся с этим, потому что это содержится в логике вещей, и свободолюбивый дух буржуазной эпохи выветрится.
Но это так и не наступило. Социализм, менеджеры и бюрократы захватили господство разве что частично. Шумпетеру не стоило пророчествовать о дальнейшем ходе мировой истории – как и всем экономистам и философам со времён Гегеля. То, чего боялись, не случилось, потому что система созидательного разрушения оказалась в итоге более прочной.
Стагнирующая экономика (называемая также стационарной) под контролем привилегированной центральной бюрократии кажется стабильной лишь со стороны, внутри же состоит сплошь из фрустрированных существ, которым нечего ждать и нечего распределять. По этой причине современные тоталитарные режимы отдаляются от ключевых пультов власти и дают предпринимателям пространство свободы, которое те используют, чтобы создать благосостояние, которое стабилизирует общество.
И благосостояние тоже не растворилось в воздухе, наоборот, с каждым поколением оно поднималось на ещё более интересный уровень, не только в Северной Америке и Европе, но и всюду, где есть рыночное хозяйство, заслуживающее этого названия.
Конец благосостояния так и не наступил, но вопрос, в чём оно состоит, остался.
Под покрывалом
Вольтеровское объединение экономики с политикой, которое выражается в революционном предложении организовать устройство государства по коммерческим критериям – заслугам и эффективности, – представляет собой выдающееся достижение, кто бы стал с этим спорить? Наши материальные проблемы либо разрешены, либо мнимы. Страны, в которых Просвещению было предоставлено идти своим ходом, сегодня не знают материальных забот, которые считались таковыми сто лет назад. Капиталистическая машина производит то, что люди хотят иметь, и в потребных количествах. При всей несправедливости, какая, несомненно, существует и которая болезненна для неудачников системы, государство всеобщего благоденствия всё-таки заботится об утешительном призе. При всём подъёме эффективности параллельно вяжется плотная сеть страховки, из ячеек которой никто не должен выпасть. Наблюдателю 1848 года было бы трудно сориентироваться в нашем времени. Либертарианцы и анархисты сегодня уже не левые, а правые; эксплуатация исчезла из благополучной части Европы или, во всяком случае, не сравнима с тем, что имели перед глазами Золя и Диккенс. Уровень жизни (составленный из пропитания, медицинского обслуживания, жилья, возможностей образования, свободного времени, вероятной продолжительности жизни) беднейших десяти процентов населения сегодня в странах с рыночной экономикой гораздо выше, чем условия среднестатистического домашнего бюджета 150 лет назад. Мы давно достигли того, что тогда понималось под благосостоянием.
И тем не менее мы не пришли туда, где изначально хотел бы нас видеть Вольтер. Мы всё ещё работаем так, как будто должны решить настоящую экономическую проблему, и лишь немногие из нас могли бы назвать себя состоятельными людьми. Благосостояние было задумано как цель нашего стремления, как состояние покоя и довольства. Оно должно было стать заменой потустороннего рая, в который верило всё меньше людей. Рай был местом, под которым каждой религии было что представить. Детали во всех культурах обладали некой сенсационностью, но разве могло быть иначе, если фантазии было предоставлено столько простора? Большое преимущество рая состоит в том, что он – не небеса, где всё обустроено очень строго и устрашающе, скучно, а лишь предварительная ступень, где разрешено всё, что нравится. Так, древние египтяне представляли себе рай как идеальное место для охоты и рыбалки, древние греки – как место хороших разговоров, а в исламе рай – воплощение всего того, чего только можно пожелать себе на земле, даже если земные желания всегда лишены полёта воображения.
Поэтому не удивительно, что экономика держится немного скрытно в вопросе, в чём состоит благосостояние. Самое меньшее, что входит в состав хорошей жизни, имеет, по зрелом размышлении, материальную природу, и экономика может что-то сказать лишь о самых незначительных условиях рая. Может быть, мы избалованы яркими живописаниями религий, но как бы то ни было, обладание большими домами, машинами или часами не является заменой вечного гармоничного существования. Друзья, здоровье, личная сфера и целая связка сходных, не подлежащих продаже вещей тоже принадлежат к удавшейся жизни. Это не оригинальный взгляд, но его явно трудно прочувствовать. С другой стороны, стремление к бо́льшим машинам, домам, часам, кошелькам и солнечным очкам постепенно клонится к концу. Но люди не перестают завистливо сравнивать свой жребий с соседским, и кто не может в этом остановиться, тот не может быть счастлив ни одного мгновения. Если благосостояние состоит в том, чтобы иметь больше, чем другие, тогда массе людей не остаётся ничего другого, кроме как работать – в тщетной надежде когда-нибудь выбраться наверх.
Но недовольство фактически достигнутым благосостоянием зависит не только от того, что в сравнении с раем оно несколько блекнет. Кто действительно решил свои материальные проблемы, тот всегда стоит перед вопросом: и что теперь? Кто разбогател, тот может покупать себе бессмысленные вещи, заниматься демонстративным потреблением, привлекать к себе внимание, собирать трофеи и гордо вертеться вокруг своей оси; кто достиг лишь благосостояния, может позволить себе свободное время, круизы и разведение роз, но всё это не избавляет от вопроса, что, собственно, следует дальше, после достижения благосостояния. Вряд ли тот, кто его добился, или нашёл, или унаследовал, доволен им в том смысле, что мог бы сказать: этого мне достаточно для жизни, это именно то, чего я хотел, теперь я добился своего, пусть всё так и останется. Конечно, некоторое время он будет наслаждаться теми вещами, которые всегда хотел иметь. Но потом, как обычно, возникает вопрос о смысле. Для чего это всё? Поэтому благосостоятельные люди стараются – зачастую очень усердно – придать своим деньгам смысл: путём пожертвований, благодеяний, социальной активности, благотворительности. Американские миллиардеры особенно охотно отдают большую часть своих денег, тем более что они опасаются дурного влияния денег на своих детей. Те немногие, кто ведёт жизнь на площадке для гольфа, для кого благосостояние превратилось в содержание жизни, превращаются в весьма трагические фигуры, постепенно утрачивая в своём характере живые черты. Они становятся жертвами основополагающего свойства благосостояния: за ним ничего нет. Оно никуда не ведёт дальше себя. Оно не имеет в себе никакого смысла.
Что же является смыслом благосостояния и, тем самым, экономики? Может быть, с достижением благосостояния дело обстоит также, как с постижением истины и знания, о чём много думали в период около 1800 года и не только в «Фаусте» Гёте. Фридрих Шиллер описывает в своей балладе «Саисское изваяние под покровом», как молодой человек в поиске истины случайно попадает в египетский Саис. Он проделал утомительное и долгое путешествие, ибо сбор знаний по крупице – изнурительное дело, которое поневоле ведёт через все страны и там легко теряется в деталях. Верховный жрец в храме Саиса ведёт юношу к ротонде, в которой стоит высокая статуя богини Изиды, скрытая под покрывалом. «Учителя спросил он: “Что таится // Здесь под покровом этим?” И в ответ // Услышал: “Это – истина”»[69]. У юноши свалился камень с сердца, ведь странствиям его пришёл конец. Он уже протянул было руку к покрывалу богини, но тут верховный жрец доносит до него предсказание оракула, которое запрещает касаться покрывала. «“…Ни один из смертных, // Так боги молвят, да не смеет тронуть // Священной ткани дерзостной рукой, // Пока её мы сами не поднимем. // А если человек сорвет её, // Тогда…” – “Тогда?..” – “Тогда он истину узрит”». Юноша находит это высказывание глупым, ведь оно грозит именно тем, к чему он, собственно, стремится. Оно грозит наградой. «Я не в силах // Тебя понять. Ведь если отделяет // От истины лишь тонка завеса…», – бормочет юноша и идёт спать.
Но увиденное не даёт ему покоя, он ворочается с боку на бок на своём ложе, пока, наконец, не встаёт в полночь и не крадётся в святая святых Изиды. Луна заливает всё своим бледным, серебристо-голубым светом, атмосфера решительно зловещая, юношу снова терзают угрызения совести, но соблазн слишком велик. Он берётся за покрывало, восклицает: «Нет, будь что будет, я его сорву!» – и видит – наконец – истину. Хотя он не мог рассчитывать ни на что другое, кроме истины, её вид поражает его. «Только полумертвым, бледным // Он утром найден был у ног Изиды. // О том, что видел он и что узнал, // Он не поведал никому. Навеки // Он разучился радоваться жизни; // Терзаемый какой-то тайной мукой, // Сошел он вскоре в раннюю могилу <…> “Горе тем, // кто к истине познает путь вины! // Она не даст отрады человеку”».
Среди учеников и почитателей Шиллера разгорелась оживлённая дискуссия о том, что же такое, спаси Господь, тот юноша узрел под покрывалом. Ничем приятным это быть не могло. И почему он был вынужден держать ту истину в тайне, разве не мог он – во имя просвещения – хотя бы намекнуть своим ближним?
Новалис, который одним из первых совершил переход от классики к романтике, воспринимал эту балладу как вызов и чувствовал потребность написать ответный текст «Ученики в Саисе», в котором не хотел оставить недосказанным то, что скрывалось за покрывалом. Эта история несколько подробнее, ведь Новалис видит необходимость изложить здесь всю свою романтическую натурфилософию. Герой – юноша Гиацинт, к которому приходит некий странник, обликом похожий на рождественского Санта-Клауса: «Пришел человек из чужой стороны, он удивительно много путешествовал, у него была длинная борода, глубокие глаза, страшные брови, на нём было диковинное платье, которое спадало многими складками и в которое были вотканы странные узоры»[70]. С этим человеком Гиацинт ведёт беседы, так что за ними совершенно забывает про свою «сердечную» подругу Розочку.
Когда старик снова исчезает, он оставляет книжечку, «которую ни один человек не мог прочесть». Это побуждает Гиацинта идти по белу свету и искать истину, которую он предполагает найти на том месте, «где живёт мать всех вещей, дева под покрывалом». Без долгих блужданий он попадает в Саис, где, возбуждённый «бесконечным томлением» и «сладчайшим трепетом», тотчас засыпает. Во сне он видит статую и без лишних вопросов приоткрывает «лёгкий блестящий покров». И что же он видит, что же было целью его стремления и его тоски? Он видит Розочку, не больше и не меньше. Истину и познание постигаешь только через сердце, таков романтический посыл этой встречи. В раннем наброске сказки у Гиацинта было другое видение: «Он поднял покрывало богини из Саиса – и что же он увидел? Он увидел чудо из чудес – себя самого». Это можно было бы истолковать так, что истина заключается в самопознании.
С благосостоянием, тайна которого и внутреннее действие экономики сделались отдельной темой, дело обстоит ничуть не иначе. Пока покров остаётся неприкосновенным, всё хорошо, мы можем работать дальше и нам незачем раздумывать о том, где тот земной рай и каков он. Тогда потребности, усердие и созидание в этом мире кажутся нам осмысленными и конечными, и мы не идём на риск, чтобы рассеять иллюзию, которая оставит нас простёртыми у подножия статуи. Заглянув под покрывало, мы познали бы слишком беглую природу благосостояния, это парализовало бы animal spirit и движение к полноте, красоте, цивилизации и ко всему остальному, о чём мечтал Вольтер. Пожалуй, будет лучше, если мы не тронем покрывало, чтобы все серьёзные усилия теоретической и практической экономики могли идти дальше – как в трактире, так и на поле научной чести, как будто мы близки к тому, чтобы потрогать благосостояние руками и как будто оно есть нечто большее, чем пустое место, выдумка. Тогда благосостояние – руководящая идея, которая организует желание, ви́дение и мнения людей в единую большую взаимосвязь, не выступая при этом на свет Божий и не становясь осязаемой. Оно – фантазия, неопределённое поле неуловимых представлений, которые, однако, всегда направлены на нас самих, или на нашу любовь, что одинаково хорошо. Оно не исчерпывается полнотой вещей, которая нас сделает счастливыми разве что на время, ибо в вещах нет конца и нет цели.
Ссылки на источники
В эту книгу вошло много текстов, из которых здесь назовём лишь важнейшие, если они не были упомянуты в тексте.
Общих введений в историю идей большой экономики здесь много, выделить можно «Философы от мира сего» Роберта Хейльбронера, «Путь к великой цели» Сильвии Назар, а также «Экономика добра и зла» Томаша Седлачека. Используемый здесь стандартный учебник по макроэкономике – Григория Манкива.
Письма из Англии Вольтера изданы по-немецки Рудольфом Биттером. Для биографических справок источником часто служило – наряду с «Жизнью Вольтера» Жана Орье и «Вольтером» А. Дж. Айера – описание Литтона Стрейчи «Вольтер и Англия» (в его сборнике эссе «Books and Characters, French & English», London, 1922). Эрик Бейнхокер объясняет в «Происхождение благосостояния: Эволюция, теория сложных систем и радикальный пересмотр экономики» современный взгляд на благосостояние, который на удивление близок взгляду Вольтера.
Механизмы того, как возникают привилегии и как они вызывают окостенение общества, описал Мансур Олсон в «Возвышение и упадок наций».
Примеры для детской комнаты экономики взяты в «Why Nations Fail» Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона.
Для китайской модели роста мы ссылаемся на «The Next Asia» Стивена Роуча, «Китай, который потряс мир» Джеймса Кинджа, «Партия» Ричарда Макгрегора, на блог Майкла Петти, а также на многочисленные публикации размещённого в Сингапуре исследовательского центра «ГейвКэл». Сравнения с европейским развитием находятся в «The European Economy since 1945» Барри Эйхенгрина.
О Руссо лучшую справку даёт он сам, в своей «Исповеди». О ранних социалистах хороший обзор содержится в биографии Маркса авторства Исайи Берлина.
О распределении и справедливости самое существенное написал Амартия Сен, в качестве части вместо целого рекомендуется: «The Idea of Justice» (дискуссия с Джоном Ролсом: «A Theory of Justice»), «Развитие как свобода», а также «Об этике и экономике». Границы налогового государства Йозефа Шумпетера описывают историю, смысл и практику государственного привлечения денежных средств.
Про Бакунина есть две хорошие биографии, которые, к счастью, оснащены многими оригинальными цитатами Рикарды Хух и Юстуса Франца Витткопа. Для тех, кого не испугает оригинал: самый читаемый текст Бакунина выходил по-немецки под заголовком «Бог и государство». Милль написал автобиографию. Из его «Принципы политической экономии и некоторые ее приложения к социальной философии» мы использовали восьмое издание, вышедшее в Лондоне в 1878 году.
К политической истории Европы в XIX веке мы постоянно получали вдохновение от «Истории Германии XIX и XX веков» Голо Манна и от «Руин Каша» Роберто Калассо.
Экономические, социальные и политические перевороты в первой половине XX века описывает Карл Поланьи в «Великой трансформации». Важнейшие экономические тексты в промежутке между Миллем и Кейнсом – всё ещё заслуживающие прочтения из-за их морального тона «Принципов экономической науки» Альфреда Маршалла. Барри Эйхенгрин рассказывает о борьбе за стабильную валюту и золотой стандарт в «Globalizing Capital». Джон Кеннет Гэлбрейт описывает в «Великий крах 1929» предысторию мирового кризиса. Роберт Скидельски создал биографический золотой стандарт своим «Джон Мейнард Кейнс. Экономист. Философ. Государственный деятель». Современных кейнсианцев сегодня опять много, из них можно выделить Джорджа А. Акерлофа и Роберта Дж. Шиллера («Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой») и, в качестве классики права собственности, Хайман Мински: «Stabilizing an Unstable Economy».
Историю неолиберализма пишет Даниель Стедман Джонс в «Masters of the Universe. Hayek, Friedman, and the Birth of Neoliberal Politics». Наряду с романами Айн Рэнд здесь важнейшие тексты: Карл Поппер: «Нищета историцизма» и «Открытое общество и его враги»; Ф. А. Хайек: «Дорога к рабству»; Милтон Фридман: «Капитализм и свобода». И для всех, кто любит анекдоты: Алан Гринспен: «Эпоха потрясений». Наследники Бакунина среди левых высказывают свои идеи в книге Джанет Бирн (составитель): «The Occupy Handbook». Интеллигентную противоположную позицию занимает Грэгори Мэнкью в своём сочинении «Defending the One Percent».
Великий финансовый кризис 2008 и 2009 годов аналитически обработан в книге Рагурама Раджана: «Линии разлома», а анекдотически лучше всего описан в книге Грейдона Картера (составитель): «The Great Hangover, 21 Tales of The New Recession».
Сегодняшнее состояние экономики описывает Алан Блиндер в «After the Music Stopped. The Financial Crisis, The Response, and the Work Ahead».
* * *
Георг фон Вальвиц родился в 1968 году в Мюнхене, изучал математику и философию в Англии и Германии, был стипендиатом Учебного народного фонда Германии и после защиты диссертации отправился в качестве приглашённого преподавателя в Принстон. С 1998 года он работает в Управлении фондового рынка, сперва в DWS во Франкфурте, а с 2004 года в качестве совладельца компании по управлению имуществом в Мюнхене. Он регулярно пишет «Биржевой бюллетень для образованных». В 2011 году в издательстве «Беренберг» вышла его книга «Одиссей и горностаи. Весёлое введение в финансовые рынки».
Примечания
1
Пер. с латинского М. Дмитриева.
(обратно)2
«В доме Отца Моего обителей много», Евангелие от Иоанна 14:2.
(обратно)3
Цит. по: Вольтер. Философские сочинения. М.: Наука, 1988. С. 85.
(обратно)4
Там же. С. 89.
(обратно)5
Вольтер. Указ. соч. С. 89.
(обратно)6
Там же. С. 99–100.
(обратно)7
Там же. С. 100–101.
(обратно)8
Это мирское время сделано как раз по мерке моих обычаев. / Я люблю роскошь и даже расслабленность, / Все радости, искусство любого рода, / Собственность, вкус, убранство: / Всякий приличный человек испытывает то же самое.
(обратно)9
Пер. с латинского С. Шервинского.
(обратно)10
Дон Пьетро Руссо, управляющий князя. (Прим. ред.)
(обратно)11
Цит. по: Лампедуза Томази Дж. ди. Леопард / пер. с ит. Г. С. Брейтбурда. М.: Издательство иностранной литературы, 1961.
(обратно)12
Там же.
(обратно)13
Пер. с немецкого В. Курелла и В. Станевич.
(обратно)14
Кто не работает, тот не ест (англ.).
(обратно)15
Цит. по: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1962. Книга 1, глава II.
(обратно)16
Высокий вкус (фр.).
(обратно)17
Смит А. Указ. соч. Книга 4, глава II.
(обратно)18
Смит А. Указ. соч. Книга 1, глава XI.
(обратно)19
Если вы платите гроши, получите обезьян (англ.). В русском варианте: Вы делаете вид, что платите, мы делаем вид, что работаем. (Прим. пер.)
(обратно)20
Смит А. Указ. соч. Книга 4, глава II.
(обратно)21
Нация лавочников (англ.).
(обратно)22
Пер. с французского А. Дмитриевского.
(обратно)23
Цит. по: Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М.: Прогресс-Литера, 1994. С. 510.
(обратно)24
Цит. по: Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. Т. 3. М.: ГИХЛ, 1961.
(обратно)25
Цит. по: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М.: Канон-Пресс, 1998. С. 114.
(обратно)26
Там же. С. 115.
(обратно)27
Там же. С. 118.
(обратно)28
Руссо Ж.-Ж. Указ. соч. С. 119.
(обратно)29
Цит. по: Прудон П.-Ж. Анархия по Прудону. Киев: Слово, 1907.
(обратно)30
Пер. с греческого Г. А. Стратановского.
(обратно)31
Международный валютный фонд опубликовал в 2011 году подробное исследование на эту тему (A. Berg, J. Ostry: Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?), из которого общие высказывания вроде вышеприведенного извлекаются с определенным герменевтическим честолюбием. Согласно указанному исследованию развивающиеся страны в ранней фазе своей гонки навёрстывания нуждаются в неравенстве – социальной несправедливости, – чтобы быстрее создать базис для сбалансированного роста. Бедное общество, которое высоко ценит равенство, так и остаётся, как правило, тем, что оно есть: бедным обществом с хорошими намерениями. (Прим. автора.)
(обратно)32
Герцен А. И. Былое и думы. Часть 4 // Герцен А. И. Собрание сочинений. Т. 9. М.: Академия наук СССР, 1956.
(обратно)33
Цит. по: Гонкур де Э. и Ж. Дневник. Записки о литературной жизни. Избранные страницы. М.: Худ. лит., 1964. Запись от 8 февраля 1861.
(обратно)34
Цит. по: Бакунин М. А. Собрание сочинений. Т. III. М., 1934. C. 148.
(обратно)35
Цит. по: Бакунин М. А. Избранные философские сочинения и письма. М., 1987.
(обратно)36
Цит. по: Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993. С. 80.
(обратно)37
Цит. по: Бакунин М. А. Мои личные отношения с Марксом // Материалы для биографии М. Бакунина / под ред. Вяч. Полонского. Т. 3. М.–Л., 1928.
(обратно)38
Письмо из Брюсселя П. В. Анненкову от 28 декабря 1847 г. Цит. по: П. В. Анненков и его друзья: Литературные воспоминания и переписка 1835–1885 годов. СПб., 1892. Т. 1. С. 621.
(обратно)39
Цит. по: Материалы для биографии М. Бакунина Т. 3. / под ред. Вяч. Полонского. М.–Л.: Госиздат, 1928. С. 367.
(обратно)40
Цит. по: Бакунин М. А. Государственность и анархия // Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. М.: Правда, 1989.
(обратно)41
Марк Коссидьер, префект полиции во временном правительстве Франции 1848 г. (Прим. ред.)
(обратно)42
Цит. по: Герцен А. И. Былое и думы. Часть седьмая // Герцен А. И. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 11. М.: Академия наук СССР, 1957.
(обратно)43
Цит. по: Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем: в 4 т. Т. III. M., 1935. С. 366.
(обратно)44
Цит. по: Вагнер Р. Воспоминания. Т. II. СПб., 1911. С. 180.
(обратно)45
Вагнер Р. Указ. соч. С. 180.
(обратно)46
«Гибель богов» – опера Рихарда Вагнера, написанная позже в Цюрихе. (Прим. ред.)
(обратно)47
Письмо соратнику по «Альянсу» Сентиньону. Цит. по: Стеклов М. Ю. Михаил Александрович Бакунин, его жизнь и деятельность: в 4 т. Т. IV. М.: Изд-во Ком. Академии, 1927. С. 58.
(обратно)48
Цит. по: Гильом Дж. Интернационал. Пг.–М., 1922. Т. III. С. 186–187.
(обратно)49
Цит. по: Милль Дж. Ст. Основание политической экономии. Киев: Типография И. И. Чоколова, 1896. С. 658.
(обратно)50
Милль Дж. Ст. Указ. соч. С. 660.
(обратно)51
Из статьи Occupy Wall Street's anarchist roots («Анархистские корни “Оккупай Уолл-стрит”») на сайте Al Jazeera English.
(обратно)52
В своей книге «Долг. Первые 5000 лет истории» он делает кое-какие выводы, которые не согласуются с практикой. Например, он полагает, что аккумуляция долларов США китайцами есть своего рода подкупающий подарок, как это исстари заведено в Китае: от императора вассальным государствам. Помимо того что при сумме в три тысячи миллиардов долларов политика подарков и символов уже давно кончается, речь здесь идёт о чистой воды валютной манипуляции, которая является частью модели развития, а вовсе не о снисходительном даре. В другом месте Гребер не в курсе того, что МВФ очень даже требует от частных кредиторов списания долгов. Недавно в случае Греции и Кипра это было даже предварительным условием оказания помощи. Гребер видит перед собой скорее карикатуру на МВФ, чем реально существующую институцию. (Прим. автора.)
(обратно)53
Хайек Ф. А. фон. Дорога к рабству. М.: Новое издательство, 2005. С. 40–41.
(обратно)54
Там же. С. 41.
(обратно)55
Цит. по: Рэнд А. Атлант расправил плечи / пер. с англ. Д. Костыгина. 6-е изд. М.: Альпина Паблишерз, 2011.
(обратно)56
Цит. по: Берлин И. История свободы. Россия / предисл. А. Эткинда. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 258.
(обратно)57
Там же. С. 211.
(обратно)58
Толстой Л. Н. Указ. соч. С. 6.
(обратно)59
Цит. по: Берлин И. Указ. соч. С. 249–250.
(обратно)60
Как эта магия действует и поныне, показывает кризис евро, как будто время остановилось. Евро-валюта, которая, как и золото, не подлежит произвольному умножению, ибо Европейский центральный банк находится вне досягаемости отдельных правительств. И когда некоторые наиболее благодушные страны в минувшие годы проиграли в конкурентоспособности, особенно по отношению к Германии, и увидели, что их капиталы исчезают, а долги растут, они тоже поневоле стали спрашивать себя: как мы можем производить дешевле, чтобы не отставать от Германии? До образования валютного союза ответ гласил бы: мы обесценим нашу валюту, тогда мы, правда, сможем покупать за границей меньше, и товары, которые мы импортируем, будут дороже. Тем самым, жизненный уровень тех, кто любит путешествовать и покупать экзотические товары, понизится. Но зато фабрики смогут сразу производить дешевле, чем иностранные конкуренты, и деньги снова потекут назад. (Прим. автора.)
(обратно)61
Цит. по: Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 582.
(обратно)62
Японский пример особенно поучителен, и всякий кейнсианец должен был бы зарубить его себе на носу: когда министр финансов Такахаси Корэкиё в 1934 году попытался снова сократить государственные расходы, чтобы избежать перегрева экономики, он натолкнулся на решительное противодействие, особенно со стороны военных. В феврале 1936 года он был казнён восставшими офицерами, и впредь у министерской бюрократии мотивация задумываться о сокращении расходов была очень небольшой. Борьба с инфляцией отныне велась в форме контроля цен, боролись с симптомами, а не с самой болезнью. Уже в год публикации большой теории Кейнса можно было увидеть след её тяжёлой поступи. Как трудно государству отказаться от однажды принятых расходов и сокращать дефицит путём экономии в благоприятные времена. (Прим. автора.)
(обратно)63
Исландия со своей присягой должника в суде и девальвацией кроны тоже перестала быть по-настоящему успешной: правда, теперь исландцы благодаря падению кроны могут предлагать свою рыбу дешевле, но она от этого не размножается быстрее и улов не становится больше. Контроль за движением капитала не снят до сих пор (такие меры всегда объявляются временными, а потом сохраняются десятилетиями), ибо всё ещё не ясно, кто кому и сколько должен и, соответственно, деньги с тоской поглядывают за границу. Старое правительство было заменено на новое социал-демократическое, первое в мире, возглавляемое открытой лесбиянкой. Но и это не спасло положение. В 2013 году снова с большим перевесом на выборах победили консерваторы с бывшим профессиональным футболистом во главе. Остров не производит впечатление счастливого. (Прим. автора.)
(обратно)64
Цит. по: Ницше Ф. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С. 301.
(обратно)65
Это не очевидно, поскольку и в стационарной экономике предприятия могут – по Бём-Баверку – получать прибыль. Шумпетер возражает на это, что предприятия в таком случае даже не нашли бы применения этой прибыли… но в настоящий момент эти дебаты не имеют для нас интереса. (Прим. автора.)
(обратно)66
Ницшеанский дух и мировоззрение дают о себе знать и в записной книжке, в которую Шумпетер записывал афоризмы. В ней у него не находится ни одного доброго слова о современном массовом обществе: «Человечество на самом деле не печётся о свободе, масса быстро понимает, что не сумеет обращаться со свободой. Она хочет, чтобы её кормили, развлекали и руководили ею…» Или: «Равенство – это идея людей посредственных, но даже они стремятся к равенству не всерьёз, а хотят лишь, чтобы не было лучших». «Демократия – это правление посредством лжи». Шумпетер не только одевался как реакционер, он и был реакционером. (Прим. автора.)
(обратно)67
Цит. по: Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007.
(обратно)68
Шумпетер Й. Указ. соч.
(обратно)69
Здесь и далее цит. по: Шиллер Ф. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1955. С. 194–197.
(обратно)70
Цит. по: Немецкая романтическая повесть: в 2 т. Т. 1. М.–Л.: Academia, 1935. С. 125–126.
(обратно)







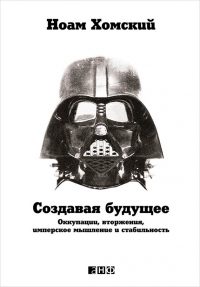


Комментарии к книге «Мистер Смит и рай земной», Георг фон Вальвиц
Всего 0 комментариев