Шпенглер Освальд Закат Европы
Введение
1.
В настоящей книге впервые делается смелая попытка предуказать ход истории. Замысел ее – проследить судьбу культуры, притом единственной, которая в настоящее время на земле считается совершенной, именно – судьбу западноевропейской культуры в ее не истекших еще стадиях.
До сих пор к возможности разрешить эту столь важную задачу относились без достаточного внимания. И если даже ей уделялось внимание, то средства для ее решения оставались неизвестными или были использованы в недостаточной степени.
Существует ли логика истории? Не скрывается ли за всеми случайными и не поддающимися учету единичными событиями, так сказать, метафизическая структура исторического человечества, по существу независимая от бросающихся в глаза поверхностных культурно-политических явлений? Не вызывается ли, скорее, ею эта действительность низшего порядка? Не повторяются ли великие моменты всемирной истории в форме, позволяющей проницательному взгляду делать обобщения? А если так, то как далеко простираются границы такого рода обобщений? Возможно ли в самой жизни найти ступени, которые должны быть пройдены, и притом в порядке, не допускающем исключения? Ведь человеческая история есть сумма жизненных процессов большой силы, «Я» и личность которых язык невольно изображает мыслящими и действующими индивидуумами высшего порядка, каковы, например, «античность», «китайская культура» или «современная цивилизация». Быть может, понятия рождения, смерти, юности, старости, продолжительности жизни, лежащие в основе всего органического, имеют в отношении истории еще никем не раскрытый строгий смысл? Не лежат ли, словом, в основе всего исторического всеобщие биографические изначальные формы?
Гибель Запада, явление ближайшим образом ограниченное местом и временем, подобно аналогичной ему гибели античности, становится, таким образом, философской темой, которая, если рассматривать ее с надлежащей глубиной, заключает в себе все великие вопросы бытия.
Если мы хотим узнать, каким образом происходит угасание западной культуры, то нам необходимо сперва выяснить, что такое культура, каково ее отношение к видимой истории, к жизни, к душе, к природе, к духу, в каких формах она проявляется и в какой мере эти формы – народы, языки и эпохи, сражения и идеи, государства и боги, искусства и художественные произведения, науки, право, хозяйственные формы и мировоззрения, великие люди и великие события – являются символами и должны как таковые истолковываться.
2.
Средством понимания мертвых форм является математический закон. Средством постижения живых форм служит аналогия. Таким образом различается полярность и периодичность мира.
Не раз уже высказывалось утверждение, что число исторических форм ограничено, что эпохи, ситуации, личности в своих типических чертах повторяются. Деятельность Наполеона почти всегда сравнивалась с деятельностью Цезаря и Александра. Первое сопоставление, как будет видно далее, морфологически недопустимо, второе же правильно. Наполеон сам находил свое положение схожим с положением Карла Великого. Говоря о Карфагене, Конвент разумел Англию, а якобинцы называли себя римлянами. С большей или меньшей степенью правдоподобия Флоренцию сравнивали с Афинами, Будду с Христом, первоначальное христианство с современным социализмом, римских финансовых тузов времени Цезаря с янки. Петрарка, первый страстный археолог (сама археология есть проявление сознания повторяемости истории), сопоставлял себя с Цицероном, и еще совсем недавно Сесиль Роде, организатор английских южноафриканских владений, державший у себя в библиотеке специально для него изготовленные переводы биографий цезарей, сравнивал себя с императором Адрианом. Для Карла XII Шведского оказалось роковым то обстоятельство, что с юных лет он носил в кармане написанную Курцием Руфом биографию Александра и стремился копировать этого завоевателя.
Желая показать свое понимание мировой политической ситуации, Фридрих Великий в своих политических мемуарах (как, например, «Considérations», 1738) вполне уверенно пользуется аналогиями. Так, он сравнивает французов с македонянами под властью Филиппа и противопоставляет им греков и немцев. «Фермопилы Германии – Эльзас и Лотарингия – уже в руках Филиппа». Этими словами дано было меткое определение политики кардинала Флери. Далее мы находим здесь сравнение политики Габсбургов и Бурбонов с проскрипциями Антония и Октавиана.
Однако все это оставалось отрывочным и произвольным, будучи, скорее, удовлетворением минутного желания поэтически и остроумно выразиться, но не глубоким чутьем исторических форм.
К числу таких же сравнений принадлежат сравнения мастера искусной аналогии Ранке; его сравнения Киаксара с Генрихом I, набегов киммерийцев с набегами мадьяр морфологически лишены значения. Это же самое замечание является вполне справедливым и в отношении часто повторяющихся у него сравнений греческих городов-государств с республиками Возрождения, тогда как сравнению Наполеона с Александром присуща глубокая правильность, которая тем не менее носит случайный характер. Сравнения эти у Ранке, как и у других, сделаны в плутарховском, то есть народно-романтическом, вкусе, принимающем в расчет только внешнее сходство сцен на подмостках истории, а не в строгом смысле математика, постигающего внутреннее родство двух групп дифференциальных уравнений, в которых профан видит только различия.
Легко заметить, что выбором образов здесь руководит, в сущности, каприз, а не идея, не чувство необходимости. До техники сравнения нам еще очень далеко. Особенно в наше время мы охотно пользуемся образами, но без плана и связи, и если они оказываются иногда подходящими по глубине заключающегося в них и не раскрытого еще смысла, то этим мы обязаны счастливой случайности, реже инстинкту, но никогда не принципу. Никому еще не приходило в голову создать в этой области метод, никто не подозревал, что здесь единственный корень, из которого может вырасти великое разрешение проблем истории.
Сравнения могли бы привести к счастливым результатам для исторического мышления, поскольку, они вскрывают органическую структуру происходящего. Их техника должна была бы быть выработана под руководством всеобъемлющей идеи, то есть с непреложной необходимостью и логическим мастерством. Но до сих пор они приводили к печальным результатам для истории потому, что, будучи одним только делом вкуса, они освобождали историков от труда понимания языка исторических форм и их анализа, от этой наиболее трудной и насущной задачи, по настоящее время даже не установленной и подавно не разрешенной. Иногда они были поверхностны, – когда, например, Цезаря называли основателем римской государственной газеты или, еще хуже, наклеивали на отдаленные, в высшей степени сложные и внутренне нам совершенно чуждые явления античной жизни ярлыки таких модных слов, как «социализм», «импрессионизм», «капитализм» и «клерикализм». В других же случаях они обнаруживали странную извращенность, как практиковавшийся в Якобинском клубе культ Брута – того самого миллионера и ростовщика Брута, который в качестве вождя римской знати, при одобрении патрицианского сената, заколол представителя демократии.
3.
Таким образом, задача, первоначально обнимавшая ограниченную проблему современной цивилизации, разрастается в совершенно новую философию будущего, единственную философию, которая принадлежит еще к числу возможностей западноевропейского духа в его последних стадиях, если из метафизической истощенной почвы Запада вообще может вырасти хоть какая-нибудь философия, – я имею в виду идею морфологии всемирной истории, мира как истории, которая, в отличие от морфологии природы, до сих пор единственной темы философии, еще раз, но в совершенно ином порядке охватывает все формы и изменения мира в их глубочайшем и последнем значении, создавая не обобщение всего познанного, но картину жизни, не ставшее, но становящееся.
Мир как история, понятый, созерцаемый, изображенный в виде противоположности миру как природе, есть новая точка зрения на бытие, которая до наших дней никогда не применялась; ее, быть может, смутно чувствовали, часто угадывали, но никто еще не отважился на нее со всеми ее последствиями. Здесь перед нами два возможных способа, какими человек овладевает окружающим миром и переживает его.
Я провожу самое строгое различие по форме, а не по существу между органическим и механическим впечатлением от мира, между совокупностью образов и совокупностью законов, между картиной и символом, с одной стороны, формулой и системой – с другой, между однократно действительным и постоянно возможным, между целью творческой силы воображения, действующей согласно плану и порядку, и целью систематически расчленяющего опыта или – забегая вперед и называя никогда еще не отмечавшуюся, весьма многозначительную противоположность – между областью значимости хронологического и математического числа.
Поэтому в таком исследовании, как настоящее, речь не может идти о том, чтобы принять как таковые злободневные культурно-политические события, расположить их в порядке причины и действия и затем прослеживать в их кажущейся рассудочно уловимой тенденции. Подобное «прагматическое» изложение истории было бы только замаскированным естествознанием, чего вовсе не скрывают сторонники материалистического понимания истории, между тем как их противники недостаточно сознают тождество методов естествознания и истории. Дело не в том, что такое очевидные факты истории сами по себе, как явления какого-нибудь времени, но в том, что они своим явлением означают, на что указывают. Историки современности считают, что они делают достаточно много, привлекая отдельные религиозные, социальные и всякого рода художественно-исторические черты для «иллюстрации» политического смысла какой-либо эпохи. Однако они забывают решающее обстоятельство – именно: в какой мере видимая история есть выражение, символ, ставшая формой душа (Seelentum). Я не встретил еще никого, кто серьезно занялся бы изучением этого морфологического сродства, кто кроме политических фактов обстоятельно знал бы последние, и глубочайшие, мысли математики греков, арабов, индийцев и западноевропейцев, смысл их ранней орнаментики, архитектурных, метафизических, драматических и лирических изначальных форм, характер и направление их великих искусств, детали их художественной техники и ее материала, не говоря уже о понимании решающего значения всего этого для проблемы исторической формы. Кому известно, что между дифференциальным исчислением и династическим принципом эпохи Людовика XIV, между античным городом-государством и Эвклидовой геометрией, между перспективой западной живописи масляными красками и преодолением пространства посредством железных дорог, телефонов и огнестрельного оружия, между контрапунктической инструментальной музыкой и хозяйственной кредитной системой существует глубокое родство формы? Даже самые реальные факторы политики, рассматриваемые в такой перспективе, принимают в высшей степени трансцендентный характер, и здесь, быть может, впервые такие вещи, как египетская система управления, античное монетное дело, аналитическая геометрия, чек, Суэцкий канал, китайское книгопечатание, прусское войско и римская техника постройки дорог, в равной мере понимаются как символы и как таковые истолковываются.
На этом пункте обнаруживается, что специфически исторического способа познания еще совсем не существует. То, что так называется, заимствует свои методы почти исключительно из той единственной области знания, в которой методы строго выработаны, – из физики. Исследователи думают, будто двигают историческую науку вперед, располагая явления в причинно-следственной связи. Замечательно, что прежняя философия никогда не думала о возможности иного отношения духа к миру. Кант, установивший в своем главном произведении формальные законы познания, незаметно для себя самого и для других сделал объектом рассудочного рассмотрения одну только природу. Знание для Канта есть математическое знание. Если он говорит о врожденных формах наглядного представления и категориях рассудка, то он никогда не мыслит при этом о совершенно ином понимании исторических явлений. А Шопенгауэр, который характерным образом из категорий Канта удерживает только категорию причинности, говорит об истории не иначе как с пренебрежением. Помимо необходимой связи причины и действия – я назвал бы ее логикой пространства – в жизни есть еще органическая необходимость судьбы – логика времени. Это факт глубочайшей внутренней достоверности, факт, приковывающий к себе все мифологическое, религиозное и художественное мышление, составляющий сущность и ядро всякой истории в противоположность природе, но недоступный формам познания, исследуемым «Критикой чистого разума», и не получивший еще надлежащей рассудочной формулировки. Философия, как сказал Галилей в знаменитом месте своего «Пробирщика», в великой книге природы «написана на языке математики». Но мы и сейчас еще ждем ответа философа на вопрос, на каком языке написана история и как ее нужно читать.
Математика и принцип причинности ведут к природообразному, хронология и идея судьбы – к историческому порядку явлений. И, тот и другой порядок охватывают весь мир, но глаз, в котором и через который этот мир получает осуществление, каждый раз иной.
4.
Природа есть образ, посредством которого человек высокоразвитых культур сообщает единство и значение непосредственным впечатлением своих чувств. История есть образ, посредством которого человек стремится понять живое бытие мира в отношении к своей собственной жизни и тем самым сообщить ему более глубокую действительность. Способен ли человек к созданию этих образов и который из них господствует над его бодрствующим сознанием? Вот исконный вопрос всего человеческого существования.
Здесь перед человеком открываются две возможности построения мира. Тем самым уже сказано, что эти возможности не неизбежно становятся действительностями. Поэтому если в дальнейшем мы поставим вопрос о смысле всякой истории, то предварительно должны будем разрешить другой вопрос, который до сих пор никогда еще не ставился. Для кого существует история? Вопрос, по-видимому, парадоксальный. Без сомнения, для каждого, поскольку каждый является элементом истории. Но надобно учесть, что история в целом, как и целое природы – ведь и то и другое суть явления, – предполагают дух, в котором и через который они становятся действительностью. Без субъекта нет объекта. Если даже отвлечься от всякой теории, получившей у философов тысячу формулировок, то все же остается бесспорным, что земля и солнце, природа, пространство, вселенная суть личное переживание и в своем «так, а не иначе» зависят от человеческого сознания. Но то же самое применимо и к картине мира истории, становящемуся, никогда не покоящемуся Всему; даже если бы мы знали, что такое история, нам все же оставалось бы неизвестным, для кого она. Несомненно, не для «человечества». Таково наше западноевропейское ощущение, но мы не все «человечество». Несомненно, что не только для первобытного человека, но и для человека некоторых высших культур не существовало всемирной истории, не существовало мира как истории. Мы все знаем, что в нашем детском сознании мира сначала выступают только природообразные и каузальные черты и лишь значительно позже черты исторические, как, например, определенное чувство времени. Слово «даль» гораздо раньше получает для нас осязательное содержание, чем слово «будущее». Но что если вся культура, высокоразвитая душа, покоится на таком не историческом духе? Какою ей должна являться действительность? Мир? Жизнь? Если мы вспомним, что в миросознании греков все пережитое, все прошлое, не только личное, но и общее, тотчас же превращалось в миф, то есть в природу, в невременное, неподвижное, лишенное развития настоящее, так что история Александра Великого, еще до его смерти, для античного чувства начала сливаться с легендою о Дионисе и Цезарь ощущал свое происхождение от Венеры по крайней мере не как нелепость, – то мы должны признать, что для нас, людей Запада, с интенсивным чувством времени, сопереживание таких душевных состояний почти невозможно; однако, ставя перед собой проблему истории, мы не вправе просто оставить без внимания этот факт.
Историческое исследование в широком смысле этого слова, заключающее в себе все виды психологического анализа чужих народов, эпох и нравов, имеет то же значение для души целых культур, какое дневники, автобиографии и исповеди имеют для отдельного человека. Но античная культура не обладала памятью в этом специфическом смысле, была лишена исторического органа. Память античного человека – мы без оговорок приписываем чужой душе понятие, заимствованное из нашего душевного строя, – резко отлична от нашей; здесь отсутствуют в сознании прошедшее и будущее как упорядочивающие перспективы и чистое «настоящее», которое так часто удивляло Гете во всех проявлениях античной жизни, особенно в пластике, наполняет собою сознание с какой-то нам неведомой мощью. Это чистое «настоящее», величайшим символом которого является дорическая колонна, в действительности представляет отрицание времени (направленности). Для Геродота и Софокла, так же как и для Фемистокла и любого римского консула, прошлое тотчас же превращается в вневременное покоящееся впечатление полярной, а не периодической структуры. Таков истинный смысл проникновенного мифотворчества. Между тем для нашего мироощущения и внутреннего взора прошлое представляется ясно расчлененным на периоды, целесообразно направленным организмом столетий и тысячелетий. Однако этот фон только и придает античной и западной жизни особенный, присущий им колорит. Космосом грек называл образ мира, который не становится, но есть. Следовательно, грек сам был человеком, который никогда не становился, но всегда был.
Поэтому античный человек ничего внутренне не усвоил из вавилонской и египетской культур, хотя он отлично знал точную хронологию, календарь и интенсивное чувство вечности и ничтожества настоящего момента, проявляющееся у египтян и вавилонян в грандиозных наблюдениях светил и точном измерении громадных периодов времени. То, о чем иногда упоминают античные философы, они только слышали, но не проверяли на опыте. Ни Платон, ни Аристотель не имели обсерватории. В последние годы правления Перикла в Афинах народным собранием было вынесено решение, угрожавшее всякому распространителю астрономических теорий тяжелым обвинением (эйсангалией). Это был акт глубочайшей символики, в котором выразилось стремление античной души исключить из своего миросознания даль в любом смысле этого слова.
Поэтому греки, в лице Фукидида, начали серьезно размышлять над своей историей лишь в тот момент, когда она была внутренне почти закончена. Но даже Фукидид, методические основоположения которого во введении к его труду звучат очень по-западноевропейски, представлял историю так, что считал возможным сочинять подробности событий, если они ему казались нужными. Это является у него художественным приемом, но именно это мы называем мифотворчеством. О подлинном понятии смысла хронологических чисел здесь нет и речи. В III столетии Манефон и Борос, стало быть, не греки, написали основательные собрания источников о Египте и Вавилоне, двух странах, понимавших толк в астрономии и, следовательно, в истории. Но образованные греки и римляне мало интересовались этими материалами и по-прежнему предпочитали причудливую фантастику Гекатея и Ктесия.
Вследствие этого античная история до персидских войн, а в сущности даже до гораздо более поздних периодов, является продуктом мифического мышления. История государственного строя Спарты есть вымысел эллинистического периода – Ликург, биография которого рассказывается со всеми подробностями, был, по-видимому, незначительным божеством Тайгета; измышление же римской истории до Ганнибала продолжалось еще во времена Цезаря. Для понимания античного смысла слова «история» характерно то сильнейшее влияние, которое александрийские романы своим содержанием оказали на серьезную политическую и религиозную историографию. Совсем не думали о том, чтобы принципиально отличать их вымысел от документальных дат. Когда Варрон перед концом республики попытался зафиксировать быстро исчезающую из сознания народа римскую религию, он разделил божества, культ которых весьма щепетильно совершался государством, на di certi и di incerti, на богов, о которых было еще кое-что известно, и богов, от которых, несмотря на продолжающийся публичный культ, осталось только одно имя. В действительности религия римского общества его времени, в том виде, как ее представляли себе на основании римских поэтов не только Гете, но даже Ницше, была большей частью порождением эллинизированной литературы и почти не связывалась со старым культом, которого никто уже не понимал.
Моммзен ясно формулировал западноевропейскую точку зрения, назвав римских историков – он имел в виду прежде всего Тацита – людьми, «которые говорят то, о чем следует молчать, и замалчивают то, о чем необходимо сказать».
Индийская культура, в которой идея (браманской) нирваны является чрезвычайно ярким выражением самой неисторической души, какая только может существовать, никогда не имела даже самого слабого чувства «когда», в каком бы то ни было смысле. Не существует ни индийской астрономии, ни индийского календаря, ни, стало быть, индийской истории, поскольку под этими понятиями подразумевается сознание живого развития. О внешнем ходе этой культуры, органическая часть которой была завершена еще до возникновения буддизма, мы знаем еще гораздо меньше, чем об античной истории между XII и VIII столетиями, несомненно богатой великими событиями. Обе они сохранились лишь в смутно мифическом образе. Только спустя тысячелетие после Будды, около 500 года после Р. X., возникло на Цейлоне в «Махавансе» что-то отдаленно напоминающее историографию.
Сознание индийского человека было настолько неисторично, что ему было совершенно не важно время появления сочинения какого-либо автора. Вместо органического ряда произведений отдельных лиц постепенно выросла неопределенная масса текста, в которую каждый вписывал что желал, причем понятия индивидуального духовного достояния, развития мысли, культурной эпохи не играли никакой роли. В этой «анонимной» форме, свойственной всей вообще индийской истории, предстоит перед нами индийская философия. Как непохожа она на историю философии Запада, каждому произведению которой свойственна физиономия его автора!
Индийцы забывали все; египтяне ничего не могли забыть. Искусства портрета – этой биографии in nuce [1] – в Индии никогда не существовало; египетская пластика почти не знала другой темы.
Душа египтян, в высшей степени историческая и с первозданной страстью устремляющаяся к бесконечному, ощущала прошлое и будущее как весь свой мир, а настоящее, тождественное бодрствующему сознанию, казалось ей только узкой полоской между двумя неизмеримыми далями. Египетская культура есть воплощение заботы – душевного коррелята дали, – заботы о будущем, которая сказывается в выборе гранита и базальта в качестве материалов для пластики, в высеченных на камне документах, в развитии образцовой системы управления и сети оросительных каналов и необходимо связанной с этим заботы о прошлом. Египетская мумия есть символ высочайшего значения. Тело мертвого увековечивалось, подобно тому как его личности, его «ка», сообщалась вечная жизнь посредством производимых, часто во многих экземплярах, портретных статуй, с которыми личность связывалась очень тонко улавливаемым сходством. Между тем в лучшие времена греческой пластики на портретные статуи, как известно, был наложен запрет.
Существует глубокая связь между отношением к историческому прошлому и пониманием смерти, как оно выражается в форме погребения. Египтянин отрицает тленность, античный человек утверждает ее всем языком форм своей культуры. Египтяне сохраняли как бы мумию своей истории – хронологические даты и числа. От досолоновской греческой истории не осталось ни одного памятника, ни одного года, ни одного несомненного имени, ни одного яркого события – на этом основании мы слишком преувеличиваем значение тех памятников, которые до нас дошли, – в то время как мы знаем почти все имена и годы царствования египетских фараонов III тысячелетия, а египтяне позднего времени знали их, разумеется, всех без исключения. В качестве жуткого символа мощной воли к долговечности еще и поныне лежат в наших музеях тела великих фараонов, с заметно сохранившимися чертами лица. На сверкающей отполированной гранитной вершине пирамиды Аменемхета III еще и теперь можно прочесть: «Аменемхет созерцает красоту Солнца» – и на другой стороне: «Душа Аменемхета выше высоты Ориона и соединяется с преисподней». Это преодоление тленности, настоящего; оно в высшей степени неантично.
5.
В противоположность этой модной группе египетских символов жизни на пороге античной культуры появляется сожжение мертвых – символ забвения, – которое распространяется на все внешнее и внутреннее содержание прошлого. Микенской эпохе было совершенно чуждо сакральное предпочтение такой формы погребения перед другими, которые обычно употребляются у первобытных народов. Гробницы царей говорят, скорее, о предпочтении погребения в земле. Но в гомеровскую эпоху, так же как и в эпоху Вед, происходит внезапный и внешне необъяснимый скачок от погребения к сожжению, которое, как это видно из «Илиады», совершалось со всем пафосом символического акта – торжественного уничтожения, отрицания исторической длительности.
С этого момента исчезает также пластичность индивидуального душевного развития. Избегая подлинно исторических мотивов, античная драма не допускает также темы внутреннего развития, и мы знаем, как решительно эллинский инстинкт восстает против портрета в изобразительных искусствах6. До самой императорской эпохи античное искусство знает только один, как бы естественный для него материал – миф.
Идеальные образы греческой пластики тоже мифичны, как типические биографии во вкусе Плутарха. Ни один великий грек не написал воспоминаний, которые запечатлели бы перед его духовным взором пережитую эпоху. Даже Сократ не сказал о своей внутренней жизни ничего значительного в нашем смысле. Спрашивается: возможно ли было вообще существование в душе античного человека качеств, которые необходимы для создания Парсифаля, Гамлета и Вертера? Мы не находим у Платона ни малейшего сознания развития своего учения. Отдельные его диалоги являются исключительно формулировками очень различных точек зрения, на которых он стоял в разные времена. Генетическая связь их никогда не была предметом его размышления. Единственная поверхностная попытка самоанализа, почти не принадлежавшая уже античной культуре, находится в «Бруте» Цицерона. Но уже в начале истории западного духа мы встречаем образец глубочайшего самонаблюдения – «Новая жизнь» Данте. Однако из этого следует, как мало античного, то есть чистого «настоящего», носил в себе Гете, который ничего не забывал. Его сочинения, согласно его собственным словам, были только отрывками одной великой исповеди.
После разрушения персами Афин под их обломками были похоронены все произведения раннего искусства, откуда мы теперь вновь извлекаем их на свет. Нам неизвестно, чтобы кто-нибудь из греков заинтересовался развалинами Микен или Феста. Читали Гомера, но не думали, подобно Шлиману, о раскопке троянских холмов. Хотели мифа, а не истории. Уже в эллинистический период была потеряна часть сочинений Эсхила и досократовских философов. Но уже Петрарка собирал памятники древности, монеты, рукописи с благоговением и любовью, свойственными лишь нашей культуре. Наделенный историческим чутьем, озирающийся на отдаленные миры, стремящийся к далям – он первый совершил восхождение на вершину Альп, – Петрарка был, в сущности, чужд своему времени. Лишь из этой связи с проблемой времени развивается психология коллекционера. Понятно, почему этот культ прошлого, стремящийся сообщить ему нетленность, оставался совершенно незнакомым античному человеку, в то время как Египет уже в эпоху великого Тутмоса превратился в один огромный музей традиций и архитектуры.
Один из западных народов, именно немцы, изобрел механические часы, этот жуткий символ текущего времени. Бой часов, звучащий днем и ночью с бесчисленных башен Западной Европы, есть, может быть, самое чудовищное выражение, которое вообще способно дать себе историческое мироощущение7. Ничего этого не встречается во вневременном античном ландшафте и городе. В Вавилоне и Египте были изобретены водяные и солнечные часы, но лишь Платон ввел в Афинах водяные часы, опять-таки перед самым концом цветущего периода Греции. Еще позднее вошли в употребление солнечные часы, как несущественный прибор повседневного обихода, нисколько не изменивший античного мироощущения.
Здесь следует упомянуть еще об одном очень глубоком и ни разу вполне не оцененном различии, именно различии между античной математикой и математикой Запада. Античная математическая мысль воспринимает вещи как они суть, как величины, вневременно, в чистом настоящем. Результатом этого является Эвклидова геометрия, математическая статика и предельное достижение античной математики – учение о конических сечениях. Мы же воспринимаем вещи как они становятся и относятся друг к другу, как функции. Это ведет к динамике, к аналитической геометрии и от нее – к дифференциальному исчислению8. Современная теория функций является гигантским упорядочением всей этой массы мыслей. Странен, но психологически строго обоснован факт, что греческая физика, как статика, в противоположность динамике, не знает употребления часов и не нуждается в них; в то время как мы считаемся с тысячными долями секунды, она совершенно отказывается от измерения времени. Энтелехия Аристотеля есть единственное вневременное – не историческое – понятие развития, которое дает нам античность.
Итак, наша задача установлена, поскольку жизнь есть осуществление душевно возможного и новое понятие душевно невозможного сообщает другую точку зрения на вещи. Мы, люди западноевропейской культуры, точно ограниченного во времени периода от X до XX столетия, представляем исключение, а не правило. «Всемирная история» естьнаш, а не «общечеловеческий» образ мира. У индийцев и древних не существовало образа становящегося мира как рода и формы созерцания. И, может быть, когда угаснет цивилизация Запада, носителями которой мы ныне являемся, то более не появится уже культура и, стало быть, человеческий тип, для которого «всемирная история» есть одна из форм и одно из содержаний космического сознания.
6.
В самом деле, что такое «всемирная история»? Духовная возможность, внутренний постулат, выражение чувства формы? Разумеется. Но сколько бы ни было определенным чувство, оно не составляет еще законченной формы, и, как бы уверенно все мы ни чувствовали, ни переживали всемирную историю, как бы ни считали, что мы с полной ясностью схватываем ее образ, все же несомненно, что до сих пор мы знаем только формы ее, а не форму.
Несомненно, каждый, кого бы ни спросили, убежден, что он ясно и отчетливо созерцает периодическую структуру истории. Эта иллюзия покоится на том, что никто серьезно не задумывался над нею и что мы нисколько не сомневаемся в своем знании, ибо мы вовсе не подозреваем, сколько здесь поводов для сомнений. В действительности образ всемирной истории есть непроверенное духовное достояние, которое даже среди профессиональных историков передается неприкосновенным, по наследству, из поколения в поколение и в отношении которого была бы весьма полезной небольшая доза того скепсиса, который со временем Галилея расчленил и углубил прирожденное нам представление природы.
Древность – Средневековье – Новое время: такова та невероятно скудная и бессмысленная схема, абсолютное господство которой над нашим историческим сознанием всегда мешало нам правильно оценить небольшую часть мира, развернувшуюся со времени немецких императоров на территории Западной Европы, понять ее действительное место в системе всемирной истории, то есть всеобщей истории высшего человечества, уразуметь ее смысл, ее облик и особенно продолжительность ее жизни. Будущим культурам покажется почти невероятным, что этот план, с его наивной прямолинейностью и нелепыми пропорциями, становящийся с каждым столетием все более бессмысленным и совершенно не допускающий естественного включения вновь выступающих на свет нашего исторического сознания областей, – что этот план все же никогда не вызывал серьезных сомнений. Критика, которой он подвергся, и значительные модификации, которые ему пришлось испытать, как, например, перенесение начала «нового времени» с Крестовых походов на эпоху Возрождения и оттуда на рубеж XIX столетия, указывают лишь на то, что сам он считался непоколебимым, чуть ли не результатом божественного откровения, во всяком случае чем-то само собой разумеющимся, своего рода априорной формой исторического созерцания, как ее описал Кант.
Однако эта принятая всеми форма не допускала никакого углубления, и так как от нее не отказывались, то отказывались от действительного понимания всемирно-исторических связей. По ее вине важные морфологические проблемы истории не могли обнаружиться. Она удерживала рассмотрение истории на таком уровне, которого стыдилась бы всякая другая наука.
Достаточно указать на то, что этот план чисто внешним образом относит начало и конец туда, где в более глубоком смысле о начале и конце не может быть и речи. В нем территория Западной Европы образует как бы покоящийся полюс (математически выражаясь, сингулярную точку на поверхности шара), вокруг которого – неизвестно почему, разве только потому, что мы, авторы этой исторической картины, как раз здесь чувствуем себя дома, – скромно вращаются тысячелетия необъятной истории и грандиозные культуры далекого прошлого9. Это в высшей степени своеобразно изобретенная планетная система. Небольшое пятнышко становится центром тяжести исторической системы. Это как бы центральное солнце. Из этой точки события истории получают правильное освещение, из нее перспективно измеряется их значение. Но в действительности здесь говорит не обузданное никаким скепсисом тщеславие европейца, в духе которого развертывается этот фантом «всемирной истории». Ему мы обязаны давно уже вошедшим в привычку огромным оптическим обманом, в силу которого исторический материал, отделенный от нас тысячелетиями, например история Древнего Египта и Китая, сжимается до размеров миниатюры, тогда как десятилетия, близкие к собственному местонахождению, начиная с Лютера и особенно с Наполеона, чудовищно разбухают. Мы знаем, что только кажется, будто облако плывет тем медленнее, чем выше оно находится, а поезд, движущийся на горизонте, едва ползет. Но мы уверены, что темп ранней индийской, вавилонской и египетской истории был действительно более медленным, чем темп нашего ближайшего прошлого. И мы считаем субстанцию истории этих культур более тощей, ее формы – более смутными и более расплывчатыми, потому что мы не научились учитывать внутреннее и внешнее расстояние. Нигде не выступает ярче, чем здесь, недостаток духовной свободы и самокритики, отличающий в наше время исторический метод от других методов не в его пользу.
Само собою понятно, что для западноевропейской культуры, которая – скажем, с Наполеона – налагает на мир, по крайней мере внешним образом, печать своих форм, существование Афин, Флоренции и Парижа более важно, чем многое другое. Но превращать это обстоятельство в принцип построения всеобщей истории только потому, что мы живем в сфере западной культуры, – значит обнаружить узость своего кругозора. С таким же правом китайский историк мог бы в свою очередь построить всемирную историю, в которой крестовые походы и эпоха Возрождения, Цезарь и Фридрих Великий были бы обойдены молчанием, как события, лишенные значения. Злободневный политик и социальный критик при оценке иных времен могут давать волю своему личному вкусу, так же как химик-техник, подходя к вопросу практически, может трактовать дериваты бензола как важнейший отдел естествознания и не замечать, например, электродинамики; но мыслитель обязан исключать свою личность из своих построений. Почему с морфологической точки зрения XVIII столетие должно считаться более важным, чем одно из шестидесяти предшествующих? Не смешно ли «Новое время», то есть несколько столетий, да к тому же локализованных преимущественно в Западной Европе, противопоставлять «Древности», которая обнимает столько же тысячелетий и к которой масса всех догреческих культур причисляется просто как привесок, без попытки какого-либо более глубокого расчленения? Разве ради спасения устарелой схемы не разделываются с Египтом и Вавилоном как с прологом к античности? С теми самыми Египтом и Вавилоном, замкнутые в себе истории которых, каждая в отдельности, далеко превосходят всю мнимую «всемирную историю» от Карла Великого до мировой войны. Разве не отправляли со смущенным видом в примечания мощные комплексы индийской и китайской культуры и не игнорировали вообще великие американские культуры на том основании, что им недостает «связи» (с чем)? Это наша «всемирная история». Так думает негр, который делит весь мир на свою деревню, свое племя и «остаток» и который считает луну значительно меньшей, чем поглощающие ее облака.
Я называю эту привычную для западноевропейца схему, согласно которой высокоразвитые культуры совершают свой бег вокруг нас как вокруг мнимого центра всех мировых событий, птоломеевской системой истории и развиваемую в этой книге новую систему считаю Коперниковым открытием в области истории. В этой системе античный мир и Западная Европа ни в каком случае не занимают привилегированного положения по сравнению с Индией, Вавилоном, Китаем, Египтом, арабским миром и культурой майи; все это меняющиеся проявления и выражения единой жизни, в глубинах пребывающей в покое. В общей картине истории эти самостоятельные миры становления равноценны, а грандиозностью душевной концепции и силой роста они во много раз превосходят эллинскую культуру.
7.
Схема «Древность – Средневековье – Новое время» есть переданный нам церковью продукт творчества гностики, то есть семитического, главным образом сирийско-иудейского, мироощущения римской императорской эпохи.
В пределах очень узких границ, составляющих предпосылку этой значительной концепции, она была, безусловно, правомерной. В круг рассмотрения здесь не входит ни индийская, ни даже египетская история. В устах гностиков слово «всемирная история» означает однократный, в высшей степени драматический акт, театром которого была территория между Элладой и Персией. Это воззрение характерно для резко дуалистического мироощущения Востока, в котором вопреки тогдашней метафизике противопоставляются друг другу не полярность души и духа, но периоды истории, которая понимается как катастрофа, как смена двух эпох между творением и гибелью мира, причем все моменты, не фиксированные античной литературой и Библией, совершенно не принимаются в расчет. В этой картине мира в качестве «Древности» и «Нового времени» выступает обязательная тогда противоположность языческого и христианского, античного и восточного, статуи и догмы, природы и духа во временном их порядке, как процесс преодоления одного другим.
Историческая смена носит на себе печать религиозного искупления. Несомненно, это была узкая, насквозь провинциальная точка зрения, однако вполне логичная и внутренне завершенная. Это был взгляд, присущий определенной местности и определенным людям и не способный ни к какому дальнейшему распространению естественным путем.
Только благодаря механическому присоединению третьей эпохи – нашего «Нового времени» – в эту картину на европейской почве была внесена тенденция к движению. Восточная картина представляла собой покоящуюся, замкнутую, пребывающую в равновесии антитезу с однократным божественным? актом в центре. Стерилизованный таким образом отрывок истории, воспринятый совершенно новым родом людей, вдруг стали, не сознавая неестественности такого изменения, продолжать в виде линии, которая от Гомера или Адама – сюда прибавились в настоящее время индогерманцы, каменный век и человекоподобная обезьяна – вела через Иерусалим, Рим, Флоренцию и Париж вверх или вниз в зависимости от личного вкуса историка, мыслителя или художника, который с безграничной свободою интерпретировал эту трехчастную картину.
Итак, к двум взаимно дополняющим друг друга понятиям «язычества» и «христианства», которые рассматривались как две последовательные эпохи, было добавлено «Новое время» как завершающее их понятие. Забавным образом оно не допускает в свою очередь продолжения этой операции; неоднократно «растянутое» после крестовых походов, оно кажется совершенно неспособным к дальнейшему растягиванию. Существовало молчаливое убеждение в том, что здесь, вслед за Древностью и Средними веками, начинается невто окончательное, какое-то Третье царство, заключающее в себе свершение, кульминационный пункт, цель, знание которой все, от схоластиков до социалистов наших дней, приписывали исключительно себе. Это был взгляд на историю настолько же удобный, насколько лестный для его изобретателя. Дух Запада был попросту отождествлен со смыслом мира. Великие мыслители возвели духовную нищету в метафизическую добродетель. Схему, освященную одним лишь consensus omnium [2], без всякой серьезной критики они сделали базисом философии, каждый раз взваливая на Бога роль автора «мирового плана». Мистическая троица мировых эпох и без того имела в себе нечто очень соблазнительное для метафизического вкуса. Гердер называл историю воспитанием человеческого рода, Кант – развитием понятия свободы, Гегель – самораскрытием мирового духа, каждый по-своему. Но в подобного рода схемах сила исторического творчества была уже исчерпана.
Идея Третьего царства была известна уже аббату Иоахиму Флорскому (ум. 1202), который рассматривал три фазы истории как символ Отца, Сына и Святого Духа. Лессинг, неоднократно называвший свое время эпилогом античности, идею своего «Боепитания человеческого рода» (со ступенями детства, юности и зрелого возраста) заимствовал из учений мистиков XIV столетия, а Ибсен, основательно разработавший ее в драме «Кесарь и Галилеянин» (где гностическое миропонимание вторгается непосредственно в образе волшебника Максима), держался совершенно тех же убеждений в своей известной Стокгольмской речи 1887 года. По-видимому, это стремление рассматривать собственное бытие как своего рода завершение является требованием западноевропейского самосознания.
Но совершенно недопустимо, истолковывая всемирную историю, давать волю своим политическим, религиозным и социальным убеждениям и сообщать трем фазам, которые никто не решается поколебать, такое направление, что они с точностью приводят к собственной позиции. В результате целые тысячелетия измеряются как абсолютными масштабами такими понятиями, как умственная зрелость, гуманность, счастье большинства, экономическая эволюция, просвещение, свобода народов, господство над природой, научное миросозерцание и т. п.; и когда действительные стремления чуждых нам эпох не совпадают с нашими, то исследователи доказывают, что народы пребывали в заблуждении или не умели достигнуть истины. «В жизни важна сама жизнь, а не ее результат» – эти слова Гете следовало бы противопоставлять всякого рода глупым попыткам разгадать тайну исторической формы посредством программы.
Такая же картина рисуется историками отдельных искусств и наук, в том числе политической экономией и философией. Тут перед нами «живопись» от египтян (или от пещерных людей) до импрессионистов, «музыка» от слепого певца Гомера до Вагнера, общественный строй от обитателей свайных построек до социализма, рассматриваемые как прямолинейный прогресс, в основу которого кладется какая-нибудь одна неизменная тенденция. При этом совсем не допускают возможности того, что искусства обладают определенной продолжительностью времени, что они связаны с определенной местностью и с определенным видом людей, являясь выражением их души, и что, следовательно, все эти общие истории являются лишь внешним суммированием большего или меньшего числа единичных явлений, отдельных искусств, которые не имеют ничего общего между собою, кроме названия да некоторых приемов техники.
Такой взгляд на мир не лишен комизма. Во всякой другой области живой природы мы требуем для себя права извлекать из самого явления наше представление о его структуре, лежащей в основе его существования, – безразлично, путем ли опыта или путем интуитивного постижения его внутренней сущности. Мы знаем, что жизненные явления какого-нибудь животного или растения позволяют нам заключать относительно родственных видов, что все живое есть носитель таинственного порядка, к которому неприменимы понятия закона, числа, причинности, и мы делаем отсюда определенные морфологические выводы. Только здесь, где дело идет о самом человеке, мы без всякой критики признаем значимость произвольной исторической формы его бытия и, хорошо или худо, втискиваем факты в готовую схему. Если это не удается – тем хуже для фактов. Мы тогда третируем их, как, например, историю Китая, или же просто считаем недостойными внимания, как культуру майи. «Они ничего не вносят в конструкцию всемирной истории»… Драгоценное изречение.
О каждом организме мы знаем, что он имеет строго определенный темп, форму и длительность своей жизни и каждого отдельного ее проявления. Никто не станет ожидать, что тысячелетний дуб только еще собирается начать процесс своего настоящего развития. Никто не воображает, что гусеница, рост которой мы наблюдаем ежедневно, будет расти еще в продолжение двух лет. В этом случае всякий с безусловной достоверностью чувствует границу, и это чувство есть не что иное, как чувство органических форм. Напротив, когда мы занимаемся историей культурного человечества, то в отношении его будущего мы находимся во власти безграничного тривиального оптимизма. Здесь умолкает всякий психологический и физиологический опыт, так что всякий в случайном настоящем совершенно произвольно устанавливает «задатки» какого-то особенно замечательного прямолинейного «прогрессивного развития». В этих случаях всегда принимают в расчет безграничные возможности, но никогда не учитывают естественного конца и, принявши за исходный пункт любой исторический момент, самым наивным образом строят дальнейшее развитие.
Но «человечество» не имеет никакой идеи, никакого плана, совершенно так же как их не имеет какой-нибудь вид бабочек или орхидей. «Человечество» есть пустой звук. Стоит только этому фантому исчезнуть из кругозора проблемы исторической формы, как тотчас всплывает поразительное богатство действительных форм. Здесь заключены неизмеримая полнота, глубина и движение всего живого, которые до сих пор были скрыты фразами, сухими схемами и личными «идеалами». Вместо монотонного образа растянутой в линию всемирной истории, который можно считать правильным, только если мы закроем глаза на несметное число фактов, я вижу множество могучих культур, с первозданной силой расцветающих на лоне родной местности, с которой каждая из них остается тесно связанной все время своей жизни. Каждая из них дает собственную форму своему материалу – человечеству; каждая из них имеет собственную идею, собственные страсти, собственные жизнь, волю, чувство и собственную смерть. Здесь есть краски, свет, движение, которые не открылись еще ни одному умственному взору. Существуют расцветающие и стареющие культуры, народы, языки, истина, боги, местности, подобно тому как бывают молодые и старые дубы, пинии, цветы, ветви и листья, но нет никакого стареющего «человечества». Каждая культура имеет ограниченное число возможностей своего выражения; она появляется, зреет, вянет, но никогда не возрождается. Есть много, по существу, совершенно отличных друг от друга скульптур, живописей, математик, физик, из которых каждая имеет свою ограниченную продолжительность жизни, замкнута в себе, подобно тому как каждый вид растений имеет свои цветы и плоды, свой тип роста и увядания. Эти культуры, живые существа высшего порядка, растут совершенно бесцельно, как цветы на поле. Подобно растениям и животным, они принадлежат живой природе Гете, а не мертвой природе Ньютона. Во всемирной истории я вижу образ вечного созидания и разрушения, чудесного возникновения и гибели органических форм. Профессиональный же историк представляет ее в виде ленточного червя, неутомимо «прикладывающего» эпохи.
Однако комбинация «Древность – Средневековье – Новое время» в конце концов исчерпала себя. Какой бы узкой и плоской ни была эта схема, она все же представляла собою единственное из бывших у нас философское понимание историй. По крайней мере то, что получило литературную обработку под названием всемирной истории, обязано ей находящимися в нем крупицами философского содержания. Но уже давно прошло то максимальное число столетий, которое могло быть охвачено этой схемой. Под влиянием быстро растущего исторического материала, который не укладывается в нее, традиционный образ начинает расплываться в необозримый хаос. Это знает и чувствует каждый историк, еще не дошедший до полной слепоты; он всеми силами старается держаться за единственную известную ему схему только из боязни совсем потонуть. Слово «средневековье», введенное в 1667 году лейденским профессором Горном, должно в настоящее время охватывать собою бесформенную, постоянно растущую массу фактов, которая определяется чисто отрицательно, как то, что ни под каким предлогом не может быть отнесено к двум другим кое-как упорядоченным комплексам. Примером может служить неуверенное изложение и оценка новоперсидской, русской и арабской истории. Теперь нельзя больше закрывать глаза на то обстоятельство, что мнимо всемирная история ограничивается сначала восточной областью Средиземного моря, а позже, начиная с эпохи «переселения народов» – события на самом деле чисто местного и важного только для нас, а потому чрезвычайно преувеличенного, события, которое совсем не касается уже арабской культуры, – вместе с внезапной переменой сцены она сосредоточивает свое внимание на Средней Европе. Гегель с величайшей наивностью объявляет, что он будет игнорировать народы, для которых не находится места в его системе истории. В сущности, это было благородным признанием методических предпосылок, без которых ни один историк не достигал цели.
Этот пункт может служить пробным камнем диспозиции всех исторических сочинений. В самом деле, вопрос о том, какие исторические явления мы должны серьезно принимать во внимание и какие нет, в настоящее время есть вопрос научного такта. Ранке служит хорошим примером для этого.
8.
Мы должны в настоящее время признать, что характер нашего мышления определяется географическими условиями. Только наши философы и историки не научились еще этому. Могут ли иметь какое-нибудь значение для нас мысли и перспективы, претендующие на универсальную значимость? Ведь их горизонт не простирается дальше духовной атмосферы западноевропейского человека.
Рассмотрим под этим углом зрения наши лучшие произведения. Во всех своих рассуждениях о человечестве Платон имеет в виду греков в противоположность варварам. Это вполне соответствует неисторическому стилю античной жизни и мысли и при такой предпосылке приводит к вполне правомерным с логической точки зрения результатам. Но когда Кант рассуждает хотя бы об этических идеалах, то он убежден, что его положения значимы для всех народов и всех времен. Кант только открыто не высказывает этого, так как это само собою понятно для него самого и для его читателей. В своей эстетике он формулирует не принципы искусства Фидия или Рембрандта, а принципы искусства вообще. Однако формы, устанавливаемые им как необходимые для каждого человеческого мышления, являются все-таки только формами, необходимыми для западноевропейского мышления. Достаточно взглянуть на Аристотеля, с его существенно отличными результатами, и мы убедимся, что тут размышляет о себе не менее ясный ум, а ум иначе устроенный. Для русских философов, как, например, для Соловьева, непонятен космический солипсизм, который лежит в основе Кантовой «Критики чистого разума» (всякая, даже самая абстрактная теория является выражением определенного мироощущения) и делает ее с точки зрения западноевропейцев самой истинной из всех философских систем; а для современных китайцев или арабов, с их совсем по-иному устроенными умами, учение Канта является не более как курьезом.
Западноевропейскому мыслителю присущ недостаток, который как раз у него должен бы отсутствовать: он не сознает исторически относительного характера своих выводов, типических только для людей определенной культуры; у него нет знания необходимых границ значимости его мышления; у него отсутствует убеждение, что «непоколебимые истины» и «вечные понятия» истинны только для него и вечны только в его мировоззрении и что его долг подняться выше их и поискать «непоколебимых истин» и «вечных понятий», которые с такой же уверенностью были высказаны людьми других культур. Это необходимо для полноты философии будущего. Лишь это означает постигнуть язык форм истории, форм живого мира. Здесь нет ничего пребывающего и всеобщего. Пора прекратить разговоры о формах мышления вообще, о принципах трагического вообще, о задачах государства вообще. Общезначимость есть лишь ошибочное перенесение своих субъективных качеств с себя на других.
Дело принимает гораздо более опасный оборот, если мы обратимся к мыслителям современной Западной Европы начиная с Шопенгауэра. Центр тяжести философствования этих мыслителей переносится из абстрактно-систематической в практически-этическую сферу, где вместо проблемы познания выступает проблема жизни (воли к жизни, к власти, к действию). Здесь предметом рассмотрения служит уже не идеальный абстрактный «человек», как у Канта, а реальный человек в том виде, как он живет на земле в историческое время – в первобытном состоянии или в культурно-национальных группировках, – и прямо смешно, когда и в этом случае объем высших понятий определяется схемой «Древний мир – Средневековье – Новое время» и связанными с нею пространственными границами. Однако это так.
Взглянем на исторический горизонт Ницше, на его формулировку понятий декаданса, нигилизма, переоценки всех ценностей, концепций, заложенных глубоко в сущности западноевропейской цивилизации и имеющих решающее значение для ее анализа. Спрашивается: что лежало в основе этих формулировок? Римляне и греки, Возрождение и европейская современность да еще беглый экскурс в область индийской философии (неправильно понятой). Короче говоря: «Древний мир – Средневековье – Новое время». Таким образом, Ницше, да и другие мыслители ни разу не возвысились над своей эпохой. Но разве это может служить основой философии мира? Разве это рассмотрение человеческой истории вообще! И можно ли удивляться, что Ницше, ничего не знавший о Египте, Вавилоне, Китае и России, переходя от отдельных наблюдений к широким обобщениям – сюда относятся его мысли о морали господ, о белокуром звере, о сверхчеловеке, – тотчас же создает суммарные, мнимо мирообъемлющие построения, которые в действительности провинциальны, совершенно произвольны и даже смешны.
В самом деле, каково отношение его понятия «дионисовского» к внутренней жизни высокоцивилизованного китайца эпохи Конфуция или современного американца? Каково значение его типа сверхчеловека для магометанского мира? Какое значение может иметь для души индийца или русского его антитеза понятий природы и духа, язычества и христианства, античности и современности? Что общего может быть у Толстого, от глубины своей души отвергнувшего весь идейный мир Запада как нечто для него чуждое и далекое, со «Средними веками», Данте и с Лютером? Каково может быть отношение японца к Парсифалю и Заратустре, индийца к Софоклу? А разве мир философских идей Шопенгауэра, Канта, Фейербаха, Геббеля, Стриндберга шире? Разве вся их психология, несмотря на ее космические претензии, не является насквозь западноевропейской? Какое комическое впечатление производят ибсеновские женские проблемы, претендующие также на внимание всего «человечества», в том случае если мы на место знаменитой Норы, женщины, получившей протестантское воспитание, живущей в северо-западном большом европейском городе, женщины с кругозором человека, платящего за квартиру от 2 тысяч до 6 тысяч марок, поставим жену Цезаря, г-жу де Севинье, японку или тирольскую пастушку? Да и воззрения самого Ибсена есть сегодняшние и вчерашние воззрения среднего класса большого города. Его конфликты, психологические предпосылки которых возникли не раньше 1860 года и едва ли переживут 1950 год, уже и в настоящее время не являются конфликтами, типичными для широких слоев общества и народных масс, не говоря уже о городах с неевропейским населением.
Все эти ценности носят местный, эпизодический характер, они имеют большей частью значение для ограниченного круга современной интеллигенции больших городов западноевропейского типа и ни в каком случае не могут рассматриваться как всемирно-исторические, вечные ценности. Если они имеют существенное значение для поколения Ибсена и Ницше, то подчинять им факторы, лежащие вне современных интересов, – значит недостаточно оценить или упустить из виду эти факторы, значит обнаружить непонимание слов «всемирная история», которые относятся не к отдельным явлениям, а ко всей их совокупности. И в большинстве случаев это приходится констатировать. До сих пор все соображения западноевропейцев о проблемах времени, пространства, движения, числа, воли, брака, все суждения о вопросах собственности, трагического и науки оставались близорукими и вызывающими сомнения. Такое положение дела есть результат постоянного стремления найти решение вопроса «вообще», вместо того чтобы понять, что для множества вопрошающих существует множество ответов, что философский вопрос есть не что иное, как скрытое желание получить определенный ответ, уже содержащийся в замаскированном виде в самом вопросе, что великие вопросы какого-нибудь времени следует рассматривать как нечто эфемерное и что поэтому необходимо допустить существование группы исторически обусловленных решений, лишь полный обзор которых (при совершенном отказе от собственных убеждений) может раскрыть тайны. Для подлинного мыслителя нет никаких абсолютно правильных или абсолютно ложных точек зрения. Перед лицом таких трудных проблем, как проблема времени или брака, совершенно недостаточно обращаться к личному опыту и внутреннему чувству, разуму, мнению предшественников или современников. Таким путем мы можем убедиться лишь в истине для нас самих, для нашего времени, но это еще не все. Другие культуры говорят другими языками. Для других людей – другие истины. Для мыслителя эти истины либо все действительны, либо ни одна.
Теперь понятно, как мы можем расширить и углубить западноевропейскую философию истории, теперь ясно, что в круг исследования следует привлечь все явления, выходящие за пределы скромного релятивизма Ницше и его современников, и что прежде чем позволено будет сказать: теперь понятна всемирная история, теперь понят мир как история, – должна быть достигнута крайняя утонченность чувства формы, крайнее совершенство психологического анализа, полное отречение и независимость от практических интересов, ничем не ограниченный простор горизонта.
9.
Всем этим произвольным, узким, извне привнесенным, продиктованным личными интересами и навязанным истории формам я противопоставляю естественный «коперниковский» образ мирового процесса, глубоко ему присущий и открывающийся только непредубежденному взору.
Следует вспомнить Гете. То, что он называл живой природой, есть то же самое, что я называю всемирной историей в самом широком смысле слова, миром как историей. Гете, с его натурой художника, ненавидел математику. Он не устает изображать жизнь, выхваченные из жизни образы в их развитии, становящееся, а не ставшее, как об этом красноречиво свидетельствуют «Вильгельм Мейстер» и «Истина и поэзия». В математике миру как организму противопоставляется мир как механизм, живому – мертвое, образу – закон. Всякая строчка, написанная Гете как естествоиспытателем, должна была выразить образ становления, «отчеканенную форму в ее живом развитии». Сочувствие, созерцание, сравнение, внутренняя достоверность и точная чувственная фантазия – вот его средства приблизиться к тайнам живого явления. Но это есть средства всякого исторического исследования вообще. Других не существует. Эта божественная проницательность позволила ему произнести в вечер битвы при Вальми, у бивуачных костров, известные слова: «Отсюда и сегодня начинается новая эпоха мировой истории, и вы можете сказать, что вы присутствовали при этом». Ни один полководец, ни один дипломат, не говоря уже о философах, не чувствовал так непосредственно шагов истории. Это суждение было самым глубокомысленным из всех суждений о великих событиях истории, высказанных в тот момент, когда они совершались.
И, подобно тому как Гете исследовал развитие растительной формы из формы листа, происхождение позвоночных животных и образование геологических пластов – судьбу природы, а не ее причинные связи, – я хочу здесь попытаться вызвать из всего комплекса чувственно воспринимаемых деталей язык форм человеческой истории, ее периодическую структуру, ее дыхание.
Человека не без основания обычно причисляли к организмам, живущим на поверхности земли. Строение его тела, его естественные функции, весь его внешний облик – все это относится к некоторому более широкому единству. Но, несмотря на глубоко ощущаемое родство судьбы мира растений и судьбы человека – оно служит вечной темой всякой лирики, – несмотря на сходство человеческой истории с историей любой другой группы высших организмов – тема бесчисленных сказок, легенд и басен, – для человека почему-то делается исключение. Между тем именно в этой области нужно производить сравнения, нужно предоставить миру человеческих культур свободно и глубоко воздействовать на силу нашего воображения, а не заключать его в рамки предвзятой схемы. Наконец, в словах «юность», «рост», «расцвет», «увядание», которые обычно являлись лишь выражениями субъективной оценки и глубоко личных интересов социального, морального и эстетического характера, нужно увидеть обозначение объективных органических состояний. Античную культуру, взятую как замкнутое в себе самом явление, как тело и выражение античной души, нужно сопоставить с культурой египетской, индийской, вавилонской, китайской, западноевропейской; нужно отыскать типическое в смене судеб этих индивидов высшего порядка, необходимое в бессвязной полноте случайного, и тогда перед нами развернется картина всемирной истории, свойственная нам, людям Запада, и только нам одним.
10.
Если мы вернемся теперь к нашей специальной теме, то нам необходимо будет прежде всего морфологически определить, исходя из указанного взгляда на мир, структуру настоящего, то есть эпохи от 1800 до 2000 года. Нам необходимо точно установить хронологическое место этой эпохи внутри западноевропейской культуры в ее целом; ее смысл как биографического момента этой культуры, в том или ином виде постоянно встречающегося в каждой культуре; органическое и символическое значение принадлежащих ей политических, художественных, духовных и социальных комплексов форм.
В этом пункте обнаруживается тождество указанного периода с эпохой эллинизма, особенно же кульминационного пункта нашего времени – мировой войны – с временем перехода эпохи эллинизма в эпоху римского владычества. Римская душа является варварским началом, она лишена гениальности, ей свойственно напряженное чувство действительности, дисциплинированность, практичность, протестантский и прусский характер; она всегда дает нам, людям современности, вынужденным обращаться к аналогиям, ключ к пониманию нашего собственного будущего. Греки и римляне – вот пограничная черта между уже совершившейся и предстоящей нам судьбой. Ведь давно уже можно бы и следовало бы найти в «древности» стадию развития, вполне соответствующую нашей западноевропейской; пусть она будет отличаться внешними подробностями, – по своему внутреннему устремлению, влекущему большой организм к последним этапам его развития, она окажется совершенно одинаковой. Если бы мы произвели детальное сравнение Троянской войны с крестовыми походами, Гомера с «Песнью о Нибелунгах», дорического стиля с готикой, дионисовского движения с эпохой Возрождения, Поликлета с Себастьяном Бахом, Афин с Парижем, Аристотеля с Кантом, Александра с Наполеоном, эпохи мировых городов и империализма обеих культур, – то постоянно находили бы в античности alter ego нашей собственной действительности.
Однако как односторонне, внешне, партийно и неполно подходили всегда к истолкованию античного образа истории, который является здесь необходимой предпосылкой! Мы слишком упрощали свою задачу, слишком сильно чувствовали свое родство с «древними». Констатирование поверхностного сходства – вот где лежит опасность, которой постоянно подвергалось исследование «древности». Пора наконец освободиться от вечного предрассудка, будто античный мир внутренне близок нам, потому что мы считаем себя его учениками и последователями, тогда как в действительности мы были только его почитателями. Вся религиозно-философская, историческая и социально-критическая работа XIX столетия необходима была не для того, чтобы мы поняли наконец драмы Эсхила, учение Платона, Аполлона и Диониса, афинский государственный строй и цезаризм – мы очень далеки от этого понимания, – но для того, чтобы заставить нас наконец почувствовать, как мы далеки от всего этого и как все это для нас внутренне чуждо, – быть может, более чуждо, чем мексиканские боги и индийская архитектура.
Наши мнения о греко-римской культуре всегда колебались между двумя крайностями, причем схема «Древний мир – Средневековье – Новое время» во всех без исключения случаях заранее определяла перспективы всех «точек зрения». Одни, главным образом общественные деятели, экономисты, юристы и политики, находят, что «современное человечество» идет неуклонно по пути прогресса, ценят его очень высоко и измеряют им все прошедшее. Нет ни одной современной партии, по принципам которой не была бы уже произведена «надлежащая оценка» Клеона, Мария, Фемистокла, Каталины и Гракхов. Другие – художники, филологи и философы – чувствуют себя не совсем ловко в упомянутой выше современности, а потому выбирают себе в качестве столь же абсолютного мерила какую-нибудь прошлую эпоху и, исходя из нее, столь же догматически осуждают настоящее. Одни видят в Греции «еще не», другие видят в настоящем «уже не»; и те и другие загипнотизированы картиной истории, связывающей друг с другом оба феномена в одну прямую линию.
В этой противоположности нашли свое выражение две души Фауста. Первым угрожает опасность интеллигентской поверхностности суждений. Из всей античной культуры, из всего, что служило отражением античной души, они в конце концов схватывают только социальные, экономические, правовые, политические и физиологические «факты». Остальное принимает характер «вторичных следствий», «рефлексов», «сопутствующих явлений». В их сочинениях не ощущается и следа мифической мощи хоров Эсхила, колоссальной силы земли древнейшей пластики и дорической колонны, пыла культа Аполлона и глубины, свойственной даже римскому культу императоров. Другие, преимущественно запоздалые романтики, какими были, например, в последнее время три базельских профессора, Бахофен, Буркхардт и Ницше, подвергаются опасности, содержащейся во всякой идеологии. Они витают в заоблачных высях античности, являющейся только миражом их воспринимающей способности, настроенной на филологический лад. Они доверяются памятникам древней литературы, единственному источнику, который кажется им достаточно благородным свидетельством, между тем как никогда еще великие писатели не оказывались столь несовершенными выразителями своей культуры, как именно великие писатели античного мира. Третьи опираются главным образом на прозаические источники – древнее право, надписи, монеты (как раз Ницше и Буркхардт игнорировали эти материалы, к большому вреду для своих исследований) – и подчиняют этим источникам сохранившуюся литературу, с ее часто столь ничтожным чувством истины и действительности. В силу одного уже различия критических оснований исследователи античного мира серьезно не считаются друг с другом. Насколько мне известно, Ницше и Моммзен не обращали друг на друга ни малейшего внимания.
Но никто из них не поднялся на такую высоту созерцания, где эта противоположность уничтожается, между тем как это было вполне возможно. Тут отомстило за себя перенесение принципа причинности из области естественных наук в сферу исторического исследования. Пришли к прагматизму, поверхностно копирующему образ мира, рисуемый физикой, – к прагматизму, который затушевывает и запутывает совершенно иной язык исторических форм, нисколько не способствуя его пониманию. Желая достичь углубленного и упорядочивающего понимания массы исторического материала, не придумали ничего лучшего, как рассматривать один комплекс явлений как первичный, как причину и в соответствии с этим другой – как вторичный, как следствие или действие. Не одни только практики, но и романтики прибегали к этому методу, так как история не открывала своей собственной логики также и их ограниченному взору, а между тем потребность в установлении имманентной необходимости, наличность которой чувствовалась, была очень велика, если, разумеется, не хотели, подобно Шопенгауэру, желчно повернуться спиной к истории.
11.
Будем для краткости говорить о материалистическом и идеологическом способах рассмотрения античного мира. Представители материалистического понимания истории полагают, что причиной падения одной чаши весов является поднятие другой. Они доказывают, что это явление имеет место во всех случаях без исключения, – без сомнения, блестящее доказательство. Здесь, стало быть, перед нами причина и действие, причем – само собою разумеется – социальные, половые и всякого рода чисто политические явления считаются причиною, а религиозные, духовные и художественные – следствиями, поскольку материалист вообще соглашается рассматривать последние как факты. Идеологи, наоборот, доказывают, что поднятие одной чаши весов есть следствие падения другой, и доказывают это с такой же точностью. Они углубляются в изучение культов, мистерий, обрядов, в тайны стиха и линий и едва удостаивают беглого взгляда обыденную жизнь, этот печальный результат земного несовершенства. Апеллируя к очевидному соотношению между причиной и следствием, каждая из сторон доказывает, что другая сторона, очевидно, не усматривает или не хочет усмотреть истинной связи вещей; они кончают тем, что обзывают друг друга слепцами, поверхностными людьми, дураками, бестолковыми, забавными чудаками и пошлыми филистерами. Идеолога ужасает серьезное отношение к финансовым проблемам эллинов, когда, вместо того, например, чтобы исследовать глубокомысленные изречения Дельфийского оракула, говорят об обширных денежных операциях, которые предпринимали жрецы этого оракула с оставленными у них суммами. А политик в свою очередь посмеивается над тем, кто расточает свое вдохновение на исследование сакральных формул или одежды аттических эфебов, вместо того чтобы написать обильно уснащенную модными лозунгами книгу о классовой борьбе в античном мире.
Первым представителем идеалистического понимания истории можно считать уже Петрарку. Он создал Флоренцию, Веймар, понятие Возрождения и западноевропейский классицизм. Представителей материалистического понимания мы встречаем с середины XVIII столетия, одновременно с зарождением цивилизации и экономической политики больших городов, – следовательно, раньше всего в Англии (Грот). Здесь противостоят друг другу в самой основе своей различные понимания – культурного человека и человека цивилизации; противоположность эта слишком глубока и в ней слишком много человеческого, чтобы стало возможным почувствовать и тем более преодолеть несостоятельность обеих точек зрения.
В этом пункте материалисты впадают в идеализм. Сами не сознавая и не желая, они ставят свои воззрения в зависимость от внутренних желаний. В самом деле, все без исключения наши лучшие умы благоговейно склонялись перед образом античного мира, отказываясь в этом единственном случае от неограниченной свободы критики. Анализ древности всегда затруднялся чувством какого-то благоговейного страха перед античностью. Западноевропейская культура возвела преклонение перед ней в такой пламенный культ, какого еще не создавала ни одна культура в честь другой. Одним из выражений этого невольного почитания является установление идеальной связи Древности с Новым временем через Средние века – целое тысячелетие низко оцениваемое, почти презираемое. Мы, западноевропейцы, принесли в жертву «древним» чистоту и самобытность своего искусства, осмеливаясь творить не иначе как с оглядкой на священный прообраз. В наше представление о греках и римлянах мы всякий раз вкладывали, вчувствовали все, чего нам не хватало и к чему мы стремились в глубине нашей души. Настанет день, когда тонкий психолог разъяснит нам историю нашей роковой иллюзии, расскажет нам подлинную историю всегда почитавшейся нами античности. Вряд ли можно найти более поучительные примеры для интимного познания души западноевропейского человека, начиная с Оттона III и кончая Ницше, этими жертвами увлечения античным миром.
Гете с воодушевлением рассказывает в своем путешествии по Италии о постройках Палладио, к холодной академичности которых мы относимся теперь очень скептически. Далее он упоминает о посещении Помпеи и с нескрываемым неудовольствием рассказывает о «странном, почти неприятном впечатлении». Суждения Гете о храмах Пестума и Сегесты, замечательных произведениях эллинского искусства, путаны и незначительны. Очевидно, он не узнал древности, когда она воочию, в полной силе предстала перед ним. Это характерно для исторического чувства наших душ: они ищут не впечатлений от чужого, а выражения самих себя. «Древность» западноевропейцев всегда была горизонтом созданной ими самими и вскормленной их кровью исторической картины, сосудом для собственного мироощущения, фантомом, идеалом. В кабинетах мыслителей и кружках поэтов восторгаются смелыми описаниями жизни античных больших городов у Аристофана, Ювенала, Петрония, восторгаются южной грязью и чернью, шумом и насилиями, распутными мальчиками и фринами, культом фаллоса и оргиями цезарей, но при встрече с такими явлениями в современных городах жалуются и отворачиваются, заткнувши нос. «Плохо жить в городах: там слишком много обуреваемых сладострастием» – так говорил Заратустра. Наши поклонники античности прославляют интерес римлян к государственным делам и презирают, каждого, кто не избегает в наше время всякого соприкосновения с общественной деятельностью. Существует класс знатоков, для которых различие между тогой и сюртуком, византийским цирком и английской площадкой для спорта, античными альпийскими дорогами и прорезывающими весь континент железными дорогами, триерами и пароходами, римскими копьями и прусскими штыками и даже между Суэцким каналом, построенным фараоном, и Суэцким каналом, построенным современным инженером, обладает магической силой, неуклонно лишающей их свободы суждения. Они могли бы признать паровую машину символом человеческой активности и выражением жизненной энергии лишь в том случае, если бы она была изобретена Кроном Александрийским. Им кажется святотатством говорить не о культе Великой Матери с Пессинской горы, а о системе римского центрального отопления или бухгалтерии. Несмотря на все это, греки называли капитал словом «aphormл», что значит «исходная точка», и Фукидид хвалит афинян своего времени (I 70) за то, что они не знают других праздников, кроме занятий своими делами.
Однако другие не видят ничего, кроме этого. Отождествляя без всяких оговорок греков с собою, они думают исчерпать таким образом сущность столь чуждой им культуры. Производя психологические заключения, они вращаются в системе отождествлений, которая вообще не затрагивает античной души. Они даже не подозревают, что такие слова, как «республика», «свобода» и «собственность», в древности и у нас служат для обозначения глубоко различных вещей. Они высмеивают историков гетевской эпохи, когда те, составляя историю Древнего мира, проводят в нем свои собственные политические идеалы и именами Ликурга, Брута, Цицерона и Августа, оправданием или осуждением их прикрывают собственную программу и свои личные чаяния. Однако сами обвинители не могут написать ни одной главы, не выдав, к какому направлению принадлежит читаемая ими газета.
Но совершенно безразлично, будем ли мы рассматривать прошлое глазами Дон Кихота или Санчо Пансы. Ни один из этих путей не ведет к цели. В конце концов, каждый из западных поклонников античности позволил себе выдвинуть на передний план тот уголок античного мира, который случайно более всего отвечал его собственным устремлениям: Ницше – Афины досократовской эпохи, экономисты – эллинизм, политики – республиканский Рим, поэты – императорский период.
Нельзя сказать, чтобы религиозные или художественные явления были первичнее социальных и хозяйственных. И это утверждение и обратное ему неправильны. Для людей, достигших в этих вопросах абсолютной свободы суждения, для людей, стоящих выше всяких личных интересов, каковы бы они ни были, вообще не существует никакой зависимости и никакого приоритета, никакой причины и действия, никаких различий ценности и важности. Значение отдельных явлений определяется исключительно большей или меньшей чистотой и силой языка их форм, мощью их символики; добро и зло, возвышенное и низменное, польза и идеал тут вообще не играют никакой роли.
12.
Гибель Запада, рассматриваемая под таким углом зрения, представляет не более и не менее как проблему цивилизации. Здесь перед нами один из самых основных вопросов истории. Что такое цивилизация, понятая как логическое следствие, как завершение и исход всякой культуры?
В самом деле, всякая культура имеет свою собственную цивилизацию. Эти два слова, до сих пор различавшиеся по какому-то смутному этическому признаку субъективного характера, здесь впервые поняты как выражение периодичности, строгой и необходимой органической последовательности. Цивилизация есть неизбежная судьба всякой культуры. Здесь мы достигаем вершины, с которой становятся разрешимыми последние и самые трудные вопросы исторической морфологии. Цивилизация есть совокупность крайне внешних и крайне искусственных состояний, к которым способны люди, достигшие последних стадий развития. Цивилизация есть завершение. Она следует за культурой, как ставшее за становлением, как смерть за жизнью, как окоченение за развитием, как духовная старость и каменный и окаменяющий мировой город за господством земли и детством души, получившими выражение, например, в дорическом и готическом стилях. Она неотвратимый конец; к ней приходят с глубокой внутренней необходимостью все культуры.
Только под этим углом зрения можно понять римлян как преемников греков. Только при таком подходе проливается свет на сокровеннейшие тайны поздней античности. Разве можно спорить против того, что римляне были варварами, не начинающими великий подъем культуры, а завершающими его? Бездушные, без всякой способности к философии и искусству, с животными инстинктами, с исключительной погоней за материальным успехом, римляне стоят на границе между эллинской культурой и ничем. Их сила воображения, направленная всецело на практические цели (они, правда, создали сакральное право, которое регулировало отношения между богами и людом как между частными лицами, но у них не было и следа мифа), есть способность, какой вовсе нельзя было встретить в Афинах. Греческая душа и римский интеллект – вот к чему сводится здесь дело. Перед нами различие культуры и цивилизации. Оно сохраняет силу не только по отношению к истории античного мира. Каждый раз снова появляется этот тип сильных волею, совершенно чуждых метафизике людей. В их руках находятся духовные и материальные судьбы людей поздней эпохи. Они руководили вавилонским, египетским, индийским, китайским и римским империализмом. В такие периоды буддизм, стоицизм и социализм развивались в законченные мировоззрения, способные еще раз захватить и преобразовать угасающее человечество в самой его сущности. Цивилизация в ее чистом виде, понимаемая как исторический процесс, состоит в постепенном отложении ставших неорганическими омертвевших форм.
Переход от культуры к цивилизации в античном мире происходит в IV веке, а на западе – в девятнадцатом. С этого момента великие духовные решения принимаются не «всем обществом», как в эпоху орфического движения и Реформации, когда играла свою роль, в сущности, каждая деревушка, а тремя-четырьмя мировыми городами, вобравшими в себя все содержание истории; по отношению к ним вся остальная территория культуры низводится до уровня провинции, которой остается только питать мировые центры сохранившимися еще в ней остатками высшего человеческого материала. Мировой город и провинция – эти основные понятия всякой цивилизации выдвигают совсем новую проблему исторических форм, которую мы, люди современности, переживаем, совершенно не понимая всей ее огромной важности. Вместо мира – город, отдельный пункт, в котором сосредоточивается вся жизнь обширных областей, тогда как все остальное засыхает; вместо богатого формами, сросшегося с землей народа – новый кочевник, паразит, обитатель больших городов, подлинный человек фактов, лишенный традиций, выступающий бесформенной текучею массой, неверующий, с развитым умом, бесплодный, с глубокой антипатией к крестьянству (и высшей его форме – поместному дворянству), то есть огромный шаг к неорганическому, к концу, – что все это означает? Франция и Англия уже сделали этот шаг, а Германия готова его сделать. За Сиракузами, Афинами, Александрией следует Рим. За Мадридом, Парижем, Лондоном идет Берлин. Стать провинцией – такова судьба целых стран, лежащих вдали от этих городов. Когда-то она постигла Крит и Македонию, теперь постигает Скандинавский Север.
Некогда борьба за идейное содержание эпохи происходила на почве метафизических мировых проблем, носивших религиозный или догматический отпечаток; она велась между черноземным духом крестьянства (дворянства и духовенства) и «светским» патрицианским духом старых, небольших, славных городов раннего дорического и готического периодов. Такой характер носила борьба вокруг религии Диониса (например, при сикионском тиране Клисфене) или борьба за реформацию в германских имперских городах и во время гугенотских войн. Но после того как эти города в конце концов победили деревню (чисто городское миросозерцание мы встречаем уже у Парменида и Декарта), и они в свою очередь были побеждены мировым городом. Таков духовный процесс всех поздних эпох, как ионической, так и барокко. В наше время, как и в эпоху эллинизма, на пороге которой создается искусственный и, стало быть, чуждый стране большой город (Александрия), прежние культурные центры – Флоренция, Нюрнберг, Саламанка, Брюгге, Прага – превратились в провинциальные города, ведущие безнадежную идейную борьбу с духом мировых городов. Мировой город означает собой космополитизм вместо «родины»; холодное преклонение перед фактами вместо благоговения перед традицией и исконным; научное неверие, своего рода окаменелость вместо предшествовавшей религии сердца; «общество» вместо государства; «естественные права» вместо приобретенных. Деньги – мертвый абстрактный фактор, оторванный от всякой связи с производительными силами земли, с ценностями, необходимыми для простой, безыскусственной жизни, – вот преимущество римлян перед греками. С этого момента благородное миросозерцание также становится вопросом денег. Не греческий стоицизм Хрисиппа, но позднеримский стоицизм Катона и Сенеки требует в качестве своей предпосылки материального благосостояния, не социально-этического настроения XVIII века, а умонастроения миллионера XX века, способного претворить в дело профессиональную – приносящую доход – агитацию. Мировой город населен не народом, а массой. Ее непонимание традиции и борьба с традицией, которая является, в сущности, борьбой с культурой (с дворянством, церковью, привилегиями, династией, условностями в искусстве, границами познания в науке), ее острая и холодная рассудочность, превосходящая мужицкую рассудительность, ее натурализм в совершенно новом смысле, идущий во всех половых и социальных вопросах гораздо дальше Сократа и Руссо и возвращающийся к первобытным инстинктам и состояниям, ее «panem et circenses» [3], снова появляющееся в настоящее время под личиной борьбы за заработную плату и спортивных состязаний, – все это, в противоположность окончательно завершенной культуре провинции, есть выражение совершенно новой, поздней и лишенной будущего, но неизбежной формы человеческого существования.
Вот та картина, которую необходимо увидеть, но не глазами партийных людей, идеологов, моралистов своего времени, под углом какой-нибудь «точки зрения», а с вневременной высоты, направляя взор на мир исторических форм, охватывающих тысячелетия, – если только мы действительно хотим понять великий кризис современности.
Я усматриваю символы первостепенной важности в том, что в Риме, где около 60 года до Р. X. триумвир Красе был первым спекулянтом землей, предназначавшейся для построек, римский народ, имя которого красовалось на всех публичных надписях, пред которым трепетали вдали галлы, греки, парфяне, сирийцы, пребывал в крайней нищете, населяя многоэтажные наемные казармы мрачных предместий, и воспринимал известия о военных успехах и территориальном расширении с полным безразличием или с интересом спортсмена; в том, что многие знатные и славные семьи, потомки победителей над кельтами, самнитами и Ганнибалом, принуждены были покидать свои родовые дома и селиться в бедных наемных жилищах, потому что они не принимали участия в диких спекуляциях; в том, что трупы людей из простонародья вместе с трупами павших животных и городским мусором бросались в ужасающие общие могилы, пока эти места во времена Августа не были засыпаны в целях предотвращения эпидемий и Меценат не разбил на них свой знаменитый парк, в то время как вдоль Via Appia воздвигались мавзолеи римских финансовых тузов, еще и теперь поражающие нас своею грандиозностью; в том, что в обезлюдевших Афинах, живших на счет паломничеств и пожертвований богатых иностранцев (например, иудейского царя Ирода), толпы невежественных путешественников, состоявшие из слишком быстро разбогатевших римлян, глазели на произведения перикловской эпохи, в которых они смыслили так же мало, как американские посетители Сикстинской капеллы в Микеланджело, после того как вся художественная «движимость» была разграблена или распродана по фантастическим модным ценам, а зато рядом с глубокими и скромными произведениями древности были воздвигнуты колоссальные и уродливые римские постройки. Во всех этих вещах, которые историку нужно не хвалить и не порицать, но беспристрастно морфологически оценивать, для человека, научившегося видеть, непосредственно ясна определенная идея.
Теперь, как и тогда, вопрос не в том, кто ты по рождению – германец или романец, эллин или римлянин, – но в том, кто ты по воспитанию – горожанин или провинциал. Это решающий момент во всех областях фактов. Здесь мы находим новый и в своем роде совершенный взгляд на мир как выражение некоторого нового жизненного стиля. Во всех до сих пор известных нам случаях происходила весьма замечательная и, по существу, тождественная метаморфоза. Одной из главнейших причин ненахождения подлинной структуры истории в хаотической картине исторической поверхности является неумение выделить из обоюдного взаимопроникновения комплексы форм культурной и цивилизованной жизни. Критика современности стоит здесь перед своей труднейшей задачей.
Ведь скоро станет ясно, что с этого момента все великие конфликты миросозерцания, политики, искусства, науки, чувства происходят под знаком этой единственной противоположности. Чем отличается цивилизованная политика завтрашнего дня от культурной политики вчерашнего? В античном мире риторика, на западе журнализм, притом на службе той абстракции, которая представляет собою мощь цивилизации, – на службе денег. Дух денег незаметно проникает все исторические ф#ормы народного бытия, часто нисколько их не изменяя и не разрушая. Римский государственный механизм, от Сципиона Африканского Старшего до Августа, оставался в гораздо большей степени стационарным, чем это обыкновенно считается. Но могущественные политические партии, орудия устарелой формы политической жизни, во времена Гракхов, как и в XX веке, являются лишь кажущимися центрами решающих действий. На самом деле римлянам было совершенно безразлично, что и как говорят, решают и кого выбирают на помпейском форуме, а у нас в дальнейшем мнение провинциальных газет и, стало быть, «воля народа» будет определяться тремя или четырьмя органами периодической прессы. Все решает небольшой круг лиц выдающегося ума, имена которых, быть может, вовсе не принадлежат к числу наиболее популярных, тогда как большая масса политиков второго разряда, риторов, трибунов, депутатов, журналистов, подобранных по провинциальным горизонтам, поддерживает иллюзию народного самоопределения. А искусство? А философия? Идеалы времен Платона и Канта относились к высшему типу человека вообще. Идеалы же эллинизма и современности, в особенности социализм и генетически близкий ему дарвинизм, с его совершенно негетевскими формулами борьбы за существование и полового подбора; связанные в свою очередь с этими теориями женский вопрос и проблемы брака у Ибсена, Стриндберга и Шоу; импрессионистические наклонности анархической чувственности; весь букет современных томлений, раздражений и скорбей, выражением которых является лирика Бодлера и музыка Вагнера, – все это существует не для мироощущения деревенского жителя и вообще человека близко стоящего к природе, но исключительно для людей мозга, населяющих мировые города. Чем меньше город, тем бессмысленнее занятие такого рода живописью и музыкой. Принадлежностью культуры является гимнастика, турнир, агон; принадлежностью цивилизации – спорт. Этим отличается эллинская палестра от римского цирка. Само искусство становится спортом – таков истинный смысл формулы искусство для искусства в присутствии утонченной публики знатоков и покупателей, идет ли речь об овладении абсурдной массой инструментальных звучностей, о преодолении гармонических трудностей или о «разрешении» красочной проблемы. Появляется новая философия фактов, с насмешкой относящаяся к метафизическим спекуляциям, новая литература, составляющая потребность для интеллекта, вкуса и нервов столичного жителя, непонятная и ненавистная провинциалу. Ни александрийская поэзия, ни пленэризм в живописи ни в малейшей степени не интересуют «народ». Движение вперед тогда, как и теперь, отмечается рядом скандалов, возможных лишь в такие эпохи. Негодование афинян против Еврипида и революционные приемы в живописи, хотя бы Аполлодора, повторяются в виде протестов против Вагнера, Маю, Ибсена и Ницше.
Мы можем понять греков, не принимая в расчет их экономических отношений. Римлян нельзя понять, не изучив этих отношений. Сражения при Херонее и под Лейпцигом есть последние сражения за идею. В I Пунической войне и при Седане экономические мотивы выступают на первый план. Только римляне, со свойственной им практической энергией, сообщили рабскому труду и торговле рабами тот исполинский размах, который для многих дает окончательное определение античному жизненному укладу. В соответствии с этим только германские, а не романские народы Западной Европы создали при помощи паровых машин крупную промышленность, изменившую картину целых стран. Не надо упускать из виду связь обоих этих глубоко символических феноменов со стоицизмом и социализмом. Только римский цезаризм, возвещенный Фламинием и впервые обнаруживший себя в лице Мария, дал почувствовать в античном мире величие денег в руках твердых характеров, практических людей широкого размаха. Без этого совсем непонятны ни Цезарь, ни римский гений. У каждого грека была какая-нибудь черта Дон Кихота, у каждого римлянина – черта Санчо Пансы; по сравнению с этим все прочие их качества стушевываются.
13.
Что касается римского мирового владычества, то его следует рассматривать как отрицательное явление, не как результат избытка силы одной стороны – после Замы у римлян ее больше не было, – но как недостаток сопротивления другой. Римляне вовсе не завоевали мира. Они только завладели добычей, которой мог бы завладеть каждый. Римская империя обязана своим возникновением не чрезвычайному напряжению всех военных и финансовых ресурсов, что понадобилось некогда для борьбы против Карфагена, но отказу Древнего Востока от внешнего самоопределения. Не следует обманываться иллюзией блестящих военных успехов. С парой плохо обученных, плохо предводимых, дурно настроенных легионов Лукулл и Помпеи подчиняли целые царства, о чем нельзя было и подумать во времена битвы при Иссе. Митридатская опасность, действительная опасность для этой никогда не подвергавшейся испытанию системы материальных сил, не могла бы иметь никакого значения для победителей Ганнибала. После Замы римляне не вели и не могли вести больше ни одной войны против сколько-нибудь значительной военной державы. Их классическими войнами были войны против самнитян, против Пирра и против Карфагена. Их великим часом была битва при Каннах. Нет такого народа, который в течение столетий носил бы котурны. У прусско-немецкого народа, знающего славные моменты 1813, 1870 и 1914 годов, их больше, чем у других народов.
Я хотел бы сделать убедительной мысль, что империализм есть типический символ конца, хотя бы его окаменелые формы, подобные египетскому, китайскому, римскому царствам, индийскому миру и миру ислама, существовали в течение столетий и тысячелетий, переходя из рук одного завоевателя в руки другого, – мертвые тела, аморфные, бездушные человеческие массы, изношенный материал великой истории. Империализм есть цивилизация в ее чистом виде. Империализм есть неизбежная судьба Запада. Культурный человек носит свою энергию в себе, цивилизованный расходует ее вовне. Вот почему я считаю Сесиля Родса первым человеком новой эпохи. Он проводит политический стиль далекого западного германского, особенно же немецкого, будущего. Его изречение «расширение – это все» выражает в этой наполеоновской форме подлинную тенденцию каждой созревшей цивилизации. Это самое можно сказать относительно римлян, арабов, китайцев. Здесь нет выбора. Здесь бессильна решать что-нибудь сознательная воля личности или целых классов и народов. Тенденция к распространению есть рок, нечто демоническое и чудовищное, завладевающее людьми поздних эпох, эпох мировых городов, принуждающее их служить себе, порабощающее их, хотят ли они этого или не хотят, знают ли об этом или нет. Жизнь есть осуществление возможностей, а для человека мозга существуют только экстенсивные возможности. Как бы рьяно ни выступал сегодняшний, еще эмбриональный социализм против экспансии, придет день, когда он с непреоборимостью рока будет ее главным носителем. Здесь язык форм политики как непосредственного интеллектуального выражения определенного рода людей касается глубокой метафизической проблемы: факта, опирающегося на безусловную значимость принципа причинности, что дух есть дополнение протяженности.
Роде является предвестником западноевропейского типа цезаря, для которого время еще далеко не пришло. Он стоит посредине между Наполеоном и мощными людьми ближайшего столетия, подобно тому как Фламиний стоял между Александром и Цезарем, тот самый Фламиний, который уже в 232 году призывал римлян к подчинению цизальпинской Галлии, то есть к политике колониального расширения. Фламиний был демагогом, выражаясь точнее, частным человеком, пользовавшимся государственным влиянием в то время, когда государственная идея попала во власть экономических факторов; несомненно, он был в Риме первым представителем типа цезарианской оппозиции. Вместе с ним кончается органическая, опиравшаяся на идею воля к власти патрициата и начинается чисто материалистическая, безнравственная, не знающая границ политика территориального расширения. Александр и Наполеон были романтиками, стоявшими на пороге цивилизации; они были уже овеяны ее холодным и прозрачным воздухом; но один любил разыгрывать роль Ахилла, а другой читал Вертера; Цезарь же был исключительно человеком фактов, с огромным умом.
Но уже Роде под успешной политикой разумел исключительно территориальные и финансовые успехи. Он сам прекрасно сознавал эту свою чисто римскую черту. Западноевропейская цивилизация никогда еще не воплощалась с такой энергией и отчетливостью. Только перед своими географическими картами Роде мог впадать в род поэтического экстаза; происходя из пуританской семьи пастора, он явился без всяких средств в Южную Африку и составил себе громадное состояние, которое должно было служить ему могущественным средством для достижения политических целей. Его идея трансафриканской железной дороги от Капштадта до Каира; его проект Южноафриканского государства; его духовное влияние на крупных копевладельцев, железных плутократов, которых он вынуждал предоставлять свое состояние на службу его идеям; его столица Булувайо, которую он, могущественный государственный деятель, не стоящий, однако, в каком-либо определенном отношении к государству, заложил в качестве будущей резиденции совсем в царском масштабе; его войны, дипломатические акты, система дорог, синдикаты, войска; его представление о «великой обязанности людей мозга перед цивилизацией» – все это грандиозно и значительно и служит прообразом ожидающего нас будущего, которым окончательно завершится история западноевропейского человека.
Кто не понимает, что этот исход не может быть предотвращен, что мы должны желать его или вовсе отказаться от желаний, что мы должны полюбить эту судьбу или вовсе отчаяться в будущем, в жизни; кто не ощущает величия, заключенного и в этой деятельности высших интеллектов, в этой энергии и дисциплине твердокаменных натур, в этой борьбе при помощи самых холодных, самых абстрактных средств; кто носится с идеализмом провинциала и стремится воскресить жизненный стиль прошедших времен, – тот должен отказаться понять историю, пережить историю, творить историю.
Таким образом, римская империя предстает перед нами уже не как однократное явление, но как нормальный продукт строгого и энергичного, в высшей степени практического духа мировых городов и как типичная заключительная стадия, какие повторялись уже не раз, но тождество которых до сих пор никем еще не было установлено. Теперь, однако, пора понять, что тайна исторической формы заключена не в явлениях, происходящих на поверхности, и не может быть познана при помощи сходства костюмов или декораций; что в человеческой истории, как и в истории животных и растений, встречаются явления обманчивого сходства, которые, по существу, не имеют ничего родственного (Карл Великий и Гарун-аль-Рашид, Александр и Цезарь, войны германцев с Римом и нашествие монголов на Западную Европу), и другие явления, которые при величайшем внешнем различии служат выражением тождественной сущности, например Траян и Рамзес II, Бурбоны и аттический демос, Магомет и Пифагор. Пора уяснить себе, что XIX и XX века – эту мнимую вершину прямолинейно прогрессирующей всемирной истории – фактически можно отыскать в каждой зрелой, склоняющейся к концу культуре (социалисты, импрессионисты, электрические трамваи, мины и дифференциальные уравнения суть только остов эпохи, который не обязателен для других культур) с цивилизованным духовным укладом, обладающим также и совершенно иными возможностями внешнего воплощения; что современность, следовательно, представляет собою переходную стадию, которая с неизбежностью наступает при определенных условиях; что существуют также совершенно определенные более поздние стадии, чем современная западноевропейская; что эти стадии в протекшей истории повторялись уже не раз и что, таким образом, будущее Запада не есть безбрежное «вверх» и «вперед» в направлении наших теперешних идеалов, с фантастическими перспективами времени, но строго ограниченный в отношении формы и продолжительности и с точностью определенный, охватывающий лишь немногие столетия отдельный феномен истории, который по приведенным примерам можно обозреть и в существенных чертах наметить.
14.
Кто поднялся на эту вершину, тому плоды сами падают в руки. Одна указанная идея дает ключ к простому разрешению всех частных проблем из области религиозного исследования, истории искусств, критики познания, этики, политики и политической экономии, которые в течение десятилетий страстно, но без какого-либо результата волновали современные умы.
Эта идея относится к числу тех истин, которые невозможно оспаривать, после того как они высказаны с полной отчетливостью. Она относится к числу внутренних необходимостей западноевропейской культуры и ее мироощущения. Она способна в корне изменить жизнепонимание тех людей, которые ее до конца поняли, то есть внутренно усвоили себе. Возможность проследить хотя бы в общих чертах также и будущие стадии процесса всемирно-исторического развития, к которому мы принадлежим и который мы до сих пор только ретроспективно умели рассматривать как органическое целое, свидетельствует о громадном углублении естественной и необходимой нам картины мира. До сих пор о подобном позволял себе мечтать при своих вычислениях только физик. Это означает, повторяю еще раз, замену птоломеевской точки зрения коперниковской также и в области исторического исследования, то есть необычайное расширение жизненного горизонта.
До сих пор всякий надеялся, что будущее осуществит его заветные надежды. Где нет фактов, там царствует чувство. Впредь долгом каждого в отношении грядущего будет исследовать, что может случиться и что действительно случится, случится с непреложной необходимостью судьбы, совершенно независимо от наших личных идеалов или идеалов нашего времени. Когда мы применяем к себе расплывчатое слово «свобода», оно означает не то, что мы вольны делать одно или другое, а то, что мы совершимнеобходимое или ничего не совершим. Сознавать это как «благо» – вот главнейший признак реалиста. Мы можем сожалеть или порицать такой порядок вещей – от этого ничего в нем не изменится. Рождение связано со смертью, юность со старостью, жизнь вообще с определенной формой и определенными рамками времени. Современность есть фаза цивилизации, а не культуры. Этот факт отсекает целый ряд жизненных содержаний как невозможных. Мы можем скорбеть об этом и облекать свою скорбь в наряд пессимистической философии или лирики – так оно впредь и будет, – но изменить это мы не в состоянии. Отныне непозволительно самоуверенно усматривать в сегодняшнем или завтрашнем дне рождение или расцвет того, что для нас желательно, вопреки явно противоречащему нашим желаниям историческому опыту.
Мне могут сделать возражение, что такой взгляд на мир, дающий уверенность относительно общего направления будущего и разрушающий розовые надежды, враждебен жизни и может стать для многих роковым, если выйдет из рамок простой теории и станет практическим миросозерцанием групп, принимающих активное участие в создании будущего.
Я думаю, что такое предположение ошибочно. Мы цивилизованные люди, а не люди готики или рококо; мы должны считаться с жесткими и холодными фактами позднейжизни, параллелью которой являются не перикловские Афины, а Рим эпохи Цезаря. Для западноевропейского человека уже нечего ожидать великой живописи или музыки. Его архитектонические возможности вот уже сто лет как исчерпаны. Ему осталось только территориальное расширение. Но я не вижу вреда в том, что рассудительное и преисполненное неограниченных надежд поколение заблаговременно узнает, что часть этих надежд должна рушиться. Пусть это будут самые дорогие надежды; кто чего-нибудь стоит, тот сумеет преодолеть свое разочарование. Правда, для некоторых молодых людей может оказаться трагическим, если в критическом возрасте они проникнутся уверенностью, что в области архитектуры, драмы, живописи им не суждено создать ничего великого. Пусть они погибают. До сих пор все были убеждены, что тут нет никаких границ; все считали, что перед каждой эпохой, в каждой области стоят свои особые задачи; к ним устремлялись в случае надобности путем насилия и жертвуя совестью, и лишь после смерти выяснялось, была ли эта вера основательна и работа целой жизни необходима или излишня. Но кто не является романтиком, тот не станет идти этим окольным путем. Это не та гордость, которая отличала римлян. Чего стоят люди, предпочитающие, чтобы им сказали, когда они стоят перед истощенным рудником: «Завтра здесь будет открыта новая жила» (как это делает современное искусство, создавая все новые насквозь лживые стили), вместо того чтобы указать на новую, непочатую соседнюю залежь? Я считаю это учение благодетельным для подрастающего поколения, ибо оно показывает, что возможно и, следовательно, необходимо и что не принадлежит к внутренним возможностям данной эпохи. Слишком много духовных сил расточалось до сих пор на ложных путях. Хотя западноевропеец мыслит и чувствует исторически, он все же, достигши известного возраста, никогда не сознает своего истинного назначения. Он нащупывает, ищет и сбивается с пути, если внешние обстоятельства ему неблагоприятны. Теперь наконец, в результате работы столетий, он получил возможность обозреть свое положение в связи с общей культурой и испытать, что он может и должен. Если под влиянием этой книги представители нового поколения займутся техникой вместо лирики, мореплаванием вместо живописи, политикой вместо теории познания, – они совершат то, что соответствует моим желаниям, и ничего лучшего им пожелать нельзя.
15.
Нам остается еще установить соотношение между морфологией всемирной истории и философией. Всякое подлинное историческое исследование является подлинной философией – в противном случае это просто муравьиная работа. Но философы старого стиля впадают всегда в тяжкое заблуждение. Они полагают, что их определения имеют неизменный характер; они думают, что мышление высшего порядка имеет свой вечный и неизменный предмет, что великие вопросы во все времена одни и те же и что они в конце концов когда-нибудь получат разрешение.
Но вопрос и ответ сливаются здесь воедино, и всякий великий вопрос, в основе которого уже лежит страстное желание совершенно определенного ответа, имеет исключительно символическое значение. Нет никаких вечных истин. Каждая философия есть выражение своего, и только своего, времени, и не существует двух эпох, перед которыми стояли бы одинаковые философские задачи, поскольку дело идет о настоящей философии, а не о никому не нужных академических упражнениях на тему о формах суждения или категориях чувства. Различие философских учений заключается не в том, что одни из них бессмертны, а другие преходящи, а в том, что одни из них были жизненными в течение известного времени, а другие никогда не были жизненными. Непреходящие философские истины – иллюзия. Существенны не они, а человек, который нашел в них свое отражение. Чем крупнее человек, тем истиннее философия – в том смысле, в каком мы говорим о внутренней истине великого произведения искусства, истине, совсем не зависящей от доказуемости и от отсутствия противоречий между отдельными положениями. В лучшем случае она может исчерпать собой и реализовать в себе все содержание эпохи и передать его дальнейшему развитию оформленным и воплотившимся в личность и идею. Научный костюм, ученая маска философии ничего здесь не решают. Нет ничего проще, как вместо отсутствующих мыслей создать систему. Но даже правильная мысль немного стоит, если она высказана глупцом. Значение какого-нибудь учения определяется степенью его необходимости для жизни.
Поэтому я считаю пробным камнем ценности какого-нибудь мыслителя его отношение к великим фактам своего времени. Только таким образом решается вопрос, кто перед нами: искусный конструктор системы и принципов, отличающийся начитанностью и ловко производящий дефиниции и анализы, или же выразитель души эпохи, которая сквозит в его произведениях и интуициях. Философ, который не схватывает действительности и не господствует над нею, никогда не будет первоклассным философом. Досократики были купцами и политиками высокого стиля. Платону едва не стоила жизни его попытка осуществить в Сиракузах свои политические идеи. Тот же самый Платон открыл ряд геометрических теорем, которые позволили Эвклиду построить систему античной математики. Паскаль, которого Ницше знал только как «надломленного христианина», Декарт, Лейбниц были первыми математиками и техниками своего времени.
Как раз здесь я усматриваю сильное возражение против всех философов последнего времени. Им не хватает серьезной роли в действительной жизни. Никто ни одним делом, ни одной могучей мыслью не оказал решающего влияния на высшую политику, на развитие современной техники, путей сообщения, народного хозяйства и вообще на какую-нибудь область «большой жизни». Никто из них не оставил ни малейшего следа в математике, физике, государственных науках, чего нельзя сказать даже еще о Канте. Смысл этого станет для нас понятен, если мы бросим взгляд на другие эпохи. Аристотель в своем сочинении об афинском государстве обнаружил тончайшее понимание социально-политической ситуации, зарождающегося эллинизма. Он мог бы с большим успехом, подобно Софоклу, управлять финансами в Афинах. Гете, министерская деятельность которого была образцовой и которому, к сожалению, недоставало лишь большого государства как поприща для его деятельности, проявил интерес к проведению Суэцкого и Панамского каналов, довольно точно предсказал срок их постройки и их торговое значение. Его всегда занимала хозяйственная жизнь Америки, ее воздействие на старую Европу и начавшийся рост машинной промышленности. Гоббс был одним из авторов обширного плана захвата Англией Южной Америки, и если дело не пошло тогда дальше занятия Ямайки, то все же ему принадлежит слава быть одним из творцов английского колониального государства. Лейбниц, несомненно самый мощный ум в западноевропейской философии, основатель дифференциального исчисления и analysis situs, разъяснил Людовику XIV в меморандуме, написанном с целью облегчения политического положения Германии, значение Египта для французской мировой политики. Его мысли настолько опередили время (1672), что впоследствии существовало убеждение, что Наполеон использовал их для своей экспедиции на Восток. Лейбниц уже тогда доказал то, что со времени Баграма становилось все более и более ясным для Наполеона, а именно что завоевания у Рейна и в Бельгии не могут надолго улучшить положение Франции и что Суэцкий перешеек будет когда-нибудь ключом к владычеству над морем. Без сомнения, Людовик XIV не дорос до глубоких политических и стратегических соображений Лейбница.
Если после людей такого размаха мы обратим свой взгляд на современных философов, то нам станет стыдно. Какие ничтожные личности! Какая будничность духовного и практического горизонта! Не возбуждает ли жалости одна мысль о них в роли государственных деятелей, дипломатов, крупных организаторов или руководителей какого-нибудь большого колониального, коммерческого или транспортного предприятия? Этот недостаток практических способностей не служит, однако, признаком внутренней сосредоточенности, а свидетельствует лишь о легковесности. Тщетно я озираюсь и ищу, кто из них создал себе имя хотя бы одним глубоким и прозорливым суждением по какому-нибудь коренному вопросу современности. Я не нахожу ничего, кроме мнений, которые способен высказать всякий провинциал. Когда я беру в руки книгу какого-нибудь современного мыслителя, то я спрашиваю себя, что думает он вообще (оставляя в стороне его профессорскую или узкопартийную болтовню, свойственную уровню журналиста средней руки, которую можно найти у Гюйо, Бергсона, Спенсера, Дюринга, Эйкена): я задаюсь вопросами, каковы его мнения о мировой политике, о великих проблемах мировых городов, о капитализме, о будущем государстве, об отношении техники к последним периодам цивилизации, о русском вопросе, о науке вообще. Гете понимал бы и любил бы все это. Ни один из живущих теперь философов не вносит этих проблем в свой кругозор. Я опять повторяю: все это не есть содержание философии, но это есть несомненный симптом ее внутренней необходимости, ее плодотворности, ее символического значения.
Не следует создавать себе иллюзии относительно значительности этих отрицательных результатов. Очевидно, утерян всякий смысл философской деятельности. Ее смешивают с проповедью, агитацией, фельетоном или научной специальностью. С горизонтов орла мы опустились до горизонта лягушки. Дело идет не более и не менее как о вопросе, возможна ли вообще, сегодня или завтра, настоящая философия. Если нет, то лучше стать огородником или инженером, чем-нибудь истинным и реальным, вместо того чтобы под предлогом «нового подъема философского мышления» пережевывать избитые темы, и лучше сконструировать авиационный мотор, чем новую и совершенно излишнюю теорию апперцепции. Поистине жалкая участь еще раз и чуть-чуть на иной лад, чем это делали сотни предшественников, формулировать понятие воли и психофизического параллелизма. Быть может, это «специальность», но никак не философия. Лучше совсем молчать, чем говорить о том, что не захватывает до самой глубины всей жизни данной эпохи и не переворачивает ее. Что возможно было вчера, в этом сегодня по меньшей мере нет необходимости.
Я люблю глубину и тонкость математических и физических теорий, по сравнению с которыми теории эстетики и физиологии только жалкое кропательство. За великолепные, ясные, высокоинтеллектуальные формы быстроходного парохода, сталелитейного завода, прецизионной машины, а за тонкость и изящество некоторых химических и оптических манипуляций я отдам всю стильную дребедень современной художественной промышленности вместе с живописью и архитектурой. Я предпочитаю римский акведук всем римским статуям и храмам. Я люблю Колизей и исполинские своды Палатина за то, что они бурой массой своей кирпичной конструкции являют нашим глазам настоящий Рим – изощренный практический ум римских инженеров. Они были бы для меня безразличны, если бы до сих пор сохранилась пустая и наглая мраморная пышность цезарей, с ее рядами статуй, фризами и перегруженными архитравами. Бросьте взгляд на реконструкции императорских форумов: вы увидите нечто вполне соответствующее современным всемирным выставкам, навязчивое, громоздкое, пустое, нечто одинаково чуждое как греку времени Перикла, так и человеку эпохи рококо, нечто претенциозное по материалам и размерам, нечто подобное тому, о чем красноречиво говорят развалины Луксора и Карнака времен Рамзеса II, этого египетского «модерна» 1300 года до Р. X. Настоящий римлянин не напрасно презирал «Graeculum histrionem», этого «художника» и «философа» на почве римской цивилизации. Искусства и философия в эту эпоху больше не существуют; они были исчерпаны, использованы, излишни. Это подсказывал римлянину его инстинкт реальной жизни. Один римский закон имел больше значения, чем вся тогдашняя лирика и школьная метафизика. И я утверждаю, что в наши дни в ином изобретателе, дипломате и финансисте таится лучший философ, чем во всех тех, кто занимается плоским ремеслом экспериментальной психологии. Такое положение постоянно повторяется на определенной ступени истории. Было бы бессмысленно, если бы талантливый римлянин, вместо того чтобы в качестве консула или претора предводительствовать войскам, организовывать провинции, строить дороги и города или стремиться к тому, чтобы быть «первым в Риме», вздумал ломать себе голову в Афинах или Родосе над каким-нибудь новым оттенком послеплатоновской академической философии. Естественно, что этого никто и не делал. Это не отвечало направлению эпохи и могло прельщать лишь людей третьего разряда, всегда проникнутых духом времени позавчерашнего дня. Очень серьезный вопрос, настала ли уже для нас эта стадия или еще нет.
Век чисто экстенсивной деятельности, исключающий высокое художественное и метафизическое творчество (скажем прямо – иррелигиозный век, что вполне совпадает с понятием культуры мирового города), представляет собою эпоху упадка. Несомненно. Но эта эпоха не есть свободно избранная нами эпоха. Мы не в состоянии изменить того факта, что мы родились во время начинающейся зимы, в эпоху цивилизации, а не в полдень зрелой культуры, в эпоху Фидия или Моцарта. Крайне важно уяснить себе это положение, эту судьбу и понять, что относительно нее можно ошибаться, но избежать ее нельзя. Кто этого не понял, тот утрачивает всякое значение среди людей своего поколения. Такой человек остается дураком, шарлатаном или педантом.
Когда мы подходим в наши дни к какой-либо проблеме, мы должны предварительно задать себе вопрос – вопрос, ответ на который у действительно призванных подсказывается инстинктом: что доступно человеку нашего времени и от чего он должен отказаться? Существует лишь очень незначительная группа метафизических заданий, разрешение которых составляет удел мышления какой-либо эпохи. Целый мир лежит уже между временем Ницше, еще овеянным дыханием романтики, и современностью, окончательно отрешившейся от всякой романтики.
Систематическая философия получила свое завершение с исходом XVIII столетия. Кант сообщил ее последним возможностям великую (для западноевропейского духа) и во многих случаях окончательную форму. За этой систематической философией, так же как в свое время за философией Платона и Аристотеля, следует специфически присущая большому городу, не умозрительная, а практическая, иррелигиозная, этически-общественная философия. Она начинается, соответствуя Зенону и Эпикуру, Шопенгауэром, который впервые поставил в центре своего мышления «волю к жизни» («творческую жизненную силу»), но под впечатлением великой традиции сохранил еще мудрствования систематической философии о явлении и вещи в себе, о форме и содержании наглядного представления, о различии между разумом и рассудком, что затуманило более глубокую тенденцию его учения. Это та же самая творческая воля к жизни, которая по методу Шопенгауэра отрицается в Тристане и по методу Дарвина утверждается в Зигфриде; которую Ницше с блеском и театральностью формулировал в «Заратустре»; которая через гегельянца Маркса дала толчок к созданию политико-экономической, а через мальтузианца Дарвина к созданию зоологической гипотезы (эти две гипотезы сообща и незаметно преобразовали мироощущение западноевропейских обитателей мировых городов), которая породила, начиная с геббелевской Юдифи до ибсеновского Эпилога, ряд трагических концепций одинакового типа и тем исчерпала цикл подлинно философских возможностей.
Систематическая философия нам теперь бесконечно далека; этическая же завершила свой путь развития. Остается еще третья возможность европейского духа, соответствующая эллинскому скептицизму, – та возможность, которая характеризуется неизвестным до сих пор методом сравнительной исторической морфологии. Возможность – значит необходимость. Античный скептицизм не историчен; его сомнение сводится к простому отрицанию. Западный скептицизм должен быть насквозь историчен, если он обладает внутренней необходимостью, если он хочет быть символом завершающей свой путь западной души. Он исходит из утверждения, что всякое историческое явление относительно. Метод его психологический. Скептическая философия выступает в эллинизме как отрицание философии – философию объявляют бесцельной. В противоположность этому мы принимаем историю философии как последнюю серьезную тему философии. Это скептицизм. Греки отказывались от абсолютных точек зрения, иронизируя над прошлым своего мышления; мы же отказываемся от них, потому что понимаем прошлое как организм.
В настоящей книге будет сделана попытка дать в общих чертах характеристику этой «нефилософской философии» будущего – пусть она будет последней философией. Скептицизм является выражением чистой цивилизации: он разлагает картину мира предшествующей культуры; он превращает все прежние проблемы в проблемы генетического характера. Убеждение в том, что все, что есть, становилось; что в самой основе всего реального и познаваемого лежит нечто историческое; что в основе мира как реальности лежит «Я» как возможность, которая в нем осуществилась; что не только в вопросе «что именно», но в вопросах «когда» и «как долго» кроется глубокая тайна, – приводит к тому факту, что все существующее и происходящее, какой бы характер оно ни носило, должно быть также выражением чего-то живого. В ставшем отражается становящееся. В старой формуле «esse – percipi» [4] проглядывает изначальное ощущение, что все реальное должно стоять в исключительном отношении к живому человеку и что для мертвого ничего более «тут не существует». Но покинул ли он мир, свой мир или упразднил своею смертью его бытие! Вот в чем вопрос. Но как раз это отношение исследовано мыслителями периода систематической философии только в формальном, природообразном, невременном, стало быть, гносеологическом смысле. Мыслили «человека вообще», но не людей, находящихся в определенных исторических условиях. Для мыслителей этического периода, уже для Шопенгауэра, вопрос этот отступил на задний план перед другим вопросом, идеалистического или утилитарного характера, именно перед вопросом о ценности того, что «существует здесь» для отдельного человека или для всех людей. Но и в этом случае мыслили «человека» как тип, не исследуя правомерности столь общих выводов. Теперь лишь наконец, в стадии историко-психологического скептицизма, исходя из непосредственного чувства жизни, начинают замечать, что весь окружающий нас мир есть лишь функция самой жизни, зеркало, выражение, символ живой души и, конечно, прежде всего каждой отдельной души, взятой сама по себе. Знание и оценки есть также акты живых людей. Для мышления ранней эпохи внешняя реальность есть результат познания и повод для этической оценки; для мышления поздней эпохи реальность прежде всего символ. Морфология всемирной истории необходимо становится универсальной символикой.
Тем самым устраняется притязание более развитого мышления находить всеобщие и вечные истины. Истины всегда таковы только в отношении к определенному человеческому типу. Развиваемая здесь философия сама, таким образом, может быть выражением и отражением только западной души, в отличие ее от античной и индийской, и при этом лишь на стадии цивилизованности. Тем самым определяются содержание этой философии как мировоззрения, практическая широта ее применения и область значимости.
16.
Под конец позвольте сделать одно замечание, касающееся лично автора. В 1911 году у меня было намерение исходя из более широкого кругозора собрать воедино кое-какие мысли о политических явлениях современности и возможных из них выводов для будущего. Тогда мы были накануне мировой войны как уже сделавшейся неизбежной внешней формы исторического кризиса и дело шло о том, чтобы постигнуть ее из духа предшествующих целых столетий – не только лет. В ходе первоначально имевшей скромные размеры работы невольно возникло убеждение в том, что для подлинного понимания эпохи необходимо значительно расширить масштаб основных точек зрения; что совершенно невозможно при исследовании подобного рода ограничиться каким-нибудь отдельным временем, с его кругом политических фактов, и что при нежелании отказываться от более или менее глубоких и необходимых выводов невозможно оставаться в пределах прагматического обсуждения и не прибегать к чисто метафизическим и крайне трансцендентным размышлениям. Выяснилось, что политическая проблема не может быть понята в пределах одной только политики и что существенные черты того, что действует в глубине, явственно обнаруживаются только в области искусства, более того, только в отдаленной форме научных и чисто философских мыслительных построений. Оказался невыполнимым даже политически-социальный анализ последних десятилетий XIX столетия, этой поры напряженного спокойствия между двумя могучими, издали выступающими событиями, из которых одно – революция и Наполеон – определило картину западноевропейской действительности на сто лет вперед, другое же, не менее широкого размаха, приближалось со все усиливающейся быстротой; и для подобного анализа в конце концов потребовалось затронуть все проблемы бытия в их полном объеме. Ибо даже в самых мелких деталях как исторический, так и естественнонаучной картины мира воплощена вся сумма глубочайших тенденций. Так первоначальная тема невероятно расширилась. Всплыло несметное число поразительных, большею частью совершенно новых вопросов и сопоставлений. Наконец стало совершенно ясно, что ни один фрагмент истории не может быть полностью освещен ранее уяснения тайны всемирной истории вообще, вернее говоря, истории более развитого человечества как органического единства, имеющего правильную структуру. Но до этого было далеко всему делавшемуся до сих пор в нашей области.
С этого момента со все растущей полнотой стали выступать на первый план часто предчувствуемые, подчас затрагиваемые, но никогда еще не понятые отношения, связующие формы изобразительных искусств с формами войны и государственного управления, устанавливающие глубокое родство между политическими и математическими образованиями той же самой культуры, между религиозными и техническими воззрениями, между математикой, музыкой и пластикой, между формами познания и формами хозяйства. С несомненной ясностью обнаружилась глубоко внутренняя зависимость новейших физических и химических теорий от мифологических представлений наших германских предков, полное совпадение стиля трагедии с динамической техникой и нынешней системой денежного обращения, обнаружилось – это сначала выглядит несколько странно, но потом становится самоочевидным обстоятельством, – что тождественными выражениями одного и того же душевного принципа были, с одной стороны, перспектива в живописи масляными красками, книгопечатание, система кредита, огнестрельное оружие, контрапункт в музыке; с другой – обнаженная статуя, полис, изобретенные греками металлические деньги; но при этом с еще большей ясностью обрисовалось то обстоятельство, что эти мощные группы морфологического сродства, из которых каждая символически изображает особый род человека в общей картине мира, строго симметричны в своем строении. Только такая перспектива обнаруживает подлинное понятие истории. Ее можно отдаленным образом сравнить только с известными воззрениями новейшей математики в области трансформационных групп, так как и она сама в свою очередь симптом и выражение времени и только в настоящее время и лишь для западноевропейского человека внутренне возможна и тем самым необходима. Таковы были мысли, занимавшие меня в течение долгих лет, смутные и неопределенные до тех пор, пока вследствие этого побуждения они не приняли осязаемого облика.
Современность – близившаяся война – представилась мне совсем в другом свете. Она уже перестала быть однажды данной констеллацией случайных обстоятельств, зависящих от национальных настроений, личных влияний и экономических тенденций, которым историк при помощи какой-либо причинной схемы политической или социальной природы придает видимость единства и материальной необходимости; современность стала теперь типом исторического акта, который уже за много столетий перед тем получил себе биографически определенное место в великом историческом организме, с его строго очерченным составом. На великий кризис указывает несметное множество страстно дебатируемых вопросов и взглядов, которые высказываются в тысячах книг и заявлений, но всегда остаются разрозненными, разобщенными, и приуроченными к ограниченному углу зрения специальной области, ввиду чего возбуждают, тяготят, но не могут быть устранены. Сами они известны, но мало известна их тождественность. Я назову здесь проблемы искусства, до сих пор никогда еще не понимавшиеся в своем истинном значении: спор о форме и содержании, о линии и пространстве, о рисунке и красках, о понятии стиля, о смысле импрессионизма, все проблемы, лежащие в основе музыки Вагнера; далее, перед нами вопрос об упадке искусства, все ширящееся сомнение в ценности науки, трудные вопросы, ставящиеся вследствие победы мирового города над крестьянством: бездетные браки, переселение в город, социальный уровень все увеличивающегося четвертого сословия, кризис социализма, парламентаризма и рационализма; отношение индивидуума к государству; проблема собственности и от нее зависящая проблема брака; на первый взгляд совсем к другой области относящиеся массовые работы по психологии народов, посвященные мифам и культам, происхождению искусства, религии, мышления, что на этот раз рассматривается не со стороны своего идеологического содержания, но с точки зрения морфологической структуры, – все эти вопросы имеют целью разрешение загадки истории вообще, которая никогда еще не осознавалась с достаточной ясностью. Здесь не бесчисленное количество задач, но всего-навсего одна, та оке самая во всем. Здесь каждый что-то предчувствовал, но никто не нашел единственного и исчерпывающего решения стоя на своей узкой точке зрения, а между тем это решение носилось в воздухе со времен Ницше, который держал уже в своих руках нити от всех решающих дело проблем, но, как романтик, не решался посмотреть прямо в лицо строгой действительности.
В этом заключается также глубокая необходимость заключительного учения, которое должно было явиться и только теперь в состоянии явиться. Оно не может быть нападением на наличный состав идей и произведений. Скорее, оно подтверждает все то, что искалось и совершалось в течение поколений. Этот скептицизм составляет сердцевину того, чем живы тенденции специальных областей, безразлично, с какой бы стороны их брать.
И прежде всего я нашел наконец ту противоположность, из которой единственно можно усмотреть сущность истории, – противоположность истории и природы. Я повторяю: человек как элемент и субъект мира является не только членом природы, но также членом истории, второго космоса, иного порядка и иного содержания, который всеми без исключения метафизиками пренебрегался в угоду первому миру. Меня впервые натолкнуло на размышление об этом основном вопросе нашего сознания мира то наблюдение, что современный историк, хватаясь за чувственно осязаемые события, за ставшее, считает, что им уже понята история, становление, – предрассудок всех рассудочно познающих, не только созерцающих, предрассудок, который уже для великих элеатов послужил камнем преткновения в виде того их утверждения, что для познающего нет становления, но одно бытие (бытие ставшего). Другими словами, историю рассматривали как природу, в смысле объекта физики, и поступали соответствующим образом. Отсюда ведет свое происхождение столь тяжкое по своим последствиям заблуждение, выражающееся в склонности подменять аспект становления принципами причинности, закона, системы, следовательно, структурой косного бытия. Вели себя таким образом, как будто бы человеческая культура существует подобным же способом, как электричество и притяжение, с теми же в существенном одинаковыми возможностями анализа; копировали честолюбие, привычки естествоиспытателя, так что в каждом отдельном случае спрашивали, что есть готика, что есть ислам, что есть античный полис, не задавая того вопроса, почему эти символы живого должны были возникнуть именно тогда-то и там-то, протекают в этой, форме и с такой продолжительностью. Довольствовались простой регистрацией бесчисленных сходств, обнаруживавшихся между пространственно и временно далеко отстоящими друг от друга историческими явлениями, сопровождая их известной толикой остроумных замечаний о чудесности совпадений, о Родосе как «Венеции древности» и о Наполеоне как новом Александре, вместо того чтобы как раз здесь, где выступает на первый план проблема судьбы как подлинная проблема истории (именно проблема времени), со всей серьезностью привлечь к делу научно вымуштрованную психологию и добиваться ответа на вопрос, что за совсем иной род необходимости, совершенно чуждый необходимости причинной, действует здесь. В философском отношении новым было то, что всякое явление метафизически загадочно также и потому, что оно никогда не наступает в безразлично какое угодно время, что следует ставить еще вопрос, какая жизненная связь существует в картине мира наряду с неорганически-естественнонаучной – так что мир оказывается излучением не одного только познающего человека, как это думал Кант, но всего человека в целом, – что явление служит не только фактом для рассудка, но и выражением душевности, не только объектом, но и символом и при этом безразлично, будем ли мы брать величайшие создания религии и искусства или мелочи повседневной жизни.
Наконец, решение вопроса стало для меня ясным во всей огромности его очертаний и с присущей ему полной внутренней необходимостью, решение, сводящееся к одному-единственному принципу, который нужно было найти, хотя его до сих пор и не видели, к чему-то такому, что меня преследовало и влекло к себе с моих юношеских дней и что меня мучило, так как я чувствовал его наличие в виде задания и все же не мог постигнуть его. Так, по несколько случайному поводу возникла настоящая книга как предварительное выражение новой картины мира, со всеми недостатками первой попытки, – как я хорошо знаю, неполная и, несомненно, несвободная от противоречий. Но все же, по моему убеждению, она дает неопровержимую формулировку той мысли, которую, я повторяю еще раз, нельзя оспаривать, лишь только она выражена.
Более узкой темой, таким образом, служит анализ заката западноевропейской культуры. Но целью все же остается развитие своеобразной философии и свойственного ей, здесь испытываемого метода сравнительной морфологии всемирной истории. Работа естественным образом распадается на две части. Первая, именуемая «Действительность и ее облик», содержит основы «символики» и занимается проблемами числа, судьбы, причинности, трагедии, изобразительных искусств, мировоззрения, жизни, естествознания, мифа. Вторая – «Всемирно-исторические перспективы» – дает анализ ряда исторических феноменов: впервые во всем своем объеме здесь вскрытой арабской культуры; цивилизации; мирового города – столицы; римской империи; основных форм государства; денег; техники; наконец, существа России. На протяжении всего этого, где на первом плане, собственно говоря, история, я определенно отстраняю ряд дальнейших проблем, требующих более глубокого обоснования, но также и более самостоятельной обработки; это – проблемы пола, семьи, расы и языка, брака и собственности, религии, взаимоотношения между знанием и верой, отцовства и искусничества, материнства и религиозности.
Приложенные ниже таблицы позволяют бросить общий взгляд на результаты исследования. Одновременно с этим они могут дать понятие о плодотворности и о широте применения нового метода.
Глава I Смысл чисел
1.
Необходимо прежде всего определить некоторые основные понятия, употребляемые здесь в строгом и отчасти новом смысле; их метафизическое содержание само выяснится в ходе дальнейшего изложения, но уже с самого начала они должны быть ограждены от всякой двусмысленности.
Обыденное различие между бытием и становлением, принятое также философией, непригодно для передачи сущности той противоположности, какая здесь имеется в виду. Бесконечное становление – действие, «действительность» – всегда можно рассматривать как состояние и, следовательно, приравнивать бытию, примером чего могут служить физические понятия постоянных скоростей и состояния движения или основные представления кинетической теории газов. Напротив того, можно вместе с Гете различать становление и ставшее (das Gewordene) как последние элементы данного в сознании и вместе с сознанием. Пусть даже мы усомнимся в возможности приблизиться к последним основаниям человеческого путем абстрактного образования понятий, но, во всяком случае, существует ясное и определенное чувство, из которого возникает это основное противопоставление, затрагивающее последние границы сознания, изначальное нечто, которого вообще можно достигнуть.
Отсюда с необходимостью следует, что становление всегда лежит в основе ставшего – a priori в кантовском смысле, – но не наоборот.
Далее, я различаю при помощи терминов «собственное» (das Eigene) и «чуждое» (das Fremde) два изначальных факта сознания, смысл которых всяким бодрствующим, не грезящим человеком постигается с непосредственной внутренней достоверностью и не может быть ближе установлен посредством определения. Элемент «чуждого» всегда стоит в некотором определенном отношении к изначальному факту, обозначаемому словом чувственность (внешний мир, жизнь в ощущениях). Философская сила образности у великих мыслителей всегда пыталась уловить это отношение посредством таких полувоззрительных схематических концепций, как явление и вещь в себе, мир как воля и представление, «Я» и «не-Я», хотя это намерение явно превосходит возможности точного человеческого познания. Точно так же в изначальном факте, обозначаемом посредством «Я» (внутренняя жизнь, личность), скрывается элемент «собственного» таким образом, что его строгое понимание также ускользает от методов абстрактного мышления.
Я обозначаю, далее, словами «душа» и «мир» то противопоставление, наличность которого тождественна факту бодрствующего чисто человеческого сознания. Существуют степени ясности и резкости этого противопоставления, то есть степени сознательности, духовности, следовательно, жизни: начиная от едва брезжущих мифических сумерек первобытного человека и ребенка – сюда относятся все реже встречающиеся мгновения религиозного и художественного вдохновения – и кончая крайней остротой бодрствования, как то бывает в состояниях кантовского и наполеоновского мышления. Эта элементарная структура сознания, как факт непосредственной внутренней достоверности, не поддается дальнейшему расчленению; не менее достоверно, что душа и мир, только словесно и в известной мере искусственно отделимые моменты, всегда соединены вместе и выступают всегда как единство, как цельность, так что на чистом факте сознания никак не может быть обоснован теоретико-познавательный предрассудок прирожденного идеалиста или реалиста, соответственно которому или душа лежит в основе мира в качестве чего-то первичного – как говорят, «причины», – или мир в основе души. Если философская система подчеркивает тот или другой из этих моментов, это служит, скорее, показателем индивидуальных свойств и может иметь только чисто биографическое значение.
Если понятия становления и ставшего применять к этой полярной структуре сознания, то слово жизнь получает совершенно определенный смысл, очень близкий становлению. Становление и ставшее можно обозначить как факт и предмет жизни. Настоящая, идущая вперед, постоянно себя восполняющая жизнь в каждое мгновение тождественна собственному бодрствующему сознанию – этот факт и есть настоящее, – она, как и все становление, имеет таинственный признак направленности – невыразимое чувство (чувство жизни), которое человек во всех разработанных языках напрасно пытается выразить словом время и мысленно охватить относящиеся сюда проблемы. Отсюда глубокое отношение ставшего (застывшего) к смерти.
Если душу называть возможным (делая особое ударение на бессознательном по сравнению с сознательным), мир же, в противоположность этому, назвать действительностью – значение этих выражений для внутреннего чувства не вызывает никаких сомнений, – то жизнь представится образом, в котором совершается осуществление возможного. В отношении к признаку направленности возможное называется будущим, осуществленное – прошедшим. Самое осуществление – средоточие и смысл жизни – мы называем настоящим. «Душа» есть завершаемое, «мир» – завершенное, «жизнь» – завершение. Выражения – мгновение, длительность, развитие, жизненное содержание, жизненная задача, назначение, объем, цель, конец, наполненность и пустота жизни – получают в силу этого определенное значение для всего последующего, именно для понимания исторических явлений. Наконец, слова история и природа, как уже было упомянуто, должны применяться в совершенно определенном, не употреблявшемся до сих пор смысле. Под ними следует понимать различные способы, дающие возможность охватить всю совокупность опознанного, становления и ставшего, жизни и прожитого в некотором едином, одухотворенном, упорядоченном образе мира (космос, мироздание, вселенная), смотря по тому, что господствует над нераздельным впечатлением – становление или ставшее, направленность или протяженность («время» или пространство»). Здесь речь идет не об альтернативе, но о шкале бесконечно многих и очень разнородных возможностей обладания «внешним миром» как отблеском и символом собственного существования, шкале, крайностями которой являются чисто органическое и чисто механическое миросозерцания (в дословном значении: созерцание мира). Первобытный человек (насколько мы себе представляем его сознание) и дитя (как мы себя помним) еще не обладают этими возможностями с достаточной ясностью для образования конструкции. Одним из условий этого высшего миропонимания следует признать обладание речью, но не человеческой речью вообще, а культурным языком, которого у первобытного человека еще нет, а у ребенка хотя и есть, но смысл его ему еще недоступен. Оба, другими словами, еще не обладают ясным и отчетливым мышлением о мире; у них есть только некоторая догадка и недействительное знание истории и природы, в соединение которых оказывается вплетенным их собственное существование: они не имеют культуры.
Это слово получает, таким образом, определенный, весьма знаменательный смысл, который мы будем иметь в виду во всем последующем. Соответственно выбранным выше обозначениям души как области возможного и мира как области действительного я различаю возможную и действительную культуру, та есть культуру как идею – всеобщего или единичного – существования и культуру как тело этой идеи, как сумму ее выражения, сделавшегося чувственным, пространственным, доступным: дела и намерения, религию и государство, искусство и науки, народы и города, хозяйственные и общественные формы, язык, право, обычаи, характеры, черты лиц и манеры. Тесно связанная с жизнью, со становлением, история является осуществлением возможной культуры.
Необходимо добавить, что эти основоположные установления большей частью лежат за пределами возможности передачи посредством понятия, определения и доказательства, что они соответственно своему глубокому значению должны быть скорее пережиты, почувствованы, узнаны. Существует редко оцениваемое различие между переживанием и познанием как формами отношения между своим и чужим («субъектом и объектом»). Оно становится более ясным в различении между непосредственной достоверностью, как она дается разными видами интуиции (озарение, вдохновение, художественное созерцание, «точная чувственная фантазия» Гете), и результатами разумного опыта и экспериментальной техники. Средством сообщения в первом случае является сравнение, картина, символ, во втором – формула, уравнение, схема. Ставшее познается или, лучше сказать, бытие ставшего оказывается для человеческого духа тождественным выполненному акту познания. Становление может быть только; пережито, только почувствовано в глубоком безмолвном понимании. На этом зиждется то, что называется знанием людей. Понимать историю – значит быть знатоком людей в высшем смысле слова. Чем более чиста картина истории, тем менее для нее подходящим является собственно земной взгляд; ему в этом случае нечего делать при помощи тех средств познания, которые исследует «Критика чистого разума». Механизм чистой картины природы, мира Ньютона и Канта, познается, понимается, расчленяется в законы и уравнения и, наконец, приводится к системе. Организм чистой картины истории, каким является мир Плотина, Данте и Бруно, наглядно представляется, внутренне переживается, постигается как образ и символ и, наконец, передается в стихотворной и художественной концепции. Гетевская «живая природа» есть истерическая картина мира.
Переживание и познавание суть акты сознания отдельных людей. Их результат, ставший уже частью прошедшего, воспоминание, знание называется переживанием или познанием. Что-нибудь понимать – исторически или естественнонаучно – это значит уметь органически внести понимаемое в наличную сумму переживаний или познаний.
2.
Число, лежащее в основе всей математики как просто данный элемент, я избираю примером того способа, каким душа пытается осуществить себя в картине окружающего ее мира, насколько, следовательно, осуществленная культура является выражением и отображением идеи человеческого существования. Я избираю число еще и потому, что математика, мало кому доступная в своих глубинах, занимает особое место среди всех творений духа. Она – наука строгого стиля, как логика, но с большим охватом и значительно более богатым содержанием; она – настоящее искусство, рядом с пластикой и музыкой, если говорить о необходимости вдохновения и великих формальных условностей для ее развития; она, наконец, – метафизика высшего ранга, как это доказывают Платон и особенно Лейбниц. Всякая философия до сих пор вырастала в связи с соответствующей математикой. Число есть ставшая образом идея причинной необходимости, подобно тому как представление о Боге, которое всякая культура вновь создает из своих величайших глубин, есть ставшая образом идея необходимости судьбы. В этом смысле существование чисел можно назвать мистической тайной, и религиозная мысль всех культур не свободна от этого отпечатка.
Всякое становление имеет изначальный признак направленности (необратимости), а все ставшее имеет признак протяженности, и именно так, что только искусственное разделение значения этих слов представляется возможным. Настоящая тайна всего ставшего и, следовательно (пространственно-материально), протяженного духовной стороной всякой культуры воплощается в типе математического (мертвого) числа в противоположность – хронологическому. В его сущности уже лежит стремление к механическому полаганию границы. Число в этом отношении родственно слову, которое – в качестве понятия, «поемля», «обозначая» – точно так же разграничивает впечатления, получающиеся от мира. Наиболее глубокое здесь, во всяком случае, непостижимо и неизреченно. Действительное, ставшее вещью число, точно представленный, названный, написанный числовой знак (цифра, формула, знак, фигура) – только это подлежит математическому рассмотрению, является для него, как всякое подуманное, сказанное, написанное слово, готовым оптическим символом, чувственным и сообщаемым, в котором отображается полагание границы. Изначало числа похоже на изначало мифа. Римлянин возвысил numina, неопределимые впечатления природы («чуждое»), до божества, заклиная их именами, ограничивая их. Точно так же числа и слова суть оформленное, околдованное формой мироощущение. С ними дух («собственное») достигает могущества. С ними он упорядочивает и расчленяет мир. Все настоящие акты познания – не акты переживания, – связанные как таковые с наличностью культурного языка, имеют ту же самую цель. Определение, суждение, закон, система – результаты выполненного полагания границы; установка причинных соотношений, которыми исчерпывается сущность всех естественных наук, заключается, собственно, в точном ограничении двух впечатлений, называемых в отношении к числу – причиной и действием, в отношении к слову – основанием и следствием. На этом покоится внутреннее родство строения высокоразвитого языка (грамматика, синтаксис) с соответствующей математикой. Логика есть всегда род математики» и наоборот. Следовательно, во всех актах сознания, которые имеют отношение к математическому числу – измерении, счете, обозначении, взвешивании, упорядочивании, делении, – лежит общая тенденция к ограничению ставшего и протяженного, и только посредством едва еще познанных актов этого рода для бодрствующего человека действительно существуют объективные предметы, свойства, отношения, единичное единство и множество, короче, воспринятая как необходимая и непоколебимая структура той картины мира, которую он называет «природой» и как таковую познает. Природа есть счислимое. История есть совокупность того, что не имеет отношения к математике. Отсюда математическая достоверность законов природы, замечательный взгляд Галилея, что природа запечатляется «на языке математики», и выдвинутый Кантом факт, что точное естествознание простирается ровно настолько, насколько возможно применение математического метода.
В числе как знаке выполненного, экстенсивного ограничения заключена, следовательно, сущность всего действительного, являющегося вместе с тем ставшим, познанным, ограниченным; это с внутренней достоверностью постиг Пифагор необыкновенной, прямо-таки религиозной интуицией. Однако если под математикой понимать обладание врожденным, виртуальным миром чисел, то ее не следует смешивать с гораздо более узкой научной математикой, учением о числах. Одна есть творческое и необходимое свойство сознания, другая – возможный род его духовного развития. Написанная математика, система мертвых положений, столь же мало, как и заключенная в теоретические работы философия, представляет полный состав математических и философских возможностей, которые таятся в глубине культуры. Существуют еще и совершенно иные пути сделать наглядным лежащее в основе числа изначальное чувство, подчинить оформляющему принципу ставшее и протяженное, будь то материя или пространство. В начале всякой культуры возникает архаический стиль, который можно было бы назвать геометрическим не только в раннеэллинском искусстве. Есть что-то общее, явно математическое, в дипилонском стиле древнегреческих погребальных урн, в стиле египетских храмов четвертой династии, с безусловным господством в нем прямой линии и прямого угла, в иератическом стиле древнехристианского рельефа саркофага и в романском орнаменте. Каждая линия, каждая фигура человека или животного, с ее совсем не подражательной тенденцией, раскрывает здесь мистический смысл числа в непосредственном отношении к тайне и культу смерти (окаменевшего).
Готический собор и дорический храм – это окаменевшая математика. Пифагор научно верно понял античное число как принцип мирового порядка осязаемых вещей, как меру и величину. Именно тогда число нашло выражение и в прекрасном порядке телесно-чувственного единства, установленного строгим каноном эллинских статуй, и в дорическом, как и ионическом орденах колонн. Все великие искусства оказываются некоторым родом ограничения, богатого содержанием и устанавливаемого посредством числа. Вспомним проблему пространства в живописи. Высокая математическая одаренность даже без всякой науки может быть продуктивной и достигнуть своего полного осознания. Если мы учтем огромное значение, которое уже в древнем царстве, за 2800 лет до Р. X., имело число при делении пространства храмов в пирамидах, технике строений, орошения, управления, не говоря уже о египетском календаре, – мы едва ли станем утверждать, что ничего не стоящая «счетная книга Яхмоса» эпохи Нового царства определяет уровень египетской математики. Австралийцы, духовное развитие которых еще находится на ступени первобытного человека, обладают математическим инстинктом, или, что то же самое, богатством числа, еще не оформленного словом и знаком, богатством, которое в отношении интерпретации чистой пространственности значительно превосходит греческое. Они изобрели в качестве оружия бумеранг; его действие позволяет заключать об инстинктивном умении обращаться с тем родом чисел, который мы предоставили бы высшему геометрическому анализу. Австралийцы обладают соответственно этому – такая зависимость выяснится далее – крайне сложным церемониалом и такой тонкой терминологией градаций родства, какая нигде больше не встречается, даже при высокой культуре. Соответственно этому греки в их наиболее зрелое время, при Перикле, не имели склонности, по аналогии с Эвклидовой геометрией, ни к церемониалу общественной жизни, ни к уединению, в полную противоположность барокко, которое рядом с анализом пространства видело возникновение дворца Короля-Солнца и государственной системы, покоящейся на династическом родстве.
Это стиль души, который находит свое выражение в мире чисел, но не в исключительно научном их понимании.
3.
Отсюда вытекает очень важное обстоятельство, которое до сих пор было скрыто от взоров самих математиков.
Числа в себе – нет и не может быть. Есть много миров чисел, потому что есть много культур. Мы имеем индийский, арабский, античный, западноевропейский тип числа, каждый в основе своей – нечто своеобразное и единственное, каждый – выражение своеобразного мироощущения, каждый – символ значимости, точно ограниченной наукой, принцип порядка ставшего, порядка, отображающего глубочайшую сущность одной-единственной души, той, которая является средоточием именно этой, а не какой-нибудь другой культуры. Существует, следовательно, более чем одна математика. Ибо, без сомнения, архитектоника Эвклидовой геометрии совершенно другая, чем архитектоника картезианской; анализ Архимеда совсем другой, чем анализ Iaycca, не только по языку формы, намерениям и средствам, но другой в своей глубине, в изначальном феномене числа, научное развитие которого он представляет. Это в духе и духом зачатое число, переживание границы, которое с внутренней необходимостью осмысленно и оформлено при помощи числа, следовательно, также вся природа, протяженный мир, картина которого возникла посредством этого спонтанного полагания границы и который всегда доступен трактовке только одного-единственного рода математики, – все это говорит не о человечестве вообще, но всегда о каком-нибудь одном определенном человечестве.
Стиль возникающей математики обусловлен культурой, в которой она коренится, и людьми, размышляющими о ней. Ибо число опережает дух, а не наоборот. Числа – творящие, а не сотворенные сущности. Дух может привести к научному развертыванию скрытых в них формальных возможностей, овладеть ими, посредством них достигнуть высшей зрелости; но видоизменить их он совершенно не в состоянии. В ранних формах орнамента и архитектуры, в дорической колонне и готике собора осуществлена уже идея Эвклидовой геометрии и счисления бесконечно малых за целые столетия до того, как родился первый математик этих культур.
Глубокое внутреннее переживание, настоящее пробуждение «Я», которое делает ребенка взрослым человеком, членом принадлежащей ему культуры, знаменует начало понимания числа и языка. Лишь с этих пор сознание имеет предметы как нечто во всяком отношении ограниченное и легко отличаемое от всего, что ни рассматривается; лишь с этих пор точно определяются свойства, понятия, причинная необходимость, система окружающего мира, форма мира, закон мира – «положенное законом», по своей природе всегда ограниченное, застывшее, подчиненное числу, – лишь в этот момент рождается внезапное чувство того, что знаменует собою число, будь оно в форме изобразительного искусства или математической науки. Ясно, что первобытному человеку и ребенку число еще недоступно и что решающая эпоха – историческая или биографическая – наступает, как только постигнутый в своем значении акт счета, измерения, обозначения, оформления позволит проявиться совершенно новому миру из вновь раскрывшейся внутренней жизни. Это переживание, с которым начинается великий стиль, рождает из первобытного человечества души культур, с их индивидуальным своеобразием.
И вот Кант разделил богатство человеческого знания на синтетическое a priori (необходимое и общезначимое) и a posteriori (возникающее из опыта) и математическое познание приурочил к первому. Этим он, несомненно, дал абстрактную форму выражения сильному внутреннему чувству. Но не говоря уже о том, что между этими двумя видами знания нет резкой границы (более чем достаточное количество примеров дают этому современная высшая математика и механика), – а ее безусловно требует самый род принципа, – a priori оказывается в высшей степени трудным понятием, но, несомненно, одной из самых гениальных концепций критики познания. Этим Кант устанавливает, не утруждая себя доказательством – которое к тому же совершенно невозможно, – неизменность форм всякой деятельности духа и их тождество для всех людей. Но Кантом совершенно упускается из виду то важное обстоятельство, что он в своих исследованиях исходил из духовного материала и интеллектуального облика только своего времени, между тем как степень этой «общезначимости» очень неопределенна. Рядом с несомненными факторами безусловно широкой значимости, которые хотя бы кажущимся образом независимы от того, к какой культуре, какому столетию принадлежит познающий, – рядом с ними в основе всякого мышления лежит еще совершенно другая необходимость формы, и ей подчинен человек именно как член этой, а не какой-нибудь иной культуры. Это два совершенно различных вида априорного содержания; какова граница между ними и есть ли она вообще – остается вопросом, на который нет ответа, потому что он лежит по ту сторону всякой познавательной возможности. Что постоянство духовных форм, считавшееся очевидным, является иллюзией, что в предлежащей нам истории есть несколько стилей познания – этого до сих пор никто не осмеливался признать. Но следует вспомнить о том, что consensus omnium может доказывать не только всеобщую истину, но и всеобщее заблуждение. Смутное сомнение здесь, впрочем, всегда было, и уже из самого разногласия мыслителей следовало бы сделать верный вывод. Но что дело идет не о несовершенстве человеческого духа, не о «еще не» окончательного знания, не о недостатке, а о роковой исторической необходимости – вот что является открытием. Наиболее глубокое и последнее не может быть открыто из неизменности, но только из различия, и только из органической периодичности этого различия. Сравнительная морфология форм познания является задачей, и разрешение ее еще предстоит западноевропейскому мышлению.
4.
Будь математика обыкновенной наукой, как астрономия или минералогия, то ее предмет можно было бы определить. Но этого нельзя сделать, и никто этого и не мог сделать. Мы, европейцы Запада, можем, конечно, насильно применить наше собственное научное понятие числа к тому, чем занимались математики в Афинах и Багдаде; но несомненно, что тема, намерение и метод одноименной науки были там совершенно иными. Нет одной математики, есть только разные математики. То, что мы называем историей математики, то есть мнимо непрерывное подтверждение единственного и неизменного идеала, оказывается на самом деле – стоит только устранить обманчивую картину исторической поверхности – множеством замкнутых в себе, независимых процессов, повторяющееся рождение новых, применение, преобразование и очищение чуждого мира форм, чисто органические, связанные с определенной длительностью расцвет, созревание, увядание и смерть. Не следует обманывать себя. Чуждый истории греческий дух создал свою математику из ничего; склонный к историчности дух Запада, овладев античной наукой – внешне, не внутренне, – должен был достигнуть своей собственной науки посредством кажущегося изменения и улучшения, фактически же – посредством упразднения неадекватной ему Эвклидовой математики. Одна была создана Пифагором, другая – Декартом. Оба акта тождественны в своей глубине.
Родство формального языка математики с современными ей великими искусствами не подлежит никакому сомнению. Целью всякой математики является законченная в себе система положений, которая представляет собою априорный синтетический порядок застывшей протяженности, – тот же неустанно достигаемый синтез, который выступает и в проблеме формы каждого изобразительного искусства, и в борьбе каждого отдельного художника за техническое превосходство в своей области. Чувство формы скульптора, живописца, композитора – существенно математично. В геометрическом анализе и проективной геометрии XVII столетия обнаруживается тот же порядок, который вызывает к жизни, охватывает и проникает современную инструментальную музыку стиля фуги посредством правил контрапункта – этой геометрии звукового пространства – и тесно связанную с музыкой живопись масляными красками посредством только Западу известной перспективы, осязаемой геометрии, данного в чувственном образе пространства. Этот порядок есть то, что Гете назвал идеей; образ ее непосредственно созерцается в чувственном, между тем как обыкновенная наука не созерцает, но только наблюдает и расчленяет. Но математика выходит за пределы наблюдения и расчленения. Она в свои высшие мгновения живет в интуиции, а не в абстракции. По глубокому изречению Гете, математик совершенен настолько, насколько он постигает красоту истинного. Здесь чувствуется, как близко тайна феномена числа стоит к тайне формы искусства, которое также находит свою цель в полном значения ограничении, в прекрасной соразмерности, в исчисленной величине, в строгом соотношении, гармонии – короче, в совершенном порядке чувственного. Прирожденный математик стоит рядом с великими мастерами резца и кисти; они также стремятся облечь в символы, осуществить, передать тот великий порядок всех вещей, который носит в себе обыкновенный человек их культуры, не обладая им в действительности. Царство чисел, таким образом, становится отображением мировой формы наряду с царством звуков, линий и красок. Слово «творческий» значит поэтому в математике больше, чем в обыкновенных науках. Ньютон, Гаусс, Риман – натуры художественные. Вспомните, как великие концепции внезапно их озаряли. «Математик, – говорит старик Вейерштрасс, – в котором нет поэта, никогда не будет совершенным математиком».
Итак, математика есть искусство. Она имеет свои стили и периоды стилей. Она не является неизменной по своей субстанции, как полагает профан, а также и философ, поскольку он профан в этом вопросе, но, как и всякое искусство, она подчинена незаметным превращениям от эпохи к эпохе. Не следовало бы никогда изучать развитие великих искусств, не бросив взгляда на современную им математику: этот взгляд не остался бы бесплодным. Никто не исследовал особенности очень глубоких отношений между тенденциями музыкальной теории начиная с Орландо Лассо и фазами развития теории функций, хотя такое исследование могло бы научить эстетику большему, чем какая угодно «психология». Все действительно великие математики со времен Ферма, Паскаля и Декарта (1630) – аналитики трансцендентного; все античные математики начиная с Пифагора (540) – натуры мыслящие воззрительно-телесно. Должен ли я еще раз указать на тесное родство этих дарований с наступающим расцветом, с одной стороны, чистой инструментальной музыки, с другой – ионическою скульптуры? Античная математика, вначале почти только планиметрическая, в своем развитии от Пифагора к Архимеду обнаруживает тенденцию к стереометрическому мышлению всего измеримого числом. Этому отвечает тенденция – от живописи в плоскости аттико-коринфского стиля через возвышающийся наш плоскостью рельеф к скульптуре статуй. Статуя вози никла частью из фигурно-рельефно трактованной колонны (Гера Херамиса), частью из служившей для украшения стен деревянной или медной доски (Артемида Никандры). Как дерево, так и известняк обрабатывались ножом, но только работа резцом по мрамору вполне удовлетворяла художественному чувству творчества тела. Аналогичное происходит и на Западе: инструментальная музыка достигает новых способов выражения по мере того, как геометрия сохраняющая это название и дальше, преобразуется в анализ чистого пространства, из которого шаг за шагом устраняется непосредственно воззрительно, следует обратить внимание на то, как далеко отходит понятие координат Декарта от Ферма. С 1520 года изобретенная в Верхней Италии скрипка начинает вытеснять лютню. Фагот известен с 1525 года. В Германии в течение XVI и XVII столетий орган стал покоряющим пространство инструментом. У Монтеверди (1567–1643), который введением доминантсептаккорда дает основы подлинной хроматики, был первый настоящий оркестр, и в 1630 году в лице, Фрескобальди появляется первый великий виртуоз органа. И рядом с analysis situs, этим образцовым творением Лейбница, стоит могущественная символика пространства последних работ Рембрандта, умершего в 1669 году, – автопортрета в Мюнхене, дармштадского Христа и евангелиста Матфея.
Воля к форме всякой математики отличается от чисто научных намерений всей физики и химии и сближает ее с изобразительными искусствами, несомненно, еще и тем, что ее элементы – мертвые числа, рассматривать ли их воззрительно или трансцендентно, не являются эмпирической действительностью, а чистой формой протяженного, как линия орнамента или музыкальная гармония; ее деятельность, следовательно, говоря словами Канта, синтетична или, выражаясь языком искусств, есть композиция, в которой настоящий художник подлежит высшему принуждению – кантовскому «a priori». Это менее проявляется я общеизвестных частях математики. Но числовые образования более высокого порядка, к которым восходит каждая из математик, причем путь каждой отличен от пути остальных (как, например, индийская десятичная система, античная группа конических сечений, первых чисел и правильных многогранников, на Западе числовая область), многомерные пространства, высокотрансцендентные образования теории трансформации и учения о множествах, группа неэвклидовых геометрий – все эти образования уже не имеют чисто рассудочного происхождения; для проникновения в их последние, чисто метафизические основы они предполагают род вдохновенного просветления. Здесь дело идет о внутреннем переживании, не просто о познании. Только здесь начинается великая символика чисел. Эти формы, возникая в духе великих мастеров, как выражение последней тайны их мироощущения, открывают посвященному нечто вроде изначальной глубины его существования. Эти творения надо почувствовать как внутренность собора, как хоры ангелов в прологе «Фауста» или кантату Баха, что случается лишь в редкие счастливые минуты. Только тот, кому это доступно, а зрелых духом всегда будет немного, поймет Платона, назвавшего «числами» вечные идеи своего космоса,
5.
Около 540 года, когда в кругу пифагорейцев пришли к пониманию числа как сущности всех вещей, это не было «шагом вперед в развитии математики», но было рождением из глубин античного духа совершенно новой математики, осознавшей себя теорией после того, как долгое время она уже проявлялась в метафизических проблемах и художественных формах. Греческая математика есть такая же новая математика, как и никогда не написанная математика Египта или алгебро-астрономическая математика вавилонской культуры, с ее эклиптическими координатными системами; обе они были порождены в великие часы истории и к тому времени давно уже уследи угаснуть. Одряхлевшая ко времени Рима античная математика исчезла из живого становления, несмотря на свое длящееся и поныне прозрачное существование в нашем способе обозначения; много позднее и в отдаленной стране она дала место арабской математике; за последней, давно умершей, следует после долгого промежутка, опять как совершенно новое творение новой почвы, наша западная математика; в удивительном ослеплении мы принимаем ее за всю математику, за вершину и цель двухтысячелетнего развития, но и для нее также строго отграничены столетия, ныне почти уже истекшие.
Изречение, что число представляет сущность всех чувственно-достигаемых вещей, остается самым ценным в античной математике. Оно определяет число как меру. В нем дано все мироощущение души, жадно обращенной к здесь и теперь. Мерить в этом смысле – значит мерить нечто близкое и телесное. Представим себе высшее достижение античного искусства – свободно стоящую статую нагого человека; здесь дано все важное и значительное греческого бытия, весь его этос, исчерпанный плоскостью, мерой и чувственными соотношениями частей. Пифагорейское понятие гармонии чисел, выведенное, может быть, из монофонной музыки, как будто нарочно создано для идеала этой пластики. Обработанный камень есть нечто, поскольку он имеет правильные границы и измеренную форму, поскольку он есть то, чем стал под резцом художника. Без этого он – хаос, нечто неосуществленное, то есть пока – ничто. Это чувство, распространенное на вселенную, создает в противоположность хаосу – космос, внешний мир античной души, гармонический порядок всех правильно оформленных и осязательно наличных отдельных вещей. Совокупность этих вещей и есть весь мир. Место же между ними, наше мировое пространство, наполненное всем пафосом великого символа, есть ничто, «to me on». Протяженность для античного человека означает телесность, для нас она имеет значение пространства, функцией которого «являются» вещи. Бросив отсюда взгляд назад, мы, может быть, разгадаем глубочайшее понятие античной метафизики, «апейрон» Анаксимандра, передать которое не в состоянии ни один язык Запада. Это то, что не имеет ни «числа» в пифагорейском смысле, ни определенной величины и границы, ни, следовательно, существа; безмерность, бесформенность, статуя, которая еще не высечена из глыбы. Это есть «архе», воззрительно безграничное и бесформенное, оно только посредством границы становится чувственной обособленностью, чем-то, то есть миром. Это – то, что лежит в основе античного познания, как априорная форма, как телесность в себе и точным соответствием чего в кантовской картине мира является абсолютное пространство, из которого Кант напрасно пытался «отмыслить все вещи».
Теперь становится ясным, что отличает одну математику от другой; особенно – античную от западноевропейской. Зрелая античная мысль по самому своему мироощущению могла видеть в математике только учение о соотношениях величины, меры и строения осязательных тел. Если, исходя из этого чувства, Пифагор высказывал определенные формулы, то ведь для него число было оптическим символом, не формой вообще или абстрактным отношением, но знаком границы ставшего, поскольку оно проявляется в чувственно обозримых единичностях. Весь без исключения античный мир понимал числа как единицы меры, как величины, отрезки, плоскости. Другой вид протяженности для него непредставим. Вся античная математика в последней основе стереометрия. Если Эвклид, закончивший в III веке ее систему, говорит о треугольнике, – он с внутренней необходимостью имеет в виду плоскость, ограничивающую тело, но ни в каком случае не систему трех пересекающихся прямых или группу трех точек в пространстве трех измерений. Он определяет линию как «длину без ширины» (meco aplates). В наше время такое определение казалось бы жалким. Но в пределах античной математики – оно превосходно.
Но и западноевропейское число развилось не из «априорных форм наглядного представления времени», как думал Кант и даже Гельмгольц, – оно является порядком однородных единиц, чем-то специфически пространственным. Время – чем дальше, тем это будет яснее – не имеет ничего общего с математическими объектами. Число принадлежит исключительно сфере протяженного. Но возможностей, а следовательно, и необходимостей представлять протяженное упорядоченным существует столько, сколько существует культур. Античное число – это мышление не пространственных отношений, а отграниченных, схватываемых чувственным глазом единств. Античный мир знает поэтому, как это с неизбежностью следует, только «натуральные» (целые положительные) числа, которые не играют никакой исключительной роли среди многих чрезвычайно абстрактных видов чисел западноевропейской математики, комплексных, гиперкомплексных, неархимедовых и других систем.
Представление иррациональных чисел – в нашем способе написания, следовательно, бесконечных десятичных дробей – было невыполнимо для греческого духа. Эвклид говорит – и его следовало бы лучше понимать, – что несоизмеримые отрезки соотносятся «не как числа». В осуществленном понятии иррационального числа заключен действительно полный разрыв понятия числа с понятием величины. Такое число, как к, например, никогда не может быть отграничение или точно представлено отрезком. Отсюда следует, что в представлении отношения, например, стороны квадрата и его диагонали, античное число, которое есть не что иное, как чувственная граница, законченная величина, затрагивает совершенно другую идею числа, глубоко чуждую античному мироощущению, даже жуткую, как будто греки приближаются здесь к открытию опасной тайны собственного существования. Это обнаруживается в замечательном позднегреческом мифе: тот, кто впервые извлек иррациональное из тьмы сокровенного, погиб при кораблекрушении, «ибо неизреченное и не имеющее образа должно всегда оставаться сокрытым». Тот же страх, который чувствуется в этом мифе, грек времени расцвета постоянно испытывает перед расширением своего крошечного государства-города до размеров политически организованной страны, также перед проведением широких проспектов и аллей с далекими видами, перед вавилонской астрономией, с ее проникновением в бесконечные звездные пространства, и перед выходом из Средиземного моря на пути, давно открытые египтянами и финикийцами, – глубокий метафизический страх перед растворением чувственно-осязаемого и наличного; им античный мыслитель окружил себя как крепостной стеной, за которой дремлет что-то жуткое, какой-то срыв в изначальную глубину искусственно созданного и утвержденного космоса. Кто понял это чувство, тот понял и последний смысл античного числа, меры в противоположность неизмеримому и высокой религиозный этос в его ограничении. Гете, как художник, страстно отдался этому чувству, по крайней мере в своих естественнонаучных занятиях; отсюда его почти что страхом продиктованая полемика против математики; эта полемика в действительности – чего еще никто как следует не понял – инстинктивно была направлена всецело против неантичной математики, против лежащего в основе естествознания его времени исчисления бесконечно малых.
Античная религиозность с возрастающей ясностью сосредоточивается в чувственно-наличных – связанных с местом – культах, которые только и представляют образную, осязаемую божественность. Античной религиозности всегда были чужды абстрактные догмы, теряющиеся в холодных пространствах мысли. Культ и догма относятся друг к другу как статуя к органу в храме. Эвклидовой математике, несомненно, присуще что-то родственное культу. Вспомним учение о правильных многогранниках и их значение для эзотерического учения последователей Платона. Этому, с другой стороны, отвечает глубокое родство анализа бесконечно малых начиная с Декарта с догматикой того времени в ее движении к чистому, свободному от всяких чувственных оболочек деизму. Вольтер, Лагранж и Даламбер – современники. Античная душа ощущала принцип иррационального, то есть разрушение скульптурного ряда целых чисел, представителей совершенного в себе мирового порядка, как преступление по отношению к самой божественности. У Платона в «Тимее» это чувство совершенно очевидно. Действительно, с превращением прерывных рядов чисел в непрерывность не только античное понятие числа, но и само понятие античного мира становится вопросом. Ясно, что в античной математике ни в каком случае невозможны отрицательные числа, которые мы представляем себе без затруднения, не говоря уже о нуле как числе. Нуль как число имеет вполне определенный метафизический акцент для индийской души, впервые его замыслившей. Отрицательных величин нет. Выражение – 2 х – 3 = + 6 и не наглядно и не является представлением величины. Ряд величин кончается +1. В графическом изображении отрицательного числа.+3.+2.+1.0.-1.-2.-3. начиная с нуля отрезки внезапно становятся положительными символами чего-то отрицательного. Они что-то значат, поэтому только и существуют. Отрицательные числа не суть величины, но нечто, что может быть только обозначено посредством величин. Выполнение этого акта не лежало, однако, в направлении античного мышления числа.
Все рожденное из античного духа возводится, таким образом, в ранг действительности исключительно посредством пластического ограничивания. Что не поддается изображению, то не «число». Платон, Архит и Евдокс говорят о квадратных и кубических числах, когда имеют в виду нашу вторую и третью степень; само собою разумеется, для них нет более высоких степеней. Четвертая степень была бы бессмыслицей для пластического чувства глубины, которое сейчас же подставляет четырехмерную протяженность. Для них являлось бы абсурдом выражение вроде еix, постоянно встречающееся в наших формулах, или хотя бы обозначение 5 1/2, которое встречается у Орема уже в XIV столетии. Эвклид называет множители произведения сторонами (pleyrai). Когда ищут в целых числах отношения двух отрезков, то имеют дело, само собою разумеется, с конечными дробями. Именно поэтому идея нуля как числа совершенно не может появиться, так как графически она не имеет никакого смысла.
Нельзя возражать, исходя из привычки нашего иначе ориентированного мышления, что такое представление числа именно и является «изначальной стадией» единой математики. Античная математика есть нечто совершенное внутри того мира, который античность творила вокруг себя. Но для нас она не такова. То, что для античного миропонимания казалось бессмысленным, вавилонская и индийская математика давно сделали существенной частью своего мира чисел, и некоторые греческие мыслители знали об этом. Единая математика, повторяем, – иллюзия. Действительно то, что адекватно и символически значимо для собственной душевности. Одно это «необходимо для мышления», остальное – невозможно, ошибочно, бессмысленно или, как мы с высокомерием исторического склада мысли предпочитаем говорить, «примитивно». Современная математика, шедевр западноевропейского духа, – «истинная» только для этого духа – показалась бы Платону смешным и тягостным заблуждением на путях кистинной математике, античной конечно; и мы едва ли можем составить себе сколько-нибудь определенное представление о том, как много мы упустили в великих концепциях чуждых культур, потому что не могли ассимилировать их исходя из нашего духа и его границ, или, что то же самое, понимали их как ложное, лишнее и бессмысленное.
6.
Античная математика, как учение о наглядно представляемых величинах, хочет толковать исключительно фактическую наглядность, и она ограничивает, таким образом, свое исследование и область своей значимости предметностью близкого и малого. В противоположность этому ходу мыслей прикладной характер западной математики обнаруживается как нечто весьма нелогичное; это было ясно сознано лишь после открытия неэвклидовых геометрий. Числа – это чистые формы познающего духа. Их точная приложимость к реальной наглядности составляет ввиду этого особую проблему. Конгруэнтность математических систем с эмпирией меньше всего может считаться само собой разумеющейся. Вопреки предрассудку непосвященных, касающемуся непосредственной математической очевидности наглядного представления, как это встречается и у Шопенгауэра, геометрия Эвклида, которая имеет только поверхностное сходство с популярной геометрией всех времен, согласуется с наглядным представлением лишь приблизительно и в очень узких рамках («на бумаге»). Простой факт учит, что параллельные, как это бывает при больших удалениях, сходятся на горизонте. Вся перспектива живописи построена на этом. Вопреки этому Кант исходил из наивного сравнения величин; он, совершенно непростительно для западноевропейского мыслителя, уклонился от «математики далей» и исходил, совершенно по-«античному», из крошечных фигур, при которых, именно из-за их малости, не могла выявиться специфически западная, пространственная сторона проблемы бесконечно малых. Эвклид тоже избегал обращаться для наглядной достоверности своих аксиом к треугольнику, вершинами которого служат место наблюдателя и две неподвижные звезды и который, следовательно, не может быть ни нарисован, ни наглядно представлен. Но он имел на это право, как античный мыслитель. Здесь сказалось то же чувство, которое боялось иррационального, не решалось понимать ничто как число, как нуль и в рассмотрении космических явлений уклонялось от неизмеримого, чтобы сохранить символ меры.
Аристарх Самосский в 270 году дал систему мира, заново открытую Коперником; это второе открытие глубоко затронуло метафизические страсти Запада – вспомним Джордано Бруно, – оно было исполнением мощных предчувствий и утверждением того фаустовского, готического мироощущения, которое уже в архитектуре своих соборов отдало должную дань идее бесконечного пространства. Но античный мир с совершенным безразличием принял мысли Аристарха Самосского и скоро – можно сказать, намеренно – его забыл. Для этой культуры система мира Аристарха душевно была пуста. Она могла бы стать даже опасной для ее основной идеи. И все же, в отличие от системы Коперника – на этот решающий факт никогда не обращали внимания, – при некотором особом понимании система Аристарха вполне подходила к античному мироощущению. Законченный космос Аристарх представлял себе в виде полого шара, вполне не ограниченного телесно, подчиненного взору, в середине которого находится аналогично Копернику понимаемая планетная система. Таким путем преодолевался принцип бесконечности, который мог бы подвергнуть опасности чувственно-античное понятие границы. Не возникает и мысли о безграничном мировом пространстве, хотя здесь она казалась бы неизбежной – ее концепция давно уже удалась вавилонскому мышлению. Наоборот: в своей замечательной работе о «числе песчинок», являющейся, как показывает и само слово, устранением всяких тенденций бесконечного, хотя в ней и видят первый шаг к интегральному счислению, Архимед доказывает, что это стереометрическое тело – а космос Аристарха не был ничем иным, – наполненное атомами (песчинками), приводит в результате счета к очень большому числу, а. не к бесконечности. Но это и значит решительно отрицать все то, в чем для нас смысл анализа. Как доказывают постоянно терпящие крушение и вновь навязывающиеся духу гипотезы материального, то есть воззрительно представляемого, мирового эфира, вселенная нашей физики есть строжайший отказ от всякой материальной ограниченности. Платон, Аполлоний и Архимед, несомненно самые тонкие и смелые математики античного мира, с большим совершенством провели на основе пластически-античного понятия предела чисто оптический анализ ставшего. Они пользовались глубоко продуманными и нам мало доступными методами некоторого интегрального счисления, имеющего только кажущееся сходство с методом определенного интеграла Лейбница, и они применяли геометрические места и координаты, которые были только именованными числами мер и отрезками, а не как у Ферма и особенно у Декарта – отвлеченными пространственными отношениями, значениями точек в отношении к их положению в пространстве. Сюда прежде всего относится метод исчерпывания Архимеда в его открытом недавно письме к Эратосфену, где он основывает, например, квадратуру сегмента параболы на вычислении вписанных прямоугольников (уже не подобных многоугольников). Но именно тот остроумный, бесконечно сложный способ, которым он, опираясь на известные геометрические идеи Платона, приходит к определенному результату, делает едва заметным огромную противоположность между этой интуицией и лишь внешне сходной с ней интуицией Паскаля. Нет более резкой противоположности – если совершенно отвлечься от римановского понятия интеграла, – чем квадратуры Архимеда и то, что, к сожалению, до сих пор называется «квадратурами», при которых «плоскость» рассматривается как ограниченная некоторой функцией и о какой бы то ни было наглядности нет и речи. Нигде обе математики так близко не подходят друг к другу, и нигде так не чувствуется непроходимая пропасть между двумя душами, выражением которых они являются.
Чистые числа, феномен которых египтяне из глубокого страха перед их изначалом как бы скрывали в стиле своих храмов, пирамид и рядов статуй, были и для эллинов ключом к смыслу ставшего, застывшего и, следовательно, преходящего. Математическое число как формальный основой принцип протяженного мира существует только у бодрствующего человеческого сознания и для него; посредством причинной необходимости оно стоит в том же отношении к смерти, в каком хронологическое число – кстановлению, к жизни, к необходимости судьбы. Эта связь математической формы с концом органического бытия, с явлением его неорганического остатка, трупа, будет все яснее вырисовываться как источник всякого великого искусства. Мы уже отметили развитие ранней арифметики из погребального культа. Числа – символы преходящего. Застывшие формы отрицают жизнь. Формулы и законы распространяют оцепенение по лику природы. Числа убивают. Это Матери Фауста, величаво царящие в одиночестве:
Образованье, преобразованье И вечной мысли вечное дрожанье, Вкруг образы всех тварей, словно дым.(«Фауст», ч. 2. Перев. А. Фета).
Здесь соприкасаются Гете и Платон в предчувствии последней тайны. Матери, недоступность – идеи Платона – рисуют возможности душевности, ее нерожденные формы; они осуществились в видимом, с внутренней необходимостью упорядоченном мире, возникшем из идеи этой душевности в форме деятельной и созданной культуры как искусства, мысли, государства, религии. На этом покоится родство числовой системы определенной культуры с ее мировой идеей, и это отношение возвышает числовую систему над голым знанием и познанием до значения миросозерцания и приводит к тому, что существует столько математик – миров чисел, – сколько высших культур. Тогда только становится понятным и необходимым то явление, что величайшим математическим мыслителям, творческим художникам в царстве чисел, в глубоко религиозной интуиции удалось найти решение математических проблем соответствующих культур. Так надо представлять себе создание античного аполлоновского числа Пифагором, основателем религии. Это изначальное чувство руководило Николаем Кузанским, знаменитым епископом Брикским, когда он в 1450 году, исходя из рассмотрения бесконечности Бога в природе, открыл основные черты счисления бесконечно малых. Лейбниц развил эту идею двумя столетиями спустя, – он создал analysis situs также из чисто метафизического рассмотрения принципа Божества и его отношения к бесконечной протяженности; analysis situs – гениальнейшая интерпретация чистого, от всего чувственно освобожденного пространства; богатые возможности этой интерпретации были развернуты только в XIX столетии Грассманом в его учении о протяженности и Риманом в его символике двусторонних плоскостей, которые представляют природу уравнений. Декарт, глубокий христианин в духе Пор-Рояля, следуя внутреннему влечению в связи с философски-математическим обучением, обратил вновь в католичество пфальцграфиню Елизавету и дочь Густава Адольфа, королеву Христину Шведскую. И Кеплер и Ньютон, оба строго религиозные натуры, всегда были, как Платон, убеждены, что можно интуитивно постичь сущность божественного мирового порядка именно посредством чисел.
7.
Только Диофант, как обычно утверждают, освободил античную арифметику из ее чувственного плена, расширил и развил и создал алгебру как учение о неопределенных величинах. Но это, конечно, не обогащение, а полное преодоление античного мироощущения; Диофант, следовательно, внутренне не принадлежит уже греческой культуре. В нем проявляется новое чувство числа или, мы сказали бы, чувство границы, в противоположность всему действительному, ставшему; это уже не эллинское чувство числа, из осязательно данной предельности которого развилась рядом с Эвклидовой геометрией чувственных тел также и подражающая ей пластика обнаженной статуи. Мы не знаем подробностей создания этой новой математики. Под видом желания следовать Эвклидовым путям мысли у Диофанта всплывает то новое чувство границы – я называю егомагическим, – которое совершенно не сознает своей противоположности античному взгляду. Идея числа как величины не расширена, а незаметно уничтожена. Что такое неопределенное число а или отвлеченное число 3 (то и другое не величина, не мера, не отрезок) – этого грек совершенно не мог представить. В основе диофантовского исследования лежит, во всяком случае, новое чувство границы, воплощенное в этих типах чисел; даже привычное для нас буквенное счисление, в форме которого является теперешняя алгебра, между прочим вновь совершенно переделанная, было введено Вьета только в 1591 году; здесь сказалась яркая, сознательная оппозиция к эллинизированному счислению эпохи Возрождения.
Диофант жил в 250 году до Р. X., то есть в третьем столетии арабской культуры, исторический организм которой в то время был погребен под внешними формами Рима времен императоров и «средневековья»; ей принадлежит все, что с начала нашего летосчисления возникло на территории рождающегося ислама. Тогда же угасла последняя тень античной пластики статуй перед лицом нового чувства пространства, проявленного в базиликах, в мозаике и в рельефах саркофага раннего христианско-сирийского стиля. Тогда снова появилось архаическое искусство и строго геометрический орнамент. Тогда именно Диоклетиан создал халифат на месте ставшего уже призрачным римского государства. Пятьсот лет лежит между Эвклидом и Диофантом, между Платоном и Плотином, последним замыкающим мыслителем (Кантом) заканчивающейся культуры и первым мистическим духом (Данте) культуры едва пробуждающейся.
Здесь затрагиваем мы впервые незнакомый еще нам феномен тех великих индивидуальностей, чье становление, рост и увядание под пестрой обманчивой оболочкой скрывает настоящую субстанцию всемирной истории.
Витающая в римском духе античная душевность, «телом» которой является историческая действительность античной культуры, с ее творениями, мыслями, делами и развалинами, была порождена в 1100 году до Р. X. страной эгейского моря. Зарождающаяся во время Августа под покровом античной цивилизации арабская культура ведет свое происхождение из области между Нилом и Евфратом, Каиром и Багдадом. Как выражение этой новой души, надо рассматривать почти все «позднеантичное» искусство времен императоров, все вообще исполненные молодого пыла культы Востока, культ Митры, Сераписа, Гора, Исиды, сирийских Ваалов из Эмесы и Пальмиры, христианство и неоплатонизм, императорский форум в Риме и выстроенный сирийцем Пантеон, самая ранняя из мечетей.
Что тогда по-гречески писали и как будто по-гречески мыслили, имеет не больше значения, чем тот факт, что наука Запада включительно до Канта предпочитала латинский язык или что Карл Великий «восстановил» римское государство.
У Диофанта число не является больше мерой и сущностью пластических вещей. На равеннских мозаиках человек уже не тело. Греческие обозначения незаметно потеряли свое изначальное содержание. Мы выходим из сферы аттической «калокагатии», стоической «атараксии» и «галэны». Правда, Диофант еще не знает нуля и отрицательных чисел, но он уже не знает пластических единиц пифагорейских чисел. С другой стороны, неопределенность отвлеченных арабских чисел является чем-то совершенно иным, чем закономерная изменчивость позднейшего западноевропейского числа, функции.
После Диофанта, который до себя уже предполагает известное развитие, магическая математика, алгебра, хотя нам неизвестны подробности, развивалась логически и в главных чертах – до завершения, в эпоху Аббасидов IX столетия, как показывает уровень знания у Альхварижди и Альсиджи. Тогда лишь начинается, снова спустя полтысячелетия, в новой, отдаленной стране великий процесс перетолкования этого магического, переданного нам испанскими арабами мира чисел в функциональный мир Западной Европы; начинается могучая борьба против внедряющегося чуждого мироощущения, с его внутренне законченным истолкованием пространства, которое должна была отразить и сломить юная готическая душа, чтоб не дать погибнуть своей собственной сущности; отсюда – скрытая борьба во всех произведениях архитектуры, каждом фасаде, каждом орнаменте, каждом символе, в каждой метафизической и математической проблеме; глухое величие этой борьбы никогда еще не было почувствовано.
Чем была Эвклидова геометрия в отношении к античной пластике – тот же язык форм, но в другом одеянии, – чем был анализ пространства в отношении к стилю фуги инструментальной музыки, тем же была эта алгебра в отношении к магическому искусству мозаики, к все богаче развивающимся арабескам начиная с эпохи Сасанидов и позднее Византии, с их чувственно-нечувственным претворением органического мотива форм горельефа Константиновского стиля, с его свободно выполненными фигурами на фоне глубокого сумрака заднего плана. Как алгебра относится к античной арифметике и западноевропейскому анализу, так же относится увенчанная куполом базилика к дорическому храму и готическому собору.
Нельзя сказать, чтобы Диофант был великим математиком. Самое важное, что связано с его именем, не написано в его работах, а то, что в них написано, вероятно, не вполне оригинально. Его случайное значение состоит в том, что – насколько мы знаем – он был первым, несомненно обладавшим новым чувством числа. В противоположность великим мыслителям, замыкающим известную математику, как Аполлоний и Архимед – античную и соответственно им Гаусс, Коши и Риман – западноевропейскую, мы встречаемся у Диофанта и Менелая с чем-то примитивным, что до сих пор охотно называлось декадансом. В будущем научатся понимать и оценивать этот декаданс в духе той переоценки, которую следует сделать в отношении к так называемому позднеантичному искусству, рассматривая его как ощупью идущее проявление только что пробуждающегося раннеарабского мироощущения. Впечатление такой же примитивной, архаичной и полной искания науки производит математика Николая Орема, епископа в Лизье (1323–1382), впервые применившего некоторое подобие координат и даже дробные показатели степеней, а это предполагает, еще неясно, но уже несомненно, такое чувство числа, которое оказывается совершенно неантичным, но в то же время и не арабским. Если рядом с Диофантом вспомнить о раннехристианском саркофаге римских коллекций и, рядом с Оремом, о готических одетых статуях немецкого собора, то можно заметить что-то родственное и в ходе математической мысли, представляющей у обоих математиков одну и ту же раннюю ступень интеллекта. Совершенно утратилось стереометрическое чувство границы в его последней утонченности и элегантности. Все было настроено глухо, томительно, мистично, а не аттически светло и свободно. В центре стоял из земли рожденный, первобытный человек, а не человек великих городов, подобно Эвклиду и Да-ламберу. Уже не понимались больше глубокие и сложные образы античного мышления, их заменили спутанные, новые, ясное интеллектуально-городское рассмотрение которых еще не было найдено. Это – готическое состояние всех молодых культур; оно было пройдено и античным миром в его раннедорическое время, от которого ничего не осталось, кроме погребальных урн дипилонского стиля. Только в Багдаде, в IX и X веках, концепции эпохи Диофанта были проведены и закончены зрелыми умами, не уступавшими Платону и Гауссу.
8.
Решающее значение Декарта, геометрия которого появляется в 1637 году, состоит вовсе не в введении новой методы или наглядности в область традиционной геометрии, как это постоянно высказывается, но в окончательной новой числовой концепции, новой идее числа, которая выразилась в полном освобождении геометрии от наглядной осязательной конструкции, от измеренных и измеримых отрезков. Этим самым анализ бесконечно малых стал фактом. Застывшая так называемая картезианская система координат – идеальный представитель измеримых величин в полуэвклидовском смысле, – которая в предшествующий период, у Орема например, приобрела уже некоторое значение, была Декартом не завершена, но преодолена, если проникнуть в глубину его рассмотрений. Современник Декарта, Ферма, был ее последним классическим представителем.
На место чувственного элемента конкретного отрезка и плоскости – специфического выражения античного чувства границы – стал абстрактно-пространственный, не античный элемент точки, который с тех пор характеризуется как группа соподчиненных чистых чисел. Декарт разрушил литературно унаследованное понятие величины, чувственного измерения и заменил его переменным значением отношений положения в пространстве. Что это было устранением геометрии вообще, которая с тех пор, в числовом мире анализа, стала влачить жалкое существование, подернутое дымкой античных воспоминаний, – это совершенно упустили из виду. Слово «геометрия» имеет неустранимый аполлоновский смысл. Начиная с Декарта мнимо «новая геометрия» оказывается или синтетическим процессом, который определяет посредством чисел положения точек уже не только в трехмерном пространстве («точечные множества»), или аналитическим, который определяет числа посредством положения точек. Заменить отрезки положениями – значит рассматривать понятие протяжения чисто пространственно, а не телесно.
Классическим примером этого разрушения унаследованной геометрии наглядного и конечного представляется мне обращение угловых (тригонометрических) функций – они были в едва доступном для нас смысле числами индийской математики – в функции циклометрические (круговые) и дальнейшее их разложение в ряды, которые в бесконечном царстве чисел алгебраического анализа утратили всякое воспоминание о геометрических образованиях эвклидовского стиля. Число я и основание натуральных логарифмов число е, всюду всплывая в этой области чисел, порождают отношения, которые стирают все границы прежней геометрии, тригонометрии, алгебры, которые не имеют ни геометрической, ни арифметической природы, ибо здесь никто уже не думает о действительно нарисованных кругах или вычисляемых степенях.
9.
В то время как античная душа благодаря Пифагору в 540 году приходит к концепции своего собственного аполлоновского числа, душа Запада в точно соответственное время нашла благодаря Декарту и его поколению (Паскаль, Ферма, Дезарг) идею числа, которая родилась из фаустовской страсти к бесконечному. Число как чистая величина, которое приурочено к предметной действительности отдельных вещей, находит свою противоположность в числе как чистом отношении. Если античный мир, космос, определяется глубокой потребностью в видимой ограниченности как исчислимой суммы материальных вещей, то наше мироощущение воплощается в картине бесконечного мира, в котором все видимое воспринимается как нечто обусловленное в противоположность безусловному, как действительность второго сорта. Его символом является основное понятие функции, никакой другой культуре неизвестное. Функция – это ни в каком случае не расширение какого-нибудь прежнего понятия числа; она его полное преодоление. Не только Эвклидова, то есть общечеловеческая, популярная геометрия, но и архимедовская область элементарного счисления, арифметика, перестает существовать в математике, действительно важной для Западной Европы; здесь может иметь место только абстрактный анализ. Для античного человека геометрия и арифметика были науками огромного значения; они обе наглядны, обе в счете или чертеже оперируют с величинами; для нас они только практические средства обыденной жизни. Сложение и умножение, оба античных метода счисления величин, совершенно исчезают в бесконечности функционального процесса. Степень, которая сначала является только числовым знаком определенной группы умножения (для множителей одной и той же величины), совершенно освобождается от понятия величины посредством нового символа показателя (логарифма) и его применения к комплексным, отрицательным, дробным формам и переводится в трансцендентный мир отношений, который был бы совершенно чужд грекам, знавшим только две положительные целые степени, представляющие площади и тела (следует вспомнить о выражениях, подобных).
Каждое из глубоких творений, которые со времен Возрождения быстро следуют одно за другим, как: мнимые и комплексные числа, которые введены Карданом еще в 1550 году; бесконечные ряды, теоретически обоснованные Ньютоном после его великого открытия бинома в 1666 году; логарифмы в 1610 году; дифференциальная геометрия; определенный интеграл Лейбница; множество как новое числовое единство, уже намеченное Декартом; новые действия, как то: неопределенные интегралы, разложение функций в ряды и даже бесконечные ряды других функций, – каждое из этих открытий является также победой над популярно-наглядным чувством числа, которое должно было быть преодолено духом новой математики, осуществлявшей новое мироощущение. Не было другой культуры, которая наследию старой, давно угасшей культуры воздавала бы столько почестей и допускала бы с ее стороны столько влияния, сколько западноевропейская по отношению к культуре античной. Много прошло времени, прежде чем мы нашли в себе мужество думать свои думы. В основе лежало постоянное желание подражать античному. Тем не менее всякий шаг вперед был фактическим удалением от поставленного идеала. Поэтому история западноевропейского знания – это растущая эмансипация от чуждого, история освобождения, которого вовсе не хотели, но которое вынуждалось глубинами бессознательного. Так развитие новой математики принимает вид скрытой, долгой, наконец, победоносной войны против понятия величины.
10.
Античные предрассудки помешали нам отметить новое в западноевропейском числе как таковом. Современный символический язык математики искажает сущность дела, и прежде всего ему следует приписать, что еще и поныне математиками разделяется взгляд, будто числа суть величины, – на этой предпосылке, во всяком случае, покоится наша письменная система обозначения.
Новое число – это не отдельные знаки (x, π, 5), применяемые для выражения функции, но сама функция как единство, как элемент, изменчивое, в наглядные границы более не вмещаемое отношение. Для него была бы нужна новая символика, по самой своей структуре свободная от античных воззрений.
Необходимо уяснить себе разницу двух уравнений – даже само слово «уравнение» не следовало бы применять к таким совершенно разным вещам, например 3x + 4x = 5х и xn+ yn = zn (уравнение Ферма). Первое состоит из многих «античных чисел» (величин), второе есть одно число совершенно другого рода; это маскируется одинаковым способом написания, символика которого развилась под влиянием эвклидо-архимедовских представлений. В первом случае знак равенства есть установка неизменной связи определенных, осязаемых величин; во втором знак равенства представляет некоторое отношение, существующее внутри группы переменных образований, такого рода, что определенные изменения необходимо влекут за собой известные другие. Первое равенство имеет целью установку (измерение) конкретной величины, «результата», – второе вообще не имеет никакого результата, но является отображением и знаком отношения, которое для n > 2 – это и есть знаменитая проблема Ферма – исключает целые значения, что, вероятно, доказуемо. Греческие математики не могли бы понять, чего, собственно, хотят от этого рода операций, конечной целью которых не является «вычисление».
Понятие неизвестных вводит в полное заблуждение, если его применять к буквам уравнения Ферма. В первом, «античном» уравнении, х есть величина определенная и измеримая, которую остается только найти. Во втором – для х, у, z, n – слово «определить» не имеет никакого смысла; следовательно, «значения» этих символов вовсе не собираются искать; следовательно, они вообще не числа в пластическом смысле, но знаки для зависимости, у которых отсутствуют признаки величины, образа и однозначности, знаки для бесконечности возможных положений одинакового характера; они являются числом, только постигнутые как единство. В уравнении применяется много вводящих в заблуждение знаков. Но не х, у, z, как и не + и не =, не являются числами. Фактически все уравнение в целом есть одно-единственное число.
Ибо уже с понятием иррационального, вполне антиэллинского числа распалось в своей глубочайшей основе понятие конкретного, определенного числа. Теперь уже эти числа перестают быть обозримым рядом возрастающих, дискретных, пластических величин, но образуют одномерный континуум, в котором всякий разрез (в смысле Дедекинда) представляет «число», и ему не следовало бы иметь старого обозначения. Для античного духа возможно только одно число между 1 и 3; для западноевропейского – бесконечное множество. Наконец, с введением мнимых () и комплексных чисел (общей формы a + bi), которые расширяют линейный континуум в высокотрансцендентную конструкцию числового корпуса (совокупности множества однородных элементов), где каждое сечение представляет числовую плоскость, – бесконечное множество более ограниченных «мощностей», например совокупность всех реальных чисел, – все это разрушает последний остаток антично-популярной осязаемости числа. Эти числовые плоскости, которые со времени Коши и Гаусса играют важную роль в теории функций, суть чистые построения мысли. Положительное иррациональное число, например, могло бы еще быть создано из античного понимания числа, хотя бы и отрицательного, причем как число оно исключалось бы – как «arrētos» и «alogos», но выражения формыx + yi лежат уже по ту сторону всех возможностей античного мышления. На распространении арифметических законов на всю область комплексного, внутри которой они всегда остаются применимыми, покоится теория функций; она дается, наконец, во всей чистоте только западноевропейской математикой, причем охватывает, растворяет в себе все частные области. Только таким путем эта математика становится вполне приложимой к одновременно с ней развивающейся динамической физике Запада, тогда как античная математика оказывается точным коррелятом того мира пластических единичных вещей, картину которого дает статическая физика Аристотеля, точная научная интерпретация античного космоса.
Классическим столетием этой математики барокко – в противоположность математике ионического стиля – был XVIII век: решающее открытие Ньютона и Лейбница ведет через Эйлера, Лагранжа, Лапласа, Даламбера к Iayccy. Развертывание этого могущественного духовного творчества свершилось как чудо. Едва осмеливались верить тому, что видели. Открывались истины за истинами, которые казались бы невозможными утонченным умам скептически настроенного века. К этому веку расцвета относится изречение Даламбера: «Allez en avant et la loi vous viendra» [5]. Дело шло о теории производных. Сама логика, казалось, протестовала против того, чтобы все допущения основывать на ошибках, но цель все же была достигнута.
Это было столетие высокого упоения в проникновенных, недоступных чувственному глазу формах – ибо рядом с творцами анализа стоят Бах, Глюк, Гайдн, Моцарт, – когда небольшой круг избранных и глубоких умов предавался роскоши тончайших открытий и игры форм, от которой Гете и Кант стояли в стороне; это столетие по содержанию точно отвечает наиболее зрелому веку ионики, веку Платона, Архита и Евдокса (450–350), – а также, скажем опять, Фидия, Поликлета, Алкамена и строителей Акрополя, – веку, в котором мир форм античной математики и пластики до конца расцвел во всей полноте своих возможностей.
Теперь только можно окинуть взором противопоставление античной и западной души в их элементах. Нет ничего более внутренне чуждого в пределах всей картины истории человечества на высшей ступени его развития. И именно потому, что противоположности сходятся, что они указывают на нечто, может быть, общее в последней глубине существования, – мы встречаем в западноевропейской, фаустовской душе тревожное искание идеала аполлоновской; только эту душу постигла она среди всех других и завидовала ее преданности чувственно-чистой действительности.
Эту душевную противоположность, не укладывающуюся даже в рамки слов, осуществляют во внешнем мире ставшего, ограниченного, преходящего исторические единства античной и западноевропейской культур, из которых одна начала цвести в позднемикенское время, другая – ко времени саксонских королей, и обе закончили свое развитие Аристотелем и Кантом, Платоном и Гете, Фидием и Бетховеном, Александром и Наполеоном.
Теперь только чувствуется все значение символики, нашедшей в мире чисел обоих математик свое, может быть, непосредственнейшее выражение, но область которой выходит далеко за пределы математики. Оказывается, что математика говорит одним языком со всеми сопровождающими ее искусствами, со всеми вообще творениями деятельной жизни, – языком форм, в котором последние возможности душевного и открываются и укрываются. С математикой теснейшим образом связана мистическая архитектура ранних эпох – дорическая, готическая, раннехристианская и египетская Древнего царства. Здесь, в египетской культуре, обе формы никогда не разделялись. Архитектура великих пирамид – это молчащая математика; но и античная душа никогда резко не разграничивала скульптурной и геометрической символики. Анализ также есть архитектура величайшего стиля, и мы донимаем теперь, почему две системы чисел, из которых одна так же пылко утверждает наличность наглядного предела, как другая ее отрицает, должны были существовать рядом с ионической пластикой и немецкой музыкой как родственные искусства, самое чувственное и самое нечувственное из всех возможностей художественной силы воплощения.
11.
Было замечено, что в определенный момент жизни первобытного человека и ребенка у них появляется некоторое внутреннее переживание, рождение «Я», и с этого момента им становится доступным феномен числа, а следовательно, и отнесенный к «Я» окружающий мир.
Из хаоса впечатлений перед изумленным взором первобытного человека выступают огромные очертания проясняющегося мира упорядоченной протяженности, мира «ставшего», полного значений. Когда глубоко воспринятое неустранимое противоположение этого внешнего мира собственной душе дает осознанной жизни направление и облик, тогда одновременно с рождением всех вообще возможностей новой культуры в душе, внезапно постигшей свое одиночество, пробуждается изначальное чувство искания. Это – искание цели становления, искание законченности и осуществленности всех внутренних возможностей, раскрытия идеи собственного существования. Это искание ребенка, которое все яснее выступает в сознании как чувство неудержимой направленности и как загадка времени стоит перед зрелым духом – жуткая, манящая, неразрешимая. Слова «прошлое» и «будущее» получают вдруг смысл неумолимой судьбы.
Но это искание, идущее от полноты и блаженства внутреннего становления, есть вместе и страх, таящийся в темных глубинах каждой души. Как всякое становление направляется к тому, чтобы стать, – этим оно и кончается, – так изначальное чувство становления, искание, соприкасается с другим чувством, чувством завершенности, страхом. В настоящем (in der Gegenwart) чувствуется текучесть, в прошедшем – бренность. В этом корень вечного страха перед непоправимым, достигнутым, оконченным; перед преходящим, перед самим миром как осуществленным, в котором вместе с рубежом рождения положен и рубеж смерти, – страха перед мгновением, когда осуществляется возможное, когда жизнь внутренне наполняется и заканчивается, когда сознание стоит у цели. Это тот глубокий страх мира, который испытывает детская душа; который никогда не покидает зрелого человека, верующего, поэта, художника в его безграничном одиночестве, – страх перед чуждыми силами, огромными и грозным», окутанными в чувственные явления, вторгающимися в проясняющийся мир. Также и направленность всего становления, в ее неумолимости – необратимости, – воспринимается с глубокой внутренней достоверностью, как чуждый элемент. Есть что-то чуждое в том, что превращает будущее в прошедшее; это придает времени, в противоположность пространству, то противоречивое, жуткое и гнетущее двусмысленное, от чего не может вполне защититься ни один чуткий человек.
Страх мира есть, несомненно, самое творческое среди изначальных чувств. Ему обязан человек наиболее зрелыми и глубокими формами и образами не только опознанной внутренней жизни, но и ее отражением в бесчисленных созданиях внешней культуры. Подобно тайной мелодии, не всем доступной, страх проникает язык форм всякого истинного произведения искусства, всякой глубокой философии, всякого высокого подвига, и он, заметный очень немногим, лежит в основе великих проблем каждой математики. Только внутренне умерший человек больших городов позднего времени, птолемеевской Александрии или современного Парижа и Берлина; только насквозь рассудочный софист, сенсуалист и дарвинист теряет этот страх или отрекается от него, причем между собой и чуждым он ставит разрешившее все тайны «научное миросозерцание».
Если искание направляется к тому неосязаемому нечто, тысячи неуловимых, изменчивых, как Протей, образований которого скорее прикрываются, чем обозначаются словом «время», то изначальное чувство страха находит свое выражение в проникновенных, осязаемых, образных символах протяженности. Так, в бодрствующем сознании каждой культуры, в каждом по-своему, заключены противоположные формы времени и пространства, направленности и протяжения; первое лежит в основе второго, как становление в основе ставшего, ибо и искание лежит в основе страха; оно становится страхом, не наоборот; первое лишено духовного могущества, второе ему служит, первое только переживается, второе только познается. «Бояться и любить Бога» – христианское выражение для чувства противоположности обоих мироощущений.
Из души всего первобытного человечества, а следовательно и раннего детства, возникает побуждение заклинать, понуждать, смирять – «познавать» – элемент чуждых сил, которые неумолимо присутствуют во всем протяженном, в пространстве и через пространство. В конечном счете это одно и то же. Познать Бога в мистике ранних эпох – значит его заклинать, расположить к себе, внутренне себе приобщить. Это совершается посредством слова, «имени», именуя которым numen, его призывают, или посредством форм культа, которым свойственна тайная сила. Идеи немецкой, как и восточной, мистики, возникновение всех античных богов, все культы – не допускают в этом отношении никакого сомнения. Действительное познание есть духовный охват чуждого. Этот оборонительный акт – первое творческое деяние всякой пробужденной душевности. С него, собственно, начинается более высокая внутренняя жизнь культуры или отдельного человека. Познание, полагаете границы посредством понятий и чисел – самая тонкая, но и самая могущественная форма этой обороны. А поэтому человек только посредством языка становится вполне человеком. Познание с непреложной необходимостью превращает хаос изначальных окружающих впечатлений в космос, совокупность душевных выражений, «мир в себе» – в «мир для нас». Оно заглушает страх мира, укрощая чуждое, таинственное, придавая ему вид осязаемой упорядоченной действительности, сковывая его прочными правилами особого, чеканного, интеллектуального языка форм.
В этом идея «табу», играющего исключительную роль в душевной жизни всех первобытных народов, но по своему первоначальному содержанию так нам далекого, что это слово не переводимо более ни на один зрелый, культурный язык. В основе его лежит изначальное чувство, возникающее до всякого познания и понимания мира, до всякого ясного, душу и мир различающего сознания; в теперешнюю эпоху больших городов оно доступно только детям да немногим художественным натурам. Безысходный страх, священный ужас, покинутость, тоска, ненависть, неясное стремление к сближению, слиянию, отдалению – все эти оформляющие чувства зрелой души в той ранней стадии развития сливаются в смутной неразличимости. Двойной смысл слова «заклинать», которое в одно и то же время значит и «принуждать» и «умолять», может уяснить значение того мистического акта, которым древний человек чуждое и страшное делает «табу». Благоговейный страх перед всем от него независимым, положенным, предуказанным, перед чуждыми силами природы есть изначало всех элементарных форм. В древнейшие времена «табу» осуществляется в иератических орнаментах, в томительных церемониях, в строгих установлениях примитивных нравов и необыкновенных культов. В великих культурах эти образования, не потеряв внутренних признаков своего происхождения, характера колдовства и заклинания, вырастают в совершенный мир форм отдельных искусств, религиозного, логического, математического мышления, экономического, политического, социального, индивидуального существования. Общее всем им средство, единственное, которое знает осуществляющая себя душа, есть символизация протяженного, пространства или вещей, – будь это концепции абсолютного мирового пространства физики Ньютона, внутренний простор готического собора и мавританской мечети, бесконечное обилие воздуха в картинах Рембрандта и мрачный мир звуков бетховенского квартета; будь это правильные многогранники Эвклида, скульптура Парфенона или пирамиды Древнего Египта; нирвана Будды, придворный этикет времен Сезостриса, Юстиниана I и Людовика XIV; будь это, наконец, идея Бога Гомера, Плотина, Данте или побеждающая пространства всего земного шара энергия современной техники.
12.
Но вернемся к математике. Исходной точкой всего античного оформления был, как мы видим, порядок ставшего, поскольку оно проявляется в чувственном, наличном, осязаемом, измеримом, поддающемся счету. Западноевропейское, готическое чувство формы одинокой, витающей в далях души избрало средством своего выражения чистое, невоззрительное, безграничное пространство. Не следует обманываться узким пониманием таких символов, которые мы охотно принимаем за тождественные, общезначимые. Наше бесконечное мировое пространство, о существовании которого, казалось бы, нечего распространяться, для античного человека вовсе не существовало. Для него оно даже непредставимо. С другой стороны, эллинский космос, глубокая чуждость которого нашему миросозерцанию не должна была бы так долго оставаться незамеченной, казался эллину чем-то само собою разумеющимся. В действительности абсолютное пространство нашей физики оказывается формой, возникшей только из нашей душевности, как ее отображение и выражение, и только для нашего бодрствующего существования оно действительно, необходимо и естественно. Вся математика начиная с Декарта служит теоретической интерпретацией этого великого символа, исполненного религиозным содержанием. Со времени Галилея физика ничего другого не хочет. Античная математика и физика не знают вообще этого объекта.
И здесь также сущность дела затуманена античными названиями, которые мы удержали из литературного наследия греков. Геометрией называется искусство измерения, арифметикой – искусство счета. Математике Запада нечего больше делать с этими обоими видами ограничения, но она не придумала себе нового названия. Слово «анализ» выражает далеко не все.
Свои исследования античный математик и начинает и кончает единичным телом и ограничивающей его поверхностью. Мы знаем, в сущности, только абстрактный пространственный элемент точки; лишенный наглядности, возможности измерения и наименования, он представляет собою, собственно, только центр отношения. Прямая для грека есть измеримая граница, для нас – неограниченный точечный континуум. Лейбниц приводит в качестве примера для принципа бесконечно малых прямую, которую можно рассматривать как предельный случай круга с бесконечно большим радиусом; точка же оказывается опять-таки предельным случаем. Для духа античного человека квадратура круга была классической предельной проблемой. Вот что казалось греческому духу самой глубокой тайной мировой формы: превратить криволинейно ограниченные плоскости в прямоугольные и, не меняя их величины, сделать их таким образом измеримыми. Для нас стало очень простым делом – изобразить число л алгебраическими средствами, не поднимая при этом и речи о геометрических образах.
Античный математик знает только то, что он видит я осязает. Где кончается ограниченная, ограничивающая видимость – сфера его полета мысли, – там находит конец и его наука. Западноевропейский математик, как только он, освобожденный от античных предрассудков, становится самим собой, углубляется в совершенно абстрактную область бесконечного числового множества, не трех, а n измерений, внутри которого его так называемая геометрия может и часто должна обойтись без всякой помощи наглядного. Если античный человек обращается к художественному выражению своего чувства формы, то он стремится придать человеческому телу в танце и состязании, в мраморе и бронзе такое положение, в котором плоскости и контуры имели бы максимум соразмерности и выразительности. Настоящий художник Запада закрывает глаза и теряется в области бестелесной музыки, где гармония и полифония ведут к творениям величайшей «потусторонности», выходящим за пределы всех возможностей оптической определенности. Стоит только представить себе, что понимают под фигурой афинский скульптор и северный контрапунктист, и тогда станет совершенно ясной противоположность этих двух миров, двух математик. Греческая математика пользуется словом «sфma» для обозначения тела. С другой стороны, правовой язык применяет то же слово к личности в противоположность вещи («sцmata cai pragmata»; personae et res).
Феномен античного, целого, телесного числа невольно поэтому ищет отношения к телесному началу человека, к «sфma». Единица едва ли принималась как настоящее число. Она – «архе», изначальная основа числового ряда, изначало всех чисел и, следовательно, всех величин, всех мер, всякой вещественности. Ее числовой знак в кругу пифагорейцев всегда был символом материнского лона, изначала всей жизни. Двойка, первое настоящее число, которое удваивает единицу, была связана с принципом мужского начала, и ее знаком стало изображение фаллоса. Наконец, священная троица символизировала акт соединения мужчины и женщины, зачатия – и вполне понятен эротический смысл двух особенно важных для античности процессов – роста величины и порождения величины, сложения и умножения; знаком тройки было соединение двух первых чисел. Отсюда проливается новый свет на упомянутый выше миф о дерзости раскрытия иррационального. Иррациональное, выражаемое нами применением бесконечных десятичных дробей, есть разрушение органически-телесного, созидательного порядка, который был установлен богами. Нет сомнения, что пифагорейская реформа античной религии восстановила древний культ Деметры. Деметра родственна Гее, матери-земле. Есть глубокая зависимость между ее почитанием и этим возвышенным пониманием числа.
Так античный мир с внутренней необходимостью стал постепенно культурой малого. Аполлоновская душа стремилась заклясть смысл завершенного посредством принципа обозримой границы; ее «табу» направлено на непосредственную наличность и близость чуждого. Что давно прошло, что невидимо, того и нет. Грек, как и римлянин, приносил жертвы богам той страны, где ему случалось быть, – все другие исчезали из его кругозора. Как греческий язык не имеет названия для пространства – мы будем постоянно подчеркивать мощную символику таких явлений языка, – так нет у грека нашего чувства ландшафта, чувства горизонта, далей, облаков, а также понятия отечества, широко раскинувшегося и охватывающего великую нацию. Отчизна для античного человека – это то, что он мог окинуть взором со стен родного города, не больше. Что лежало по ту сторону видимой границы такого политического атома, было чуждо, даже враждебно. Здесь начинается уже страх античного существования, и это объясняет чудовищную ожесточенность, с какой эти крошечные города уничтожали друг друга. Полис – это самое маленькое из всех мыслимых государств, и его политика, ясно выраженная политика «близкого», – полная противоположность нашей дипломатии кабинетов, политике безграничного. Античный храм, если охватить его единым взором, – самое маленькое из всех классических строений. Геометрия от Архита до Эвклида – как это делает под их влиянием школьная геометрия еще и теперь – занимается маленькими, удобными для обращения фигурами и телами, и для нее, таким образом, были скрыты трудности, которые всплывают при оперировании астрономическими расстояниями, не всегда допускающими пользование Эвклидовой геометрией. Но вместе с тем тонкий античный дух как будто тогда уже предугадывал проблему неэвклидовых геометрий: возражения против известной аксиомы о параллельных, содержание которой с давних пор не удовлетворяло геометров, близко наталкивали на возможное решение вопроса. Наложения элементарного счисления, например 2 x 2 = 4, казалось само собою разумеющимся, – настолько же нам само собою разумеющимся кажется оперирование бесконечным, выходящим за пределы наглядности. Все математические взгляды, которые Западная Европа отвергала или принимала, с глубокой необходимостью подчинялись языку форм счисления бесконечно малых задолго до того, как было открыто само дифференциальное счисление. Арабская алгебра, индийская тригонометрия, античная механика были сразу включены в анализ. Положения элементарного счисления, например 2 x 2 = 4, – казалось бы, самые «очевидные» – с аналитической точки зрения оказываются проблемами, решение которых при помощи выводов из теории множеств в отдельных своих частях вообще еще не удалось; Платону и его времени все это показалось бы явным сумасбродством и служило бы доказательством полного отсутствия математической одаренности.
Можно, конечно, трактовать геометрию алгебраически или алгебру геометрически; это значит или устранить то, что дается глазу, или дать ему господствовать. Первое делаем мы, второе – греки. Архимед, который в своем прекрасном исследовании спирали затрагивает известные общие факты, лежащие в основе также и метода определенного интеграла у Лейбница, сейчас же подчиняет стереометрическому принципу свой на первый взгляд вполне модернистический метод. Индиец, само собою разумеется, дал бы в этом случае тригонометрическую формулировку. (Теперь нельзя уже установить, что именно в известной нам индийской математике возникло в древнеиндийский период, то есть до Будды.)
13.
Из основного противоположения античного и западноевропейского числа вытекает столь же глубоко идущее противоположение того отношения, в котором стоят друг к другу элементы каждого из этих комплексов. Соотношение величин называется пропорцией, соотношение же отношений определяет сущность функции. Оба слова, выходя за пределы математики, имеют очень большое значение для техники соответствующих искусств – пластики и музыки. Если совершенно отвлечься от того смысла, который имеет слово «пропорция» для соразмерности частей отдельной статуи, то только типичные античные произведения искусства – статуи, рельефы, фрески – допускают увеличение и уменьшение масштаба – слова, которые для музыки, искусства безграничного, не имеют никакого смысла. Вспомните об искусстве гемм, задача которого сводилась к простому уменьшению статуй натуральной величины. В пределах же теории функций понятие трансформации групп, напротив того, имеет решающее значение, и музыкант подтвердит, что аналогичные образования составляют существенную часть нового учения о композиции. Я напомню только об одной тончайшей инструментальной форме XVIII столетия – «теме с вариациями».
Всякая пропорция предполагает постоянство, всякая трансформация – изменчивость элементов: здесь следует сравнить положения конгруэнтности у Эвклида, доказательства которых фактически покоятся на наличном отношении 1:1, с современным выведением при помощи угловых (тригонометрических) функций.
14.
Конструкция – которая в широком смысле включает все методы элементарной арифметики – есть альфа и омега античной математики: она состоит в создании единичного, стоящего перед нашими глазами объекта. Циркуль – вот резец этого второго изобразительного искусства. Способ работы при исследованиях в области теории функций, цель которого не результат в виде определенной величины, а рассмотрение всех формальных возможностей, может быть характеризован как род теории композиции, близко напоминающий музыкальную. Целый ряд понятий теории музыки мог бы быть непосредственно применен к аналитическим операциям физики – «тональность», «фразировка», «хроматика» и пр., – и очень возможно, что некоторые зависимости выиграли бы при этом в ясности.
Всякая конструкция утверждает наглядную очевидность, всякая операция ее исключает, причем одна создает оптически данное, другая его разлагает. Так появляется дальнейшее противоположение обоих видов математической деятельности: античная математика «малого» рассматривает конкретный, единичный случай, вычисляет определенное задание, единичную конструкцию. Математика бесконечного занимается целыми классами формальных возможностей, группами функций, операций, уравнений, кривых, имея в виду не какой-нибудь результат (в арифметическом смысле), а свой собственный ход исследования. Два столетия тому назад – и современными математиками это едва сознается – возникла идея всеобщей морфологии математических операций, которая раскрывает действительный смысл всей новой математики. Здесь обнаруживается всеобъемлющая тенденция западноевропейского духа вообще, которая в дальнейшем будет становиться все яснее, тенденция, которая оказывается исключительно достоянием фаустовского духа и его культуры и ни в какой другой не находит ничего родственного. Огромное большинство вопросов, которыми занимается наша математика как наиболее ей близкими (у древних этому отвечает квадратура круга), например исследование признаков сходимости бесконечных рядов (Коши) или обращение эллиптического, или общеалгебраического, интеграла в периодические функции (Абель, Гaycc), показалось бы, вероятно, «древним», которые искали в качестве результата обыкновенные определенные величины, какой-то остроумной, несколько запутанной игрой, как это кажется и в наше время распространенному мнению широких кругов. Нет ничего менее популярного, как современная математика, и в этом также есть доля символики бесконечной дали, дистанции. Все великие творения Запада, от Данте до «Парсифаля», – непопулярны; все античные, от Гомера до Пергамского алтаря, – популярны в высшей степени.
15.
Итак, все содержание западноевропейского мышления числа сосредоточивается в классической проблеме, дающей ключ к тому труднодоступному понятию бесконечного – фаустовского бесконечного, – которое очень далеко от бесконечного арабского и индийского миросозерцания. Дело идет о теории пределов, как бы более узко ни рассматривать число в отдельном случае, как бесконечный ряд, кривую или функцию. Этот предел есть самая резкая противоположность античного предела, до сих пор так не называвшегося, который представляет собою неизменно ограниченную плоскость измеримой величины. Вплоть до XVIII столетия популярные эвклидовские предрассудки затемняли смысл принципа дифференциала. Как бы осторожно ни применять здесь почти напрашивающееся понятие бесконечно малого, ему все же будет присущ легкий оттенок античной неизменности, подобие величины; такое понятие мог бы признать Эвклид, хотя он и не знал его совершенно. Нуль есть константа, целое число в линейном континууме между +1 и – 1; аналитическим исследованиям Эйлера сильно повредило, что он – как и многие вслед за ним – принимал дифференциал за нуль. Только выясненное окончательно Коши понятие предела устраняет этот остаток античного чувства числа и делает учение о бесконечно малых свободной от противоречия системой. Только переход от «бесконечно малой величины» к «нижнему пределу всякой возможной конечной величины» ведет к концепции такого переменного числа, которое всегда остается меньше всякой отличной от нуля конечной величины и таким образом не имеет больше ни малейшей черты величины. В этом окончательном понимании предел вообще уже не есть то, к чему приближаются. Он сам представляет собою приближение – процесс, операцию. Он не состояние, а действие. Здесь, в проблеме, имеющей решающее значение для западноевропейской математики, внезапно раскрывается, что наша душевность организована исторично6.
16.
Освободить геометрию от наглядности, алгебру от понятия величины и обе объединить, по ту сторону элементарных рамок конструкции и счета, в могучее сооружение теории функций – таков был великий путь западноевропейского мышления числа. Так античное постоянное число было превращено в переменное. Геометрия, ставшая аналитической, растворила все конкретные формы. Она заменяет математическое тело, неизменная картина которого создавала геометрические понятия, абстрактно пространственными отношениями, более уже неприложимыми к чувственно данной наглядности. Оптические образования Эвклидовой геометрии она заменяет геометрическими местами, относящимися к координатной системе, начало которой может быть произвольно выбрано, и сводит предметное существование геометрического объекта к требованию, что во время операции, имеющей дело уже не с измерениями, а с уравнениями, выбранная система координат не должна изменяться. Но и координаты рассматриваются далее уже только как чистые значения, которые не столько определяют положения точек – абстрактных элементов пространства, сколько их представляют и заменяют. Число, граница ставшего, символически изображается уже не картиной фигуры, а картиной уравнения. «Геометрия» меняет свой смысл. Координатная система как картина исчезает, и точка становится совершенно абстрактной числовой группой. Переход архитектуры Возрождения посредством новшеств Микеланджело и Виньолы в архитектуру барокко – вот точная копия этого внутреннего превращения анализа. На фасадах дворцов и церквей чувственно чистые линии перестают быть действительными. На месте ясных координат флорентийско-римского расположения колонн и деления на этажи всплывают элементы счисления «бесконечно малых», разливающиеся потоком части зданий, волют, картушей. Конструкция исчезает под изобилием декоративного – математически выражаясь – функционального. Колонны и пилястры, соединенные в группы и пучки, тянутся через весь фасад, не давая покоя глазу, собираются и рассеиваются. Плоскости стен, крыш, этажей растворяются в лепных украшениях и орнаментах, исчезают и распадаются под цветным освещением. Свет, который играет переливами в этом мире форм зрелого барокко – от Бернини около 1650 года до рококо в Дрездене, Вене, Париже, – стал чисто музыкальным элементом. Дрезденский Цвингер – это симфония. Вместе с математикой и архитектура в XVIII столетии развилась в мир форммузыкального характера.
17.
На пути этой математики должен был наступить наконец момент, когда не только границы искусственных геометрических образов, но и границы зрительного чувства вообще, как со стороны теории, так и со стороны самой души в ее стремлении к неудержимому выражению своих внутренних возможностей, стали восприниматься как границы, как препятствия, где, следовательно, идеал трансцендентной протяженности привел в корне к противоречию с ограниченными возможностями непосредственной очевидности. Античная душа, которая, в ее преданности платоновской и стоической «атараксии», предоставляла чувственному полный простор действовать и управлять и скорее пассивно принимала, чем создавала, как это доказывает скрытый эротический смысл пифагорейских чисел, никогда не могла иметь желания преступить телесное теперь и здесь. Если пифагорейское число обнаруживалось в сущности отдельных вещей в природе, то число Декарта и математиков после него было чем-то таким, что должно было быть завоевано и насильственно взято, – властное, абстрактное отношение, независимое от всяких чувственных данностей, но всегда готовое эту независимость сделать значимой в отношении к природе. Воля к власти – употребляя великую формулу Ницше, – которая со времени ранней готики «Эдды», соборов и крестовых походов, даже со времени воинственных викингов и готов знаменует деятельность души в ее отношении к своему миру, проявляется также и в энергии западноевропейского числа в его отношении к наглядности. Это – «динамика». В аполлоновской математике дух служит глазу, в фаустовской – дух преодолевает глаз.
Математическое «абсолютное» и тем самым совершенно не античное пространство (чего не решались заметить математики в почтительном страхе перед эллинской традицией) было с самого начала не шаткой пространственностъю ежедневных впечатлений, ходкой живописи или обманчиво однозначной и точной априорной наглядностью Канта, но чистой абстрактностью, идеальным и невыполнимым постулатом души, которая все меньше удовлетворялась чувственным как средством выражения и наконец решительно от него отвернулась. Проснулся внутренний взор.
Теперь только глубоким мыслителям должно было стать ясным, что Эвклидова геометрия, единственная и правильная для наивного взгляда всех времен, при рассмотрении с этой высшей точки зрения оказывается не более чем гипотезой, исключительная значимость которой по отношению к другим, притом совершенно лишенным наглядности видам геометрии никогда не может быть доказана, как это мы точно знаем со времени Гаусса, не говоря уже о пресловутом «согласии» с действительностью – этой догме профанов, опровергаемой каждым взглядом вдаль, где сходятся все параллели. Ядро этой геометрии – аксиома о параллельных Эвклида – оказывается утверждением, которое может быть заменено другими, именно что через точку к прямой можно провести две, много или ни одной параллельной; эти утверждения приводят к совершенно непротиворечивым трехмерным геометрическим системам, которые могут применяться в физике и особенно в астрономии и иногда даже предпочитаются Эвклидовым.
Уже простое требование неограниченности протяженного – которую со времени Римана и его теории неограниченных, но в силу их кривизны не бесконечных пространств можно отличить от бесконечности – противоречит собственному характеру всякой непосредственной наглядности, которая зависит от отражений света, то есть от материальных границ. Возможны, однако, такие абстрактные принципы полагания границы, которые в совершенно новом смысле преодолевают возможности оптической ограниченности. Для проницательного взора уже в картезианской геометрии лежит тенденция выхода за пределы трех измерений непосредственно переживаемогопространства как границ, вовсе не необходимых для символики чисел. И если начиная только с 1800 года представление многомерного пространства – было бы лучше заменить это слово «новым» – стало более широким основоположением для аналитического мышления, то первый шаг в этом направлении был сделан уже в тот момент, когда степени, вернее, логарифмы, освобожденные от их изначальных отношений к чувственно реализируемым плоскостям и телам – посредством применения иррациональных и комплексных показателей, – были введены в область функционального как объекты отношений совершенно общего характера. Тот, кто вообще может здесь ориентироваться, поймет, что переходом от а3 как естественного максимума к аn уже снимается безусловность пространства трех измерений.
После того как пространственный элемент точки потерял уже оптический характер отрезка координат в наглядно-представляемой системе и стал определяться как группа трех независимых чисел, – не могло быть больше препятствий к тому, чтобы заменить число 3 числом n. Произошло изменение самого понятия измерения: оно теперь уже не число меры, не оптические свойства точки в отношении к ее положению в системе, но неограниченное число измерений представляет здесь совершенно абстрактные свойства некоторой числовой группы. Эта числовая группа – из n независимых упорядоченных элементов – является картиной точки; она называется одной точкой. Логически отсюда развитое уравнение называется плоскостью, является картиной плоскости. Совокупность всех точек n измерений называется n-мерным пространством, В этом трансцендентном пространственном мире, который не стоит уже ни в каком отношении к чувственности, царят открываемые анализом отношения, которые находятся в полном согласии с результатами экспериментальной физики. Эта пространственность высшего порядка есть символ, который сполна оказывается достоянием западноевропейского духа. Только этот дух в этих формах должен был заклинать ставшее и протяженное посредством этого рода усвоения – вспомним о «табу», – заклинать чуждое, принуждать, следовательно, пытаться «познать» и понять. Только в этой сфере числового мышления, которая доступна всегда очень небольшому кругу людей – но то же самое можно сказать и по отношению к наиболее глубоким моментам нашей музыки, нашей живописи, нашей догматики, – получают характер чего-то действительного и такие образования, как система гиперкомплексных чисел (квартернионы векториального счисления), и, наконец, такой, совершенно непонятный знак, как ∞n. Следует ясно понять, что действительность не есть только чувственная действительность, что скорее душевное может сделать свои идеи действительными посредством образований, совершенно других, чем наглядные.
18.
Из этой замечательной интуиции символических пространств вытекает последний и заключительный взгляд всей западноевропейской математики – расширение и одухотворение функциональной теории в теорию групп. Группы суть множества или совокупности однородных математических образований, например всех дифференциальных уравнений некоторого определенного типа, множества, которые построены и упорядочены по аналогии с дедекиндовским числовым корпусом. Дело идет, таким образом, о мире совершенно новых чисел, которые и для внутреннего глаза посвященного все же не вполне свободны от известной доли чувственности. Выдвигаются исследования известных элементов этих величайших по своей абстрактности формальных систем, которые инвариантны по отношению к одной-единственной группе операций – трансформаций системы, от действий в пределах которой они остаются независимыми. Общая задача этой математики получает, таким образом, следующую формулировку (по Клейну): «Пусть дано n-мерное многообразие («пространство») и группа трансформаций. Принадлежащие к многообразию образования должны быть исследованы в отношении таких свойств, которые не изменяются трансформациями группы».
На этой высочайшей вершине математика Запада заканчивает свое развитие, исчерпав все свои внутренние возможности и исполнив свою миссию – быть отображением и самым чистым выражением идеи фаустовской душевности в том же самом смысле, как это сделала математика античной культуры в третьем столетии. Обе науки, единственные, органическая структура которых уже теперь допускает по отношению к себе историческое рассмотрение, возникли из совершенно разных концепций числа – концепций Пифагора и Декарта, – обе достигли своей зрелости столетие спустя в роскошном полете мысли, и обе завершают здание своих идей после цветущего состояния в течение трех столетий в ту же самую эпоху, когда культура, к которой они принадлежали, переходит в цивилизацию мировых городов. Эта глубокая внутренняя связь станет далее ясной. Несомненно, что время великих математиков для нас прошло. Теперь идет та же работа хранения, округления, утончения, выборки – талантливая малая работа вместо великих творений, которая характерна и для александрийской математики позднего эллинизма.
Все это может быть пояснено исторической схемой.
Глава II Проблема всемирной истории
I. Физиогномика и систематика
1.
Теперь наконец мы можем сделать решительный шаг вперед и построить такую картину истории, которая не зависела бы больше от случайного места наблюдателя в какой-либо его «современности», от его заинтересованности как представителя определенной культуры, религиозные, духовные, политические, социальные тенденции которой заставляли бы его упорядочивать исторический материал, пользуясь хронологически-ограниченной перспективой, и навязывать организму становления произвольную и касающуюся лишь поверхности форму, внутренне ему чуждую.
До сих пор нам недоставало удаления от объекта (Distanz). По отношению к природе оно давно уже достигнуто. Нужно, впрочем, оговориться, что его здесь легче достигнуть. Физик считает само собой понятным начертание механически каузальной картины своего мира так, как будто бы его самого, автора картины, здесь и не было.
Но то же самое возможно и в мире форм истории. Только до сих пор мы этого не умели делать. Поэтому можно даже утверждать, и это будут делать впоследствии, что до сих пор вообще не было настоящего писания истории фаустовского стиля, такого, то есть которое давало бы удаление достаточное для того, чтобы в общей картине всемирной истории рассматривать также и настоящее – ведь настоящее существует только в отношении к одному из бесчисленных человеческих поколений – как нечто бесконечно далекое и чуждое, как такую эпоху, которая не имеет преимуществ перед всеми другими, которая не измеряется никаким! идеалами, которая не относит всего к себе, которая свободна от желания, заботы и личной заинтересованности, к чему ведет всегда практическая жизнь; нам не хватает, следовательно, удаления, которое – если вспомнить Ницше, который далеко его не достиг, – позволяло бы окидывать божественным оком весь феномен исторического человечества, подобно цепи гор на горизонте, так, как будто сами мы к нему не принадлежим.
Здесь еще раз нужно было совершить коперниковский переворот, тот акт освобождения от видимости во имя бесконечного пространства, который западный дух давно уже совершил по отношению к природе, перейдя от птоломеевской системы мироздания к системе теперь единственно признаваемой, устраняющей случайность нахождения наблюдателя на отдельной планете в качестве определяющего фактора.
Во всемирной истории возможно и необходимо подобное же освобождение от случайного места наблюдения, от так называемого Нового времени. Девятнадцатое столетие представляется нам несравненно более важным и обильным событиями, чем, скажем, хотя бы XIX столетие до Р. X., но ведь и Луна кажется нам больше Юпитера и Сатурна. Физик давным-давно уже избавился от предрассудка относительности отдаления, но историк еще страдает им. Мы имеем смелость называть древней культуру греков по отношению к нашему Новому времени. Но была ли она такой для утонченно культурных, исторически высокообразованных египтян при дворе великого Тутмоса, тысячелетием раньше Гомера? Для нас события, разыгравшиеся на территории Западной Европы в течение 1500–1800 годов, составляют добрую треть, и притом самую важную, всемирной истории. Для китайского историка, бросающего взгляд назад на 6 тысяч лет китайской истории и исходящего из нее в своих суждениях, это только краткий и малозначительный период, которому далеко до важности хотя бы эпохи династия Хан (206 г. до Р. X. – 220 г. по Р. X.), составляющей целый этап в его всемирной истории.
Целью всего последующего служит освобождение истории от личных предрассудков наблюдателя, который в нашем случае, в сущности, превращает ее в историю фрагмента прошлого, рассматривая случайное настоящее Западной Европы как цель история и оценивая при помощи общественных идеалов и интересов данного момента все уже достигнутое и все, что еще будет достигнуто.
2.
Обратимся снова к основному факту бодрствующего сознания, при помощи которого вообще впервые становится возможной упорядоченная картина мира, по своему смыслу распадающаяся на природу и историю. Словами душа и мир была обозначена первоначальная противоположность, совершенно равносильная факту существования человеческого сознания в его дневной ясности. По отношению к идее существования, заключенной во всякой культуре и во всяком существе, душа и мир были мною названы возможным и действительным, дабы ясен был характерный признак направленности в феномене жизни, понимаемом как осуществление возможного.
Тем самым мир каждого человека оказывается для него осуществленной душевностью, выражением, знаком и образом идеи его индивидуального существования «Говоря о природе, каждый выражает только самого себя» (Гете). Мы вправе предположить, что этот действительный мир на стадии душевного развития первобытного человека и ребенка оказывается еще затемненным, хаотичным, еще не раскрытым, в глубочайшем смысле слова бесформенным. На более высоких стадиях человеческого развития он допускает точные формулировки, которые проходят всю шкалу между крайними гранями чистой наглядности и чистого познания в качестве безграничного множества никогда точь-в-точь не повторяющихся структур. Мир для каждого индивидуума есть его наиболее интимное, единственно бывшее, необходимое и совершенно непроизвольное переживание. Шопенгауэр назвал его «миром как представление», но он сделал само собою разумеющейся предпосылкой постоянство этого представления и его тождественность для всех людей.
Природа и история: здесь противостоят друг другу две крайности в способе упорядочивать действительность как образ мира. Действительность есть природа, поскольку она подчиняет все становление ставшему; она – история, поскольку ставшее подчиняется становлению. Действительность или созерцается в своем образе (так возникает мир Платона, Рембрандта, Гете, Бетховена), или понимается в своем элементе (таковы миры Парменида и Декарта, Канта и Ньютона). Познание в точном смысле слова есть тот жизненный акт, завершенный результат которого именуется «природой». Познанное и есть природа. Все познанное, как это обнаружилось в символе математического числа, по смыслу равно механически ограниченному, положенному. Природа есть совокупность закономерно-необходимого. Существуют только законы природы. Ни один физик, понимающий свои задачи, не станет думать о выходе за эти границы. Его задача сводится к установлению общей совокупности, хорошо упорядоченной системы всех законов, которые могут быть найдены в образе природы, более того, исчерпывающе и без остатка дают этот образ.
С другой стороны, созерцание (вспоминается здесь изречение Гете: «Созерцание далеко не то, что рассматривание») есть такой акт переживания, который как явление в самом своем совершении принадлежит истории. Пережитое есть происшедшее, то есть история.
Все происходящее однократно и никогда не повторяется. Оно подчинено принципу направленности, «времени», необратимости. Совершившееся в своей противоположности ставшего становлению, окаменевшего жизненному безвозвратно принадлежит прошлому. Чувство этого и есть страх перед миром. Но все познанное вневременно, оно ни в прошлом, ни в будущем, но вечно значимо. Таково внутреннее свойство природою закономерного. Закон, подчинение закону – антиисторично. Здесь исключается случай. Законы природы – это формы неорганической необходимости. Становится ясным, почему математика как порядок ставшего всегда ведет при помощи числа к законам и причинности, и только к ним.
Становление не подлежит исчислению. Только безжизненное может высчитываться, вымериваться, разлагаться. Чистое становление, жизнь в этом смысле безграничны. Они вне сферы причины и действия, закона и меры. Не одно глубокое и подлинное историческое исследование не будет стремиться к причинной закономерности; в противном случае оно не поняло бы своей собственной сущности.
Но все же история не одно только становление; она только картина мира, только излучаемая индивидуумом форма мира, где становление господствует над ставшим. Наличность ставшего в этой картине позволяет добиться для нее известной научности. И чем больше в ней этого элемента, тем больше механичности, рассудочности и причинности мы в ней видим. Даже «живая природа» Гете, совершенно не математическая картина мира, заключала в себе еще столько мертвого и косного, что Гете мог подвергнуть ее научной обработке. Но если косный элемент погружается в самую глубь явления, если оно становится почти чистым становлением, то перед нами подлинное видение, по отношению к которому допустима только художественная трактовка. Та всемирная история, которую видел своим духовным взором Данте, никогда не могла бы у него получить научного выражения; так же мало мог бы его сообщить Гете тому, что он прозревал во время разработки своих первых набросков «Фауста»; невозможно это было и для Плотина и для Джордано Бруно. Здесь заключена самая важная причина спора о строении истории. При наличии того же самого объекта, того же самого фактического материала каждый наблюдатель получает, согласно своим индивидуальным особенностям, различное впечатление от целого, непостижимым и не поддающимся передаче другим образом, так что оно ложится в основу его уклада мысли и придает ему специфически личную окраску. Нельзя подобрать двух людей, у которых элемент законченности, косности был бы одинаков; это уже достаточная причина для того, чтобы не сталкиваться о теме и методах. Делаются взаимные обвинения в неспособности к мышлению, но под этой неспособностью разумеется то, что никак не исправить, так как она означает не недостаток, но другой умственный строй. То же имеет место и в естествознании.
Но нужно твердо помнить: попытки научно разрабатывать историю в последнем счете всегда ведут к противоречиям, и поэтому всякое прагматическое писание истории, как бы значительно оно само по себе ни было, есть компромисс. Природу нужно трактовать научно – об истории должен говорить поэт. Всякие другие решения половинчаты, хотя из них состоит большая часть продуктов духовного творчества человека.
С другой стороны, ту область, где должны были господствовать числа и точное знание, Гете называл «живой природой»; она для него была непосредственным созерцанием чистого становления и самооформления, то есть историей в вышеустановленном смысле. Его мир прежде всего был организмом, существом; понятно, почему он, даже в своих чисто физических исследованиях, не стремился к числам, законам и выразимой в формулах причинности, но превращал их, скорее, в морфологию в лучшем смысле этого слова и поэтому всячески избегал специфически западного (и весьма чуждого античности) способа причинного рассмотрения, измерительного эксперимента, в котором он даже нигде не чувствовал потребности. Его исследования земной поверхности всегда геология, а не минералогия (которую он называл наукой о чем-то мертвом).
Мы указываем еще раз: нет точной границы между двумя способами миропонимания. Как ни противоположны становление и ставшее, они с несомненностью соприсутствуют вместе в каждом акте переживания. Историю переживает тот, кто наглядно видит то и другое в их становлении, завершении; природу познает тот, кто расчленяет эти оба момента как ставшее, как завершенное.
Первоначальной склонностью каждого человека, каждой культуры, каждой стадии развития культуры служит изначально предопределенное стремление брать в качестве идеала одну из этих форм. Человек Запада настроен в высокой степени исторически, между тем как это настроение вовсе не было свойственно человеку античности. Мы исследуем всякую данность в связи с ее прошлым и будущим; античность же знала только точечную наличность настоящего, – остальное превращалось в миф. Равным образом в каждом такте нашей музыки, от Палестрины до Вагнера, перед нами также символ становления; греки же в каждой из своих статуй имели образ момента. Ритм тела – в мгновенности; ритм фуги – в длительности.
3.
Итак, принципы образа и закона выступают в качестве двух основных форм всякого миропостроения. Чем резче черты природы налагаются на образ мира, тем безграничнее царят в нем закон и число. Чем больше в мире видят наглядное, одно только вечно становящееся, тем более чуждым числу является необъятная полнота его сочетаний. Таким образом различаются пресловутая гетевская «точная чувственная фантазия», оставляющая живое в его неприкосновенности, и точный, мертвящий метод современной физики. Остаток другого элемента, на который мы всегда натыкаемся в строгом естествознании, обнаруживается в появлении неизбежных теорий и гипотез, наглядное содержание которых заполняет и поддерживает все косное, измеримое числом и подлежащее формулам; в историческом же исследовании – в виде хронологии, этой странной и тем не менее никогда не ощущаемой в своей смутной загадочности числовой сетки, которая своею цепью дат и статистикой обволакивает и проникает мир образов, не имея ничего общего с характером математических чисел.
Но здесь нужно обратить внимание вот еще на что. Так как становление всегда лежит в основе ставшего и история изображает упорядоченность картины мира со стороны его становления, то ее нужно считать первоначальной формой мира, а природу – позднейшей, осуществляемой только человеком зрелых культур; обратный взгляд есть не более как предрассудок городского научного мышления. В самом деле, смутный мир, с его слепыми стихиями, окружавший раннее человечество, мир, о котором доныне свидетельствуют религиозные обычаи и мифы, полный произвола, населенный враждебными и коварными демонами, – является живым, непостижимым, загадочно волнующимся и недоступным никакому учету, целым. Если его можно назвать природой, то, во всяком случае, это не наша природа, не застывшее отражение познающего духа. Этот первобытный мир, как отрывок человечества седой древности, звучит еще подчас в детской душе и в душе великих художников, прорываясь сквозь строгость той «природы», стеною которой с тиранической назойливостью окружает каждого дух зрелых культур. В этом причина напряженных отношений между научным («современным») и художническим («непрактическим») мировоззрением, которые мы можем наблюдать во все поздние эпохи культур. Человек фактов и поэт никогда не поймут друг друга. В этом нужно искать также причину того, что всякое историческое исследование, в котором всегда должно быть что-то детское и навеянное снами, что-то гетевское, подвержено опасности стать просто физикой общественной жизни, сделаться «материалистическим», как оно само себя называет, не чувствуя глубокого смысла, таящегося в этом слове.
«Природа» в точном смысле слова является более редким способом овладения действительностью, способом, применяемым только людьми больших городов поздних культур: он носит на себе черты зрелости, а то и старости, тогда как история исполнена наивности и юношеской свежести; она менее сознательный способ познания мира, свойственный всему человечеству. Таково по крайней мере противоположение измеримой числами, разоблаченной от всякой тайны природы Аристотеля и Канта, природы софистов и дарвинистов, природы современной физики и природы Гомера и «Эдды», природы дорического и готического человека, природы переживаемой, безграничной, чувствуемой. Тот, кто забывает об этой противоположности, проходит мимо самой сущности исторического исследования. Оно, собственно, и есть естественное понимание мира душою, тогда как точная, механически упорядоченная природа есть искусственное понимание. Несмотря на это или именно как раз поэтому, для современного человека естествознание легко, а историческое исследование трудно.
Побуждения к отвлеченному, то есть вынужденному, искусственному, чуждому наивной душевности мышлению возникают достаточно рано: они всецело направлены на математическое ограничение, логическое различение, на закон и причинность. Мы находим эти побуждения в первые столетия жизни всех культур, хотя сначала они слабы, единичны и тонут в полноте растительной жизни. Я назову здесь имя Роджера Бэкона. Вскоре они принимают более строгий характер: как и всему духовно завоеванному и постоянно подвергавшемуся угрозам со стороны человеческой природы, им свойственны известные черты властности и исключительности. Незаметным образом царство пространственно-рассудочного – так как рассудочные понятия по самому существу своему суть числа и обладают чисто количественной структурой – пронизывает внешний мир индивидуума и со всех сторон опутывает простые чувственные впечатления механическими, причинными и числовыми связями, так что волей-неволей бодрствующее сознание обитающего в больших городах культурного человека, будь это в египетских Фивах или в Вавилоне, в Бенаресе, Александрии или в больших городах Западной Европы, подвергается столь упорному воздействию со стороны естественнонаучного мышления, что предрассудок всякой философии и науки – ибо это не более как предрассудок – едва встречает себе какое-либо противодействие; я имею в виду предрассудок, будто это состояние и есть человеческий дух, а его alter ego, механическая картина окружающего мира, есть подлинный мир. Аристотель и Кант воздвигли эту заповедь, Платон и Гете отвергают ее.
4.
Великая задача познания мира, которая является потребностью человека высших культур и как бы проникает все его существование, которую он считает для себя обязательной, – эта задача, несомненно, всюду одна и та же, безразлично, назовем ли мы ее решение наукой или философией, почувствуем ли с глубокой внутренней достоверностью или же, напротив, будем оспаривать ее родство с художественным творчеством и религиозной интуицией: всюду она сводится к установлению в чистом виде языка форм того образа мира, который для каждого из нас предустановлен, который каждый индивидуум, поскольку он не сравнивает, вынужден признавать единственным подлинным миром. В этом разложении окружающей нас действительности на ее – как мы полагаем – простые элементы мы ощущаем разрешение загадки. Его мы называем откровением, открытием, познанием, опытом и твердо уверены, что оно обогащает содержание нашего бытия, что оно дает завершение какой-то его части.
Ввиду двойственности природы и истории эта задача может быть двоякой. Перед нами два во всех отношениях отличных языка форм, и в картине мира неопределенного характера – как это обычно бывает – оба эти языка вступают во взаимное соперничество и путают друг друга, никогда не связываясь в единство.
Направленность и протяженность служат отличительными признаками исторических и природных впечатлений от мира. Человек совершенно не в состоянии действовать одновременно и в том и в другом направлении. Слово «цель» имеет характерный двойной смысл. В одном случае оно означает будущее, в другом – пространственное отстояние. Мы увидим, что исторический материалист с необходимостью ощущает время как измерение. Для прирожденных художников, наоборот, как это показывает лирика всех народов, пространственные дали, облака, горизонт, заходящее солнце суть впечатления, которые невольно связываются с чувством чего-то предстоящего в будущем. Греческий поэт отрицает будущее, поэтому он ничего этого не видит и ничего не воспевает. Так как он всецело принадлежит настоящему, то он всецело принадлежит также близости. Естествоиспытатель, если он человек творческого рассудка в подлинном смысле этого слова, будь это экспериментатор, вроде Фарадея, теоретик, вроде Галилея, или вычислитель, вроде Ньютона, находит в своем мире только лишенные направленности количества, которые он измеряет, оценивает и упорядочивает. Только количественное допускает числовое оформление, причинно определенно, доступно понятиям и формулировке в законах. Этим исчерпываются возможности всякого чистого естествознания. Все законы представляются связями количеств, или, как выражается физик, все физические процессы протекают в пространстве. Физик античности, не изменяя фактов, исправил бы это выражение в смысле античного, отрицающего пространство мироощущения следующим образом: все процессы «происходят между телами».
Историческим впечатлениям чуждо все количественное. Оба способа восприятия, из которых один соответствует миру природы, другой же миру истории, хорошо нам известны, как ни мало внимания обращали мы до сих пор на их противоположность. Существуют познание природы и познание людей. Есть опыт науки и опыт жизни. Проследите эту противоположность вплоть до самых отдаленных ее следствий, и тогда вы поймете, что здесь имеется в виду.
Все способы понимания мира мы вправе в конечном счете назвать морфологией. Морфология механического и протяженного, наука, вскрывающая законы природы и причинные отношения и вносящая в них порядок, называется нами систематикой. Морфология органического, истории и жизни, всего того, что чревато направленностью и судьбой, называется физиогномикой.
Чем более человек расположен к историческому мышлению, тем явственнее физиогномический характер всего того, что он постигает, сообщает другим и создает в мыслях. Эллинскому ваянию была чужда всякая физиогномика не менее, чем аттической драме. Эта черта была неправильно понята классицизмом Винкельмана и Лессинга как «общечеловеческое». Гёте как в своей теории растений, так и в «Тассо», как в своей лирике, так и в личном общении был мастером физиогномики.
5.
Этот способ видения мира имеет еще перед собой великую будущность на последних стадиях существования западной цивилизации. Через столетие все возможные на этой почве науки превратятся в фрагменты одной грандиозной физиогномики всего человеческого. В этом как раз смысл «морфологии всемирной истории». В каждой науке, как в отношении ее целей, так и в отношении содержания, человек говорит о самом себе. Всякий научный опыт сводится к самопознанию. С этой точки зрения мы только что рассмотрели математику в качестве главы физиогномики. Нашему рассмотрению подверглось не то, что замышляет отдельный математик. Мы распростились со специалистами, предоставляя им их факты и достижения. Математик, как человек, деятельность которого составляет часть его личности, знания и мнения – часть его физиономии, служит орудием культуры. При его посредстве она говорит о себе. Он принадлежит к ее физиогномике как личность, как дух, со всеми своими открытиями и познаниями.
Всякая математика, наглядно осуществляющая идею числа путем научной системы или, как это было в Египте, в форме архитектуры, есть исповедь какой-нибудь души. Несомненно, что ее сознательная работа принадлежит только поверхности исторического, и столь же несомненно, что ее подсознательный элемент, само число как изначальный феномен и стиль развития принадлежат к завершенному миру форм, служат выражением бытия, жизненной силы. История ее жизни, ее расцвет и увядание, ее глубокая связь с изобразительными искусствами, с мифами и культами соответствующей культуры – все это принадлежит к считающейся едва возможной морфологии второго, исторического способа познания.
Видимая сторона всякой истории имеет поэтому тоже значение, что и внешний облик отдельного человека: его рост, выражение лица, манера держаться, походка, своеобразие языка и жестикуляция. Все это припекает внимание того, кто разбирается в людях. Тело – ограниченное, ставшее, преходящее – служит выражением души. Но знатоку людей нужно также уметь понимать и те человеческие организации высокого стиля, которые называются мною культурами, нужно разбираться в выражении их лица, в их языке и манерах, подобно тому как это делается по отношению к отдельному человеку. Писать историю философски – значит писать ее так, как Шекспир писал свои трагедии отдельных личностей.
Физиогномика есть перенесенное в область духа искусство портрета. Дон Кихот, Вертер, Жюльен Сорель – портреты эпохи, Фауст же – портрет целой культуры. Естествоиспытатель, морфолог-систематик под портретом мира понимает задачу чистого подражания. Для живописца-ремесленника это равносильно «верности природе», «похожести», так как он, по существу, поступает совсем по-математически. Настоящий портрет в стиле Рембрандта всегда физиогномика, всегда история. Ряд его автопортретов не что иное, как автобиография, в истинно гетевском смысле этого слова. Так следует писать биографии великих культур. Сторона подражательная, работа историка-специалиста над датами и числами – только средство, не цель. К чертам лица истории принадлежит все, к чему до сих нор прилагались личные масштабы пользы и вреда, добра и зла, приятного и неприятного: как формы правления, так и формы хозяйства, битвы наравне с произведениями искусства, науки рядом с богами, математика вместе с моралью. Все вообще, что стало, все, что является, есть символ, выражение души. Он требует взгляда знатока людей, не подлежит подведению под закон, но может только ощущаться в своем значении. На этом – пути исследование достигает последней и высшей достоверности: «Все преходящее есть только символ».
Естествознанию можно научиться; историком нужно родиться. Историк руководится ощущением, он сразу понимает и проникает в то, чему не научиться, что ускользает от всякого намеренного воздействия и не подчинено воле, что редко обнаруживается во всей своей силе. Сколько угодно можно разлагать, определять, упорядочивать, отграничивать причину от действия. Это – работа; другой же вид постижения – творчество. Образ и закон, подобие и понятие, символ и формула предполагают совершенно различные средства познания. Их соотношение – соотношение жизни и смерти, созидания и разрушения. Рассудок, понятие, «познавая», умерщвляет. Он превращает познанное в недвижный предмет, доступный делению и измерению. Созерцание одушевляет. Оно включает единичную вещь в живое, непосредственно ощущаемое единство. Поэзия и историческое исследование родственны друг другу; такая же родственность существует между познанием и счетом. Но – как сказал однажды Геббель – «системы не есть плод воображения, а произведения искусства не являются результатом расчета, или, что то же самое, не производятся мышлением». Художник, подлинный историк, созерцает становящееся. Он еще раз переживает становление в чертах созерцаемого. Систематик, будь он физиком, дарвинистом или историком-прагматистом, познает то, что стало. Душа художника, подобно душе культуры, есть то, что жаждет осуществления, нечто целостное и совершенное, говоря на языке прежней философии, – микрокосм. Дух физика, позднейшее, более узкое и преходящее явление, принадлежит к наиболее зрелым стадиям культуры. Он тесно связан с появлением городов, где жизнь все больше и больше сжимается, и вместе с их исчезновением исчезает и он. Античная наука существовала только в период от ионийцев VI века и до эпохи римского владычества. Античных же художников мы видим во все время существования античной культуры.
Схема может и здесь служить для пояснения:
Если мы попытаемся выяснить принцип единства, лежащий в основе каждого из этих миров, то окажется, что математически упорядоченное познание – и чем более оно математично, тем решительнее – относится исключительно к настоящему. Картина мира, рисующаяся взору физика, есть то, что развертывается в каждый момент перед его чувствами. Наиболее замалчиваемая, но тем более незыблемая предпосылка всякого естествознания гласит, что природа для всех и во все времена одна и та же. Эксперимент «навсегда» решает дело. Подлинная история, однако, основывается на столь же твердом противоположном внутреннем чувстве. История в качестве своего органа требует с трудом поддающийся описанию вид внутреннего чувства, впечатления которого бесконечно изменчивы и тем самым не могут быть объединены в одном моменте времени. (О мнимом «времени» физики речь будет позже.) Картина истории – будь это история человечества, мира организмов, земли, системы неподвижных звезд – всегда дело памяти. И тут можно повторить уже сделанное выше различение, что «природа» – это картина мира, в которой память подчинена единству непосредственного чувственного восприятия, тогда как в «истории», напротив, память включает в себя чувственные впечатления. Памятью я называю здесь некоторую высшую способность, свойственную отнюдь не всякой душе и многим присущую лишь в незначительной степени, род силы воображения, который позволяет переживать каждое мгновение sub specie aeternitatis [6], постоянно относя его ко всему прошлому и будущему; она служит предпосылкой всякого рода обозримости в рефлексии, самопознания и сознания своей жизни. Памяти в этом смысле у античного человека не было, – следовательно, у него не было истории ни того, что в нем, ни того, что вокруг него («Об истории судить может только тот, кто сам пережил историю». Гете). В античном сознании мира все прошлое вбиралось в мгновенность настоящего. Сравните в высшей степени «исторические» головы скульптур Наумбургского собора, портреты Дюрера и Рембрандта с эллинскими изображениями, хотя бы, например, с известными статуями Софокла. Первые рассказывают целую историю души; черты вторых ограничиваются выражением мгновенного внутреннего состояния. Они умалчивают обо всем, что в жизненном течении привело к такому состоянию, – если об этом вообще может быть речь у подлинного античного человека, который всегда есть нечто готовое и не подвержен никакому развитию.
6.
Теперь возможно нахождение последних элементов исторического мира форм. Бесчисленные образы, в неисчерпаемом множестве всплывающие и исчезающие, удаляющиеся и снова возвращающиеся, отливающие тысячью красок и отсветов, сплетение, по-видимому, самой прихотливой случайности – в таком виде рисуется прежде всего картина всемирной истории, как она развертывается в своей целостности перед созерцающим духом. Но взор, глубже проникающий в сущность явлений, выделяет из этого произвола чистые формы, которые лежат в основе всего человеческого становления, глубоко скрытые и лишь с трудом освобождаемые от своего покрова.
Из всей картины общего мирового становления, как оно охватывается фаустовским взором, из становления звездных систем, становления земной коры, становления живых существ мы рассматриваем в настоящее время крайне незначительное морфологическое единство – «всемирную историю» в привычном значении этого слова, историю высшего человечества, с которою так мало считался Гете, обнимающую меньше чем 6 тысяч лет, – воздерживаясь от исследования глубокой проблемы симметрии всех этих образований. То, что придает смысл и содержание всему этому текучему миру форм и что до сих пор глубоко хоронилось под плохо понятой массой осязательных «дат» и «фактов», сводится к феномену великих культур. Только после того, как эти первичные формы будут усмотрены, почувствованы и выделены в их физиогномической, органической значительности, сущность истории, в противоположность сущности природы, может считаться понятой. Только с момента такого усмотрения и выделения может серьезно идти речь о философии истории. Только тогда окажутся доступными пониманию в их символическом значении каждый факт в исторической картине, каждая мысль, каждое искусство, каждая война, каждая личность, каждая эпоха; только тогда в истории будет усмотрена не простая сумма прошлого, без собственного, ей свойственного порядка и внутренней необходимости, но организм со строгим строением и полным смысла расчленением, в развитие которого случайное настоящее наблюдателя не вносит ничего от себя и будущее которого перестает быть лишенным формы и неопределимым.
Культуры суть организмы. История культуры – их биография. Предлежащая перед нами в своем историческом явлении – в образе воспоминания – история китайской или античной культуры есть морфологически точное соответствие истории отдельного человека, животного, дерева или цветка. Если нужно познать их структуру, то к нашим услугам давно выработанные методы сравнительной морфологии растений и животных. Феномен отдельных, следующих друг за другом, вырастающих одна подле другой, соприкасающихся, заслоняющих и подавляющих друг друга культур исчерпывает все содержание истории. И если мы развернем перед нашим духовным взором все те образы, которые до сих пор спокойно лежали под поверхностью тривиальной «истории человечества», то нам удастся раскрыть тип, прообраз культуры, свободный от всего замутняющего и незначительного, лежащий, как идеал формы, в основе всех отдельных культур.
Я отличаю идею культуры, ее внутренние возможности, от ее чувственного явления в образе истории как выполненного осуществления. Это – отношение души к телу как еевыражению в области протяженного и ставшего. История культуры сводится к осуществлению возможностей. Осуществление равносильно концу. Так относится аполлоновская душа, идею которой иные из нас, может быть, в состоянии вновь пережить и прочувствовать, к своему пространственному развертыванию, к научнодоступной «античности», изучением физиономии которой занимаются археолог, филолог, эстетик и историк.
Культура это – первофеномен всей прошлой и будущей всемирной истории. Глубокая и мало оцененная идея Гете, которую он усматривал в своей «живой природе» и постоянно полагал в основу всех своих морфологических изысканий, должна быть применена здесь в самом точном смысле как ко всем вполне созревшим, так и засохшим в своем цветении, полуразвившимся и заглушённым еще в зародыше образованиям человеческой истории. Здесь слово остается не за анализирующим рассудком, но за непосредственным мироощущением, наглядным представлением. «Величайшее, чего может достичь человек, – это изумление, и когда первофеномен повергает его в изумление, то он должен этим довольствоваться, большего ему нельзя получить и дальше идти незачем: здесь – предел». Первофеномен есть явление, в котором раскрывается перед глазами идея чистого становления. В облике всякого отдельного, случайно возникшего или вообще возможного растения Гете ясно усматривал своим духовным оком идею перворастения. Он ощущал здесь с полной отчетливостью смысл становления. При своем великом открытии «межчелюстной кости», которое одно только стоит всей работы Дарвина, он исходил из первофеномена типа позвоночного животного; в другой области отправной точкой для него были: геологический пласт, лист как первичная форма всех органов растения, метаморфоза растений как прообраз всего органического становления. «Тот же самый закон может быть применен и ко всем остальным живым существам», – писал он из Неаполя Гер деру, сообщая о своем открытии. Девятнадцатый век, век «истории», не понял его.
Первофеномен, как решительно подчеркивает это Гете, есть чистое созерцание идеи, а не познание понятия. Но всякое писание истории было до сих пор крайне неорганическим сочетанием объективных фактов и наблюдений, которое в лучшем случае вытекало из познавательного принципа, допускающего социальную или политическую и, во всяком случае, каузальную формулировку, – принципа, на самом деле заимствованного у естествознания, и притом у естествознания материалистического. Если не запутывались в туманных построениях в стиле Гегеля и Шеллинга, то занимались систематикой. Дарвинизм, со своими крайне массивными, крайне практическими «причинами» – так как в противном случае западноевропейский горожанин не признал бы их причинами действий, – в действительности является перенесением грубых приемов политической борьбы партий на явления в мире животных; но, с другой стороны, «экономические» принципы современных исторических исследований суть не что иное, как биологические, обратно заимствуемые у дарвинизма пошлости. Никогда еще не был серьезно поставлен вопрос о строгой и ясной физиогномике, точные методы которой еще должны быть найдены. Задача XX столетия как раз и заключается в том, чтобы обнажить структуру исторических организмов, отделить морфологически необходимое от случайного, расшифровать выражение всех исторических черт и добраться до последнего смысла этого немого языка.
До сих пор протекшая история необозрима. Примерами совершенно созревших образований, каждое из которых составляет тело достигшей внутреннего совершенства души, можно считать китайскую, вавилонскую, египетскую, индийскую, античную, арабскую, западную культуру и культуру майи. В процессе возникновения находится русская культура. Число не достигших зрелости культур незначительно; персидская, хеттская культура и культура Кечуа находятся среди них. Для понимания самого первофеномена они не имеют значения.
7.
Необозримая масса человеческих существ, безбрежный поток, изливающийся из темного прошлого, оттуда, где наше чувство времени теряет свою упорядочивающую силу, а не знающая покоя фантазия – или страх – зачаровывает нас картиной геологических периодов, чтобы скрыть за ними никогда не разрешимую загадку (поток, устремляющийся в столь же темное бесконечное будущее), – вот что служит основой нашей картины человеческой истории. Однообразным прибоем волн бесчисленных поколений колышется широкая поверхность, серебрится зыбь. Мелькающие отсветы ведут по ней свой танец, замутняют ее зеркальную ясность, переливаются из одного в другой, сверкают и исчезают. Мы называем их родами, племенами, народами, расами. Они охватывают ряд поколений в ограниченных пределах исторический поверхности. Когда в них угасает формирующая сила, – а она весьма различна и заранее предопределяет различную устойчивость и пластичность этих феноменов, – угасают также физиогномические, языковые, духовные признаки и явление снова расплывается в хаосе поколений. Арийцы, монголы, германцы, кельты, парфяне, франки, карфагеняне, берберы, банту – вот имена крайне пестрых образований этого рода.
Но над этой поверхностью великие культуры вздымают свой величественный хоровод волн. Внезапно появляются они, раскидываются пышными линиями, сверкают, исчезают, и зеркальная поверхность воды снова пустынна и погружена в сон.
Культура рождается в тот момент, когда прерывается младенческий сон первобытного человечества и пробуждается – освобождается – великая душа: форма из бесформенного, ограниченное и переходящее из безграничного и пребывающего. Она расцветает на почве точно ограниченной местности и остается прикрепленной к ней наподобие растения. Культура умирает, когда ее душа осуществит всю совокупность своих возможностей, в виде народов, языков, религиозных учений, искусств, государств и наук, и вследствие этого снова возвращается в объятия первобытной души. Но ее живое бытие, та последовательность великих эпох, которая означает прогрессивное совершенствование в строгом смысле этого слова, есть напряженная, страстная борьба, внешняя – за утверждение власти идеи над силами хаоса и внутренняя – за утверждение ее власти над бессознательным, куда этот хаос, злобствуя, укрывается. Не один только художник преодолевает сопротивление материи и отстаивает идею против поглощения ее своей бессознательной стихией. Каждая культура стоит в глубоко символическом отношении к материи и пространству, в котором и при посредстве которого она стремится к реализации. Если цель достигнута и идея, то есть вся полнота внутренних возможностей, завершена и осуществлена вовне, то культура внезапно костенеет, она умирает, кровь останавливается в ее жилах. Силы ее надламываются – она становится цивилизацией. В таком виде она может существовать еще в течение столетий, подобно отжившему свой век великану в первобытном лесу, простирающему вокруг отсохшие ветви. Так было с Египтом, с Китаем, с Индией и с миром ислама. Так торчала исполинская по территории античная цивилизация императорской эпохи, с виду исполненная юношеской силы, заглушая собой молодую арабскую культуру Востока.
Таков смысл всех эпох заката в истории. Наиболее отчетливым по своим очертаниям является для нас «закат античности». Мы уже и теперь ясно ощущаем в себе и вокруг себя первые признаки того своеобразного, по своему течению и длительности аналогичного античному хода событий, что падает на первые столетия будущего тысячелетия и может быть назван «закатом Запада».
Всякая культура проходит через все возрасты отдельного человека. У каждой есть детство, юность, зрелые годы и старость. Юная, застенчивая, исполненная обетовании душа раскрывается в утренней свежести романского и готического стилей. Она наполняет собой фаустовский ландшафт, от Прованса трубадуров до Хильдесхайма и его епископа Бернварда. Здесь – дуновение весны. «В произведениях старонемецкой архитектуры, – говорит Гете, – мы видим замечательный расцвет. Кто непосредственно встречается с этим расцветом, тот может только удивляться; но тот, кто проникает в тайны внутренней жизни растения, в игру его сил, кто видит постепенное распускание цветка, тот смотрит на дело совсем по-другому, тот знает, что перед ним». Таким же детским языком говорит нам раннегомеровская дорика, древнехристианское, то есть раннеарабское, искусство и произведения начинающегося с IV династии египетского Древнего царства. Всюду здесь мифологическое мироощущение борется с темным и демоническим началом в себе самом и в природе как с началом греховным, с тем чтобы мало-помалу созреть до степени чистого и светлого выражения, наконец найденного и уясненного существования. Чем более культура приближается к своему зениту, тем мужественнее, жестче, властнее, насыщеннее становится ее наконец приобретший уверенность язык форм, тем определеннее ее чувство своей мощи, тем яснее ее черты. В раннюю пору все это еще смутно, запутанно, неуверенно, исполнено детского искания и страха одновременно. Посмотрите на орнаментику романских церковных порталов Саксонии и южной Франции. Вспомните о вазах дипилонского стиля. Теперь, в полном сознании зрелой творческой силы, в эпоху Сезостриса, Писистратидов, Юстиниана I, испанского мирового владычества Карла V, всякая деталь отделывается строго, размеренно, удивительно легко и непринужденно. Здесь достигнуты моменты ослепительного совершенства, моменты, когда были созданы голова Аменемхета III (гипсовый сфинкс из Таниса), свод Св. Софии, картины Тициана. Еще более поздними, нежными, хрупкими, проникнутыми сладостной печалью последних октябрьских дней являются Книдская Афродита и зала Персефоны Эрехтейона, арабески сарацинских подковообразных арок, дрезденский Цвингер, произведения Ватто и Моцарта. Наконец наступает старость, пыл души угасает, начинается период цивилизации. Иссякающая сила решается еще раз на большое творчество – на классицизм, который не чужд ни одной из угасающих культур, но успех достигается только наполовину; душа еще раз – в романтике – горестно вспоминает о поре своего детства. В заключение, усталая, разочарованная и охладевшая ко всему, она утрачивает радость бытия и мечтает – как это было во времена позднего Рима – после тысячелетнего пребывания на солнечном свете вернуться в тьму мистики первобытной души, в материнское лоно, в могилу. Вот причина очарования, которым в то время пользовались в умирающем Риме культы Исиды, Сераписа, Гора и Митры, те культы, которые породила только что пробудившаяся душа Востока в качестве наиболее раннего, призрачного и боязливого выражения своего бытия, обнаружив в них всю свежесть своей внутренней жизни.
8.
Говорят о habitus растения, и под этим словом разумеют только ему присущий способ внешнего обнаружения, характер и стиль его проявлений в области уже сложившегося и протяженного – то, благодаря чему каждое растение в каждой своей части и на каждой ступени своего развития отличается от экземпляров всех других разновидностей. Я применяю это важное для физиогномики понятие к великим организмам истории и говорю о habitus индийской, египетской, античной культуры, истории или духовности. Неопределенное чувство этого habitus всегда лежало в основе понятия стиля, и теперь его нужно только уяснить и углубить, говоря о религиозном, духовном, политическом, социальном, экономическом стиле какой-либо культуры, вообще о стиле души. Этот habitus одаренного сознанием бытия, который у отдельного человека слагается из настроений, мыслей, жестов и действий, в бытии целых культур состоит из всей совокупности жизненных проявлений высшего порядка; он выражается, например, в предпочтении одних родов искусства (скульптуры и фресковой живописи у греков, контрапункта и живописи масляными красками у западноевропейцев) и решительном отклонении других (скульптуры у арабов); в склонности к эзотерике (Индия) или к общедоступности (античность), к живому слову (античность) или письму (Китай, Европа) как формам духовного общения; в типе государственных учреждений, системе денежного обращения и обычного права, Все великие деятели античности образуют – выражаясь математически – такую группу, душевный habitus которой совершенно отличен от habitus великих людей арабской или западной культур. Сравните Гете или Рафаэля с людьми античности, и тотчас же Гераклит, Софокл, Платон, Алкивиад, Фемистокл, Гораций, Тиберий окажутся родней друг другу. Любой мировой город античности, начиная от Сиракуз Гиерона вплоть до императорского Рима, является воплощением и наглядным выражением одного и того же чувства жизни по своему общему облику, устройству улиц, языку архитектуры частных и общественных зданий, типу площадей, переулков, дворов и фасадов, своим краскам, уличному шуму и толкотне, по своей ночной жизни, – всюду здесь он строго отличается от группы индийских, арабских и западных мировых городов. В завоеванной Гранаде еще долго чувствовалась душа арабских городов, которой живы Багдад и Каир, тогда как в Мадриде Филиппа II мы имеем те же самые физиогномические признаки современного уклада городской жизни, что и в Берлине, Лондоне и Париже. В каждой специфической черте заключена здесь высокая символика; вспомните о западноевропейской склонности к прямолинейным перспективам и убегающим вдаль улицам, примером чего может служить мощный рисунок Елисейских полей перед Лувром или площадь перед собором Петра, противоположностью чему являются почти умышленные запутанность и сдавленность Via Sacra, Forum Romanum и Акрополя, с их несимметрическим и бесперспективным расположением частей. Также городские постройки, инстинктивно ли, как это было в готике, или сознательно со времени Александра и Наполеона повторяют принцип лейбницевской математики бесконечного пространства и эвклидовской геометрии одиночного тела.
К habitus группы организмов относится также определенная продолжительность жизни и определенный темп развития. Эти понятия не могут отсутствовать в теории исторических структур. Такт античной жизни отличался от такта египетской и арабской культур. Можно говорить об andante эллинско-римского и об allegro con brio фаустовского духа. С понятием продолжительности жизни человека, орла, черепахи, дуба или пальмы связывается, совершенно независимо от всех случайностей судьбы каждого из этих существ, определенная ценность. Десятилетие жизни у всех людей – примерно однозначное протяжение времени, а метаморфоза насекомых в отдельных случаях происходит в течение определенного заранее, точно известного числа дней. Римляне связывали со своими понятиями pueritia, adolescentia, Juventus, virilitas, senectus [7] математически точное представление. Биология будущего, без сомнения, сделает отправным пунктом совершенно новой постановки проблем заранее определенную продолжительность жизни видов и подвидов – в противоположность дарвинизму и всецело изгнав причинную целесообразность из теории возникновения видов. Продолжительность поколения, безразлично каких существ, обладает почти что мистическим значением. Но эти соотношения имеют силу также и для всех культур в степени, о которой мы до сих пор даже и не подозревали. Каждая культура, каждая ранняя эпоха, каждый подъем и каждый упадок, каждая неизбежная их фаза имеют определенную, всегда одинаковую, всегда с выразительностью символа повторяющуюся продолжительность. В этой книге мы должны отказаться от мысли раскрыть этот мир таинственнейших связей, но красноречивые факты, с которыми не раз встретимся в дальнейшем изложении, раскроют все то, что здесь остается скрытым. Что означает господствующий во всех культурах пятидесятилетний период ритма политического, духовного и художественного творчества? В основе здесь лежит душевное отношение деда к внуку. О чем говорят трехсотлетние периоды готики, барокко, дорического и ионического стилей, великих математик, аттической пластики, искусства мозаики, контрапункта, галилеевской механики? Что означает идеальная продолжительность жизни каждой культуры в одно тысячелетие в сравнении с продолжительностью жизни отдельного человека, которому жить семьдесят лет?
Подобно тому как листья, цветы, ветви, плоды по своим внешним признакам, по форме и положению выражают жизнь растения, так жизнь культуры обнаруживается в этических, математических, политических и экономических образованиях. Чем, например, для индивидуальности Тете был ряд столь различных обнаружений, как «Фауст», теория цветов, «Рейнеке-Лис», «Тассо», «Вертер», «Путешествие в Италию», любовь к Фредерике, «Диван» и «Римские элегии», – тем для индивидуальности античности оказываются персидские войны, аттическая трагедия, полис, культ Диониса, тирания, ионическая колонна, геометрия Эвклида, сад Эпикура, римский легион, бои гладиаторов и «panem et circenses» императорской поры.
В этом смысле каждая сколько-нибудь значительная индивидуальность с глубочайшей необходимостью повторяет все фазы культуры, к которой она принадлежит. В каждом из нас просыпается внутренняя жизнь в тот решительный момент, с которого начинается сознание нами своего «Я», – момент, аналогичный моменту пробуждения души всякой культуры. Каждый из нас, западноевропейцев, в детстве переживает свою пору готики, свои соборы, замки и рыцарские романы. «Dieu le veut» [8] крестовых походов – в своих мечтах и детских играх. У каждого греческого юноши была своя гомеровская эпоха и свой Марафон. В «Вертере» Тете, картине эпохи, знакомой каждому фаустовскому, но чуждой античному человеку, еще раз всплывает эпоха Петрарки и миннезанга. Гете, набрасывающий «Фауста», был Парсифалем; окончив первую часть, он превратился в Гамлета. Во второй же части он стал космополитом XIX столетия, постигшим Байрона. Даже старость, вздорные и бесплодные столетия позднего эллинизма, «вторая молодость» усталой, пресыщенной интеллигенции может изучаться на примере многих великих старцев греческого мира. В «Вакханках» Еврипида предвосхищается многое из жизненных настроений, в платоновском «Тимее» – из религиозного синкретизма императорской эпохи. Вторая часть «Фауста» Гёте и «Парсифаль» Вагнера учат нас тому, какой образ примет наша душа в ближайшие, последние столетия.
Под гомологией органов биология понимает морфологическую равнозначность в противоположность аналогии органов, выражающей равнозначность функции. Это важное и в дальнейшем столь плодотворное понятие зародилось у Гете и привело его к открытию «межчелюстной кости» у человека; Оуэн облек это открытие в строго научную форму. Также и это понятие я ввожу в состав исторического метода.
Известно, что каждой части человеческого черепа у всех позвоночных, вплоть до рыб, точно соответствует определенная часть их скелета; что плавники рыб и лапы, крылья, руки обитающих на суше позвоночных суть гомологичные органы, хотя бы даже они утратили малейшую видимость сходства. Гомологичны легкие обитающих на суше животных и плавательный пузырь рыб; аналогичны по своему употреблению легкие и жабры6. Здесь обнаруживается углубленная, приобретаемая путем самого строгого вышколивания наблюдательной способности морфологическая проницательность, которая совершенно не свойственна современному историческому исследованию, с его поверхностными сравнениями Христа и Будды, Цезаря и Валленштейна, государственного раздробления Германии и Древней Греции. Сравнивают архитектуру поздней античности с барокко, Архимеда с Галилеем, Веймар с Флоренцией. В XVIiп столетии была в ходу остроумная морфология, в которой устанавливалась генетическая связь львиного хвоста с коронкой пальмы, шеи лебедя со стеблем лука. На дальнейших страницах этой книги обнаружится, какие огромные перспективы раскрываются перед историческим взглядом, раз только понят и выработан этот углубленный метод рассмотрения исторических явлений. В качестве гомологических образований назовем для примера хотя бы уже часто упоминавшуюся греческую пластику и северную инструментальную музыку, пирамиды TV династии и готические соборы, индийский буддизм и римский стоицизм (буддизм и христианство даже не аналогичны), походы Александра и Наполеона (не Цезаря), время Перикла и эпоху регентства (кардинал Флери), эпохи Плотина и Данте. Гомологичны дионисовское движение и Возрождение; аналогичны дионисовское движение и Реформация. Для нас – это верно почувствовал Ницше – Вагнер подводит итог Новому времени. Следовательно, для античного Нового времени, для античных городских душ и городских нервов должно существовать нечто соответствующее. Им является пергамское искусство. Таблицы, приложенные к книге, дают предварительное понятие о плодотворности этого взгляда (см. с. 287 и далее).
Из гомологии исторических феноменов тотчас же вытекает совершенно новое понятие. Я называю одновременным два исторических факта, из которых каждый занимает в своей культуре относительно то же самое положение и, следовательно, имеет совершенно одинаковое значение. Мною была показана конгруэнтность развития античной и западной математики. Это типичный случай. В этом смысле мы, следовательно, вправе считать современниками Пифагора и Декарта, Платона и Лапласа, Архимеда и Гаусса. Одновременно возникает ионический стиль и барокко. Современниками друг другу приходятся Полигнот и Рембрандт, Поликлет и Бах. Одновременными являются во всех культурах моменты метаморфозы их в цивилизации. В античности эта эпоха связана с именами Филиппа и Александра; в Западной Европе гомологичными событиями являются революция и Наполеон. Если мы станем рассматривать – здесь предвосхищаются основные выводы второй части – экономическое и рассудочное настроение, господствовавшее в больших городах Греции после Анталкидова мира 386 года; если мы обратим внимание на опустошительные перевороты, учиненные неимущими, которые в Аргосе (370) избили до смерти на улицах всех богатых, – мы получим картину, совершенно соответствующую состоянию французского общества после Парижского мира (1763). Вольтер, Руссо, Мирабо, Бомарше – современники Сократа, Аристофана, Гиппона и Исократа. В обоих случаях начинается цивилизация. То же просветительное настроение и то же разрушение всех традиций, те же штурмы Бастилии, массовые казни, комитеты общественного спасения, те же политические утопии у Платона, Ксенофонта, Аристотеля, с одной стороны, у Руссо, Канта, Фихте и Сен-Симона – с другой; те же мечтания о естественном праве, общественном договоре, свободе и равенстве, вплоть до требований черного передела и общности имущества (Гиппон, Бабеф), и, вконец, та же покорность и упование на вырастающий из демократии наполеонизм, как у Платона, так и у Руссо и Сен-Симона. Государственный переворот Наполеона был не первым из предполагавшихся, не первым, на который решились, но первым удавшимся переворотом. Античные «ставленники солдат» начинаются еще со времен Дионисия Сиракузского (405), Ясона из Фер (374), Мавсола Галикарнасекого (353). Филипп Македонский только воспринял их замыслы. Четвертое столетие, начавшееся Алкивиадом, в котором многое напоминает империалистическое честолюбие Мирабо, Наполеона и Байрона, и закончившееся Александром, служит точным отображением времени от 1750–1850 годов, когда с глубокой логичностью следуют друг за другом «общественный договор», Робеспьер, Наполеон, народные армии и социализм, тогда как в глубине картины Рим и Пруссия готовятся к своей всемирно-исторической роли. Что Александр покорил персидское царство и что Наполеону не удалась борьба с его единственным противником, английской системой, – это в известном смысле случайности, поверхностные явления эпохи, тенденции частной жизни широкого размаха, под которыми в обоих случаях скрывался один и тот же рок, одна и та же неизбежность. Если мы подвинемся на столетие дальше, то снова повторится гомология двух «одновременных» эпох. Одна из них (также и здесь мы забегаем вперед) – время Ганнибала, другая – годы мировой войны. Что в первом случае дело решало вмешательство человека, не принадлежащего к античной культуре (но ведь таково именно отношение России к Европе), это случайность. Назначение Ганнибала – дать внутреннее завершение общим судьбам античности. Битва при Заме переносит центр тяжести античности из Греции в Рим. Соответствующий смысл современной эпохи, к которой мы сейчас принадлежим, будет изложен позже.
Я надеюсь доказать, что все без исключения великие творения и формы религии, искусства, политики, общественной жизни, хозяйства и науки возникают, завершаются и угасают во всех культурах одновременно; что внутренней структуре каждой из них вполне соответствует внутренняя структура всех остальных; что нет ни одного явления глубокого физиогномического значения в историческом образе одной культуры, которое не находило бы себе отражения, и притом в строго определенной форме и на точно установленном месте, в остальных культурах. Во всяком случае, для уразумения такой морфлогической тождественности двух явлений требуется совсем иная степень углубления и независимости от видимости переднего плана, чем та, которая до сих пор была свойственна историкам: ведь им и не снилось искать соответствий между протестантством и распространением культа Диониса, между английским пуританизмом на Западе и исламом в арабском мире.
С этой точки зрения для нас открывается возможность поставить себе задачу, которая по смелости своих притязаний оставляет далеко позади себя все до сих пор производившиеся исторические исследования, которые, в сущности, ограничивались тем, что располагали в последовательном порядке прошлые события, поскольку они были известны. Мы можем не ограничиваться настоящим как пределом исследования, но также определять еще не наступившие фазы истории по их типу, темпу, смыслу и результату; мы можем реконструировать давно погибшие и неизвестные эпохи, даже целые культуры прошлого при помощи морфологических соотношений (этот метод исследования нельзя не признать сходным с методом палеонтологии, могущей в настоящее время на основании одного осколка черепа давать широкие и точные указания о всем скелете и о принадлежности данного экземпляра к определенному виду).
Если только обладать физиогномическим тактом, то вполне возможно вновь восстанавливать органические черты исторической картины целых столетий на основании разрозненных деталей орнаментики, архитектуры, шрифта, политических, экономических и религиозных памятников; возможно, например, на основании частностей языка, форм искусства разгадать современный им государственный строй, на основании математических принципов прочитать характер соответствующей экономики. Это подлинно гетевский метод, основывающийся на гетевской идее о первофеномене: он применяется в ограниченной области сравнительной анатомии животных и растений, но может быть расширен на всю область истории в такой степени, о которой до сих пор и не помышляли.
II. Идея судьбы и принцип причинности
9.
Этот ход мыслей позволяет нам наконец бросить взгляд на ту противоположность, которая является ключом к разрешению одной из самых древних и величайших проблем человечества; разрешение ее только теперь становится возможным, поскольку вообще можно вкладывать смысл в слова «разрешение проблемы». Я разумею противоположность идеи судьбы и принципа причинности – противоположность, которая никогда до сих пор не была познана в своей глубокой, построяющей мир необходимости.
Кто вообще понимает, что душу можно определить как идею существования, тот также ощутит, сколь родственна ей достоверность судьбы и насколько сама жизнь, названная мною формой осуществления возможного, должна чувствоваться в своей направленности, подчиненности судьбе: смутно и боязливо – первобытным человеком, ясно – человеком высших культур, в виде мировоззрения, которое во всяком случае может быть выражено только посредством искусства и религии, а не посредством доказательств и понятий.
Всякий более или менее развитый язык обладает рядом слов, обозначающих некоторую глубокую тайну: участь, рок, случай, совпадение, предназначение. Никакая гипотеза, никакая наука не может постичь того, что мы чувствуем, когда погружаемся в смысл и звуки этих слов. Это – символы, а не понятия. Здесь центр тяжести той картины мира, которую я назвал историей в отличие от природы. Идея судьбы требует жизненного опыта, а не опыта науки, глубинности, а не остроты познания. Существует логика органического, логика жизни в противоположность логике неорганического и застывшего. Существует логика направленности в противоположность логике протяженности. С ней нечего делать систематику вроде Канта и Шопенгауэра. Они умеют говорить о суждении, восприятии, внимании и воспоминании, но они умалчивают о том, что заключено в словах: надежда, счастье, отчаяние, раскаяние, преданность, упорство. Кто здесь, в живом, ищет оснований и следствий и считает, что интимное знание смысла жизни равнозначно фатализму и предопределению, тот не понимает, о чем идет речь, тот смешивает переживание с познанным и доступным познанию. Причинность рассудочна, законосообразна, выразима в слове, она служит формой внешнего интеллектуального опыта. Судьбой же называется недоступная описанию внутренняя уверенность. Сущность причинного уясняется при помощи физической или гносеологической системы, при помощи чисел, при помощи разложения на понятия. Идею судьбы можно изобразить только художественными средствами – при помощи портрета, трагедии, музыки. В первом случае требуется расчленение, во втором – творчество. Судьба относится к жизни, причинность же – к смерти.
В идее судьбы обнаруживается искание души, ее жажда света, стремление подняться, получить завершение и выполнить свое назначение. Нет человека, которому она была бы совершенно незнакома, и только поздний человек больших городов, со своей приверженностью к фактам и властью своего механизирующего рассудка над внутренней жизнью, теряет ее из виду; но приходит пора, и она встает перед ним с ужасающей ясностью, попирая всю поверхностную причинную связь между явлениями. Ибо принцип причинности – явление позднее, редкостное; он – надежное и в некотором роде искусственное достояние только энергетического интеллекта высших культур. В нем чувствуется страх перед миром. Он заклинает демоническое необходимостью причинных связей и их постоянной значимостью, которая косно и бездушно простирается на всю физическую картину мира. Причинность покрывается понятием закона. Существуют только законы причинности. Но если в причинности, как это установлено Кантом, находит себе выражение необходимость бодрствующего мышления, форма его восприимчивости мира, то слова «судьба», «стечение обстоятельств», «назначение» означают необходимость жизни. Действительная история знает судьбу, но не законы. Между организмом и механизмом лежит непереходимая пропасть. Вот почему так трудно выразить здесь свою мысль в понятной форме. Ибо уже попытка выяснить путем слов различие двух миров незаметно уводит от жизни в сферу причинного. Сам язык каузален по структуре. Объясняя, он механизирует.
Кто расчленяет элемент мира ощущений, познавая его, усваивая посредством причинного опыта, истолковывая его при помощи связи с механическим целым; кто таким образом подчиняет все живое становление законченному и окаменевшему, – тот с необходимостью обозревает всю совокупность бытия в перспективе причины и действия, где нет внутренней направленности, нет никакой тайны. Здесь властвуют «категории рассудка», которые Кант по праву считал действующими a priori, формы точного познания, порождающие поверхностный мир, систему природы, это отражение духа. Но кто, подобно Гете, подобно вообще всякому человеку в известные минуты его существования, смотрит на окружающий мир как на живое существо, ощущает ставшее как становление, срывает с мира маску причинности, для того время внезапно перестает быть загадкой, понятием, измерением, но превращается в нечто внутреннее, достоверное, в самое судьбу; его направленность, его необратимость, его жизненность предстают как смысл исторического взгляда на мир. Судьба и причинность относятся друг к другу как время и пространство.
Таким образом, в двух возможных построениях мира – не следует при этом забывать, что они представляют собой крайние полосы шкалы бесчисленных индивидуальных «миров», – в истории и в природе, в физиогномике всякого становления и в системе всего ставшего, господствует или судьба, или причинность. Они отличаются друг от друга, как чувство жизни и форма познания. И судьба и причинность служат исходным пунктом построения совершенного, замкнутого в себе, но не единственного мира.
Но становление лежит в основе ставшего и, следовательно, внутренне достоверное чувство судьбы – в основе понятия причины и действия. Причинность – если можно так выразиться – есть ставшая, осуществившаяся, застывшая в форме рассудка судьба. Сама же судьба, оставленная без внимания творцами рассудочных систем мира, подобными, например, Канту, который своими абстракциями не был в состоянии прикоснуться к жизни, – сама судьба лежит по ту сторону и вне всякой постигаемой в понятиях природы. Но, будучи первоначальною, лишь она дает мертвому и косному принципу причины и действия (историческую) возможность проявиться в высокоразвитых культурах в качестве духовной формы мира. Существование античной души составляет условие для возникновения физики Демокрита, а существование фаустовской – для механики Ньютона. Мы можем очень хорошо представить себе обе культуры без естествознания собственного стиля, но невозможно представить обеих систем естествознания иначе как на основе указанных культур.
В этом новое доказательство правильности антагонизма между историей и природой. Здесь раскрывается, каким образом они как картины мира включаются друг в друга и как одна подчиняет другую. Раз мы предположили, что «история» является эмоциональным миропониманием, которое подчиняет ставшее становлению, протяженность – времени, в таком случае эта точка зрения должна быть распространена и на природу. В самом деле, для человека с историческим складом мыслей существует только история физики. Все системы физики не кажутся ему больше правильными или неправильными, но рассматриваются исторически и психологически, представляются обусловленными характером эпохи, более или менее полно его изображающими. Даже прирожденный физик, давая во введении к своей книге беглый исторический очерк своей науки, призывает на мгновение «другой мир» и внезапно получает такое ощущение, как будто им незаметно поставлен под вопрос самый фундамент его науки – постулат единой и неизменной истины. Если бы его природа была действительной природой, то не могло бы быть никакой истории систем. Но физик говорит даже о судьбе проблемы. И обратно: если «природа» есть такое понимание мира, которое стремится рассудочно приобщить становление ставшему и уподобляет, следовательно, живую направленность мертвой протяженности (здесь источник проблемы движения и здесь же объяснение ее неразрешимости), то история в лучшем случае может составлять только главу теории познания; в самом деле, ее так именно трактовал бы Кант, если бы он, что еще характернее, вовсе не забыл о ней в своей системе знания. Для него, как и для каждого прирожденного систематика, природа была единственным миром; говоря о времени и не замечая его направленности и необратимости, Кант выдает, что он разумел природу и не подозревал о возможности другого мира, мира истории, который для него, пожалуй, действительно был невозможен.
Однако причинность не имеет никакого отношения к времени. Эти слова кажутся в настоящее время чудовищным парадоксом, особенно по отношению к миру кантианцев, которые не подозревают, насколько сами они парадоксальны. Уяснив себе, что двойная личина изначального чувства души – искания мира и страх перед ним – означает утверждение или отрицание бодрствующего бытия и раскрывающихся в нем чуждых стихий, поняв, что страх есть противодействие более первоначальному, более детскому чувству искания, что он вырос из него, сложился и созрел в связи с ним, – мы поймем также противоположность направленности и протяжения с их темной связью с жизнью и смертью. В существе протяженности заключено отрицание направленности. Пространство противоречит времени, хотя время предшествует ему и лежит в его основе. Такой же приоритет по праву принадлежит судьбе. У нас прежде возникает идея судьбы и только затем, из противодействия ей, из страха, рождается принцип причинности как попытка рассудка предотвратить, победить неизбежный конец – смерть; с помощью этого принципа страх перед жизнью стремится оградить себя от судьбы, построяя наперекор судьбе другой мир. Окутывая чувственную поверхность явлений паутиной причины и действия, страх создает фантастический образ длительности. Эта тенденция лежит в основе чувства, знакомого всем зрелым культурам: знание – сила. Это изречение подразумевает власть над судьбой. Ученый, погрузившийся в абстракции, естествоиспытатель, мыслитель-систематик, все духовное существо которого находит себе опору в принципе причинности, есть позднее явление, явление ненависти к силе судьбы, непостижимого. «Чистый разум» отрицает все возможности, кроме себя. Отсюда вечная вражда строгого мышления и искусства высокого стиля. Первое ищет опоры, второе есть жертвенный акт. Такой человек, как Кант, всегда будет чувствовать свое превосходство над Бетховеном – превосходство взрослого человека над ребенком, – но у него не найдется возражений, если Бетховен отвергнет «Критику чистого разума» как жалкий способ рассмотрения мира. Фальшивое понятие телеологии, эта бессмыслица из бессмыслиц в пределах чистой науки, означает не что иное, как попытку зачаровать, ассимилировать при помощи механического принципа причинности наизнанку живой смысл всякого природообразного знания, а вместе с ним также и саму жизнь – ведь в акте познания участвует также познающий; и если содержанием мышления является природа, то акт его есть история. Телеология есть карикатура идеи судьбы. То, что Данте чувствует как предназначение, рассудок превращает в цель жизни. Такова подлинная и глубочайшая тенденция дарвинизма, этого городского рассудочного миропонимания нашей абстрактнейшей из всех цивилизаций, а также происходящего из одного общего с ним источника материалистического понимания истории, равным образом убивающего все органическое и подчиненное судьбе. Поэтому морфологический элемент причинности есть принцип, а соответствующий элемент судьбы – идея, которую невозможно «познать», описать, определить, которую можно только чувствовать и внутренне переживать, которую или вовсе не понимают или в которой, напротив, нисколько не сомневаются, подобно людям молодых культур или – в поздние эпохи – истинно значительным представителям культуры: верующим, любящим, художникам, поэтам.
Таким образом, судьба является подлинным способом существования перво феномена, в котором духовный взор непосредственно созерцает развертывание живой идеи становления. Идея судьбы властвует над картиной всемирной истории, тогда как причинность, которая является способом существования предметов, которая отливает наличное содержимое ощущений в отличающиеся друг от друга, разграниченные вещи, свойства и отношения, образует в качестве формы рассудка его alter ego – ставшую природу.
Организмы можно рассматривать как становящиеся или как ставшие. В самом деле, поскольку я рассматриваю познаваемое при помощи опыта строение растений и животных в качестве элемента чувственно-текучего целого, принадлежащего к механическому миру, я вправе говорить о законах, о причине и действии. В этом случае логичен и уместен даже столь ненавистный Гете эксперимент. Но анатомия и физиология, имеющие дело с материальной природой как с объектом своего исследования, не дают нам никаких сведений о другом мире, о судьбе отдельных животных и растений, их видов, целых классов и царств. Тут речь идет не о том, что они такое, но что с ними станется. Каждая былинка, каждое насекомое имеют не только свою природу, но и свою историю. С этой точки зрения я вправе говорить о другой картине мира, о судьбе, даже по отношению к физике. Выражение «судьба научного открытия», например механической теории теплоты, имеет глубокий смысл. Удар грома, рассматриваемый в исторической связи событий, всегда содержит в себе момент судьбы, подобно тому удару, который в жизни Лютера послужил решительным толчком к его обращению, хотя бы даже этот самый удар грома в качестве неиндивидуального явления, но принципиально всегда возможного процесса столь же необходимо принадлежал также механизму электродинамической картины мира. Предположивши существование античного человека, мы можем заняться анализом его «природы», той природы, которая одна только была ему дана и одна только была для него истинной. Такой анализ был произведен Демокритом. Но именно это предположение содержит момент судьбы, которой обусловлено существование определенной природы, определенной картины мира. Судьбе было угодно, чтобы благодаря Ньютону из структуры западного духа развилось динамическое миропонимание. Этот замкнутый в себе, в высшей степени убедительный комплекс «непреложных истин» в весьма значительной степени обусловлен ходом развития, общими, национальными и приватными судьбами, продолжительностью жизни северной души, а не наоборот. Каждый великий физик, который в качестве определенной личности всегда сообщает своим открытиям особое направление и особую окраску, каждая гипотеза, которая вообще невозможна без индивидуального привкуса, каждая проблема, которая попадает в руки именно этого, а не иного исследователя, – все это случайные, «роковые» совпадения, определяющие окончательную форму, принимаемую тем или иным учением. Кто это оспаривает, тот не чувствует, сколько условного содержат абсолютные истины механики. Знаменитый музыкальный спор между глюкистами и пиччинистами является точной аналогией великих контроверз в области оптических и электродинамических теорий (Ньютон и Гюйгенс, И.-Р. Майер и Томсон). Тут дело идет о вопросах стиля, то есть о вселенной, об общей картине природы. Физические системы подобны трагедиям и симфониям. Здесь такие же школы, традиции, такая же манерность и условность, как и в живописи. Когда речь идет о живом становлении, мы не можем оставлять без внимания судьбы, будем ли мы говорить о бабочке или о культуре. Жизнь, бытие и судьба – все это скрещивающиеся моменты. Однако чувствуется принудительность в представлении, что каждый мир, конструированный согласно принципу причинности, каждая природа – а ведь каждая зрелая культура имеет свою собственную, и притом «единственно правильную», природу – каким-то образом существуют только в духе и для духа, который налагает ее, как свою соразмерную и восполняющую его форму чувственности, на ставшее, протяженное, ограниченное. Темный вопрос о границах значимости причинности, или, что то же, о судьбах отдельной картины природы, покажется еще загадочнее, если у нас создается определенное чувство, что – как то подтверждают все психические и символические явления – для человека молодых культур вовсе не существует упорядоченного согласно законам причинности окружающего мира. В самом деле, мы, люди увядающей культуры, в бодрственном состоянии постоянно находящиеся под тиранической властью механизирующего рассудка, в моменты напряженного внимания – те единственные моменты, когда мы действительно обладаем подчиненным закону причинности внешним миром в стиле нашей физики, – в лучшем случае можем утверждать, далеко не достигая даже намека на доказательность, что и «тогда», то есть вне этих связывающих нас моментов, принцип причинности должен иметь силу; а это означает только то, что мы подчиняем встающую в нашей памяти картину «вселенной» тех времен и людейтеперешней картине свойственной нам механической природы. Человек молодой культуры никоим образом не идет так далеко, чтобы понимать свою картину мира совершенно безлично, как картину общечеловеческую, и его чувство, в большей степени историческое, несомненно, является более первоначальным и подлинным.
10.
Проблема времени доступна для нас только на основе мироощущения искания и его истолкования при помощи идеи судьбы. Так как она касается темы книги, то мы должны немного остановиться на ее содержании. Со словом «время» всегда связывается нечто в высшей степени личное; то, что раньше было обозначено нами словом свое, поскольку оно с внутренней достоверностью ощущается как противоположность чему-то чуждому; то, что проникает наше ощущение жизни, переплетаясь и перемешиваясь с действиями на нас чувственного мира. «Свое», «судьба», «время» – эти слова почти синонимы.
Проблема времени, подобно проблеме судьбы, всегда понималась совершенно превратно мыслителями, ограничивавшимися систематизацией ставшего. В знаменитой теории Канта ни слова не говорится о свойственном времени признаке направленности. Отсутствия упоминания об этом признаке даже не замечали. Но что такое время как протяжение, время без направленности? Все живое – я могу только повторить сказанное мною раньше – обладает «жизнью», направленностью, стремлением, волею, подвижностью, глубоко родственною исканию, но не имеющею ничего общего с «движением» физиков. Живое неделимо и необратимо, однократно и неповторимо, процесс жизни совершенно неопределим механически – все это признаки, характеризующие существо судьбы. Но такой же органический характер свойствен и «времени», в отличие его от мертвого пространства, – я имею в виду то действительное ощущение, которое возникает при звуке слова «время» и которое лучше всяких слов может быть выражено музыкою. Таким образом, совершенно исключается признаваемая Кантом и всеми другими возможность параллельного гносеологического трактования времени наравне с пространством. Пространство есть понятие. Время же – слово для обозначения чего-то непонятного, слово, смысл которого совершенно извращается, если оно в качестве понятия также подвергается научной трактовке. Даже слово «направленность», которое не поддается замене, способно ввести в заблуждение оптическим образом, связывающимся с ним. Физическое понятие вектора может служить доказательством этого.
Для первобытного человека слово «время» не имеет никакого значения. Он живет, не испытывая в нем необходимости, ибо ему не нужно выражать им противоположность чему-нибудь другому. Он обладает временем, но он ничего не знает о нем. Только дух высших культур под механизирующим давлением природы вырабатывает фантом времени из сознания строго упорядоченной, измеримой, рассудочно постижимой пространственности; этот фантом должен удовлетворять его потребность все познавать в понятиях, измерять, упорядочивать согласно принципу причинности. Таким образом, инстинктивный акт, совершаемый в каждой культуре очень рано – символ утрачиваемой невинности, – сверх подлинного жизнеощущения создает то, что всеми культурными языками обозначается словом «время» и что для познающего духа превращается в неорганичную величину, столько же сбивающую с толку, сколько и привычную для всех. Но если тождественные феномены протяжения, границы и причинности означают заклятие душевным началом чуждых ему сил и изгнание их (Гете говорит где-то о «принципе рассудочного порядка», который мы носим в себе, который мы можем запечатлеть как знак нашей власти на всем, что нас окружает); если всякий закон является оковами, налагаемыми страхом перед миром на вторгающиеся в наше сознание чувственные впечатления, глубочайшим средством самозащиты, применяемым жизнью, – то концепция времени как величины, однородной с величиной протяжения, есть последующий акт той же самозащиты, попытка заклясть силою понятия мучительную внутреннюю загадку, противоречащую достигшему господства рассудку и потому для него совершенно невыносимую. Духовный акт, при помощи которого мы вынуждаем явление войти в состав формального мира меры и закона, всегда является актом затаенной ненависти. Относя живое в мертвое и мертвящее пространство, мы убиваем его. В рождении заключена смерть, в осуществлении – бренность. В этом смысл Элевсинских мистерий, с их перипетией от плача к ликованию, которую Эсхил, происходивший из Элевсина, ввел впоследствии в аттическую трагедию7. Когда женщина беременеет, в ней нечто умирает. Вечная ненависть одного пола к другому, рожденная страхом перед миром, находит здесь свое основание. Рождая, человек что-то уничтожает в глубоком смысле этого слова: в акте плотского рождения – в чувственном мире, в акте «познания» – в духовном. Обнаруживающаяся здесь связь была знакома уже мифическому мироощущению младенческих эпох. Еще у Лютера слово «познать» означает также половое совокупление (Адам «познал» свою жену). Давать имя чему-нибудь означает приобретать власть над получившим имя предметом – это существеннейший элемент первобытного искусства волхвования. Человек ослаблял или убивал своего врага, проделав над его именем определенную магическую процедуру. Кое-что от этого примитивного выражения страха перед миром сохранилось в склонности всякой систематической философии отделываться от непостижимого, от подавляющего дух своею мощностью при помощи понятий, а то и просто путем слов. «Философия», любовь к мудрости, есть в то же время страх перед непонятным и ненависть к нему. Что названо, понятно, измерено, то преодолено, окаменело, стало табу. Еще раз: «знание – сила». Здесь глубочайший корень различия идеалистических и реалистических мировоззрений. Оно соответствует двойному смыслу слова «боязливый» (scheu). Идеалистическое мировоззрение возникает из робкого благоговения, реалистическое – из отвращения (Abscheu) к недоступному. Одни созерцают, другие стремятся подчинить, механизировать, сделать безвредным. Платон и Гете приемлют тайну, Аристотель и Кант стремятся ее уничтожить. Замечательнейшим примером этой подоплеки всякого реализма служит проблема времени. То страшное, что содержится во времени, сама жизнь, должно подвергнуться здесь заклятию, быть уничтожено магиею понятности.
Все сказанное о времени в «научной» философии, психологии, физике (мнимый ответ на вопрос, который не следовало бы ставить, – чем «является» время) никогда не затрагивает самой тайны, но касается только обладающего признаками пространства и заменяющего пространство фантома, в котором жизненность направленности, ее самопроизвольная подвижность заменена абстрактным представлением протяжения, механическим, измеримым, делимым и обратимым отображением того, что в действительности не поддается никакому отображению; заменена тем «временем», которое может быть выражено при помощи математических символов
, вовсе не исключающих допущения величины времени равной нулю или отрицательной. Современная теория относительности, претендующая ниспровергнуть механику Ньютона – то есть, в сущности, его понимание проблемы движения, – допускает случаи, когда обозначения «раньше» и «позже» становятся обратимыми; математическое обоснование этой теории Минковским применяет в целях измерения мнимые единицы времени. Без сомнения, это «время» не имеет ни малейшего отношения к жизненным явлениям, к судьбе, к живому, историческому времени. Попробуйте заменить в каком-нибудь философском или физическом тексте слово «время» словом «судьба», и вы тотчас почувствуете, до какой степени рассудок запутался и как нелепа группа «пространство и время». Что не переживается и не ощущается, что только мыслится, то необходимо принимает свойства пространства. Физическое и кантовское время есть линия. Органическая подвижность времени, его душевная природа совершенно исчезли в формулах и понятиях. Таким образом, становится ясным, почему ни один философ-систематик никак не может подойти к понятиям прошлого и будущего. В кантовских рассуждениях о времени эти понятия вовсе не встречаются. Не видно даже, в каком отношении они должны стоять к тому, о чем Кант говорит там. Только благодаря этому «пространство и время», как величины одного и того же порядка, можно ставить в функциональную зависимость друг от друга, как это особенно отчетливо обнаруживается в четырехмерном векториальном анализе. (Измерения х, у, z и t фигурируют в трансформациях как совершенно равноценные.) Уже Лагранж (1813) не обинуясь назвал механику геометрией четырех измерений, и даже осторожное понятие Ньютона «tempus absolutum sive duratio» не свободно от этого логически необходимого превращения живого в чистое протяжение. Единственное глубокое и почтительное обозначение времени я нашел в более ранней философии. Оно встречается у Августина (Conf. XI 14): «Si nemo ex me quaerat, scio, si quaerenti explicare velim, nescio».
Неудачная попытка рассматривать «пространство и время» как пару морфологически однородных величин исключает всякую возможность правильного понимания проблемы времени. Уже обыкновение новой философии (а так поступают все современные философы) строить предположение, что все вещи находятся «во времени», подобно тому как они находятся в пространстве, так что ничто не может быть «мыслимо» «вне» этих величин, свидетельствует лишь о том, что наряду с одной пространственностью измышляется другая. С одинаковым правом можно было бы сделать попытку трактовать совместно такие две «силы», как магнетизм и надежда. Когда Кант говорил о «двух формах» наглядного представления, то ему не следовало бы упускать из виду того обстоятельства, что научное уразумение пространства дается легко (хотя и оно, конечно, не может быть объяснено в обычном смысле этого слова: такое объяснение вообще вне научных возможностей), тогда как исследование в том же смысле времени – задача совершенно неосуществимая. Читатель «Критики чистого разума» и «Пролего-мен» заметит, что связь пространства и геометрии Кантом тщательно доказывается, в то время как он всячески избегает дать такое же доказательство связи времени и арифметики. Здесь Кант остается при голом утверждении; пробел затушевывается постоянно повторяемой им аналогией понятий, и обнаружение его незаполнимости обнаружило бы также несостоятельность кантовской схемы. Мышление при помощи точных понятий всецело совпадает с областью ставшего и протяженного. Пространство, предмет, число, понятие, причинность столь родственные формальные элементы, что – как это показывают бесчисленные неудачные системы – невозможно исследовать один из них независимо от исследования остальных. Логика служит отражением механики данной эпохи, и наоборот. Мыслительная способность, структуру которой описывает механистическая психология, есть отражение того пространственного мира, который трактуется физикой соответствующего времени. Понятия (обратите внимание на происхождение слова понимать – «брать рукою») суть телесные ценности; дефиниции, суждения, умозаключения, системы, классификации являются формальными элементами некоторой внутренней пространственности; они до такой степени насыщены оптикой, что абстрактно мыслящий человек всегда поддается искушению непосредственно изобразить процесс мышления в виде чертежа, графически, то есть пространственно(вспомните таблицы категорий Канта и Аристотеля). Где нет схемы, там нет и философии – вот несознаваемый предрассудок всех цеховых систематиков, отличающий их от «созерцателей», на которых они внутренне смотрят свысока. По этой причине Кант желчно назвал стиль платоновского мышления «искусством многословной болтовни», и на этом же основании школьный философ еще и сегодня замалчивает философию Гете. Всякая логическая операция может быть изображена графически. Всякая система есть геометрический способ обращения с мыслями. Поэтому в абстрактной системе для времени не находится места или же оно приносится в жертву методу.
Все сказанное служит также опровержением широко распространенного популярного недоразумения, которое крайне тривиальным образом связывает время с арифметикой, а пространство с геометрией; Канту не следовало бы впадать в это недоразумение, между тем как от непонятливости Шопенгауэра по отношению к математике едва ли можно было ожидать чего-либо другого. На том основании, что живой акт счета каким-то образом соприкасается с временем, теоретики, очарованные схемой, неизменно смешивают число с временем. Но счет не есть число, так же как процесс рисования не есть рисунок. Счет и рисование суть становление, числа и фигуры – ставшее. Кант и другие в одном случае приняли во внимание живой акт (счет), в другом – его результат (формальные отношения готовой фигуры). Первый принадлежит к области жизни и направленности, второй – к области протяженности и причинности. Вся математика, то есть, выражаясь популярно, арифметика и геометрия, отвечает на вопрос «что?», то есть на вопрос о естественном порядке вещей. В противоположность этому «когда?» есть специфически исторический вопрос, вопрос о судьбе, будущем, прошлом. Все это заключено в слове» счисление времени», которое наивный человек понимает совершенно правильно. Причинность самым тесным образом связана с миром чисел – при помощи ли функции в западноевропейской культуре или при помощи величины в античном мире. Физика и математика переливаются друг в друга (в чистой механике). Время, судьба, история стоят совершенно вне круга этих понятий. К ним принадлежит хронология.
Между арифметикой и геометрией нет никакой противоположности8. Всякая идея числа – это было в достаточной степени показано в первой главе настоящей книги – в полном своем объеме принадлежит области протяженного и ставшего, будь это эвклидовская величина или же аналитическая функция. В самом деле, к какой из двух областей должны принадлежать циклометрические (круговые) функции, бином Ньютона, римановские плоскости, теория групп? Схема Канта была опровергнута Даламбером и Эйлером уже раньше, чем Кант ее составил, и только незнакомство послекантовских философов с математикой своего времени (в этом отношении они представляют противоположность Декарту, Паскалю и Лейбницу, которые сами создали математику своего времени из глубин своей философии) послужило причиной, что эти в значительной мере ученические взгляды на отношение «пространства и времени» к «геометрии и арифметике» передавались по наследству в почти не затронутом виде. Но становление не имеет никакого касания ни к одной области математики. И даже глубоко обоснованное предположение Ньютона, который был очень дельным философом, будто принцип открытого им дифференциального исчисления (флюксионного исчисления) позволяет ему непосредственно схватить проблему становления, то есть проблему времени (во всяком случае, в гораздо более тонком понимании, чем кантовское), не могло удержаться в силе, как оно ни модно в настоящее время среди философов. При возникновении ньютоновской теории флюксий решающую роль сыграла метафизическая проблема движения. Однако с тех пор, как Вейерштрасс доказал, что существуют непрерывные функции, которые только частично дифференцируются или даже вовсе не могут быть дифференцированы, отпала и эта, самая глубокая из всех когда-либо предпринятых попыток математического подхода к проблеме времени.
11.
Время есть соотносительное понятие. Здесь впервые мы касаемся своеобразной логической продукции весьма важного значения. Неспособный включить чувство судьбы в мир своих форм, рассудок, исходя из пространства, конструировал, как его логический коррелят, понятие «время» («не-пространство»). У нас не было бы ни этого слова, ни совершенно превратного содержания, связанного с ним и привычного для нас как для существ, мыслящих в устойчивых формах, если бы наша душа не была соблазнена мощным стремлением к понятности (к заключению в оптические границы). Отсюда следует, что античный дух, подчинявший протяженность, как мы увидим дальше, совсем другой символике, чем наша, соответственно этому и время представлял себе совершенно иначе. Но мы никоим образом не можем выразить в понятиях, что же именно вместо нашего «времени» преподносилось в аналогичных случаях аполлоновскому человеку.
Проблема пространства является, следовательно, единственной задачей всякой точной науки, которая занимается исключительно ставшим, стремясь без остатка расчленить его имманентную необходимость в форме математически трактуемого принципа причинности. С этой точки зрения существуют только естественные науки, к которым принадлежат также логика и гносеология. Их связывают всем им одинаково присущее чувство страха перед миром и тождественная цель, а именно – изгнание и заклятие чуждого при помощи незыблемых законов. Недоступная науке идея судьбы, кроющаяся под словом «время», принадлежит к области непосредственных переживаний и интуиции.
В каждом произведении искусства, раскрывающем всего человека, весь смысл бытия, заключены одновременно страх и искание. Теория искусства это хорошо почувствовала. В качестве «содержания» неизменно пытались рассматривать те элементы, которые изображают направленность, судьбу, жизнь, искание, а в качестве «формы» – протяжение, дух, основание и следствие, страх. Протяженное, оформленный элемент, выражает собою элементарную символику каждого искусства. Сюда относится, следовательно, все то, что называется каноном, школой, условностью, техникой, все рассудочно-понятное, последовательное, изучимое, измеримое числом в линии, краске, звуковом тоне, строении, порядке; изложенное Поликлетом каноническое расчленение обнаженной статуи, внутренность готического собора и египетской усыпальницы, искусство фуги. Все это виды одной тектоники. Все они стремятся заключить чувственный материал в застывшую, «вечную», то есть вневременную, форму.
Архитектура большого стиля, единственное из всех искусств, имеющее дело с самою чуждою и внушающею страх стихиею, с непосредственно протяженным, с камнем, является, следовательно, как это ясно само собою, самым ранним искусством всех культур, которое только постепенно уступает место более одухотворенным искусствам ваяния, живописи, композиции, с их непрямыми средствами формования. Микеланджело, который из всех великих художников Запада, несомненно, сильнее других испытывал постоянное гнетущее чувство страха перед миром, был поэтому единственным из мастеров Возрождения, никогда не освободившимся от архитектурности в своем искусстве. Он даже писал так, как будто красочные поверхности были камнем, ставшим, застывшим, ненавистным. Его приемы работы представляли собой ожесточенную борьбу с враждебными силами космоса, выступавшими перед ним в виде материала, тогда как краски всегда жадно искавшего Леонардо действуют как добровольноевоплощение душевного. Но в каждой проблеме архитектурной формы чувствуется строжайшая логика, даже математика, будь это эвклидовское отношение опоры и тяжестив античных ордерах колонн или же динамическое отношение силы и массы в «аналитически» конструированных фасадах барокко. Знаменитая контроверза Канта и Юма об априорности причинности, которая послужила поводом появления «Критики чистого разума», внутренне родственна многим проблемам художественной формы. Символика же направленности, судьбы стоит по ту сторону всякой механической «техники» великих искусств и едва ли доступна формальной эстетике. Она заключается, например, в постоянно чувствовавшемся, но никем, даже Лессингом и Геббелем, не разъясненном противоречии античной и западноевропейской трагедии, в веренице сцен древнеегипетского барельефа, вообще в рядами идущем расположении египетских статуй, сфинксов, храмовых зал, в выборе диорита и базальта, при помощи которых утверждается долговечность и будущее, в противоположность дереву раннегреческих скульптур, в жестах статуи Фидия, подчеркивающих настоящее и исключающих всякую мысль о прошлом и будущем, в противоположность стилю фуги, растворяющему отдельное мгновение в бесконечности. Ясно, что все это относится не к косной «технике», но к «гению», не к возможности, но к необходимости, неволящей художника, не к механической форме художественных созданий, но к самому живому акту творчества. Не математика и абстрактное мышление, но история и великие искусства – с прибавлением к ним великого мифа – дают ключ к проблеме времени.
12.
Из сказанного здесь о смысле культуры как первофеномена и судьбы как органической логики бытия следует, что каждая культура необходимо должна иметь собственную идею судьбы; больше того: это следствие уже заключено в ощущении, что всякая великая культура является не чем иным, как осуществлением и образом одной-единственной определенной души. То, что мы называем стечением обстоятельств, случаем, роком, судьбой; что древние называли Немезидой, Ананкэ, Тюхе, Фатумом, арабы Кизметом, а другие еще иначе; чего никто не в состоянии дать почувствовать человеку другой культуры, жизнь которого является выражением своей собственной идеи; что не поддается никакому более точному описанию при помощи слов, – представляет именно этот однажды данный, никогда не повторяющийся способ постижения мира душою, который каждый из нас считает за вполне достоверный.
Я решаюсь назвать античное понимание идеи судьбы эвклидовским. В самом деле, то, что испытывает гонение и удары судьбы, является чувственно-действительною личностью Эдипа, его «эмпирическим» «Я», больше того, его «sцma» (телом). Эдип жалуется («Эдип-Царь», 242), что Креон нанес ущерб его телу и что («Эдип в Колоне», 355) оракул относится к его телу. Точно так же и Эсхил в «Хоэфорах» (704) говорит об Агамемноне как о «царственном теле, предводительствующем флотом». Это же самое слово, «sцma», неоднократно употребляется математиками для обозначения их тел. Судьба же короля Лира – аналитическая судьба (употребляя термин, относящийся к миру чисел соответствующей культуры); она всецело основывается на темных внутренних отношениях: всплывает идея отцовства; бесплотные потусторонние душевные нити протягиваются через всю драму и странно освещаются второй, контрапунктически построенной трагедией в доме Ютостера. Лир, в конце концов, одно только имя, простое средоточие чего-то безграничного. Перед нами понимание судьбы в духе исчисления «бесконечно малых»: она развертывается в бесконечном пространстве и в течение бесконечного времени; она вовсе не касается телесного, эвклидовского существования; она касается только души. Безумный король, сопровождаемый шутами и нищими, застигнутый бурей, в степи, являет собой полную противоположность группе «Лаокоон». Это фаустовский и аполлоновский виды страдания. В числе произведений Софокла была также драма о Лаокооне. Несомненно, в ней не говорилось ни слова о душевном страдании. Здесь следовало бы предпочесть выражение «идея существования», особенно если вспомнить о набросках трагедий Геббеля, который в известном смысле завершил западноевропейскую трагедию, исчерпав ее последние возможности. Кто в состоянии рассматривать великую драму космически, не сосредоточивая всего своего внимания на ее сценарии, тот почувствует родство замыслов Софокла с концепциями античной геометрии и связь анализа с тем, что дали Шекспир, Гете и Клейст; тот усмотрит противоположность величины и отношения также и в глубочайших корнях творческого акта художника.
Мы подходим здесь к другому глубоко символическому соотношению. Типическая западноевропейская драма называется обыкновенно драмой характеров в противоположность греческой драме положений. Эти наименования подчеркивают, что, собственно, ощущается людьми обеих культур в качестве основной формы их жизни и что, следовательно, подвергается сомнению со стороны трагического, судьбы. Необратимость, присущая направленности жизни, выражает самую сущность всякого возможного трагического конфликта. Перед нами античная трагедия данного мгновения и западноевропейская трагедия душевного развития, истории души. Так ощущала себя самое совершенно неисторическая душа, с одной стороны, и в высшей степени историческая – с другой. Наша трагедия возникла из чувства неумолимой логики становления. Грек же чувствовал алогичность, слепую случайность момента. Отсюда понятно, почему одновременно с западноевропейской драмой процветало и затем угасло великое искусство портрета, достигшее своего зенита в живописи Рембрандта, – искусство насквозь историческое и психологическое, которое именно поэтому было строжайше запрещено в классической Греции в эпоху расцвета аттического театра; вспомните о запрещении давать в дар по обету портретные статуи, и что робкая попытка (принадлежащая Лисиппу) искусства идеализированного портрета появилась как раз в то время, когда великая трагедия была оттеснена на задний план менандровской социальной драмой типов. В сущности, все греческие статуи носят одну стереотипную маску, подобно актерам в театре Диониса. Все они являются чрезвычайно точным выражением соматических ситуаций. Физиогномически они немы, телесно – необходимо обнажены. «Характерные головы» впервые появились только в эпоху эллинизма. И мы снова вспоминаем об обоих соответствующих мирах чисел, в одном из которых исчисляются осязательные результаты, тогда как в другом морфологически исследуется икак таковой фиксируется в законообразных выражениях характер групп отношений, подобных функциям, уравнениям, вообще формальным элементам одного и того же порядка.
13.
Способность переживать историю и способ, каким переживается история и особенно собственное становление, у разных людей весьма различны.
Как мы уже видели, каждой культуре присущ строго индивидуальный способ видеть и познавать природу, или, что то же самое, – у каждой культуры своя специфическая природа, которой не может обладать в точно таком же виде человек другой культуры. Точно так же культуре, а в ее пределах – каждому индивидууму (тут существуют только незначительные вариации) присущ свой собственный вид истории, в образе и стиле которого каждый индивидуум непосредственно созерцает, чувствует и переживает общее и личное, внутреннее и внешнее, всемирно-историческое и биографическое становление. Так, склонность западноевропейцев к автобиографиям совершенно чужда античности. Крайней сознательности западноевропейской истории противостоит сонная полусознательность индийской. Что имели в виду люди арабской культуры Павел, Плотин или Магомет, произнося словосочетание «всемирная история»? Но если крайне трудно составить точное представление о природе, то есть о причинно-упорядоченном внешнем мире других людей, хотя специфически познаваемое рисуется там в наглядном образе, то уже совершенно невозможно вполне проникнуть способностями своей души в исторический аспект мира чуждых культур, в образ становления, созданный совсем иначе устроенными душами. Тут всегда окажется недоступный нашему пониманию остаток, который будет тем значительнее, чем меньше наш собственный исторический инстинкт, физиогномический такт, присущее нам знание людей. И все же разрешение этой задачи есть необходимая предпосылка всякого более глубокого понимания мира. Исторический мир других людей составляет часть их существа, и мы не поймем другого человека, если нам неизвестны его чувство времени, его идея судьбы, стиль и степень сознательности его внутренней жизни. Чего нельзя найти прямо в исповедях, то мы должны извлекать из символики внешней культуры. Только таким образом само по себе непостижимое становится доступным нам; вот почему так бесконечно ценны исторический стиль культур и связанные с ним великие символы времени.
Один из таких символов, едва ли когда-нибудь понятый надлежащим образом, был уже назван. Я имею в виду часы, создание высокоразвитых культур; чем более о них размышляешь, тем более загадочными кажутся они. Античность – не без умысла – умела обходиться без них, хотя в обоих более древних мирах вавилонской и египетской души, с их точной астрономией и летосчислением, их глубоким устремлением взора в прошлое и будущее и постоянным связыванием с ними настоящего мгновения, часы (солнечные и водяные) всегда были в употреблении. Но эвклидовское, ни с чем не связанное, «точечное» античное бытие вполне исчерпывалось настоящим моментом. Ничто не должно было напоминать о прошлом и будущем. Античность совершенно не знала археологии и обращенной в другую сторону (в будущее) астрологии. В античном мире не было никакого летосчисления, ибо счет по Олимпиадам был только литературным вспомогательным приемом. В античных городах ничто не напоминает о длительном существовании во времени, о старине, о предшествовавших эпохах, в них нет окруженных почитанием руин, нет памятников, задуманных в интересах грядущих поколений, нет со смыслом выбранного материала вопреки техническим трудностям. Дорийские греки забросили микенскую технику каменных сооружений и снова стали строить из дерева и глины, несмотря на наличие микенских и египетских образцов и обилие лучших каменных пород в местности, где они жили. Дорийский стиль – деревянный стиль. Еще во времена Павсания можно было видеть в храме Зевса в Олимпии последнюю, еще не смененную деревянную колонну. У античной души не было органа для исторического познания – памяти, – в том смысле, как мы ее здесь постоянно понимаем: в смысле организма, всегда сохраняющего в наличности индивидуальное прошлое, генезис внутренней жизни. Не было никакого «времени». Реформу календаря, произведенную Цезарем, можно рассматривать почти как акт эмансипации от античного жизнеощущения: Цезарь задумывал отказаться от Рима и превратить город-государство в династическое, то есть подчиненное символу длительности, царство с центром в Александрии, откуда происходит его календарь. Убийство Цезаря производит впечатление последнего протеста этого враждебного длительности античного мироощущения, воплощенного в полисе, в «Urbs Roma».
Еще и тогда каждый час, каждый день довлели себе. Так жили отдельные эллины и римляне, так жил город, нация, вся культура. Празднества, где рекой лилось вино и кровь, дворцовые оргии и цирковые бои при Нероне и Калигуле (только они одни составляют предмет описания Тацита, подлинного римлянина, вовсе не обращавшего внимания на жизнь обширных областей империи) являются последним ярким выражением этого эвклидовского мироощущения, обоготворяющего плоть и настоящее. У индийцев, нирвана которых также служит выражением отсутствия какого бы то ни было счисления времени, равным образом не было часов – не было, следовательно, истории, воспоминаний, забот. Мы, люди весьма чуткие к истории, называем индийской историей процесс, который не сопровождался ни малейшей степенью сознательности. Тысячелетие индийской культуры, от Вед до Будды, производит на нас впечатление сонных движений спящего. Жизнь действительно была здесь сном. Ничто не является столь чуждым индийскому началу, как тысячелетие западноевропейской культуры. Никогда и нигде, даже в древнем Китае, люди не были столь бодрствующими и сознательными, никогда время не ощущалось глубже и не переживалось с таким ясным сознанием его направленности, его неумолимого рокового движения. История Западной Европы есть судьба, которую желали, индийская – судьба, свершившаяся помимо воли. В греческом бытие годы не играют никакой роли, в индийском – едва ли играют какую-либо роль даже десятилетия; у нас же – каждый час, каждая минута, даже каждая секунда исполнены значения. О трагической напряженности исторических кризисов, где решающим является даже мгновение, как то было в августовские дни 1914 года, не мог иметь ни малейшего представления ни грек, ни индиец. Но такие же кризисы выдающиеся люди Запада могут переживать внутри самих себя, эллины же – не в состоянии. Над нашими землями день и ночь раздается с тысячи башен бой часов, который непрестанно связывает прошлое с будущим и растворяет текучий момент «античного» настоящего в бесконечном времени. Момент, отмечающий рождение этой культуры – эпоха саксонских императоров, – совпадает с моментом изобретения колесных часов9. Западноевропеец немыслим без пунктуальнейшего измерения времени, без хронологии происходящего, вполне соответствующей нашей ненасытной потребности в археологии, сохранении, раскопках, собирании всего прошлого. Эпоха барокко превратила готический символ башенных часов в гротеск, в карманные часы, которые сопровождают отдельного человека. И разве нам не свойственно взвешивание и измерение внутренней жизни, доведенное до высокой степени совершенства? Разве наша культура не является культурой автобиографий, дневников, исповедей и беспощадных этических самооценок? Существуют ли люди другой культуры, похожие на нас, выработавших еще во времена крестовых походов символ тайной исповеди, о которой Гете сказал, что ее никогда не следует отнимать от людей? Разве все наше большое искусство, в полную противоположность античному, не является по своему характеру искусством исповеди? Кто совершенно сознательно не пережил в самом себе историю, судьбу, время, тот не в состоянии размышлять о всемирной истории и истории отдельных государств, тот не в состоянии почувствовать и понять историю других. Поэтому античность не создала ни подлинной всемирной истории, ни психологии истории, ни глубокой биографии. Фукидид и Сократ служат подтверждением этого. Один знал только недавнее прошлое ограниченного круга народов, другой – только эфемерные моменты углубления в себя.
Рядом с символом часов стоит другой, столь же глубокий, столь же непонятый символ форм погребения, освященных всеми великими культурами при помощи культа и искусства. В древнейшее время различные возможные формы еще хаотически переплетаются друг с другом в зависимости от обычаев племени и целесообразности. Но каждая культура тотчас возвышает одну из них до значения величайшего символа. Античный человек, руководствуясь глубоким бессознательным жизнеощущением, остановился насожжении мертвых, акте уничтожения, служившем мощным выражением его эвклидовского бытия, связанного с здесь и теперь. Он не хотел никакой истории, никакой долговечности, не хотел ни прошлого, ни будущего, ни заботы, ни избавления; он уничтожал поэтому лишившиеся «настоящего» тела Перикла и Цезаря, Софокла и Фидия. Нет другой культуры, которую можно было бы сопоставить в этом отношении с античной, – за одним только характерным исключением: ранней ведантской эпохи Индии. И заметьте хорошенько: ранняя дорийско-гомеровская эпоха, собственно эпоха «Илиады», совершала этот акт со всем пафосом только что созданного символа, между тем как в гробницах Микен, Тиринфа, Орхомена мертвецы (битвы которых, может быть, как раз и были положены в основу гомеровского эпоса) по египетскому способу хоронились в земле. Когда в императорскую эпоху наряду с урной для праха появляется – и у христиан, и у язычников – саркофаг, то это означает пробуждение нового чувства времени; здесь перед нами такая же смена культур, как та, что отмечена заменой микенских гробниц гомеровскими урнами.
Египтяне же, прочно сохранявшие свое прошлое в памяти, в камне и иероглифах, так что мы сегодня, по прошествии четырех тысячелетий, можем с точностью определить годы правления их царей, увековечивали также их тела; благодаря этому великие фараоны – символ потрясающего величия – и теперь еще лежат в наших музеях с прекрасно сохранившимися чертами лица, тогда как от царей дорийского времени не сохранилось даже имен. Мы точно знаем день рождения и смерти почти всех великих людей со времени Данте. Это кажется нам само собой разумеющимся. Однако во время Аристотеля, то есть на вершине античной цивилизации, уже не знали, существовал ли вообщеЛевкипп, основатель атомизма и современник Перикла, время жизни которого отделено от Аристотеля едва только столетием. Это все равно как если бы мы не были уверены в существовании Джордано Бруно, а Возрождение всецело отошло бы от нас в область легенд.
А сами эти музеи, где мы собираем все наше прошлое, ставшее чувственно-телесным! Разве они не являются символом высочайшего значения? Разве назначение их не в том, чтобы сохранять в виде мумии «плоть» всей истории нашей культуры? Разве наряду с бесчисленными датами в миллиардах напечатанных книг мы не собираем всехпроизведений всех мертвых культур в этих сотнях тысяч зал западноевропейских городов, где в массе собранного каждая отдельная вещь лишается своего действенного применения для текущего момента, которое одно только было священным для античной души, и как бы растворяется в бесконечной подвижности времени? Сравните с этим то, что эллины называли «музейон», и вы увидите, какой глубокий смысл заключен в этом изменении значения слова.
14.
Физиономия западноевропейской, египетской и китайской истории культуры определяется изначальным чувством заботы; оно создает также символику эротического, в которой рисуется отношение людей каждой данной эпохи к грядущим поколениям. «Точечное» эвклидовское бытие древних и в этом случае ощущало чисто соматически. Вот почему центральным моментом культа Деметры были муки рожающей женщины, а наиболее важное значение в античном мире вообще принадлежало символу фаллоса, этому знаку полового совокупления – минутного акта, в котором происходит забвение прошлого и будущего. Человек ощущал себя здесь как природу, как растение, как животное, как то, что помимо своей воли отдается смыслу становления. Домашний культ «гения» был культом производительной силы главы семьи. Наша же глубокая и вдумчивая заботливость противопоставила ему в западноевропейском культе символ матери, держащей у своей груди ребенка – будущее. Культ Марии в этом новом, фаустовском смысле расцвел только в столетия готики. Свое высшее воплощение он получил в образе «Сикстинской Мадонны» Рафаэля. Этот культ не является общехристианским, ибо восточное, магическое христианство ощущало в Марии-Теотокос, Богородице, совершенно другой, магически-метафизический смысл. Кормящая грудью мать (die stillende Mutter) одинаково чужда и арабскому (византийско-лангобардскому) и эллинскому искусству; это чисто человеческое олицетворение заботливости, и, конечно, гетевская Гретхен с глубоким очарованием несознаваемого ею материнства стоит ближе к готическим Мадоннам, чем все Марии византийских и равеннских мозаик.
Но никакой истории заботливость не присуща в такой степени, как египетской; здесь она распространяется как на все прошлое, на храмы, имена и мумии, так и на все будущее. Египетское чувство заботы уже во времена Хеопса, то есть за 3 тысячи лет до Р. X., привело к глубоко продуманной государственной организации, а позже – к столь мастерской экономически-финансовой системе, что начиная с Александра Великого эллинистические государства достигли кое-какой упорядоченности в управлении только путем подражания практике фараонов. Как ни различны по своему существу буддизм и стоицизм, старческие настроения индийской и античной души, их роднит, однако, одинаковое отсутствие у них исторического чувства заботы, отрицание, следовательно, всякой организаторской энергии, сознания долга, деятельности, предусмотрительности; поэтому ни в индийских царствах, ни в эллинских городах никто не думал о будущем, как своем личном, так и будущем всего общества. «Carpe diem»[9] аполлоновского человека характерно также и для античного государства. Жили со дня на день и соответственно этому хозяйничали: отсутствовала всякая способность строить широкие планы и осуществлять их в течение поколений. Античное государство, несмотря на существовавший перед его глазами образец Египта, держалось исключительно благодаря беспрестанному применению насильственных мероприятий, грабежу собственных граждан и иностранцев, подделке монеты, конфискациям и проскрипциям имущих; если же в его распоряжении попадали богатства, оно не находило для них лучшего применения, как раздачу их черни. Совершенно отсутствовала история прошлого как внутреннее достояние, поэтому отсутствовала также всякая забота о нуждах будущего. Будущее приходило здесь помимо всякой воли людей; никто не пытался направить его в желательную для себя сторону. Поэтому социализм нашего времени, с его несомненной, хотя до сих пор не сознанной родственностью египетскому строю, будучи старческим настроением западной души, соответствующим, как культурная стадия, стоицизму, по своему смыслу является его резкой противоположностью. Социализм есть нечто насквозь египетское по своей широкой заботливости о прочных экономических отношениях, по своему предусмотрительному отношению к настоящему, рассматриваемому из исторической перспективы столетий, по включению индивидуума, со всеми его жизненными проявлениями, при помощи тысячи отношений в крайне абстрактную экономическую систему, являющуюся точным подобием аналитического мира чисел, лежащего в основе современной теории функций. Античный взгляд на хозяйственную жизнь, повторяющий «атараксию» и беззаботность стоиков, отрицает время, будущее, долговечность; западноевропейский, напротив, утверждает все это, в форме ли плоского английско-еврейского понимания Мальтуса, Маркса и Бентама или же в форме глубокой и чреватой будущим прусской государственной идеи, в форме социализма, созданного Фридрихом Вильгельмом I, который еще в этом столетии примет другой вид. Выражением этой высокой заботливости о будущем, этого фаустовского чувства судьбы служит изречение Фридриха Великого: «Я первый слуга своего государства». Это изречение относится к той же эпохе, что и «общественный договор» Руссо, из которого, в сущности, произошла английско-французская парламентарно-полусоциалистическая государственная идея XIX столетия. Руссо и Фридрих Великий были музыкантами; Сократ, их «современник» и родоначальник Стои, был скульптором. Оба экономических идеала – идеал полиса и идеал западноевропейского государства – глубокими основами своей формы родственны принципам пластики и контрапункта. Так идеи судьбы, истории, времени, заботы соприкасаются с последними формами художественного выражения души.
15.
Рядовой представитель любой культуры в физиономии как своего собственного становления, так и становления исторического мира замечает только непосредственно осязаемый передний план. Сумма его внутренних и внешних переживаний наполняет течение его дней в виде простой последовательности разрозненных событий. Только выдающиеся люди чувствуют за движением поверхностных исторических явлений глубокую логику становления, которая сквозит в идее судьбы и позволяет рассматривать как случайные эти поверхностные, скудные по значению повседневные события.
На первый взгляд кажется, будто между судьбой и случаем существует только различие в степени. Например, прибытие Гете в Зезенхайм производит впечатление случайности, прибытие же его в Веймар мы считаем судьбой. Одно кажется эпизодом, другое – эпохой. Но когда мы смотрим на вещи глубже, то нам становится ясно, что различие зависит от внутренней ценности человека, который его устанавливает. Для толпы сама жизнь Гете представится цепью случайностей; лишь немногие с изумлением почувствуют ту символическую необходимость, которая присуща самому незначительному событию в жизни Гете.
Здесь мы покидаем область рассудочно-понятного; судьба, случай принадлежат к решающим переживаниям как отдельной души, так и души целых культур. Это вопрос этики, а не логики. Здесь ничего не говорят ни опыт, ни абстрактное познание, ни дефиниция; тот же, кто отваживается на гносеологическое уразумение судьбы и случая, на самом деле их вовсе не знает. Судьба и случай всегда образуют как бы противоположность рассудку, в которую душа пытается облечь то, что может быть только чувством, только переживанием и интуицией и что уясняется избранным душам только при помощи проникновеннейших творений религии и искусства. Чтобы вызвать это изначальное чувство живого бытия, сообщающее смысл и содержание историческому образу мира – название лишь звук пустой, – я не знаю ничего лучшего, как снова привести то стихотворение Гете, которое служит эпиграфом для всей этой книги и передает ее основное настроение:
Wenn im Unendlichen dasselbe Sich wiederholend ewig fliest, Das tausendfältige Gewölbe Sich kräftig ineinander schliesst. Strömt Lebenslust aus allen Dingen, Dem kleinsten wie dem grössten Stern, Und alles Drängen, alles Ringen Ist ewige Ruh in Gott dem Herrn[10].Различение этих предельных идей есть дело сердца. Логика истории, направленности, трагической необходимости бытия, царящая в этой области, не похожа на логику природы, число и закон, причину и действие, вообще на то, что осязательно и понятно. Мы говорим о логике скульптурной группы, прекрасного стихотворения, мелодии, орнамента. Это имманентная логика всех религий.
Это – религия, и даже великое искусство может при помощи своих символов только касаться этой последней тайны каждой души, поскольку оно само является религией. Поскольку же произведение искусства имеет художественную форму, то есть ту техническую элементарную форму, которой можно выучиться в школе и в мастерской, которая образует основу всякой традиции и условности, канон фуги, канон ваяния, строение трагедии, – постольку произведение искусства есть нечто ставшее, принадлежащее миру как природе и его логика имеет причинную окраску. Нельзя не усматривать родства высшей математики той же самой культуры с этим объектом работы художника («формой» в противоположность «материи»). Но если произведение искусства в своих глубинах нарушает эту форму, если оно перестает быть похожим на множество рядовых произведений данной эпохи и входит в круг немногих творений Божьей милостью, то оно приобщается к форме становления, – тогда оно имеет судьбу и само является судьбою в развитии культуры; перестав быть атомом в прибое волн поверхности истории, оно само творит историю и «делает эпоху» в буквальном смысле слова. Таким образом, оно носит в себе идею благодати западного христианства, которая изображает случай и судьбу в высшем этическом свете. Предопределение (первородный грех) и благодать – в этой полярности, которая всегда является в форме чувства, непрестанно движущейся жизни и никогда не может быть содержанием естественнонаучного опыта, заключено существование всякого подлинно выдающегося представителя западноевропейской культуры. Она служит основой написанной или только мыслимой автобиографии всех европейцев, в том числе протестантов и атеистов, хотя бы даже она прикрывалась понятием «эволюция», которое прямо из нее происходит; вот почему она не оказывала никакого действия на античного человека, судьба которого была совсем иного рода. Из этой полярности можно вывести все трагическое творчество Шекспира и Гете – опять-таки в противоположность Эсхилу и Софоклу. В ней последний смысл портретов Рембрандта и музыки от Баха до Бетховена. Назовем ли мы предопределением, промыслом, внутренним развитием то, что сообщает нечто родственное жизненному пути всех западноевропейцев, – все равно оно останется недоступным для мысли. Здесь всякий рационалистический анализ религиозных идей кончает бессмыслицей – мнимым преодолением церковных догм при помощи «результатов науки». Учение о предопределении у Кальвина и Паскаля (оба они с большим чистосердечием, чем Лютер и Фома Аквинат, отважились вывести следствия из диалектики Августина) есть та неизбежная нелепость, к которой приводит рассудочный анализ этих вещей. Здесь совершается переход от логики чувства к логике понятий и законов, от непосредственного созерцания жизни к системе объектов. Страшная душевная борьба Паскаля есть борьба человека с необычайно глубокой внутренней жизнью, который был в то же время прирожденным математиком; предельные и серьезные запросы души он хотел подчинить одновременно великим интуициям пламенной веры и абстрактной точности, соответствовавшей его замечательным математическим способностям. Вследствие этого идея судьбы, или, выражаясь в терминах религии, промысел Божий, приобрела схематическую форму принципа причинности, – следовательно, кантовскую форму рассудочной деятельности. В самом деле, таков именно смысл предопределения, который представляется логически несовместимым с живой, свободной и постоянно ощущаемой благодатью, имманентной только историческому («надприродному»), а не природному образу мира. Сомнение в бытие Божьем есть удел человека, в котором глубина рассудка побеждает глубину души.
16.
Если мы обратимся теперь к дальнейшему уяснению феномена случайности, то мы уже не подвергнемся опасности увидеть в нем исключение из причинной связи явлений природы или нарушение ее. «Природа» не есть тот образ мира, в котором участвует судьба. Когда углубленный взор отрешается от чувственного, ставшего и, приближаясь к ясновидению, проникает в окружающий мир и ощущает действие уже не объектов, а первофеноменов, то неизбежно получается историческая, вне– и сверхприродная, точка зрения: таков был взор Данте и Вольфрама, старческий взор Гете, выражением которого является прежде всего конец второй части «Фауста», и – что всегда недооценивали – взор Сервантеса, когда ему предстал образ Дон Кихота. Если мы погрузимся в этот мир судьбы и случая, то нам, может быть, покажется случайным, что на нашем маленьком светиле разыгрывается эпизод «всемирной истории»; покажется случайным, что люди, животный вид, обитающий на поверхности этой планеты, обладают феноменом «познания», и именно в этой форме, так различно описанной Кантом, Аристотелем и другими, покажется случайным, что действием этого познания являются именно эти законы природы («вечные и общезначимые»), создающие картину той «природы», о которой каждый из нас думает, что она одинакова для всех людей. Физика с полным правом изгоняет случай из своей картины мира, но случайностью представляется само ее появление в качестве духовного феномена в случайный момент аллювиального периода истории земной коры.
У кого нет способности видеть эту другую картину мира, созерцать историю в высшем смысле, созерцать мир как «Божественную комедию», как божественное зрелище, кто, следовательно, подобен в этом отношении Канту и большинству мыслителей-систематиков, тот найдет в истории только бессмысленную игру случайностей, в банальнейшем смысле этого слова. Но и художественное исследование присяжного историка стоит немногим выше «прагматического» анализа поверхностных событий, является не больше чем остроумной санкцией банально-случайного.
Напротив, в основе «астрологической» точки зрения на мир, даже в тех случаях, когда она проводится с соблюдением научных приемов, лежит убеждение, что вся вселенная, как созвездия, так и люди, находится по ту сторону всякой природной причинности и образует единство совсем другого порядка, имманентная логика которого и есть как раз логика судьбы. Кеплер, открывший математические законы движения планет, был убежденным астрологом (он, между прочим, составил гороскоп Валленштейна). Я усматриваю в каждом трагическом произведении – при том, конечно, условии, если оно относится к подлинному искусству – выражение астрологического жизнеощущения, хотя бы даже автор, как эмпирическая личность, отрекался от него. Наличность этого жизнеощущения у Шекспира доказывается не только сценами ведьм в «Макбете», которые действительно сообщают космический смысл этому произведению, но также смутно выраженным основным настроением «Лира», «Зимней сказки» и в особенности «Бури». Здесь стечение обстоятельств и предопределение уместно было бы назвать словом рок. Здесь властвует только судьба и случаем называется лишь то, что отдельный человек уже совершенно не в состоянии понять в наглядном образе. С этой последней точки зрения судьба и случай окончательно сливаются в некоторое высшее единство; здесь я имею в виду то, что выдающиеся христиане – я еще раз вспоминаю о Данте – с непоколебимой уверенностью ощущали как «божественный мировой порядок». Различие между судьбой и случаем объясняется тут только местом наблюдателя. Самым замечательным подтверждением этого является Шекспир, в котором до сих пор еще никто не искал и никто не предполагал трагика случая. И все же как раз здесь заключено ядро западноевропейской трагедии, которая является в то же время отражением западноевропейской идеи истории и ключом к раскрытию не понятого Кантом смысла слова «время». В самом деле, простая случайность, что политическая ситуация Гамлета – убийство короля и вопрос о престолонаследии – встречает именно этот характер. Простая случайность, что Яго, обыкновенный негодяй, какого можно встретить на всякой улице, наметил именно этого человека, чья личность обладала совсем незаурядной физиономией. А Лир! Что может быть случайнее (и поэтому «естественнее») сочетания его царственного достоинства с унаследованными его дочерьми роковыми страстями? Геббель захотел изобразить своих персонажей в виде более последовательных людей, в жизни которых исключена случайность, – но он достиг этого ценою неестественности. Натянутость, систематичность его концепций, которую каждый чувствует, не будучи в состоянии понять ее причины, объясняется тем, что логически-причинная схема его душевных конфликтов противоречит исторически движущемуся мироощущению, с его совсем иной логикой. Мы чувствуем наличие большого ума и отсутствие глубокого проникновения в существо жизни.
Именно этот западный оттенок случайного совершенно чужд античному мироощущению и, следовательно, античной драме. У Антигоны нет ни одного случайного свойства, которое играло бы какую-нибудь роль в ее трагических положениях. Случившееся с царем Эдипом – в противоположность судьбе Лира – могло бы случиться со всяким другим. Это античная судьба, «общечеловеческий» фатум, которому подвержено всякое вообще «sōma» и который никоим образом не зависит от случайных личных качеств.
Обыкновенные исторические сочинения всегда будут описывать случайное. Такова судьба их авторов, которые в духовном отношении более или менее стоят на уровне массы. Перед их взором природа и история переплетаются в крайне поверхностное единство, и «случай», sa sacrée Majesté le Hazard, для человека из толпы есть самое понятное из всего существующего. Он есть результат еще не доказанных таинственных причин, которые заменяют у таких исследователей не ощущаемую ими логику истории. Этому вполне соответствует анекдотическая картина переднего плана истории, арена для всех охотников за научной причинностью, авторов исторических романов и исторических пьес. Сколько войн возникло из-за того, что ревнивый придворный захотел удалить какого-нибудь генерала от своей жены! (В письмах Лизелотты Орлеанской содержится много маленьких закулисных анекдотов в духе этой точки зрения на французскую историю.) Сколько битв выигрывалось и проигрывалось из-за забавных инцидентов, вторгавшихся в их ход! Вспомните о движении веером алжирского дея и других подобных случаях, которые оживляют исторические сцены опереточными мотивами. Смерть Густава Адольфа или Александра кажется сочиненной плохим драматургом. Ганнибал представляется простым интермеццо античной истории, в течение которой он неожиданно вторгся. «Путь» Наполеона не лишен мелодраматизма. Конрадин, последний Штауфен, служит вечной темой ученической поэзии. Кто ищет имманентной логики истории в причинно-следственном ряду поверхностно понимаемых отдельных событий, тот, оставаясь последовательным, всегда будет находить в истории забавно-бессмысленную комедию, и я склонен думать, что сцена танцев пьяных триумвиров в «Антонии и Клеопатре» Шекспира, на которую так мало обращают внимания, – по-моему, одна из великолепнейших сцен в этом бесконечно глубоком произведении – есть насмешки первого исторического трагика всех времен над прагматическим пониманием истории. Это крайне популярное понимание издавна пользовалось признанием в «мире». Оно поселяло надежды у маленьких честолюбцев и давало им смелость вмешиваться в исторический ход событий. Руссо, Ибсен, Ницше, Маркс были уверены, что они в состоянии изменить при помощи теории «ход мировых событий». Даже социальное, экономическое или сексуальное понимание, которое можно считать в настоящее время максимумом достижений исторической науки и которое ввиду своей биологической окраски остается все же подозрительным по части причинности, – даже и это понимание еще крайне тривиально и вульгарно.
В критические моменты у Наполеона появлялось острое чувство истинной логики мирового становления. Он угадывал тогда, до какой степени он был олицетворением судьбы и в какой степени она у него была. «Я чувствую, как меня влечет к цели, мне неведомой. Как только я ее достигну, как только я перестану быть необходимым, достаточно будет атома, чтобы сокрушить меня. Но до тех пор никакие человеческие силы не будут в состоянии ничего сделать со мной» (1812). Это не прагматическийспособ мышления. Сам Наполеон как эмпирическая личность мог бы погибнуть при Маренго. Но то, что он означал, было бы в этом случае осуществлено в другой личности. Мелодия в руках выдающегося музыканта допускает богатые вариации; она может показаться рядовому слушателю совсем другой, между тем как в глубине своей – в совершенно ином смысле – она не изменилась. Эпоха немецкого национального объединения нашла свое средоточие в личности Бисмарка, эпоха войн за освобождение, напротив, была распылена на множество почти что безымянных событий. Обе «темы» могли бы также быть «разыграны» совершенно иначе. Бисмарк мог бы быть отставлен, а битва под Лейпцигом – быть проигранной; ряд войн 1814, 1816 и 1870 годов мог быть заменен дипломатическими, династическими, революционными или экономическими моментами – «модуляциями», – хотя физиогномическая выпуклость западноевропейской истории, в противоположность стилю хотя бы индийской, в решительные моменты требует, так сказать контрапунктически, резких ударений, войн или великих личностей. Бисмарк сам намекает в своих воспоминаниях, что весною 1848 года объединение могло бы быть достигнуто в более широком масштабе, чем в 1870 году, и что оно не удалось только благодаря политике прусского короля, правильнее говоря – благодаря его личным капризам. Это было бы, также и по ощущению Бисмарка, бледным проведением темы, которое сделало бы необходимым коду («de capo e poi la coda»). Смысл эпохи – тема – от этого не изменился бы. Гете мог бы умереть в молодости; его идея умереть не могла: «Фауст» и «Тассо» остались бы ненаписанными, но, не воплотившись в поэтическую форму, они все же «существовали» бы в каком-то ином, таинственном смысле.
Феномен случая, который сообщает законченность феномену судьбы, можно понять только из идеи первофеномена. Я снова провожу аналогию с миром растений. Культурысуть растения. Бук, который только что начал расти, с годам покроется листьями, у него будут ветви, ствол, закруглится верхушка, причем общие очертания всего этого можно предсказать заранее; все это составляет судьбу развивающегося организма. Но вот семя занесено ветром в другое место – и срок жизни, здоровье, сила и полнота явлений существенным образом изменились. Тысяча обстоятельств влияет на жизнь двух соседних стволов, сообщая ей очень различное направление. Истинный христианин стал бы говорить здесь о благодати природы. В конце концов, каждая верхушка дерева в лесу, каждый сук, каждый лист будут отличны от других верхушек, сучьев и листьев, и это их отличие никем не может быть предсказано заранее – вот что прежде всего ощущается как случайность. Если предположить, что мир планет представляет собою огромный организм, то этим самым по отношению к нему избирается такая точка зрения, с которой кольца Сатурна и существование Земли, с этой ее величиной, с этойформой тяготения, с этой геологической историей ее коры, в которой человечество образует незначительный эпизод, с этим ее положением между двух соседних планет, – покажутся случайностью. Математические законы, которые принадлежат совсем другой точке зрения, остаются при этом нисколько не затронутыми и непоколебленными. Итак, все великие культуры, в жизненном развитии которых многое можно определить заранее, носят в своих чертах нечто, по существу своему принадлежащее первофеномену, – такие черты составляют их судьбу – и, с другой стороны, нечто такое, чего никто не может предугадать и что должно быть отнесено на долю случая, благодати. Как производится эта расценка по отношению к историческому образу отдельной культуры, который всегда принадлежит какому-нибудь определенному наблюдателю, – это решается с непосредственной внутренней достоверностью мироощущением наблюдателя.
Эвклидовская душа античности могла переживать бытие, связывающееся для нее с наличным передним планом происходящего, только в форме чего-то случайного. Если мы вправе истолковать случайность для западноевропейской души как судьбу низшего сорта, то, напротив, для античной души судьба была как бы повышенной в ранге случайностью. Таково значение фатума. Но оба слова выражают для аполлоновской души черты совсем другой физиономии. У нее, как мы знаем, вовсе не было памяти, не было органического будущего и прошлого, не было, следовательно, действительно пережитой истории, то есть вовсе отсутствовало подлинное чувство логики судьбы. Не нужно обманываться словами. Популярнейшей богиней эллинов была Тюхэ, которую почти не отличали от Ананкэ (необходимости). Однако мы вполне отчетливо ощущаем судьбу и случай как противоположность, от которой все зависит в нашем существовании, понимаемом углубленно. Наша история есть история великих взаимоотношений; она построена контрапунктически. Античная же история, не только в том ее виде, как она рисуется античными историками, например Геродотом, но и в своей подлинной действительности, есть история анекдотов, то есть сумма статуарных частностей. Анекдотичны стиль всего вообще греческого бытия и каждой отдельной биографии. Телесноосязательный элемент воплощает неисторический, демонический случай. Логика бывания им затемняется, отрицается. Вся фабула образцовых античных трагедийисчерпывается бессмысленной случайностью; иначе невозможно выразить значение слова «haimarmenл», в противоположность шекспировской логике, которая развивается и уясняется только на понятии антиисторического случая. Еще раз: те чисто внешние удары, которые сыплются на Эдипа, удары, ничем изнутри не обусловленные и не вызванные, могут посыпаться также на всякого человека без исключения. Это форма мифа. Сравните с этим глубоко внутреннюю, индивидуальную, обусловленную всем личным существованием и отношением этого существования к эпохе необходимость судьбы Отелло, Дон Кихота, Вертера. Здесь противостоят друг другу трагедия положений и трагедия характеров. Но эта же противоположность повторяется и в самой истории. У всякой эпохи западноевропейской истории есть свой характер, всякая же эпоха античной истории является положением. Жизнь Гёте была исполнена логики судьбы; жизнь Цезаря была мифической случайностью. Шекспир первый внес сюда логику, Наполеон – трагический характер; Алкивиад попадал в трагические положения. Астрология в том ее виде, как она господствовала от эпохи готики до эпохи барокко над мироощущением даже тех, кто ее отрицал, стремилась овладеть всем будущим течением жизни. Гороскоп предполагал единый организм всего еще подлежащего развитию существования. Оракул же, всегда относившийся к отдельным случаям, есть подлинный символ случая, «Тюхэ» мгновения; он признает точкообразность, бессвязность мирового процесса, и в том, что в Афинах писалось и переживалось как история, изречения оракула были весьма уместны. Разве хоть один грек обладал идеей исторического развития в направлении к какой-нибудь цели? Разве, не имея этого основного чувства истории, мы в состоянии были бы размышлять об истории, творить историю? Сравните историю Афин и Франции в соответствующие эпохи, начиная с Фемистокла и Людовика XIV, и вы обнаружите, что стиль исторического чувствования и стиль действительности здесь одинаковы: в одном случае – избыток логичности, в другом – крайняя нелогичность.
Теперь понятен последний смысл этого знаменательного факта. История есть не что иное, как образ души; поэтому в творимой и в «созерцаемой» истории господствует одинаковый стиль. Античная математика исключает символ бесконечного пространства; его исключает, следовательно, также античная история. Предназначение и бесконечное мировое пространство, случай и материальная близость и осязательность тел – это тесно связывается одно с другим. Недаром сцена античного существования есть наименьшая из всех – отдельный полис. Ему недостает горизонта и перспектив – несмотря на эпизод похода Александра; в этом отношении он совершенно подобен сцене аттического театра с плоской замыкающей ее стеной. Сравните со всем этим функциональные и бесконечно малые факторы нашей политики, кабинетную дипломатию или «капитал». В своем космосе эллины знали только передний план природы, и только его они считали действительным, всем своим существом отклоняя вавилонскую астрономию звездного неба; у них были только домашние, городские и полевые боги, но не было богов небесных светил; в соответствии с этим они рисовали также только передние планы. Никогда в Коринфе, Афинах или Сикионе не создавался пейзаж с горными цепями на горизонте, плывущими облаками, далекими городами. На всех вазах мы находим только эвклидовские обособленные и самоудовлетворенные фигуры. Всякая группа на фронтоне храма построена по принципу сложения, а не контрапункта. Но и переживали также только то, что было на переднем плане. Судьбой было то, что с кем-нибудь внезапно приключалось, а не «течение жизни», и таким образом наряду с фресками Полигнота и геометрией платоновской Академии Афины создали трагедию судьбы совсем в духе опороченной «Мессинской невесты». Совершенно бессмысленный, слепой фатум, воплощенный, например, в проклятии, тяготевшем над Атридами, выражал для неисторической античной души весь смысл ее мира.
17.
Несколько рискованных, но все же не могущих быть превратно понятых примеров могут послужить к разъяснению моей мысли. Представьте себе, что Колумб получил бы поддержку от Франции, а не от Испании, Одно время это было даже вполне правдоподобно. Франциск I, как государь Америки, несомненно, получил бы корону вместо испанца Карла V. Эпоха раннего барокко, от Sacco di Roma до Вестфальского мира, – это (по своей религии, духу, искусству, политике, нравам) испанское столетие, послужившее во всех отношениях основой и предпосылкой эпохи Людовика XIV, – центром своего развития имела бы не Мадрид, а Париж. Вместо имен Филиппа, Альбы, Сервантеса, Кальдерона, Веласкеса мы называли бы теперь великих французов, которые – пусть это труднопостижимое будет выражено таким образом – остались неродившимися. Церковный стиль, который был тогда окончательно определен испанцем Игнатием Лойолой и Тридентским собором, находившимся под его духовным влиянием; политический стиль, установленный испанским военным искусством, кабинетной дипломатией испанских кардиналов и придворным духом Эскориала вплоть до Венского конгресса и даже в существенных чертах вплоть до Бисмарка; архитектура, живопись, церемониал, знатное общество больших городов – все это было бы тогда представлено другими выдающимися представителями дворянства и духовенства, другими войнами вместо войн Филиппа II, другим архитектором вместо Виньолы, другим двором. Случай сообщил испанский облик эпохе зрелости Западной Европы; внутренняя логика эпохи, которая должна была найти свое завершение в Великой Революции – или в событии, аналогичном по своему значению, – осталась бы этим не затронутой.
Французская революция могла бы в действительности быть заменена событием иного рода, которое произошло бы в другом месте, например в Германии. Ее идея (как мы увидим позже) – переход культуры в цивилизацию, победа неорганического мирового города над органической страной, которая становится теперь «провинцией» в духовном смысле, – была необходима, и именно в этот момент. Сюда должно быть применено слово эпоха в старом, в настоящее время стершемся (смешиваемом с периодом) смысле. Историческое событие делает эпоху: это значит, что оно отмечает в организме культуры необходимую, предначертанную судьбой стадию. Само событие, кристалл, отложившийся на исторической поверхности, могло бы быть заменено аналогичным другим событием; эпоха необходима и предопределена. Является ли событие эпохой или же эпизодом в отношении к какой-нибудь культуре и ее развитию, это, как мы видим, связано с идеями судьбы и случая и далее – с различием эпохиальной западной и эпизодической античной трагедии.
Далее, можно различать анонимные и личные эпохи в зависимости от физиогномического типа их исторического образа. Первая часть указанной выше эпохи – революции (1789–1799) – была совершенно анонимна, вторая – наполеоновское время (1799–1815) – в высшей степени лична. Необычайная сила этого явления обусловила совершение в несколько лет того, что соответствующая античная эпоха (386–322) совершала расплывчато и неопределенно в течение целых десятилетий путем «подземных отложений». Характерной чертой органического строения всех культур, первофеномена является наличие во всех стадиях почти одинаковой возможности осуществить неизбежное в образе великой личности (Людовик XIV, Цезарь), великого анонимного факта (Пелопоннесская и Тридцатилетняя войны) или морфологически неотчетливого развития (эпоха диадохов, война за испанское наследство). Какая форма имеет вероятность – это уже вопрос исторического (трагического) стиля.
История как она развертывается перед фаустовским взором в виде картины мира осуществляет свои эпохи в личной или анонимной форме – безразлично; трагедия стремится к личной форме, как символически более значительной. Поэт стал бы искать воплощения революции в яркой личности, например Дантоне. Наши драмы – драмы отдельных характеров. «Избирательное сродство» Гете представляет редкое исключение. Трагический характер есть характер, творящий эпоху (Вертер, например). Античных «характеров» соответствующего значения, следовательно, не существует.
Каждая подлинная эпоха означает также подлинную трагедию, однако в нашем, а не античном смысле. Парсифаль, Дон Кихот, Гамлет, Фауст суть такие трагедии, резюмирующие в одном характере целый исторический кризис, и поэтому каждую великую трагедию нашей культуры в противоположность всякой античной трагедии, непременно неисторической и мифической, мы вправе назвать исторической, хотя бы ее фабула являлась плодом свободной фантазии; в противном случае она оказывается «жанром», как у Шиллера и Альфиери. Шекспировский Цезарь умирает в третьем акте. Эта трагедия изображает эпоху, и поэт чувствовал – совершенно бессознательно, само собой разумеется, – что эмпирическая личность является только символом, играет чисто поверхностную роль. Поэтому действие кончается только там, где кончается эпоха, а не чувственное бытие ее носителя. Цезарь в некотором более глубоком смысле пал только под Филиппами, именно – в лице Брута, который выполнил свою миссию, тогда как Антоний, наследник Цезаря в смысле переднего плана истории, создал в Александрии новую эпоху, которая началась под Филиппами и нашла свое завершение в драме у Акциума. Но шекспировский Цезарь принадлежит нашей, а не античной картине мира. Античная история, подобно античной трагедии, сама по себе эпизодична и не может быть разделена на эпохи.
Рассмотрим трагедию Наполеона. Его назначением было утверждение западноевропейской цивилизации. Он означает то же, что Филипп и Александр, которые на месте эллинской культуры создали эллинизм, так что в обоих случаях решающее значение среди поверхностных исторических явлений принадлежит не конвенту и гильотине, не остракизму и голосованиям на агоре, не журнальным и риторическим жестам, характерным для времени Руссо, Вольтера, Аристофана и Сократа, но великим полям сражений, разбросанным по всей Европе, с одной стороны, и территории древнего персидского царства – с другой.
Трагизм жизни Наполеона – еще не раскрытый поэтом достаточно значительным, чтобы его понять и воплотить в художественном образе, – заключался в том, что, расходуя все свои силы на борьбу с английской политикой, служащей наиболее ярким выражением английского духа, он именно благодаря этой борьбе обеспечил победу английского духа на континенте, так что этот дух в лице «освобожденных народов» нашел достаточно сил, чтобы осилить Наполеона и заставить его умереть на о. Св. Елены. Английский дух произошел из пуританства поколения Кромвеля, который призвал к жизни британскую колониальную систему; начиная со сражения у Вальми, значение которого было понято одним только Гете, как это доказывают его знаменитые слова вечером на поле битвы, при посредстве таких по-английски вышколенных умов, как Руссо и Мирабо, английский принцип стал душою революционных войск, которые были увлекаемы вперед исключительно идеями английской философии. Не Наполеон создал эти идеи, но они создали Наполеона, и, когда он взошел на трон, он должен был дать им дальнейшее распространение, борясь с той единственной силой, именно Англией, которая хотелатого же. Его империя есть произведение английского стиля, воплощенное в жизнь французской кровью. Теория «европейской» цивилизации, западного эллинизма, была выработана в Лондоне Локком, Шефтсбери, Кларком и особенно Бентамом и занесена в Париж Бейлем, Вольтером и Руссо. Под Вальми, Маренго, Иеной, Смоленском и Лейпцигом сражались во имя этой Англии парламентаризма, деловой морали и журнализма, и во всех этих битвах английский дух одержал победу – над французской культурой Западной Европы. У первого консула отнюдь не было плана подчинить Западную Европу Франции; скорее, он хотел – мечта Александра на пороге всякой цивилизации! – заменить английское колониальное государство французским и тем самым создать неуязвимую основу для политически-военного превосходства Франции над областью западно-европейской культуры. Получилось бы государство Карла V, в котором не заходило солнце, с центром в Париже – наперекор Колумбу и Филиппу II, – но уже не церковно-рыцарское, а экономически-военное. В этой мере – может быть – в миссии Наполеона была заключена судьба. Но Парижский мир 1763 года уже решил вопрос не в пользу Франции, и грандиозные планы Наполеона каждый раз рушились вследствие какой-нибудь незначительной случайности: в первый раз, у Акры, – благодаря двум вовремя высаженным английским десантам; затем, после Амьенского мира, когда он владел всей долиной Миссисипи вплоть до области Великих озер и завязал сношения с Типпо Сахибом, который защищал тогда Ост-Индию против англичан, – вследствие неудачной морской диверсии своего адмирала, вынудившей его отказаться от тщательно подготовленного предприятия; наконец, когда, затевая новую экспедицию на Восток, он сделал Адриатическое море французским благодаря захвату Далмации, Корфу и всей Италии и вел переговоры с шахом персидским относительно совместных действий против Индии, и эта его затея не удалась благодаря капризу императора Александра, который в иные моменты предпринял бы поход против Индии с несомненным успехом. Только после крушения всех внеевропейских комбинаций Наполеон в своей борьбе против Англии остановился в качестве ultima ratio [11] на присоединении Германии и Испании, стран, в которых его же собственные английско-революционные идеи оказались оружием против своего проводника; тем самым он совершил шаг, который сделал его самого ненужным.
Мы можем рассматривать как исторические случайности то, что мирообъемлющая колониальная система, начало которой было положено испанским гением, могла принять тогда английскую или французскую окраску; и то, что «Соединенные Штаты Европы», которые являлись тогда параллелью царств диадохов и которые в будущем явятся параллелью римской империи, стали благодаря деятельности Наполеона романтической военной монархией на демократической основе, а в XXI столетии благодаря какому-нибудь человеку фактов цезаревского типа станут чисто экономическим фактом. Победы и поражения Наполеона, которые, в сущности, всегда были победою Англии, победою цивилизации над культурой, его империя, его падение, grand nation [12], эпизодические освобождения Италии 1796 и 1859 годов, которые явились не больше чем переменой политического костюма народа, давно утратившего всякое значение, разрушение немецкого государства, этой готической руины, – все это поверхностные явления, за которыми скрывается великая логика подлинной, невидимой истории; это она потребовала тогда перехода западноевропейской культуры, достигшей своего завершения в французской форме, в форме ancien régime [13], – в английскую цивилизацию. Будучи символами тождественных феноменов, Бастилия, Вальми, Аустерлиц, Ватерлоо, возвышение Пруссии соответствуют, следовательно, таким событиям античной истории, как битвы при Херонее и Гавгамеле, царский мир, поход в Индию и рост Рима. Теперь понятно, почему в войнах и политических катастрофах, этих pièce de résistance [14] наших исторических исследований, победа не является существенным моментом борьбы и мир не есть цель политического переворота.
Другим примером может служить обозначаемая именем Лютера неудавшаяся – мы должны это признать – эпоха. Вместо личной деятельности Лютера здесь легко представить себе анонимное развитие – в форме соборов. Савонарола в согласии с французским королем преследовал такую мысль, и многие кардиналы едва ли стали бы мешать занятию им папского престола. Внешнее и внутреннее развитие Лютера случайно совпадает со временем понтификата определенных пап, прежде всего Льва X. Теперь представьте на месте Льва X хотя бы Адриана VI, Как истинный смысл всех битв и декретов Наполеона заключался вовсе не в тех целях, которые он ставил себе и которых достигал, так и все действия Лютера по своему внешнему характеру и реальным результатам нисколько не зависели от более глубоких тенденций воплощенной в нем эпохи. Он мог бы умереть мучеником или папой: ни одна из этих возможностей не была исключена. Но это, скорее, было тем, что греки называли Немезидой, то есть чисто внешней судьбой, касающейся человека, а не идеи. Честолюбивый монах мог бы быть поставлен главою собора; его превращение в дипломатичного папу-реформатора с умеренными взглядами не представляется невероятным. И без того противоречивые настроения и намерения Лютера, окрашенные или ненавистью к себе, или эгоизмом, зависели еще в сильной степени от почтения, оказываемого его личности покровительствовавшими ему князьями, и первоначально его цели не слишком отличались от целей некоторых его современников, в частности от целей последнего немецкого папы Адриана VI. Вполне возможно, что все эти мысли волновали Лютера – ибо что знаем мы о его внутренней жизни? Небольшая вариация способна была тогда изменить всю видимую картину западноевропейской культуры, и церковный раскол казался первоначально совершенно неправдоподобным. В заключение Лютер стал Брутом церкви. Шекспир изобразил тип мечтателя, которому недостает благодати. И это было одной из трагических возможностей развития эпохи – самоуничтожение того, кто ее представляет в действительном мире. Брут убивает Цезаря, Лютер – церковь; оба – во имя теории. Да, Лютерубил церковь. С тех пор она была обречена постоянно обороняться от протестантизма; ее царственная свобода, ее глубокая, в настоящее время нам непонятная либеральность была утрачена навсегда. Она была наивной, теперь она стала мелочно-педантичной. И лютеранство пережило свои Филиппы – в тот момент, когда католический дух в нем создал новую ортодоксию, которая вопреки Лютерову деянию снова и снова оживала в форме пиетизма, рационализма, материализма, анархизма. Вся Реформация, несмотря на свое величие, является только исторической случайностью, той одеждой, в которую облекает себя судьба.
От личности Лютера тянутся тонкие нити назад – к Генриху Льву, и вперед – к Бисмарку, двум другим «случайностям» европейского Севера, в которых нашли себе выражение целые эпохи и которые глубоко родственны друг другу своим торжеством над влечением к Югу, к беззаботности, к упоению (замечательна отчетливая периодичность в 345 лет между символическими актами Леньяно, Вормсом и Кениггрецом). Это доказывает физиогномическую четкость переживания, которая свойственна только западноевропейской душе, с ее глубоким пониманием чистого пространства и истории; параллелью здесь может служить только необычайно прозрачное и логическое построение египетской истории – этого воплощения египетской души.
18.
Кто впитал в себя эти идеи, тот поймет, насколько роковым для переживания подлинной истории должен стать принцип причинности, в своей точной форме свойственный только поздним культурным эпохам, но в тем большей степени оказывающий тираническое влияние на наш образ мира. Кант крайне осторожно выставил принцип причинности в качестве необходимой формы познания. Слово «необходимость» восприняли очень охотно, но оговорка Канта, что применение принципа ограничено только одной областью познания, как раз исключающей современный историзм, была пропущена мимо ушей. В течение всего XIX века старались стереть границу между природой и историей, вернее, поглотить последнюю первою. Чем историчнее хотели мыслить, тем больше забывали, что в этой области вообще нет места для мышления. Насильственно применяя к живому застывшую схему оптически-пространственного отношения, схему причины и действия, тем самым только проводили по чувственной поверхностной картине истории конструктивные линии естествознания, и ни один старческий ум, привыкший к причинному принуждению мысли, не чувствовал глубокой абсурдности науки, которая благодаря методическому недоразумению стремилась понимать становящееся как ставшее. «Целесообразность» была тем боевым словом, с помощью которого цивилизованный дух ассимилировал себе мир. Машина конструирована целесообразно. Вследствие этого она стала полезной. Следовательно, история должна обладать аналогичной конструкцией: на таком умозаключении покоится исторический материализм. Если мы хотим вполне отчетливо пережить подлинное представление судьбы, то мы должны погрузиться в душевную жизнь нашего детства и в мир, окружающий ребенка. Тут сознание целиком наполнено впечатлениями живой действительности, оно демонично, подчинено судьбе, бесцельно в возвышенном смысле, вечно движется, вечно недоумевает, загадочно и сверхприродно по своему содержанию. Здесь действительно есть «время». Здесь над всем властвует фантазия в ее чистом виде, которая сообщает основные черты позднейшей, процеженной, вялой картине истории, в свою очередь заменяющейся подчиненным принципу причинности образом природы цивилизованного человека.
Наука всегда естествознание. Знанию, опыту подлежит только ставшее, протяженное, познанное. Как жизнь принадлежит истории, так наука принадлежит природе – наличным чувственным впечатлениям, понятым как элементы, созерцаемым в пространстве, расположенным согласно закону причины и действия. Может ли в таком случае вообще существовать историческая наука? Припомним, что в каждом индивидуальном образе мира, который только приблизительно похож на идеальный образ, всегда присутствует нечто от обеих областей: природа всегда сопровождается отзвуком жизни, история – отзвуком причинности. Несомненно, в каждой исторической картине есть черты причинности и черты закономерности природы, и на них-то опирается в своих притязаниях всякий прагматизм. Несомненно также, что на впечатлениях этого рода основывается и то чувство, которое действительно случайное противопоставляет судьбе. Как ни странно это звучит, однако случайность в обыденном смысле этого слова внутренне родственна принципу причинности. Их связывает неорганичность, отсутствие и там и здесь направленности. Но и то и другое, по существу, чуждо картине истории; причинность и случай принадлежат поверхности явлений, чувственная пластичность которой пробуждает по крайней мере причинные моменты памяти. Конечно, представление об истории у человека – а вместе с тем и сам человек – является тем более плоским, чем решительнее царит в нем грубая случайность, и, конечно, историческое исследование тем более пусто, чем в большей степени его объект исчерпывается установлением причинных отношений. Чем глубже человек переживает историю, тем более редки у него чисто причинные впечатления и тем несомненнее он ощущает их как нечто лишенное всякого значения. Если мы рассмотрим естественнонаучные сочинения Гёте, то нас поразит, что его изображение живой природы обходится без формул, без законов, что в нем не содержится почти ни следа причинности. Время для него не дистанция, но живое ощущение. Обыкновенный ученый, лишенный живого ощущения и только анализирующий, едва ли обладает даром переживать здесь последнее и глубочайшее. История, однако, требует этого дара; таким образом, оправдывается парадокс, что историк тем значительнее, чем меньше он причастен подлинной науке.
Сказанное может быть охвачено следующей схемой:
19.
Вправе ли мы рассматривать какую-нибудь группу элементарных социальных, физиологических или этических явлений как причину другой подобной группы? Прагматическая история, в сущности, ничего другого делать не умеет. С ее точки зрения это означает постигать историю, углублять историческое познание. В сущности, каждый цивилизованный человек ставит себе практическую цель. Без нее мир казался бы ему бессмыслицей. Во всяком случае, с этой точки зрения совсем не физическая свобода выбора мотивов звучит как нечто комическое. Один избирает в качестве первопричины одну группу, другой – другую; это служит неисчерпаемым источником полемики, и все наполняют свои произведения мнимыми объяснениями хода истории в стиле построений физики. Шиллер дал этому методу классическое выражение при помощи одной из своих бессмертных банальностей, стиха о мировом движении, которое поддерживается «только голодом и любовью». Девятнадцатый век сообщил мнению Шиллера каноническое значение. Тем самым верховным культом стал культ полезного. Во имя века Дарвин принес ему в жертву естествознание Гёте. Несомненно, что жизнь есть развитие в направлении к некоторой практической цели. Средствами для этого служат инстинкт и интеллект. Но существуют ли исторические, душевные, существуют ли вообще живые «процессы». Есть ли у исторических движений, например эпохи Просвещения или Возрождения, что-либо общее с естественнонаучным понятием движения? Когда появилось слово «процесс», с судьбой, во всяком случае, было покончено. Тайна становления была «разъяснена». Логики трагедии до сих пор не было, была только математическая логика. Однако «точный» историк крайне наивен, полагая, будто в картине истории мы имеем следование состояний механического типа, будто оно доступно рассудочному анализу, подобно физическому эксперименту и химической реакции, и будто, следовательно, основания, средства, пути и цели должны образовать осязательную ткань, лежащую на поверхности видимого. Поразительно упрощенная точка зрения. Нужно, однако, признать, что при условии достаточно плоского наблюдателя эта упрощенность оказывается весьма подходящей – для его личности и его образа мира.
Голод и любовь – таковы с этой точки зрения механические причины механических процессов в «жизни народов». Социальная и сексуальная проблемы (обе относятся к физике или химии публичной, слишком публичной жизни) являются, таким образом, само собой разумеющейся темой утилитарных исторических исследований и, следовательно также, соответствующей им трагедии. В самом деле, социальная драма неизбежно становится рядом с материалистическим пониманием истории. То, что в «Избирательном сродстве» было судьбой в высшем смысле слова, в «Женщине с моря» оказывается не более как половой проблемой. Ибсен и все рассудочные поэты наших больших городов остаются в пределах механизма поверхностных жизненных процессов. Они не творят, а конструируют. Они знают только математическую логику, а не логику судьбы. Тяжелая художественная борьба Гебеля всегда являлась только выражением попытки преодолеть элементарность и попросту прозаичность своих скорее научных, чем интуитивных способностей – быть поэтом вопреки им, – отсюда его чрезмерная, совершенно не гетевская наклонность к мотивировке происходящего. Мотивировка означает здесь, у Гебеля, у Ибсена, у Еврипида, желание облечь трагическое – следовательно, живое – в причинную форму. Судьба становится механизмом, физиономия – системой. Геббель говорит в одном месте о винтовом ходе мотивации характера. Казуистика побеждает внутреннее движение. Не вмещающаяся в слова идея, которой проникнуты произведения Гете, закостеневает в практическую тенденцию, в формулу. Таково изменение значения слова проблема, претерпеваемое им при переходе культуры в цивилизацию. В соответствии с этим поэт и историк эпохи цивилизации не подымаются над уровнем партийного политика. Им не хватает внутренней убежденности, глубины, достоинства. В этом отношении любопытно проследить нисходящий путь, ведущий от Гете, в «Эгмонте» которого находятся отдельные сцены большой дипломатической тонкости, к абстрактным рассуждениям Гёббеля и далее – к агитационному спектаклю, составляющему потребность Ибсена и Шоу. Совершенно ясно: в настоящее время исследователи очень далеки от того, чтобы ставить в исторической науке строго морфологические задачи, а поэты – чтобы строить драму как чисто художественное произведение. Культ полезного поставил как здесь, так и там совсем другую цель. Под формой понимают осязательную действительность. Сцена и историческое произведение служат средством для этого. Дарвинизм – правда, бессознательно – внес в биологию политическую окраску. Демократичная подвижность каким-то образом перешла к гипотетической протоплазме, и борьба дождевых червей за существование служит двуногому неудачнику хорошим уроком.
В этом аспекте интеллект одержал победу над душою. В мировых городах нет больше внутренней жизни: она заменилась психическими процессами. Идея судьбы преодолена; есть только механические и физиологические зависимости. Случай есть то, что еще не удалось ввести в физическую формулу. Здесь обнаруживается глубокая противоположность трагедии и эксперимента (который Гете так ненавидел и который делал для него столь ненавистной манеру Клейста). Драмы Клейста, Геббеля, Ибсена, Стриндберга и Шоу суть эксперименты над душой, причем под душой здесь понимается паутинообразное Нечто современной психологии, ассоциационный клубок. Золя создал понятие «экспериментальный роман». В нем идет речь о petits faits [15], из суммы которых человек исчисляется. Интеллект, поставленный на место первоначальной и даже гетевской интуиции, преобразовал чувственно подвижную картину жизни по своему образу, то есть превратил ее в механизм. Таково значение проблемы трагического в понимании этих писателей. Трагическое – это нецелесообразное (Роемер). Трагическое – это целесообразное в том случае, когда нет никакой возможности использовать его для себя (Нора).
Идея первородного греха превратилась в теорию наследственности («Привидения»). Идея благодати означает теперь принцип естественного полового подбора. Попытка «разрешить» проблему сочинением драмы – это лабораторная работа. Мы получаем подтверждение той мысли, что математика принадлежит к области механического. Каждая добропорядочная драма в духе Ибсена заканчивается формулою. Попытка понять жизнь при помощи анатомического и физиологического исследования ганглий, мускульных волокон и белковых соединений и биологическая манера и мания трактовки общественных и экономических вопросов суть родные сестры этой «проблемной» причинной поэзии и помешанной на искании таких же поверхностных мотивов истории наших дней. Вместо судьбы – о которой никто из историков не имеет ни малейшего представления – все они без исключения берутся за социальные и половые «вопросы» и занимаются их «трактованием».
Между тем историкам следовало бы научиться осторожности именно у представителей нашей самой зрелой науки – физики. Ограничиваться плоским применением причинного метода оскорбительно для физики. Это свидетельствует о недостатке духовной дисциплины, широты взора, не говоря уже о глубоком скепсисе, который присущ способу применения физических гипотез. В самом деле, физик, далекий от наивной веры профанов и монистов, рассматривает свои атомы и электроны, токи и поля сил, эфир и массу как образы, формальный язык которых он подчиняет абстрактным отношениям своих дифференциальных уравнений, не ища в них никакой иной действительности, кроме условного символа. И он знает, что на этом, единственно возможном для науки пути достижимо только символическое истолкование механизма рассудочно понятого внешнего мира – не более – и что тут нет никакого «познания» в многообещающем популярном смысле всех дарвинистов и материалистических историков. Познать природу, творение и отражение духа, его alter ego в области протяжения, – это значит познать самого себя.
Подобный же скепсис был бы очень уместен по отношению к чувственному поверхностному образу «органической жизни» и человеческой истории, составляющей только одну из частей ее; однако самопознание, подлинная наивность, удаленность наблюдателя, его незаинтересованность в высшем смысле слова здесь отсутствуют. Если физика является самой зрелой из наших наук, то биология по своему содержанию и методу – самой слабой. Подлинное историческое исследование, именно физиогномика, лучше всего уяснится нам, если мы пробежим гетевские штудии природы. Он занимается минералогией: тотчас отдельные наблюдения сочетаются у него в картину истории земли, в которой его любимый гранит означает то, что я в области человеческой культуры называю изначально-человеческим, – и он открывает ледниковые периоды. Он исследует общеизвестные растения, и явление метаморфозы внушает ему мысль об истории всего растительного мира; он приходит, далее, к тем на редкость глубоким взглядам относительно вертикальной и спиральной тенденции роста, которые еще и сейчас правильно не поняты. Его изучение костей, всецело направленное на наблюдение живого, приводит его к решающему открытию межчелюстной кости у людей и к усмотрению, что череп позвоночных животных развился из шести позвонков. Здесь нет речи о причинности и телеологии. Здесь Гете ощущал необходимость судьбы, что он выразил в своих орфических изречениях. Эти великие намеки не углублены дарвинизмом, а испорчены им. Всюду перед нами чистое, живое становление, которое Гете созерцает в чувственно-наличном образе, а не в форме плоской связи причины и действия, пользы и цели. Голая химия светил, математическая сторона физических наблюдений, специальная физиология не интересуют его, великого историка природы, потому что они являются систематикой, исследованием ставшего, мертвого, застывшего; это именно обстоятельство лежит в основе его полемики против Ньютона. Тут, однако, правы были и Гете и Ньютон: один познавал в мертвом цвете точный, закономерный естественный процесс, у другого, художника, было интуитивно-чувственное переживание; здесь обнаруживается противоположность обоих миров, и я ставлю его теперь во всей его остроте.
Жизнь, история носят признак однократно фактического; природа – постоянно возможного. Поскольку я наблюдаю образ окружающего мира со стороны тех законов, по которым он должен получить свое осуществление, не обращая внимания на то, действительно ли нечто случается или только может случаться, поскольку я наблюдаю, следовательно, вне времени, постольку я – естествоиспытатель, постольку я занимаюсь наукою. Необходимость закона природы – а других законов нет – нисколько не зависит от того, бесконечное ли число раз он осуществляется или, напротив, никогда не осуществлялся; иными словами, она независима от судьбы. Тысячи химических соединений никогда не имели места в действительности и никогда не будут иметь места, но раз доказана их возможность, то они существуют – в системе природы, но не в истории вселенной. История же есть совокупность однократных действительных переживаний. Здесь царит направленность становления, а не протяженность ставшего, то, что однажды было, а не то, что всегда возможно, когда, а не что. Здесь не законы объектов, но идеи, символически раскрывающиеся в явлениях. Дело идет здесь о том, что они означают, а не о том, чем они являются. Специфическая необходимость этой сферы до сих пор никем не была понята и причислялась к необходимостям природы – к необходимостям причинных связей. Физик может доказать, что никакой случайности не существует. Это означает для него следующее: явления исторической текучести, никогда не повторимые события невозможны в пределах механически-рассудочной системы природы; здесь неограниченно царит вневременная причинность; чистота и внутренняя законченность образа природы должны оставаться неприкосновенными. Поскольку я со всем моим теперешним существованием принадлежу природному образу мира, я спрашиваю, к какому виду относится этот цветок, каковы законы его питания, развития, размножения, но меня не интересует, почему он вырос на этом месте и почему я именно теперь его увидел. Я спрашиваю о законах спектрального анализа, но не спрашиваю, почему линия натрия земному глазу кажется желтою. Я спрашиваю о формулах термодинамики, но не спрашиваю, почему в человеческом сознании, отражением которого все же является мир, существуют именно эти, а не иные формулы. Я спрашиваю о расовых признаках эллинов и германцев, но не спрашиваю о значении того, что эти этнические формы возникли именно там и именно тогда. Одно – закон, установленное законом, о смысле и происхождении которого точная наука молчит; другое – судьба. В одном заключена математическая необходимость, в другом – необходимость трагическая.
В действительном бодрственном состоянии переплетаются оба мира, мир наблюдения и мир самоотдачи, как в брабантском стенном ковре основа и уток своим переплетением создают картину. Поскольку каждый закон вообще существует для духа, он должен быть однажды велением судьбы открыт в определенный момент истории духа, то есть должен быть пережит; всякая судьба в свою очередь предстает в какой-нибудь чувственной оболочке – личностях, делах, сценах, жестах, – которая подчинена действию законов природы. В жизни первобытных людей существовало только демоническое единство судьбы; в сознании зрелых культурных людей противоречие того, раннего, и этого, позднего, образа мира никогда не умолкает; у цивилизованного человека трагическое мироощущение заменяется механизированным интеллектом. История и природа противостоят в нас друг другу как жизнь и смерть, как вечно становящееся время и навеки ставшее пространство. В бодрствующем сознании становление и ставшее спорят друг с другом из-за преобладания в образе мира. Высшая и самая зрелая форма обоих точек зрения, возможная только в пределах великих культур, у античной души является в виде противоположности Платона и Аристотеля, у западной – в виде противоположности Гете и Канта: чистой физиогномики мира, созерцаемой душою вечного ребенка, и чистой систематики, познанной рассудком вечного старца.
20.
Здесь я усматриваю последнюю великую задачу западноевропейской мысли, единственную задачу, которая осталась еще не разрешенной стареющим духом фаустовской культуры, задачу, предуказанную всем тысячелетним развитием нашей души. Ни одна культура не вольна избирать путь и характер своей философии; но теперь в первый раз культура может предвидеть, какой путь избрала для нее судьба.
Мне предносится некоторый специфически западный способ исторического исследования в высшем смысле слова; способ этот никогда до сих пор не применялся, и он необходимо должен был остаться чуждым античной и всякой другой душе. Всеобъемлющая физиогномика бытия, морфология становления всего человечества, устремляющегося своими путями к высшим и последним идеям; задача проникновения не только в собственное мироощущение, но в мироощущение всех вообще душ, в которых до сих пор являлись великие возможности, чье воплощение в царстве действительного представляют собою отдельные культуры. Эта философская точка зрения, на которую дают нам право, в которой нас воспитали аналитическая математика, контрапунктическая музыка и перспективная живопись, – выходя далеко за пределы талантов систематика, задач счета, упорядочения, расчленения – предполагает глаз художника, и притом такого художника, который чувствует себя способным всецело растворить окружающий его чувственный и осязательный мир на глубокую бесконечность таинственных отношений: так чувствовал Данте, так чувствовал Гете. Извлечь тысячелетие органической культурной истории из ткани мирового бывания как единство, как личность и понять его в его интимнейших душевных условиях – вот цель. Подобно тому как мы проникаем в знаменательные черты рембрандтовского портрета, бюста одного из цезарей, так новое искусство должно усмотреть и понять великие, трагические, роковые черты в лице целой культуры как человеческой индивидуальности высшего порядка. Как они выглядят у отдельного поэта, пророка, мыслителя, завоевателя – попытки такого познания уже были сделаны, но проникновение в античную, египетскую, арабскую души как целое с целью сопережить их, с целью прикоснуться в них к тайнам человеческого вообще составит новый род «жизненного опыта». Каждая эпоха, каждый великий образ, каждая религия, государство, народ, искусство – все, что в этих областях было, и все, что в них будет, представляет физиогномический момент высшей символики, который знаток людей должен истолковать в некотором совершенно новом смысле слова. Впечатления высшей реальности, языки и сражения, города и расы, празднества Исиды и Кибелы и католические мессы, производство доменных печей и игры гладиаторов, дервиши и дарвинисты, железные дороги и римские дороги, «прогресс» и нирвана, газеты, массы рабов, деньги, машины – все это в одинаковой мере есть знак и символ, выражение сущности души, ее осуществление в образе мира. «Все преходящее есть только символ». Здесь таятся решения и прозрения, о которых никто еще не подозревал. Здесь проясняются темные вопросы, которые лежат в основе глубочайших изначальных человеческих чувств, в основе всякого страха, всякого искания, всякой религии и метафизики и которые были облечены мышлением в проблемы времени, необходимости, пространства, любви, смерти, Бога. Существует величественная музыка сфер, которая хочет быть услышанной, которую некоторые из наших глубоких духов услышат. Физиогномика мирового бывания будет последней фаустовской философией.
Глава III Макрокосм
I. Символика образа мира и проблема пространства
1.
Таким образом, мысль о всемирной истории в строго морфологическом смысле вырастает до значения идеи всеобъемлющей символики. Историческое исследование как таковое ограничивается анализом чувственных качеств текучего образа живой действительности и установкой ее типических форм. Мысль о судьбе есть крайний предел его достижений. Однако это исследование, как бы ни было оно новым и широким в указанном здесь смысле, может составить только фрагмент и основу еще более широкого замысла. Ему равноценно естествознание со столь же фрагментарным и ограниченным кругом своих идей. Здесь же мы касаемся последних вопросов бытия вообще. Все сознаваемое нами в каком бы то ни было образе – душа и мир, жизнь и действительность, история и природа, закон, пространство, судьба, Бог, будущее и прошедшее, настоящее и вечность – имеет для нас еще некоторый более глубокий смысл: все это существует именно так, а не иначе. Единственное и очень внешнее средство постичь это непостижимое, эту тайну, которая может быть только почувствована и в редкие моменты пережита с наглядною отчетливостью, единственное доступное для нас средство передать ее в смутных образах – быть может, только немногим и избранным душам – заключается в новом роде метафизики, для которой решительно все обладает характером символа.
Символы суть чувственно осязаемые единства, последние, неделимые и, главное, появляющиеся помимо нашей воли впечатления с определенным значением. Символ есть кусок действительности, раскрывающий телесному или духовному взору нечто не поддающееся рассудочному истолкованию. Так, например, раннедорический, раннеарабский, раннероманский орнамент на вазе, на оружии, на портале или саркофаге есть наглядное чувственное выражение нового мироощущения, доступного только людям одной-единственной культуры, обособляющего этих людей от остального человечества и объединяющего их. Основой ощущаемого единства культуры является однообразный язык ее символики. Допустим, что все существующее есть выражение душевного начала (а впоследствии мы убедимся в правильности этой мысли), – в таком случае все производит также впечатление на душу, и эта связь, в которой человек является одновременно субъектом и объектом, представляет сущность символического. Это проистекает оттого, что сам человек, и как личность и как масса, также является символом, не только в своей наличной телесности, благодаря которой он принадлежит природной стороне мирового целого и царству причинности – как человек, семья, народ, раса, – но также и благодаря совокупности своей душевной жизни, поскольку она – в историческом аспекте мирового целого – постигает себя самое как судьбу, как становящееся и поскольку она может переживаться нами как судьба и как становление «другого».
Нельзя не признать, что избранный нами метод исследования – метод рискованный и доступный немногим. Те абсолютные отправные пункты, которые в качестве верховного критерия полагают «Я», мышление, природу или Бога и которые из-за их систематичности так излюблены философией, что она, в сущности, не может отрешиться от них, сами являются для нас только символами, объектами, а не руководящими линиями исследования.
У европейца, принадлежащего вершине интеллектуальной городской культуры, сложилось прочное представление об истории, согласно которому она сводится, в сущности, к шести тысячелетиям «всемирной истории» на нашей маленькой планете, а горизонт постепенно теряется в астрономических, геологических и мифологических далях. Это представление есть результат впечатлений нашего бодрственного состояния, картина, из фона которой впервые рождается самосознание западноевропейской души; оно – необходимая для нас форма постижения порядка осуществления всего принадлежащего к сфере реального бытия. Становясь на надежную почву теперь и здесь, мы проникаем взором в прошедшее и будущее. Ничто не кажется нам более реальным, чем эта перспектива.
Однако такое представление незнакомо человеку более ранних эпох. Древние греки и римляне, а также индийцы – мы можем утверждать это на основании бесспорных данных – переживали нечто родственное, но образ их имел очень смутные очертания и совсем другую окраску. Что же, неужели столь ясная и недвусмысленная «всемирная история» есть только наше достояние? Неужели нет исторической действительности, тождественной для всех людей? Неужели она только слово, свободный вымысел, функция отдельной души? Неужели эти непрерывные волны человеческих поколений, сменяющиеся в течение столетий, этот эпизод в возникающих и исчезающих бесчисленных солнечных системах на протяжении миллионов лет, эти давно умершие ландшафты цветущих культур на Ниле, Ганге и Эгейском море – были только грезой фаустовского духа? Припомним, что вся философия с самого своего возникновения утверждала то же самое относительно представления природы, называя его явлением. Человек есть, правда, атом мирового целого, но мировое целое есть в то же время продукт его разума.
Здесь великая тайна человеческого сознания, которую нужно просто принять. Противоречие, обнаруживающееся в ней, не может быть разрешено мышлением. Идеалистические и реалистические учения, называющие один из членов противоречия фактом, а другой – иллюзией, дают только схематическое преодоление тайны; они ее не разрешают.
Душа и мир: этой полярностью исчерпывается сущность нашего сознания, подобно тому как явление магнетизма исчерпывается взаимным отталкиванием двух полюсов. Неужели эта душа, то есть душа каждого отдельного человека, переживающая весь этот мир исторического становления и, следовательно, созидающая его и делающая выражением своего индивидуального бытия, – неужели эта душа с другой точки зрения есть только его крошечный элемент, минутная вспышка в нем? Что такое Цезарь, Рамзес, Валленштейн, как не феномены исторического образа мира, созидаемого высококультурной душой? Существуют ли они также для неисторического сознания ребенка? Останутся ли они «действительно существующими» и в том случае, если все современное человечество вернется снова к примитивному состоянию сознания, какое свойственно было, например, римлянам эпохи Аврелиана? Все «другие» люди, как они являются в образах истории, суть выражение души «одного», будь это великие личности, которые в ранее установленном нами смысле творили эпоху, или же простые, заурядные люди. Все, что эти люди разных исторических эпох мыслили, хотели, делали, все, чем они были, то есть весь становящийся, исполняющий веления судьбы мир, есть знак и символ того, кто его переживает. Тайна нашей судьбы раскрывается в судьбе становящегося вокруг нас или познанного нами как ставший мира. Чуть брезжущая душа ребенка или первобытного человека только предчувствует свой мир. Впервые ясная дневная душа высших культур, познающая и чувствующая себя как упорядоченное единство, то есть именно как «душу», обладает также упорядоченным миром как своим достоянием. В каждый бодрствующий момент своей жизни она из хаоса чувственности чеканит космос символически оформленных объектов, или феноменов, будет ли этот космос носить характерные признаки природы или же, напротив, истории.
Эту действенность мы называем жизнью. Жизнь есть осуществление внутренних возможностей. Каждой душе – душе культуры, народа, класса, с одной стороны, душе отдельной личности – с другой, с момента ее рождения в мир становления и судьбы и до момента ее гибели – свойственно одно неустанное стремление к полному своему осуществлению, к построению своего мира как суммы своих проявлений, стремление отчеканить в осмысленное единство то, что мною было названо чужим, удержать его при помощи ограниченной и совершенной формы и усвоить себе. Законченный и приведенный в систему мир есть излучение, победа души над чуждыми ей силами.
Момент раннего детства, когда как бы по мановению волшебного жезла пробуждается внутренняя жизнь и душа начинает сознавать себя самое, и момент, когда среди ландшафта, заполненного неоформленной человеческой массой, с загадочной силой рождается великая культура, суть явления одного и того же порядка. С этого момента начинается жизнь в высшем смысле слова и – мы вправе сказать – исполнение предначертанной судьбы. Идея жаждет осуществления, и она осуществляется в образе мира; чистая природа, чистая история или одно из бесчисленных сочетаний обоих форм мира суть только возможные способы упорядочения совокупности проявлений души.
2.
Здесь будет речь не о том, чем является мир, но о том, что он означает. Физиогномика, а не систематика есть наша задача. Действительность – мы можем назвать ее миром в отношении к душе – для каждого отдельного человека и каждой отдельной культуры есть проекция направленности в область протяженности; она воплощение внутреннего бытия и сущности – свое, преломленное в чужом; она означает это самое внутреннее бытие. Мир возникает через посредство творческого и бессознательного акта (не «Я» осуществляю возможное, но «Оно» осуществляется через посредство меня как эмпирического лица); он – для меня единственный – возникает вдруг и с совершенной необходимостью из целокупности чувственных и воспроизведенных памятью элементов. Необходимость судьбы, а не причинности царит над бытием души и, следовательно, над ее воплощением в мире ставшего.
Поэтому существует столько миров, сколько существует людей и культур; мнимо единственный, самостоятельный и вечный мир, который каждый считает тем же самым, что и мир других, на самом деле есть всегда новое, однократное и никогда не повторяющееся переживание в бытии каждого отдельного индивидуума.
Далее, мы различаем между переживанием и пережитым, познанием и познанным. Акты однократны и подчинены судьбе; только выполненный результат носит признак механического тождества, проникающего насквозь множество живых актов.
Только в постоянно обновляемом и все же остающемся тем же самым образе мира – этом водопаде, пребывающем спокойным в своем явлении, несмотря на быстрое течение вод, – солнце каждый день и всегда одно и то же и сознательная жизнь – целое, охватывающее следование всех отдельных мгновений. Тождество завершенности в одинаковой мере лежит в основе как «природы», этой крайней ступени предметности, так и «истории» – чистого феномена. Оно есть первое условие всякой символики, которая не может иметь места, раз не сохраняется тождество значения в течение более или менее продолжительного времени.
Шкала постоянно растущей сознательности восходит от начатков детски смутного созерцания, когда не существует еще никакого ясного мира для души и никакой души, сознающей себя самое посреди этого мира, вплоть до высших ступеней чисто духовных состояний, к которым способны только люди вполне зрелых цивилизаций – не культур! – вплоть до сознания как полярной противоположности точного рассудка и совершенно механического мира опыта. Это восхождение есть в то же время развитие символики. Не только когда я воспринимаю мир как ребенок, мечтатель или художник; не только когда я воспринимаю его в бодрственном состоянии, без того напряженного внимания, которое свойственно мыслящему и деятельному человеку, рассматривающему мир с определенной точки зрения (это последнее состояние характеризует сознание даже подлинных мыслителей и людей дела гораздо реже, чем принято думать), но постоянно и всегда, поскольку вообще можно говорить о сознании, то есть о жизни, я сообщаю тому, что вне меня, содержание всего моего существа, начиная от полуфантастических впечатлений от мира и кончая резко очерченным миром причинных законов и чисел, которые над всем господствуют и все себе подчиняют. И даже у царства чисел есть элемент личности. Этим чисто механическим мирам форм присущи, правда, очень общие признаки; они могут подчинить себе образ мира вплоть до полной иллюзии; общее может затмить для нас индивидуальное и, следовательно, символическое – и все же символическое всегда здесь присутствует.
Вот какова идея макрокосма, идея действительности как совокупности всех символов в отношении к какой-нибудь душе. Ничто значительное отсюда не исключено. Все существующее есть также символ. Начиная с телесных проявлений – лица, фигуры, жеста, позы отдельной личности, классов, народов, где символическое всегда явственно сознавалось, – и вплоть до форм политической, хозяйственной и общественной жизни, вплоть до мнимо вечных и общезначимых форм познания, математики, физики все говорит нам о сущности некоторой определенной, и не иной какой-нибудь, души.
Только большее или меньшее родство отдельных миров между собою, поскольку они переживаются людьми одной культуры или одной сферы, делает возможной более или менее точную передачу виденного, испытанного, познанного – то есть облеченного в формы, соответствующие стилю нашего собственного бытия, – при помощи языка и письма, при помощи понятий, формул, знаков, которые в свою очередь являются символами. Тут обнаруживается вечная, но до сих пор мало привлекавшая к себе внимание граница, дальше которой мы не в состоянии иметь действительное общение с чуждыми нам индивидуальностями и правильно понимать проявления их жизни. Степень сходства между мирами форм двух индивидуальностей является решающей инстанцией в вопросе о том, где понимание переходит в самообман. Если нет возможности перенестись в макрокосм другого, то нет и взаимного понимания. Несомненно, что мы можем только очень несовершенным способом вообразить себе индийскую и египетскую душу, раскрывшуюся в людях, нравах, письменах, идеях, постройках, делах. Греки, лишенные исторического чутья, были лишены также всякой способности проникновения в существо чуждой им души. Обратите внимание, с какой наивностью они находили своих собственных богов и свою собственную культуру в богах и культурах всех других народов. Но и мы сами подменяем чужое намерение нашим собственным мироощущением, из которого возникает значение наших слов, когда мы, например, переводим термин «chronos» какого-нибудь античного философа словом «время», пробуждая в себе, таким образом, весь специфически фаустовский комплекс мыслей. Если мы интерпретируем черты египетской статуи, то, нисколько не колеблясь, мы призываем себе на помощь наш собственный опыт. В обоих случаях мы обманываемся. Думать, будто великие произведения искусства всех культур для нас еще живы, будто, значит, они «бессмертны», есть тоже одна из иллюзий, которая поддерживается исключительно тем фактом, что наш дух вследствие глубокого инстинкта здесь постоянно ошибается в пользу своего собственного мироощущения. На этом основано, например, действие группы «Лаокоон» на искусство Возрождения и трагедий Софокла на классическую французскую драму.
3.
Символы есть осуществленная действительность; они принадлежат поэтому к области протяженного. Они – совершившееся, а не совершающееся, даже если они обозначают совершение, даже если они состоят из осмысленных действий или жестов; они, следовательно, имеют твердые границы и подчинены законам пространства. Существуют только чувственно-простраственные (материальные или орнаментальные) символы. Уже слово «форма» обозначает нечто протяженное. Но смысл всех границ – бренность. Нет вечных символов. Даже постоянно встречающиеся знаки треугольника, свастики, кольца как символы изменчивы. Они свойственны многим культурам, но каждый раз они имеют иное значение, и в этом смысле они каждый раз создаются вновь, чтобы вновь умереть. Стоит нам только проследить судьбы античной колонны от эллинского периптера, где она при помощи архитрава поддерживает крышу, и раннеарабской базилики, где она расчленяет внутреннее пространство, вплоть до построек Возрождения, где она служит частным мотивом фасада, и мы почувствуем, что означает перетолкование символа, когда новая культура заимствует его у старой.
Душевная возможность, еще подлежащая осуществлению, называется будущим. Завершенное называется прошлым. Направленность (необратимость) жизни, обозначаемая в языках всех народов словами «время», «судьба», «воля», связывает то и другое в феномене настоящего, в сознании текущего момента. Приоритет совершения над совершившимся подчеркивали уже не раз. Как только совершение закончено, – возможность осуществлена, ее предназначение выполнено. Приближающееся будущее стало спокойным прошлым. Оно стало пространством и вследствие этого подчинилось органическому принципу причинности. Судьба и причинность, время и пространство, направленность и протяженность относятся друг к другу как жизнь и смерть.
Существует загадочная связь между пространством и смертью, которая всегда особенно глубоко ощущалась душами ранних эпох. Религиозная метафизика выражает эту связь отнесением рождения и смерти к миру явлений или верой в то, что с удалением души в царство (причинной) необходимости наступает смерть.
Человек есть единственное существо, которое сознает смерть. У всех других существ, подверженных процессу становления, сознание ограничивается одним только моментом настоящего, который должен казаться им бесконечным; они живут, но они ничего не знают о жизни, как дети в том возврасте, который христианское мировоззрение называет «невинным». Лишь бодрствующий взрослый человек обладает не только становлением, но и ставшим, то есть не только отдельным от окружающего мира бытием, но и памятью о пережитом и опытом о познанном. Для всех других существ жизнь протекает так, что они не чувствуют ее границ, то есть не сознают ее задачи, смысла, продолжительности и цели. Только вместе с полным обладанием пространственной действительностью – миром как излучением души – появляется также великая загадка смерти. Пробуждение внутренней жизни у ребенка часто связывается со смертью кого-нибудь из его родных; между этими моментами существует глубокая и многозначительная связь. Ребенку внезапно становится понятным безжизненный труп, целиком превратившийся в материю, пространство, – в то же самое время он чувствует себя отдельным существом в бесконечном протяженном мире. «От пятилетнего мальчика до меня только один шаг. От новорожденного до пятилетнего ребенка чудовищное расстояние», – сказал однажды Толстой. Здесь, в этот решающий момент бытия, когда человек становится человеком и узнает свое ужасающее одиночество во вселенной, для него выясняется, что его страх перед миром есть страх перед смертью, перед границей, перед пространством. Здесь источник мышления, которое в момент своего возникновения есть размышление о смерти. Всякая религия, всякая философия начинается отсюда. Всякая значительная символика связывает свой язык форм с культом мертвых, с обрядностью похорон, с украшением гробниц. Египетское искусство начинается вместе с появлением храмов в честь умерших фараонов, античное – вместе с орнаментикой погребальных урн, раннеарабское – вместе с катакомбами и саркофагами, западноевропейское – вместе с соборами, в которых ежедневно приносится бескровная жертва, воспоминание о смерти Христовой. Каждая новая культура пробуждается вместе с новой идеей смерти. Около 1000 года в Западной Европе распространилась мысль о конце мира; именно эта эпоха была моментом рождения фаустовской души.
Первобытный человек, в глубоком изумлении перед смертью, захотел заклясть и пронизать всеми силами своего духа мир протяженности, с его неумолимыми и постоянно действующими законами причинности, с его темным всемогуществом, которое постоянно угрожало ему смертью. Этот акт совершается в глубокой области бессознательного, но так как он есть истинный создатель души и мира, их разделения и противопоставленности друг другу, то он обозначает начало индивидуального бытия. Появляются чувство «Я» и чувство мира, и вся внешняя и внутренняя культура есть только развитие и рост человеческого самосознания. С этих пор вещи уже не просто впечатления, свойственные животному и новорожденному; они – обнаружение души. Первоначально они одни определяли свое отношение к человеку, теперь и он определяет свое отношение к ним. Они стали символами человеческого бытия. Так смысл всякой подлинной – бессознательной и внутренне необходимой – символики проистекает из явления смерти, в котором раскрывается для нас сущность пространства. Всякая символика порождается страхом. Она представляет собою защиту. Она – выражение глубокого страха в двояком смысле слова: ее образный язык говорит одновременно и о враждебности и о благоговении.
Все возникшее преходяще. Преходящими являются не только народы, языки, расы, культуры. Через несколько столетий не будет больше западноевропейской культуры, не будет больше немцев, англичан, французов, подобно тому как во времена Юстиниана не было больше римлян. Погибли не массы человеческих поколений, но перестал существовать облик народа, характеризовавшийся единством внешних проявлений. Civis Romanus, один из самых устойчивых символов Древнего мира, существовал в качестве определенного облика только несколько столетий. Всякое искусство смертно, само искусство, а не только его отдельные произведения. Настанет день, когда перестанет существовать последний портрет Рембрандта и последний такт музыки Моцарта, хотя бы даже остались куски раскрашенного полотна и листы, исписанные нотами, – исчезнет последний глаз и последнее ухо, которым был понятен язык этих образов. Преходящими являются всякая мысль, всякая догма, всякая наука, ибо погибают души, в мирах которых их «вечные истины» с необходимостью переживались как вечные. Преходящи даже звездные миры, которые созерцали астрономы на Ниле и Евфрате, ибо наша – также преходящая – коперниковская система мира, рассматриваемая глазами западноевропейского человека и образованная им на основании своего мироощущения, есть совсем иная система.
Таким образом, мысль о макрокосме снова связывается с изречением, которому должно быть посвящено все дальнейшее изложение: «Все преходящее есть только символ».
Так идея макрокосма незаметно приводит нас к проблеме пространства в некотором, во всяком случае, новом и неожиданном смысле. Ее решение – или, выражаясь скромнее, ее истолкование – представляется возможным только в этой связи, подобно тому как проблема времени стала понятнее только в связи с идеей судьбы. Нужно помнить о том, что, если «время» сродни чувству влечения к миру, то пространство близко изначальному чувству страха, поскольку в основе макрокосма лежит намерение к заклятию чуждых сил при помощи формы.
Конечно, «пространство», как и «мир», есть непрерывное переживание отдельного бодрствующего человека, не более. Убеждение, будто это внешнее пространство постоянно, для всех одинаково и тождественно, есть недоказуемый предрассудок. Он господствует вследствие относительной однородности следующих одно за другим пространственных переживаний индивидуума и невозможности понятно выразить в слове отличительные особенности «пространства другого». Соответствующее слово, которое на каждом языке не только звучит иначе, но также обозначает иное, затрудняет объяснение того, что за ним скрывается. Есть ли «пространство» общечеловеческое переживание? Или же переживание какой-нибудь одной культуры? Или даже переживание отдельных лиц?
Подлинная проблема, таящаяся в феномене протяженности, связывается с сущностью глубины – дали или удаленности, – которую абстрактная схема математики называет» третьим измерением» и ставит рядом с длиной и шириной. Наперед можно сказать, что эта троица координированных факторов является ошибочным представлением. Вне всякого сомнения, эти элементы пространственного впечатления неравноценны, не говоря уже о том, что неоднородны. «Длина и ширина», поскольку как переживание они являются единством, а не суммированием, составляют, осторожно выражаясь, форму ощущения. Они представляют изначально свойственное человеку чисто чувственное впечатление. Глубина же представляет собой не впечатление, а проявление; с нею начинается «мир». Эта, само собой понятно, совершенно чуждая математике иная оценка третьего измерения по сравнению с так называемыми двумя другими лежит также в основе противопоставления понятий ощущения и созерцания. Протяжение в глубину превращает первое в последнее. Только глубина есть измерение в подлинном смысле слова; она есть то, что протягивается. Постигая ее, дух активен, постигая другие измерения, – совершенно пассивен. Она есть символ порядка, как его понимает одна определенная культура, порядка, находящего для себя самое глубокое выражение в этом первоначальном и не поддающемся дальнейшему анализу элементе. Переживание глубины – от уразумения этого зависит понимание всего дальнейшего – есть совершенно бессознательный и необходимый творческий акт, при помощи которого «Я», если можно так выразиться, диктует свой мир. Этот акт создает из хаоса ощущений оформленное единство, завершенное, мир, управляющийся законами, подчиненный принципу причинности и, как отражение души, преходящий.
Хотя рассудок, предубежденный теоретическими соображениями, противится высказываемому ниже утверждению, однако нет никакого сомнения в том, что феномен протяжения допускает бесконечное число вариаций; пространство различно не только у ребенка и взрослого человека, у человека близко стоящего к природе и у городского жителя, у китайца и у римлянина, но и у каждого из нас в разное время в зависимости от того, размышляем мы или внимательны, спокойно или деятельно переживаем свой мир. Каждый художник передавал «природу» при помощи красок и линий. Каждый физик – греческий, арабский, германский – разлагал «природу» на последние элементы; почему же все они находили разное? Потому что каждый имеет свою собственную природу, хотя каждый наивно полагает, что она у всех одна и та же; эта наивность спасает наше жизнепонимание, спасает нас самих. Природа есть переживание, которое насквозь пропитано личным содержанием. Природа есть функция данной культуры. Стоит нам только сравнить таких современников, как Гольбейн, Дюрер, Грюневальд, в отношении живописной трактовки ими пространства, и мы почувствуем, что переживание глубины, «пространства», и следовательно, всей природы было у них весьма различным.
Кант думал разрешить кардинальный вопрос, априорен ли этот элемент или приобретается в опыте, при помощи своей знаменитой формулы, которая гласит, что пространство есть форма созерцания, лежащая в основе всех наших впечатлений от мира. Но несомненно, что в «мире» первобытного человека, ребенка и мечтателя этот элемент имеет хаотический, неустойчивый, неопределившийся характер; только высшая душевная организация формирует хаотические впечатления в упорядоченный мир и придает вследствие этого элементу глубины однозначный, символически определенный смысл. Совершенно ясно, что то пространство, которое Кант так уверенно созерцал вокруг себя, когда он размышлял над своей теорией, даже приблизительно не представлялось в таких точных очертаниях его предкам эпохи Каролингов. Но пойдем еще дальше. Величие Канта обусловлено его концепцией понятия «априорной» формы, а вовсе не тем применением, которое он ему дал. Мы уже видели, что время ни в коем случае не есть форма созерцания, что оно вообще не есть «форма» (ибо существуют только экстенсивные формы), – Кант, очевидно, дал ему такое определение, рассматривая его как pendant [16] к пространству. Но тут дело не исчерпывается вопросом, точно ли покрывает слово «пространство» формальное содержание созерцаемого нами мира; нужно считаться еще с фактом, что форма созерцания меняется вместе со степенью удаленности: всякая отдаленная гора «созерцается» как чистая поверхность, кулиса. Никто не станет утверждать, будто мы созерцаем телесность лунного диска. Для нашего глаза луна абсолютно плоская, и только когда мы смотрим на нее в сильный телескоп, то есть искусственно приближаем ее к себе, она все в большей и большей степени приобретает пространственные свойства. Ясно, таким образом, что форма созерцания есть функция расстояния. Тут привходит незаметная, но весьма значительная по своим результатам для образованного человека абстракция, которая вводит нас в заблуждение относительно изменчивого характера этих впечатлений. Кант поддался этому заблуждению. В противном случае он не стал бы проводить различие между формами созерцания и формами рассудка, так как его понятие пространства охватывает и те и другие. Есть мысль, что безусловная, наглядная достоверность простых геометрических фактов доказывает априорность точного пространства, проистекает из уже упомянутого нами популярного представления, будто математика является либо геометрией, либо арифметикой, то есть либо построением, либо счетом.
Но ведь уже и тогда математика Западной Европы далеко перешагнула эту наивную схему, повторяющую античные представления о математике. Если в основу геометрии кладется не «пространство», но бесконечно разнообразные сочетания чисел, среди которых система трех измерений есть только ничем не примечательный частный случай, и внутри этих трансцендентных групп исследуются функциональные образования в отношении их структуры, то при формальной трактовке математических фактов, принадлежащих к области таких экстенсивностей, всякая вообще возможность чувственного созерцания прекращается, и однако очевидность доказательств от этого нисколько не уменьшается. Математика совершенно независима от формы созерцаемого. Спрашивается, что же остается от прославленной очевидности форм созерцания, которые все же, в противоположность математике, связаны с физиологическими условиями зрительных ощущений, коль скоро в мнимом опыте познается искусственное наслоение друг на друга обоих областей.
Исказивши проблему времени путем постановки ее в связь с дурно понятой арифметикой и поведя, таким образом, речь о фантоме времени, которому не хватает живой направленности и которое является, следовательно, только экстенсивной, пространственной схемой, Кант точно так же исказил проблему пространства, связав ее с мировой геометрией. Случаю было угодно, чтобы спустя немного лет после завершения им своего главного произведения Гаусс построил первую неэвклидовскую геометрию; ее существование, таящее в себе внутреннее противоречие, показывало, что есть множество способов строго математического построения протяженности трех измерений, которые все «a priori достоверны», так что невозможно принимать один из них за подлинную «форму созерцания».
Стремление отыскать в формах познаваемой нами природы отражение школьной геометрии древних – а ее именно Кант имел всегда в виду – было грубой ошибкой, непростительной для современника Эйлера и Лагранжа. Конечно, в те моменты, когда мы внимательно наблюдаем природу, на небольших от нас расстояниях существует приблизительное совпадение между оптическим впечатлением и принципами обыкновенной эвклидовской геометрии. Но утверждаемое кантовской философией абсолютное совпадение не может быть доказано ни простым зрительным впечатлением, ни измерительными инструментами. Здесь никогда не может быть достигнута та степень точности, которая необходима, например, для практического решения вопроса, какая из неэвклидовских геометрий является геометрией эмпирического пространства. Когда мы имеем дело с большими масштабами и расстояниями, где переживание глубины всецело господствует над созерцаемым образом, – если перед нами, например, далекий ландшафт, а не чертеж, – то наша форма созерцания в достаточной степени противоречит математике. Неподвижные звезды занимают для нашего глаза другое место в созерцаемом нами пространстве, чем то, в котором они, согласно математическим вычислениям, находятся в теоретически-астрономическом пространстве. В каждой длинной аллее мы видим, что параллельные линии у горизонта соприкасаются. На этом факте основывается перспектива западноевропейской живописи масляными красками, и мы отчетливо чувствуем здесь ее глубокую связь с основными проблемами тогдашней математики. Трудность отыскать принципы этой живописи, относительно которых часто погрешал Брунеллески, доказывает, что они вовсе не так уж прямо заимствованы из геометрии, как это должно бы быть согласно кантовскому учению о ее совпадении с созерцанием. Форма созерцания независима от математики. Но далекий от жизни рассудок, гордый своею абстрактно-геометрическою интуицией, отрицает это, и чистый теоретик, каким был, например, Кант, никогда не знает, что же он в действительности видел.
При своем методе исследования, напряженном абстрактно-теоретическом анализе, Кант оставил без внимания все моменты непроизвольного полусознательного созерцания, которые обыкновенно составляют все содержание нашей жизни. В них «форма» не является чем-то однородным и поддающимся численному измерению; холодное понятие пространства трех измерений не выражает ее даже приблизительно. Непосредственно достоверное переживание глубины, с его бесчисленными нюансами, не поддается никакому теоретическому определению. Вся лирика и музыка, вся египетская, китайская, западноевропейская живопись явно противоречат гипотезе об устойчивой математической структуре переживаемого и созерцаемого нами пространства; это противоречие могло оставаться незамеченным в новой философии только потому, что ни один ее представитель ничего не понимал в живописи. Горизонт, например, в котором и благодаря которому всякий зрительный образ постепенно переходит в завершающую плоскость – ибо глубина возникла в процессе становления и, следовательно, имеет границу, – горизонт не поддается никакой математической трактовке. Каждый мазок кистью пейзажиста опровергает утверждения гносеологии.
Как абстрактные математические единицы «три измерения» не имеют никаких естественных границ. Мы обыкновенно смешиваем их с плоскостью и глубиною переживаемого оптического впечатления, и, таким образом, одно гносеологическое заблуждение порождает другое, именно что созерцаемая протяженность безгранична, хотя на самом деле наш взор охватывает только освещенный фрагмент пространства, границей которого служит граница освещенности, будь это небо неподвижных звезд или освещенная атмосфера. «Видимый мир» есть на самом деле сумма световых границ, ибо зрение обусловлено наличностью отраженного света. Греки, будучи пластическими натурами, на нем и остановились. Только западноевропейское мироощущение выставило в качестве символа и внутреннего постулата жизни идею безграничного мирового пространства с бесконечными системами неподвижных звезд и бесконечными расстояниями, далеко выходящими за пределы всякой оптической представимости; это мироощущение создало внутренний взор, который не может принадлежать никакому человеческому глазу, а людям других культур остается чуждым и недоступным даже в своей идее.
4.
Результат открытия Гаусса, которое совершенно изменило сущность современной математики, сводился, следовательно, не только к доказательству, что существует множество одинаково правильных геометрий пространства трех измерений, из которых дух останавливается на одной какой-нибудь, поверивши в нее, но к доказательству еще и того, что «пространство» вообще не есть простой факт. Существует много видов точного, строго научного пространства трех измерений, и вопрос, какое из них соответствует действительному созерцанию, доказывает только полное непонимание проблемы. Пользуется ли математика наглядными образами и представлениями какиллюстрациями или нет, ее предметом всегда являются совершенно абстрактные системы, формальные миры чисел, и их очевидность тождественна очевидности формальных миров имманентной каузальной логики. Они суть отражения форм рассудка, и поэтому в каждой культуре у них особый стиль. На этом основывается их точная приложимость к рассудочно постигаемой, механической, мертвой природе физики, которая в свою очередь является точно таким же отражением формы духа, только другого порядка. Таким образом, наряду с множеством изменчивых образов созерцания стоит такое же множество окаменелых математических пространственных миров, таящее в себе нечто загадочное. Общее для всех них слово «пространство» постоянно маскировало тот факт, что мнимое постоянство и тождество есть заблуждение.
Итак, иллюзия единого, пребывающего, окружающего всех людей пространства, которое до конца может быть осмыслено в понятиях, должна быть рассеяна, будем ли мы рассматривать его как абсолютное мировое пространство Ньютона, в котором находятся все вещи, или же вместе с Кантом считать одинаково присущей всем людям всех эпох неизменной формой созерцания, которая создает все вещи. Как всякий личный «мир» есть индивидуальное переживание, никогда не исчезающее и никогда не повторяющееся в потоке исторического становления, так этими же чертами характеризуется и всякое пространство, принадлежащее живому человеку. И вся сила творческого проявления отдельной души, которая хочет сформировать свой мир, заключена в сознательном переживании глубины или удаленности, благодаря которой чувственная плоскость – хаос – впервые становится пространством, пространством этой души.
Вместе с этим происходит отделение живого созерцания от математического формального языка и раскрывается тайна возникновения пространства.
Как совершение лежит в основе совершенного, вечно живая история – в основе законченной и мертвой природы, органическое – в основе механического, судьба – в основе причинного закона, объективно упорядоченного мира, так и устремление, направленность есть источник протяженности. Обозначаемая словом «время» тайна совершающейся жизни образует основу того, что, будучи завершено, не столько постигается, сколько намечается для внутреннего чувства при помощи слова «пространство». Всякая действительная протяженность, действительная, поскольку она представляет законченное переживание, приводится в это законченное состояние именно переживанием глубины; и именно эта направленность, протяженность в глубину и вдаль – для глаза, для чувства, для мышления – есть шаг от чувственно-хаотической плоскости к космически упорядоченному образу мира, с таинственно отмечающейся его подвижностью, есть то, что, пребывая в состоянии чистого становления, называется словом «время». Человек ощущает себя – и таково именно состояние действительного бодрствования – в окружающей его со всех сторон протяженности. Стоит нам только проанализировать это первоначальное впечатление мировой упорядоченности, и мы придем к твердому убеждению, что фактически существует только одно истинное измерение пространства, а именно направление от себя вдаль, и что абстрактная система трех измерений есть механическое представление, а вовсе не жизненный факт. Переживание глубины, направленность вдаль протягивает ощущение в мир. Направление жизни не без основания считалось необратимым, и действие этого решающего признака времени сказывается также в принуждении ощущать глубину мира постоянно, как идущую от нас, а не от горизонта к нам.
Если мы с некоторой осторожностью обозначим рассудочную форму причинности как окаменевшую судьбу, то мы вправе будем обозначить пространственную глубину, основу мировой формы, как окаменевшее время. Ибо пространства существуют только для живых людей. Вместе с душою кончается также мир. Я не напрасно провел различение между познанием и познанным, живым актом и его мертвым результатом. Только таким образом может стать понятной сущность пространства.
Если бы у Канта был несколько более острый ум, то он говорил бы не о «двух формах созерцания», но назвал бы время формой созерцания, а пространство – формой созерцаемого, и тогда для него зажегся бы новый свет. Как жизнь приводит к смерти, созерцание – к созерцаемому, так подчиненное судьбе, устремленное вперед время приводит к пространственной глубине. Тут перед нами тайна, изначальный феномен, который не поддается рассудочному анализу и который мы должны просто принять; но его смысл можно чувствовать. Физик, математик, гносеолог знают только завершенное пространство, отражение окаменевшей формы духа. Здесь же показывается то, как пространство становится. Пространство во всех различных видах, в которых оно воплощается для отдельной личности и которые понять до конца мы никогда не будем в состоянии, должно быть знаком и выражением самой жизни, изначальнейшим и самым мощным ее символом.
Чувство этого, быть может, всего лучше будет выражено в следующей дерзкой формуле: «пространство вневременно». Оно есть нечто совершившееся; благодаря тому, что оно есть, оно есть кусок умершего времени, пребывает вне феномена времени. Мы истолковываем – или жизнь истолковывает в нас и благодаря нам – с безусловной, принудительной необходимостью каждый момент глубины. О свободной воле здесь нет больше речи. Припомните, как опрокинутая картина производит на нас впечатление просто раскрашенной поверхности, а нормально повешенная внезапно вызывает переживание глубины. В этот момент осуществляется с творческой силой акт становления пространства; этот момент, когда бесформенный хаос становится оформленной действительностью, мог бы, если его понять до конца, раскрыть ужасающее одиночество людей, каждый из которых обладает этой картиной, этой поверхностью, вдруг ставшей картиной, только для себя. В самом деле, древние ощущали здесь с априорной достоверностью телесность, мы – бесконечное пространство, индусы, египтяне – опять-таки иные виды форм как идеал протяженности. Слова недостаточны, чтобы выразить всю значительность этих различий, которые кладут непереходимую пропасть между мироощущением людей, принадлежащих к различным культурным группам. Их раскрывают только изобразительные искусства, основой которых является мировая форма.
Это принудительное истолкование глубины, которое давит на бодрствующее сознание тяжестью элементарного переживания, обозначает собою в жизни отдельного человека границу между ребенком и отроком, пробуждение внутренней жизни. Переживание глубины есть то, чего недостает ребенку, хватающему луну, лишенному осмысленного внешнего мира и, подобно душе первобытного человека, дремотно погруженному в хаос ощущений. Нельзя сказать, чтобы у ребенка не было никакого простейшего экстенсивного опыта; но у него нет сознания мира, единства переживания в каком-нибудь мире. И это сознание у эллинского ребенка формируется иначе, чем у индийского или западноевропейского. Оно определяет его принадлежность к определенной культуре, члены которой обладают одним и тем же мироощущением и созданною этим мироощущением структурой мира. Глубокое тождество связывает оба эти акта: пробуждение души (внутренней жизни), ее рождение к ясному бытию во имя определенной культуры и внезапное постижение дали и глубины, рождение внешнего мира посредством символа протяженности, рождение определенной пространственности, присущей только этой душе, – пространственности, которая с этого момента остается в качестве, основного символа этой жизни и сообщает ей свой стиль, намечает ее историю как непрерывное экстенсивное осуществление интенсивных возможностей. Здесь находит себе разрешение старый философский вопрос: этот изначальный образ мира врожден, поскольку он есть изначальное достояние души (культуры), к проявлениям которой принадлежим мы сами, принадлежит факт нашего индивидуального бытия; он приобретен, поскольку каждая отдельная душа еще раз повторяет для себя этот творческий акт и раскрывает в раннем детстве предопределенный ее бытию символ глубины, как вылупляющаяся из куколки бабочка распускает свои крылья. Первое постижение глубины есть акт рождения – акт в такой же степени душевный, как и телесный. В этом акте из родного ландшафта рождается культура; в самом деле, внезапное появление дорической, арабской, готической пространственной символики свидетельствует о рождении некоторой новой души. В этом глубочайший смысл греческого мифа о Iиe и темного чувства первобытных народов, возвращающих своих покойников матери-земле в скорченном положении (в форме эмбриона). Это рождение целой культуры, пока совершается ее круг, повторяется каждой отдельной душой. Платон, знакомый с первобытной религией греков, назвал такое повторение воспоминанием. Безусловная определенность мировой формы, которая внезапно является в душе, находит свое объяснение в факте становления, между тем как систематик Кант, со своим понятием априорной формы, при истолковании того оке явления исходит из мертвого результата, а не из живого акта.
Итак, характер протяженности должен быть назван изначальным символом данной культуры. Весь ее язык форм, вся ее физиономия, отличающая ее от всякой другой культуры, и прежде всего от лишенного физиономии мира первобытного человека, выводится отсюда. Если данный мир существует только в отношении к данной душе, как ее отражение и ее противоположность в сознании, если пробуждение внутренней жизни совпадает с непроизвольным и необходимым толкованием глубины совершенно определенного типа, то существует также нечто, лежащее в основе каждого отдельного символа данной культуры и служащее для него образцом.
Но сам изначальный символ не может быть реализован и не может быть даже определен. Он проявляется в чувстве формы, свойственном каждому человеку и каждой культуре; он диктует нам стиль всех проявлений нашей жизни. Он заключен в государственном строе, в религиозных догмах и культах, в школах живописи, музыки и пластики, в стихе, в основных понятиях физики и этики, хотя они и не дают нам его наглядного изображения. Его, следовательно, нельзя точно выразить также и при помощи слов, ибо язык и формы познания сами суть производные символы. Гете и Платон назвали его – хотя не совсем в таком смысле – «идеей», которая непосредственно созерцается в действительности, но, будучи вечной и недостижимой возможностью, никогда не познается. Кант и Аристотель, впадая в почти неизбежную для систематиков ошибку, хотели рассудочно изолировать его в акте познания.
Если мы впредь будем обозначать изначальный символ античной души, античного мира как материальное отдельное тело, а символ западноевропейской души – как чистое бесконечное пространство, то мы отнюдь не вправе упускать из виду, что понятия никогда не выражают того, что по природе своей непонятно, и что они способны пробудить только чувство понятности. Даже математическое число, при помощи которого было впервые установлено различие языка форм отдельных культур и из которого Кант пытался вывести качество истолкования глубины, не есть сам изначальный символ. Число как принцип, ограничивающий протяжение, уже предполагает переживание глубины; и если классической проблемой древних была квадратура круга, то есть сведение к измеримым величинам плоскостей, ограниченных кривыми линиями, а классической проблемой нашей математики является установление предела в дифференциальном исчислении, то тут с полной отчетливостью обнаруживается различие двух изначальных символов, хотя ни один из них не является непосредственным объектом этих проблем.
Чистое безграничное пространство есть идеал, который западноевропейская душа непрестанно искала в окружающем ее мире. Она хотела видеть его непосредственно осуществленным, и только это стремление сообщает бесчисленным теориям пространства последних столетий глубокое значение симптомов определенного мироощущения независимо от их сомнительных результатов. Их общая тенденция может быть выражена следующим образом: существует нечто, обладающее формирующей силой и необходимо лежащее в основе индивидуальных переживаний мира. Все авторы этих теорий, в большей или меньшей степени уподобляясь Канту, подчинили это рассудочно вообще неопределимое и, несомненно, крайне изменчивое нечто математическому понятию пространства и без всяких доказательств предположили, что их тезис значим длявсех людей. Что означает пафос этого утверждения? Едва ли какая-либо другая проблема была столь серьезно продумана, так что создалось впечатление, будто всякий другой мировой вопрос зависит от вопроса о сущности пространства. Но так ли это на самом деле? Почему же тогда никто не заметил, что вся античность не обмолвилась об этом ни одним словом и, более того, у нее не было даже слова для точного выражения проблемы? Почему об этом молчали великие досократики? Неужели они проглядели в своем мире как раз то, что для нас представляется загадкой всех загадок? Разве мы не должны были давно уже усмотреть, что решение заключается как раз в этом умолчании? Как происходит, что для нашего глубочайшего ощущения «мир» есть не что иное, как рожденное переживанием глубины совершенно своеобразное мировое пространство, чистая, выпуклая пустота которого только утверждается теряющимися в нем системами неподвижных звезд? Можно ли бы было сделать понятным это ощущение мира афинянину, например Платону? Позволил ли бы это греческий язык, грамматика и словарь которого совершенно отчетливо выражают свое античное переживание глубины? Для нас внезапно обнаруживается, что та «вечная проблема», которую Кант трактовал во имя человечества со страстностью символического акта, есть только западноевропейская проблема и духу других культур совершенно не свойственна.
Что же в таком случае представлялось античному человеку, с его несомненно ясным взглядом на окружающий его мир, основною проблемою всего бытия? Проблема «архе», материального первоисточника чувственно-познаваемых вещей. Если мы поймем это, то мы близко подойдем к смыслу факта – не смыслу пространства, но смыслу вопроса, почему проблема пространства с роковой необходимостью должна была стать проблемой западноевропейской души, и только ее одной. Миры чисел, как они были развиты в обоих культурах, делают это совершенно ясным. Античная душа формировала ставшее в упорядоченный мир чувственно измеримых величин. Этот факт, до сих пор не познанный, лежит в основе знаменитой аксиомы о параллельных линиях Эвклида, единственного из положений античной математики, которое осталось недоказанным и которое, как мы теперь знаем, недоказуемо. Но именно поэтому оно является догматическим среди всего априорного опыта и метафизическим центром, носителемгеометрической системы древних. Все другие положения – аксиомы и постулаты – суть только предварительное разъяснение или следствие. Оно одно необходимо и общезначимо для античного духа – и все же недоказуемо. Что это значит?
Это значит, что оно есть важнейший символ. Оно изображает своеобразное бытие, предопределенную структуру античного внешнего мира, античный идеал протяженности. Именно это теоретически слабейшее – по необходимости слабейшее – положение платоновской геометрии, против которого уже в эллинистическое время были выдвинуты возражения, раскрывает античную душу, и именно с этим самоочевидным для популярного опыта положением вступило в противоречие западноевропейское математическое мышление. Это глубочайший симптом нашего бытия, что мы, исходя из нашего ощущения числа, противопоставляем эвклидовской геометрии не одну, но множество других, которые для нас – но не для античного человека – одинаково истинны, одинаково непротиворечивы. Подлинная тенденция и символика этой противоэвклидовской группы геометрий6 заключается в том, что они отрицали телесно осязательный момент всякой протяженности, тот самый, который Эвклид в своих положениях назвал священным, и создали новый идеал, независимый от чувственности и переходящий границы зрительной способности, идеал пространственности высшего порядка, возвышающейся над популярно-наглядной очевидностью и не знающей поэтому одного-единственного точного решения проблемы. Вопрос, какая из трех не эвклидовских геометрий «правильна», какая из них есть геометрия внешней действительности – хотя он подвергся серьезному исследованию самого Гаусса, – есть вопрос античного мироощущения; его не следовало бы поэтому ставить мыслителю нашей эпохи. Он делает невозможным проникновение в истинный глубокий смысл этого духовного феномена. Специфически западноевропейский символ заключается не в реальности той или другой геометрии, но в одинаковой возможности множества геометрий. Подлинная бесконечность возможностей представляется только группой этих пространственных структур трех измерений, во множестве которых античный нюанс является только одной из возможностей, образует простую случайность; благодаря этой группе остаток пластически-чувственного разрешается в чистое ощущение пространства. Приписывание абстрактному пространству одной какой-нибудь структуры – в особенности той, которая является результатом привычного оптического образа, – изобличает все еще статуарную, а не контрапунктическую тенденцию; только изменчивое множество исключающих друг друга пространств, из которых мы не вправе выбрать ни одного, во всей его трансцендентной целостности, доставляет нам удовлетворение. Новейшее геометрическое умозрение идет еще дальше, за пределы этих групп, и строит большое число дальнейших, еще более трансцендентных геометрий, которые отчасти приближаются к оптически доступным. Все они свободны от каких-либо внутренних противоречий; их «множество» – в смысле учения о множествах – означает некоторое «число», изображающее очень трудно постижимый символ западноевропейского мироощущения.
Здесь чувство формы западноевропейской математики выражает то же самое, что хотела сказать гносеология Канта своим убеждением, что пространство a priori лежит в основе существования вещей. Убеждение это резко противоречит результатам арабской и индийской гносеологии; его истинный смысл тот, что «пространство» есть творец, а все материально-наличное есть его создание. Именно эта всемогущая пространственность, которая поглощает в себя субстанцию всех вещей, которая всех их порождает из себя, подлиннейшая и величайшая реальность в аспекте нашей вселенной, – эта самая реальность единогласно отвергалась древними как «to mē on», как то, чего нет; античный мир не знает даже слова и, следовательно, понятия «пространство»7. Мы совершаем ошибку, понимая пафос этого отрицания недостаточно глубоко. Им символически выражалась вся страстность античной души, с которой она отграничивала себя от того, что она не воспринимала как действительное, что не имело права быть выражением ее бытия. Нашим глазам внезапно открывается мир совсем другой окраски. Аттическая мраморная статуя в своем чувственном бытии представляет для античного глаза без остатка все то, что называется действительностью. Материальное, с видимыми границами, осязаемое, непосредственно наличное – такими признаками исчерпывается этот вид завершенного. Античная вселенная, космос, упорядоченное множество всех близких и вполне обозримых вещей замыкается телесным небосводом. Этой вселенной больше нет. У античного мироощущения совершенно отсутствовала наша потребность мыслить «пространство» также и за пределами этой чаши. «То mē on» есть решительное противоречие западноевропейскому ощущению, которое требует именно этого чистого, необходимо бесконечного, «абсолютного» пространства, признает его действительностью, единственным подлинным бытием и, напротив, подвергает сомнению античную пластическую, абсолютную материальность объектов. «Материя» есть тот род ощущения, от которого западноевропейский дух хочет всячески освободиться: философски, физически, религиозно. Наше Божество есть вечное пространство – это убеждение лежит в основе мышления всех великих представителей западноевропейской культуры, от Данте до Канта и Гете. Вещи суть явление – не больше, – обусловленное пространством, сомнительное – «to mē on». Нетрудно убедиться, что в XVIII веке Бог и бесконечное пространство стали для чувства попросту тождественными. Фаустовское вездесущее Бога, которое начиная с крестовых походов со все возрастающей ясностью царит над образом мира, и учение, что пространство есть форма, порождающая объективные явления, приводят к одному и тому же внутреннему переживанию. Если мы станем искать понятие субстанции, которое было бы диаметрально противоположным античному, то мы с неизбежностью должны будем остановиться на понятиях западноевропейской физики. Масса определяется ею как постоянное соотношение силы и ускорения. Можно ли мыслить «нематериальнее»? Античным понятиям материи и формы, то есть оптическим принципам телесного бытия, мы противопоставили совершенно не наглядные понятия емкости и интенсивности, в которых находит свое формальное выражение энергия чистого пространства. Из этого способа постижения действительности необходимо проистекло господство искусства инструментальной музыки великих мастеров XVIII века, ибо музыка есть единственное из всех искусств, формальная сторона которого внутренне родственна интуиции чистого пространства. Статуям античных храмов и площадей она противопоставила бесплотное царство тонов, пространства тонов, море тонов; в оркестре разбиваются волны, растут приливы и отливы; он живописует дали, свет, тени, бури, несущиеся облака, молнию, совершенные цвета потустороннего мира; припомните ландшафты инструментальной музыки Глюка и Бетховена. «Одновременно» с каноном Поликлета, сочинением, в котором великий скульптор изложил строгие правила оптического расчленения человеческого тела, правила, остававшиеся в силе вплоть до Лисиппа, был завершен около 1740 года строгий канон четырехчастной сонатной формы, который начинает нарушаться только в поздних квартетах и симфониях Бетховена, пока наконец не лишается всякой земной осязательности в отрешенном, «дифференциальном» мире звуков «Тристана». Это изначальное чувство отрешения, избавления, растворения души в бесконечном, освобождение ее от всякой материальной тяжести постоянно вызывалось высшими достижениями нашей музыки, между тем как действие античных произведений искусства является связывающим, ограничивающим, усиливающим ощущение телесности, как это можно читать между строк в поэтике Аристотеля. Это самое чувство было облечено гносеологией в сухую формулу: «пространство есть априорное условие чувственных явлений».
Для античного духа существовал только «промежуток» между вещами, у которого не хватало момента действительности, присущего слову «пространство». Только новая геометрия (Гильберт, Пеано) замечательным образом открыла метафизическое содержание этого «между». От Архимеда, для которого существовали только тела и расстояния между ними, мы услышали бы изумленный вопрос, каким образом находящийся в здравом рассудке человек мог дойти до такого нелепого воплощения ничто, каким является допущение чистого пространства, проникающего все вещи и обесценивающего их реальность?
5.
Таким образом, каждая из великих культур выработала тайный язык своего мироощущения, вполне понятный только тому, чья душа принадлежит этой культуре.
В самом деле, не станем себя обманывать. Мы, может быть, в состоянии случайно прочесть кое-что в античной душе, язык форм которой был почти обратным языку западноевропейской души (в какой степени это возможно и достижимо – с разрешения этого трудного вопроса должна начинать всякая критика Возрождения). Но когда мы слышим, что, вероятно – понимание таких чуждых нам проявлений бытия при всех обстоятельствах остается крайне сомнительным, – древние индийцы придумали числа, которые, по нашим понятиям, сами по себе не имеют ни ценности, ни величины, ни качественности и только благодаря своему положению, благодаря присоединению к чему-либо другому становятся положительными, отрицательными, большими и малыми единицами, то мы вынуждены признать, что наше мышление лишено способности испытать то самое душевное переживание, которое лежит в основе этого феномена числа. Число 3 всегда для нас нечто, будет ли оно положительным или отрицательным; для грека оно, несомненно, было величиною, +3; для индийцев оно обозначает голую возможность, к которой слово «нечто» еще неприложимо, возможность, которая находится по ту сторону бытия и небытия, ибо и то и другое суть акциденциальные свойства. Числа +3, – 3, 1/-3 суть эманирующие действительности низшего порядка, которые покоятся в загадочной субстанции (3) способом для нас совершенно недоступным. Только браманская душа ощущает эти числа как нечто само собой понятное, как идеальные символы некоторой законченной мировой формы; для нас они столь же непонятны, как нирвана системы йогов, которая пребывает по ту сторону жизни и смерти, сна и сознания, страдания, сострадания и бесстрастия и все же есть нечто действительное, для чего у нас недостает словесных возможностей. Только из этого душевного начала могла родиться величественная концепция ничто как действительного числа, мог родиться нуль, именно индийский нуль, – его обозначения на других языках все одинаково являются внешними. Естественно, что этот нуль совершенно отсутствовал у древних, – тот самый, что может быть, является предчувствием индийской идеи протяженности, пространственности мира, о которой трактуется в Упанишадах и которая совершенно чужда нашему сознанию пространства. Будучи включен в состав арабской математики и приобретя совершенно другой смысл, он был введен у нас Штифелем в 1544 году. При этом сущность его подверглась принципиальному изменению, ибо он стал обозначать середину между +1 и – 1, отрезок в линейной непрерывности чисел, иными словами, он был ассимилирован западноевропейской системой чисел в совершенно неиндийском смысле.
Когда арабские мыслители эпохи расцвета – первоклассные умы, такие, например, как Аль-Фараби и Аль-Каби, – в своей полемике против аристотелевского учения о бытии доказали – доказали, – что тело как таковое для своего существования не предполагает необходимо пространства и что сущность этого пространства, то есть арабская разновидность протяженности, выводится из признака «нахождения на каком-нибудь месте», то это еще не доказывает, что они, в противоположность Аристотелю и Канту, впали в заблуждение или – мы охотно называем так то, что не вмещается в наши понятия, – что они неясно мыслили, но свидетельствует лишь о том, что арабский дух обладал другими категориями мира. Исходя из своего круга понятий, они могли бы с такой же тонкостью и доказательностью опровергнуть Канта, с какой Кант опроверг бы их, причем и они и Кант остались бы пребывать убежденными в правильности своих точек зрения.
Когда мы, люди западноевропейского духа, говорим о пространстве, то мы, конечно, мыслим приблизительно в одинаковом стиле, пользуемся одним и тем же языком и одними и теми же словесными обозначениями, идет ли речь о пространстве математики, физики, живописи или о «действительности», хотя всякое философствование, которое вместо этой родственности ощущения хочет (и должно) доказать его тождество, всегда остается крайне сомнительным. Но ни один эллин, ни один китаец не испытал бы здесь нашего ощущения, и никакое произведение искусства или система мысли не могли бы ему показать, что означает для нас «пространство». Основные античные понятия, выросшие из совсем иной внутренней жизни, «archē», «hylē», «morphē», исчерпывают содержание иначе построенного мира, который остается нам чуждым и далеким. То, что мы при помощи наших языковых средств переводим с греческого терминами «первоначало», «материя», «форма», есть только грубая приблизительность, слабая попытка проникнуть в такую сферу ощущений, которая, что касается ее тонкостей и глубин, все же остается для нас чужой; эта попытка равносильна попытке «переложить» на музыку скульптуры Парфенона или отлить из бронзы вольтеровского Бога. Категории мышления, жизни, сознания мира столь же различны, как черты лица отдельных людей; и в этом отношении существуют «расы» и «народы», общества, обладающие определенной духовной формой или идеей; они так же мало знают об этом, как мало знают о том, какими являются для другого «краснота» или «желтизна»; иллюзия тождественной внутренней жизни и тождественной формы мира питается общей символикой, и прежде всего общей символикой языка. Великие мыслители отдельных культур в этом отношении подобны лицам, страдающим цветовой слепотой, которые не подозревают о своей слепоте и каждый из которых смеется над заблуждениями другого.
Теперь я делаю из всего сказанного вывод. Существует множество изначальных символов. Переживание глубины, благодаря которому создается мир, благодаря которому ощущение протягивается в мир, испытывается душою, которой оно принадлежит, и только ею одною, иначе в состоянии бодрствования, иначе во время сна, иначе при восприятии и наблюдении, иначе у ребенка, иначе у старика, иначе у горожанина, иначе у крестьянина, иначе у мужчины, иначе у женщины; оно осуществляет с глубочайшей необходимостью для каждой высшей культуры определенную возможную форму, на которой покоится все ее существование, взятое в целом. Все понятия таких формальных единиц, как масса, субстанция, материя, вещь, тело, протяжение и тысяча слов соответствующего значения, принадлежащих языкам других культур, суть бессознательные, определенные судьбой образы, извлекаемые из бесконечного множества мировых возможностей во имя отдельной культуры. Ни один из них не является вполне понятным для познавательной способности другой культуры. Ни одно из этих основных слов не повторяется два раза. То, что для нас является противоположностью, например, то, что мы обозначаем словами «пространство» и «материя», для другого духа может быть тождественным. Выбор изначального символа в то мгновение, когда душа какой-нибудь культуры пробуждается к самосознанию в определенном ландшафте, мгновение, которое заключает в себе нечто потрясающее для каждого, способного рассматривать всемирную историю с этой точки зрения, – такой выбор предрешает все. Скудная проблема пространства критической философии возвышается здесь до идеи макрокосма, в которой все закончившее процесс становления связывается для человека данной культуры в некоторое своебразное единство формы и значения.
Человеческая культура как совокупность чувственных проявлений души, как ее плоть смертна, преходяща, подчинена закону, числу и причинности; культура как исторический феномен, как отдельный образ в образе мировой истории, как совокупность однородных символов – это язык, при помощи которого только одна-единственная душа может выражать то, что она испытывает.
Повсюду живое душевное начало, которое находится в процессе вечного осуществления, есть первоначальное. Но оно остается непостижимым. Всякая интуиция, к какому бы роду она ни относилась, направлена только на отражения и символы, которые, говоря о последнем и глубочайшем, еще плотнее окутывают его непроницаемыми покровами. Вечно душевное навсегда остается для нас закрытым; здесь положена граница, которую никогда не возможно будет перейти. На пути истолкования макрокосма мы никогда не достигаем до гипотетической перводуши, а находим только образы отдельных душ. Первофеномен остается единственным. Культуры суть последняя доступная нам действительность. Пусть они будут названы явлением, – для нас не существует ничего более действительного. «Мир» как абсолют, как вещь в себе есть предрассудок. На пути морфологии мы достигаем только впечатлений от отдельных миров, проявлений отдельных душ; вера, которую и сегодня еще физик и философ разделяют с толпой, будто их мир есть подлинный мир, скоро будет напоминать нам веру дикарей, будто все боги черные.
Макрокосм также есть достояние отдельной души, и мы никогда не узнаем, каков макрокосм других людей. Мы не знаем, что хочет сказать «пространство», – это творческое истолкование переживания глубины при помощи нас, людей Запада, нас одних, ибо мы переступаем здесь границы возможного рассудочного объяснения. Этот загадочный символ, который греки называли «ничто», а мы – вселенной, окрашивает наш мир в такой цвет, какого ни античная, ни индийская, ни египетская душа не имели на своей палитре. Одна душа играет переживание мира в ля-бемоль мажор, – другая – в фа-диез минор; одна ощущает его по-эвклидовски, другая – контрапунктически, третья – магически. От чистого аналитического пространства и от нирваны до осязательной аттической телесности ведет множество усложняющихся по своему чувственному содержанию символов, каждый из которых способен образовать из себя совершенную мировую форму. Каким далеким, редкостным, скоротечным был по своей структуре индийский или вавилонский мир для людей пяти или шести последующих культур! Таким же непонятным скоро станет западноевропейский мир для людей, принадлежащих еще не рожденным культурам.
II. Аполлоновская, Фаустовская, магическая душа
6.
Душу античной культуры, которая избрала в качестве идеального типа протяженности чувственно-наличное отдельное тело, я буду называть аполлоновской. Со времени Ницше это наименование понятно каждому. Ей я противопоставляю фаустовскую душу, изначальным символом которой является чистое безграничное пространство, а «телом» – западноевропейская культура, расцветшая в X столетии вместе с рождением романского стиля на северных равнинах между Эльбой и Тахо. Аполлоновскими являются статуи обнаженных людей, фаустовским – искусство фуги. Аполлоновскими являются механическая статика, чувственные культы олимпийских богов, политически разобщенные греческие города, участь Эдипа и символ фаллоса; фаустовскими – динамика Галилея, католически-протестантская догматика, великие династии эпохи барокко, с их кабинетной политикой, судьба Лира и идеал Мадонны – от дантовской Беатриче до заключения второй части «Фауста». Аполлоновской является живопись, ограничивающая отдельные тела при помощи резких линий и контуров; фаустовской – живопись, изображающая пространство при помощи светотени. Именно таково отличие между фреской Полигнота и картиной масляными красками Рембрандта. Аполлоновским является бытие грека, который свое «Я» называет «телом» и говорит об «телесном имени» как об имени человеческой личности и у которого отсутствует идея внутреннего развития, а следовательно, также действительная внутренняя или внешняя история; это эвклидовское, рельефное, совершенно чуждое рефлексии существование; фаустовским, напротив, является бытие, исполненное глубокого самосознания, созерцающее себя самое, культура личности, получившая свое выражение в мемуарах, размышлениях, исповедях. Стереометрия и анализ, массы рабов и динамомашины, стоическая атараксия и социальная воля к власти, гекзаметр и рифмованные стихи – вот символы бытия двух кардинально различных миров. В эпоху Августа в местности между Евфратом и Нилом, заимствуя и наследуя формы далеких культур, но перетолковывая их по-своему, пробуждается магическая душа арабской культуры, с ее алгеброй и алхимией, мозаиками и арабесками, халифатами и мечетями, священным ритуалом и «кизметом».
Пространство – я говорю теперь на фаустовском языке – есть абстракция, резко отграниченная от чувственных впечатлений данного момента; в аполлоновском языке, греческом и латинском, она не могла иметь для себя соответствующего термина. Равным образом пространство чуждо аполлоновским искусствам. Античный рельеф – например на метопах и фронтоне Парфенона – чисто стереометрически наложен на плоскость. В нем существуют расстояния «между» фигурами, но нет никакой глубины. Напротив, ландшафт Лоррена есть только пространство. Все частности должны здесь служить утверждаемому пространству. Все тела обладают только атмосферным, перспективным значением», как носители света и тени. Импрессионизм есть обесценение телесности в пользу пространства. Это мироощущение фаустовской души должно было привести ее в пору ее младенчества к архитектурной проблеме сводчатого покрытия мощного собора, устремляющегося ввысь от портала до глубины хоров. Таково было обнаружение ее переживания глубины. Напротив, античная – телесная – архитектура вполне исчерпывается типом периптера, могущего быть охваченным одним взором, и крайне материальным фактом «трех ордеров колонн». То же самое мы будем находить повсюду. К какому бы обнаружению обе души ни стремились в искусстве, религии, политике, мышлении, поступках, язык достигнутых ими форм всегда является символом осязательного единичного тела в одном случае и бесконечного пространства – в другом.
Античная культура начинается поэтому с величественного отречения от наличного богатого, живописного, крайне сложного искусства, которое не могло быть выражением ее новой души. Возникшее около 1100 года раннедорическое искусство геометрического стиля кажется рядом с крито-микенским суровым и простым, на наш взгляд даже бедным и отсталым. Доказательством служит гомеровский эпос. В его представлении щит Ахилла, микенской работы, со множеством изображений, происходит «от богов»8; панцирь же Агамемнона, строгий и простой, выкован людьми. Стремление к бесконечному таилось в глубине северного ландшафта задолго до того, как в нем появился первый христианин; и, когда пробудилась фаустовская душа, она одинаково пересоздала в духе своего основного символа и древнегерманское язычество и восточное христианство как раз в тот момент, когда из текучих народностей готов, франков, лангобардов, саксов вышли физиономически строго характеризованные единства немецкой, французской, английской и итальянской наций. «Эдда» сохранила нам это раннее религиозное выражение фаустовской души. Она получила внутреннюю законченность как раз в тот момент, когда аббат Одилон из Клюни начал движение, преобразовавшее магическое восточно-арабское христианство в фаустовскую западную церковь. Около 1000 года перед фаустовской религией открывались две возможности: принять и пересоздать магическое христианство отцов церкви или сообщить дальнейшее развитие германским формам. Доказательством существования этой второй возможности служит «Эдда». Валгалла была создана под впечатлением классиков и Апокалипсиса, несомненно, в эпоху после Карла Великого. Фригга – Мария, Сигурд – Спаситель. Стихи «Эдды» изображают мировое пространство. Мы не находим ни в одной поэзии более мощной картины сокрушения всего телесно-ограниченного бытия. Античный эолийски-дорический эпос представляет без условное утверждение чувственного мира бесчисленных единичных вещей и погружение в этот мир. Бесконечное пространство, которое благодаря своему трансцендентному пафосу требовало преодолены именно этого наивного мира, пространство, которое не дано глазу, но должно быть завоевано, создал для себя высокую поэзию силы, не связанной ничем воли, стремления преодолевать и ломать препятствий Сигурд есть воплощение победы западной души на, ограниченностью материи и наличных вещей. Никогда не существовало ритма, который раскрывал бы таки необъятные пространства и дали, какие раскрывай этот северный ритм:
Идти к несчастью – и беспредельно — Мужи и жены на свет родились, И мы – мы оба – пребудем вместе, Я и Сигурд.(Перев. В. Верховского).
Ударения гомеровского стиха – это легкий шелест листьев в солнечный полдень, ритм материи: аллитерация и рифма, подобно потенциальной энергии в картине мира современной физики, – это задержка напряжения в пустоте, безграничном, далекие ночные грозы на вершинах гор. В ее волнообразную неопределенность разрешаются все слова и вещи; это словесная динамика, а не статика. В ней дают себя знать цвет! Рембрандта и инструментовка Бетховена. Здесь ощущается безграничное одиночество, как родина фаустовской души. Что такое Валгалла? Она была неизвестна германцам эпохи переселения народов и даже эпохи меровингов; она была создана проснувшеюся фаустовскою душою, несомненно, под влиянием антично-языческого и арабско-христианского мифа обеих древних южных культур, которые всюду проникали со своими классическими и священными книгами, со своими статуями, мозаиками, миниатюрами, со своими культами, ритуалами и догмами. И, несмотря на это Валгалла парит где-то по ту сторону осязаемой действительности, в далеких, темных фаустовских пространствах. Олимп находится на действительной греческой земле; рай отцов церкви и Корана есть волшебный сад где-то в пределах магической вселенной. Валгаллы нет нигде. Со своими неуживчивыми богами и великанами она теряется в бесконечном, как грандиозный символ одиночества. Зигфрид, Парсифаль, Тристан, Гамлет, Фауст суть самые одинокие герои всех культур. Одиночество – свойство западной души. Мы читаем в «Парсифале» Вольфрама удивительный рассказ о пробуждении внутренней жизни. Тоска по лесу, загадочная жалость, невыразимая покинутость – вот фаустовские черты. Всякий их знает. В гетевском Фаусте повторяется этот мотив со всем его глубоким значением:
В порывах радостно-могучих Рвался в леса я и поля, И новая средь слез горючих Мне открывалася земля.(Перев. А. Фета).
О таком мироощущении ничего не знает ни аполлоновский, ни магический человек, ни Гомер, ни евангелист Иоанн. Высшее достижение поэзии есть то чудесное утро Страстной пятницы, когда герой, пребывающий в разладе с Богом и с самим собой, встречает благородного Гавана. «Что, если Бог окажет мне помощь?» И он отправляется к Тевреценту. Это сердце фаустовской религии. Нам понятно чудо евхаристии, присоединяющее причащающегося к мистическому обществу, к церкви, которая одна только способна дать блаженство. Из мифа о священном Граале и его рыцарях нам понятна внутренняя необходимость северогерманского католицизма. В противоположность античным жертвам, приносившимся каждому отдельному божеству в его храме, здесь появляется одна бесконечная жертва, которая ежедневно повсюду повторяется. Это фаустовская идея, созревшая в IX–XII столетиях, в эпоху «Эдды», хотя ее уже предчувствовали такие англосаксонские миссионеры, как Винфрид. Ее окаменелым выражением служит собор, на высоком алтаре которого совершается таинство.
Античный космос, рисующийся в образе множества отдельных тел, требует соответствующего мира богов – таков смысл античного политеизма. Одно мировое пространство, будет ли оно ощущаться магически-алхимической или динамически-фаустовской душой, требует единого Бога восточного или западного христианства (двух религий под одной и той же маской). Зевс – человек, более того, он – тело. Аттическая пластика сообщила окончательную форму Афине и Аполлону, подобно тому как органные фуги, кантаты и пассии Шютца, Гасслера и Баха нашли выражение для идеи протестантского Бога. Начиная с изобилующей образами «Эдды» и современных ей легенд о святых и вплоть до Гете совершается процесс, обратный тому, который совершался в античности. Там – идущее все дальше и дальше атомизирование божественного начала, так что для римлян Juppiter Latiaris и Juppiter Feretrius обозначают два совершенно различных божества, каждое из которых требует своего особого культа; здесь – единый Бог, который все более и более отождествляется со всеединым пространством.
Вся магическая небесная иерархия, раскрытая церковью и подкрепленная весом ее авторитета, от ангелов и святых и до Лиц Троицы, становится все более бесплотной, все больше и больше бледнеет; и черт, великий антагонист мировой драмы, незаметно исчезает из круга фаустовских идей. Еще Лютер запускал в него чернильницей, а теперь протестантские богословы давно уже обходят его стыдливым молчанием. Одиночество фаустовской души не мирится с дуализмом мировых сил. Бог есть все. В XVII веке эта религия перестает удовлетворяться художественными формами живописи, и инструментальная музыка становится единственным и совершеннейшим средством религиозного выражения. Мы вправе сказать, что католичество и протестантизм относятся друг к другу как алтарная живопись и оратория. Уже вокруг германских богов и героев протянулись широкие пространства, загадочные сумерки, они погружены в музыку (не непременно в музыку «Кольца Нибелунгов»); вокруг них сумерки и ночь, ибо дневной свет ставит границы глазу и создает, таким образом, телесные предметы. Ночь освобождает от тела; день убивает душу. У Аполлона и Афины не было никакой «души». На Олимпе царит вечный свет ясного южного дня. Аполлоновский час – высокий полдень, когда спит великий Пан. На Валгалле нет света. Уже в «Эдде» чувствуется та глубокая полночь, которая окружает рабочий кабинет Фауста, кладет тени на офорты Рембрандта, в которой теряются звуки бетховенской музыки. Вотан, Бальдур, Фрейа никогда не имели «эвклидовского» образа. Мы не можем «сотворить никакого образа и никакого подобия» их и ведантских богов индийцев. Эта невозможность освящает вечное пространство и сообщает ему значение высшего символа, между тем как телесные «подобия» низводят его до простого «окружения», принижают, отрицают. Пространство не есть мир близкого, мир видимого глазом. Этот глубоко почувствованный мотив лежит в основе иконоборчества Ислама и Византии – и то и другое относится к VII веку, – а впоследствии также протестантского Севера. Не был ли также иконоборчеством созданный Декартом антиэвклидовский анализ пространства? Античная геометрия конструирует дневной мир чисел, теория же функций есть подлинная ночная математика.
Ночным – пусть это будет только внутренняя, душевная ночь – является также чувство покинутости. Античный человек никогда его не знал; он был, по словам Аристотеля, «общественным животным», его жизнь достигала своего кульминационного пункта днем, в обществе, на площади. Индийская же душа, напротив, никогда не освободилась от этого чувства. Оно отличает Сократа от Будды и Руссо. Светотень Рембрандта, метафизически обозначающая одиночество, безграничную потерянность души в мировом пространстве, впервые нашла для себя выражение в жутких коричневых и серых тонах северного мира богов; она просвечивает ночи последних квартетов Бетховена, с их скорбными зарницами, она сквозит в безутешной грусти музыки «Тристана» и затем быстро блекнет в запоздалой, случайной и малодоступной лирике мировых столиц Бодлера, Верлена, Георге и Дрёма.
7.
То, что эта душа высказала при помощи необычайно богатых средств выражения, в словах, звуках, красках, живописных перспективах, философских системах, легендах, пространствах готических соборов и формулах теории функций, – то есть ее мироощущение, – египетской душою, далекою от какого-либо теоретического или литературного тщеславия, было высказано в камне – самом ярком символе завершенного бытия. Не расходуя себя на словесный спор относительно формы протяженности, относительно своего «пространства» и своего «времени», не строя гипотез, систем чисел и философских систем, она молча воздвигла свои потрясающие символы в долине Нила. Что за люди! Фаустовская душа, «искорка» Мейстера Эккарта, чувствовала себя бесконечно одинокой в необъятных пространствах – как пастушеская мелодия в начале третьего акта «Тристана и Изольды». Аполлоновская душа чувствовала себя брошенной слепоща «haimarmenк» в бессмысленный мир бесчисленных отдельных вещей, подавленной ими и разбитой – как: царь Эдип, ее самое захватывающее воплощение. Египетская душа видела себя путницей по узкой, неумолимо предписанной ей жизненной тропе. Такой была египетская идея судьбы. Жизнь египтянина есть жизнь путника; весь образный язык его культуры служит для иллюстрации этого единственного мотива. Его основной символ скорее всего дает себя почувствовать в слове путь, которое для египтян имеет то же значение, что пространство для северных народов и тело для древних. Это совсем особый и крайне трудный для нас способ понимания протяженности. Его-то пыталось воплотить искусство фараонов от самого своего возникновения и до конца. Торжественно шествующая вперед статуя, бесконечные, в строгом порядке следующие одна за другою галереи пирамид-храмов IV династии (2930–2750), все суживающиеся, мрачные, неизменно приводящие через залы и дворы в комнату, где находится гробница; аллеи сфинксов, главным образом XII династии (2000–1788), циклы барельефов на стенах храмов, расположенные так, что зритель должен идти вдоль них все в одном определенном направлении, – все это образцы переживания глубины, свойственного особой человеческой породе, воплощение железной необходимости египетской судьбы, символизировавшейся в граните и диорите (любопытно обратить внимание на родственное значение гранита для Гете, с его воззрениями на историю земли).
Пирамиды, эти грандиозные произведения ранне-египетской истории – эпохи готики египетской души, – нельзя рассматривать как стереометрические тела. Так воспринимал их античный зритель: к этому принуждало его античное мироощущение. Но переживание глубины у египтянина, определявшее его образ мира, было столь резко подчеркнутым в отношении направленности, что пространство постоянно понималось им как некоторый осуществляющийся процесс. Мы видели, что в этом изначальном переживании человека, которое пробуждает его внутреннюю жизнь и делает обладателем своеобразного внешнего мира, направленность – этот признак жизни – относит чувственное ощущение в глубину, в пространство, и превращает время в третье измерение пространства, в удаленность. То, что я пытаюсь обозначить здесь словом «путь», есть образ этого созидающего мир акта сознания. Путь обозначает одновременно судьбу и «третье измерение». Громадные площади стен, барельефы, ряды колонн, мимо которых он проходит, представляют «длину и ширину», то есть ощущение, впервые протягиваемое в мир жизнью. Таким образом, путник переживает пространство как бы в его элементах, еще не связанных воедино, между тем как древние его вовсе не знали, мы же представляем как покоящуюся бесконечность, окружающую нас. Поэтому египетское искусство стремится только к плоскостному воздействию – не более – даже и в тех случаях, когда оно пользуется кубическими средствами. Для египтянина пирамида над царскою гробницей была треугольником, грандиозною, чрезвычайно выразительной плоскостью, замыкающею путь и господствующею над ландшафтом, плоскостью, к которой и он приближался; строго скомпонованные и покрытые украшениями колонны внутренних переходов на темном фоне действовали совершенно как вертикальные плоские полосы, ритмически сопровождавшие процессию жрецов; рельеф – в противоположность античному – с трудом связывается с плоскостью, его фигуры движутся. Все неудержимо движется к одной цели. Господство горизонтальных и вертикальных линий и прямого угла, стремление избежать всяких ракурсов усиливают принцип двухмерности и изолируют переживание пространственной глубины, совпадающей с направлением пути и целью – гробом. Это искусство не допускает никакого отклонения, облегчающего напряжение души.
Разве все это, высказанное на самом возвышенном языке, какой только можно себе вообразить, нельзя было бы выразить также при помощи наших теорий пространства? Даже при помощи физиологических, ибо образ на сетчатке глаза – плоский; он превращается в пространственный опыт только посредством жизненного акта.
Само становление пространства, содержащее в себе смысл внешнего мира, было символическим переживанием того, кто от ворот храма-пирамиды на берегу Нила шел по закрытому жертвенному пути, стороны которого были украшены глубокомысленными изображениями всех символов бытия. Окруженный этими формами, путник ощущалтождество становления пространства и жизни. Сквозь узкие ворота мощного портала – чувственный образ рождения – судьба неумолимо вела по все больше суживающемуся пространству к последней келье, которая содержала увековеченное путем превращения в мумию тело, приковывавшее к себе «ка» умершего фараона. Это метафизика из камня, и поставленная рядом с ней, написанная метафизика – например, кантовская – производит действие беспомощного лепета. Единственный символ пути воплощает смысл египетского макрокосма чище и полнее, чем мог бы его воплотить любой из античных и индийских символов. Он сообщает языку форм Египта такую чистоту и простоту, которые люди других культур, мы например, способны ощущать только как оцепенелость.
8.
У каждой культуры есть период готики, период детства. Но не только культура в целом переживает эти периоды: каждый отдельный человек, принадлежащий ей, переживает один из них. Давно уже было обращено внимание на внутреннее родство первобытного и детского искусства. Несомненно, что первоначальная радость подражать чему-нибудь, свойственная даже животным, является постоянным стимулом всех искусств. Уже ребенок старается в своих контурных рисунках «изобразить» что-нибудь или подражать взрослому своими движениями и мимикой. Мы знаем происхождение греческой «tragфidia» из крестьянских танцев сатиров на празднествах в честь Диониса, олицетворявших пробуждение творческой силы природы. Наиболее талантливые мимы из исполнителей, наряженные животными («трагические маски»), переезжали на своей колеснице («колеснице Тесписа») из деревни в деревню, всюду вызывая веселье. Нечто подобное знает каждая страна. Нам известны прекрасно исполненные рисунки животных у пещерных людей и у бушменов. Будет ли перед нами музыка или живопись – последовательный рационалист никогда не заметит в искусстве другой тенденции. Еще Аристотель называет «мимесис» сущностью искусства, и от него происходит несколько плоское выражение Лессинга, что конечной целью всех искусств являетсяудовлетворение, наслаждение.
С другой стороны, чувство формы пробуждающейся культуры проявляется с такой силой, что она стилизует до неузнаваемости растения, животные, человеческие мотивы. Этому учат нас одинаково дипилонский и романский стиль, раннеегипетское и раннеарабское (древнехристианское) искусство. Здесь говорит новая душа на новом языке, который никогда не существовал раньше и никогда не повторится в будущем. Здесь перед нами не подражательная, но символическая тенденция, здесь дело идет не об удовлетворении, но о демоническом порыве, который на все другое смотрит как на забаву, на отдых, на «беззаботность художественной души». Лишь к этому искусству применимо понятие стиля, простирающего свою власть над всеми формами внешней жизни и умирающего в тот момент, когда культура становится цивилизациею, а душа – интеллектом.
Эта противоположность беззаботности художника и его серьезности, игры и принуждения, подражания чувственно воспринимаемым вещам и их заклинания есть новая форма выражения изначальных чувств влечения к миру и страха перед миром; тут содержится ключ для понимания всех споров о проблемах искусства. Противоположность между аполлоновским и дионисовским началом, классицизмом и романтикой, формой и содержанием, правилом и прихотью, артистичностью и натурализмом всегда как-то прикасается к тайне, которая здесь заключена. Только систематик и человек рассудка станет производить разделение и оценку там, где исторически, психологически и индивидуально действует одно целое. Мы должны, впрочем, сознаться, что о корне искусства мы ничего не в состоянии сказать.
Детская смена глубочайшего восхищения солнечным миром, весной души, неутолимого стремления к зрелости, росту, совершенству и глубочайшего страха перед непонятным, таящимся в этом расцвете, перед роком, который пришел вместе с ним, перед неизбежностью конца, перед тайной временности вызывает в момент пробуждения каждой культуры строгий стиль дорического или готического характера, величественную орнаментику и стремление к грандиозной архитектуре, часто столь загадочной для позднейших поколений; зрелая же культура – барокко, ислам, Среднее царство Египта – ко всему этому больше не способна.
Исполинские произведения младенческой культуры вообще не суть произведения «искусства» в смысле живописи, скульптуры или поэзии, сознающих свои средства и цели и выбирающих свои задачи; они возникали как стихийные явления природы. Собор есть безымянное и стихийное создание родного ландшафта с населяющим его юным человечеством; он рожден из недр этого ландшафта, а вовсе не есть индивидуально-сознательная концепция, созданная волей какого-нибудь художника. Внезапно рожденные, совершенные, преодолевающие в своем осуществлении косность и муку, исполненные сладостной меланхолии и жертвенности, всюду в дневном мире проходят эти детские грезы младенческой души: величественная архитектура, величественные мифы, эпос, новая орнаментика, битвы героев.
Всякий страх перед миром, как мы видели, есть страх перед пространством, перед осуществленным, перед границей – перед смертью. Переживание глубины есть источник видимого мира, из него мир рождается. Фигура, число, пространство и страх имеют одно общее основание. Так является законченный мир, при помощи изначального символаподчиненный окаменелым правилам и вследствие этого во всем своем объеме приобретающий значение чувственного образа, макрокосма одной-единственной души, – мир как враждебное начало, царство темных сил, воплощение зла. Здесь объяснение той никогда не прекращающейся вражды между душою и миром, которая лежит в основе всякого миросознания. Вот почему юная душа одинокого человечества внезапно сознает скоротечность всего существующего. Перед нами демоническое начало природы – природы как протяженного мира, – которое античная душа так же хорошо знала, как и всякая другая. В этом отношении согласны между собою фаустовское и магическое христианство, орфики с их формулой «sōma sēma» [17] и египетская Книга Мертвых. Тысяча мифических образов, легенд и обычаев проистекает отсюда. И незначительное украшение на рукоятке меча, сосуде, капители колонны, и греческая культовая драма есть средство утишить гнев богов. Поэтому Ливий (VII 2) называет устраивавшиеся в Риме для предотвращения чумы сценические представления (трагедии) – coelestis irae placamina [18]. Душа стремится изгнать, отвратить, умилостивить демоническое начало, появление которого есть неизбежное следствие становления пространства: душа изгоняет его волшебною силою символа. Она дает ему форму, обладающую смыслом, чувственную границу, название, то есть она делает его зависимым от себя9.
Поэтому самое раннее и самое простое из всех искусств обращается к первичной материи мира, к воплощенному противодействию, о которое разбивается страх, – к камню. Мы никогда не поймем гигантской архитектуры соборов и пирамид, если не станем рассматривать ее как жертву, которую юная душа приносит чуждым силам. Жертва в первоначальном смысле, какой придавал этому слову человек, означает принесение в дар части собственной души совершающего жертвоприношение. Прежде всего ею является священное животное, в котором пребывает частица души клана или в которое входит душа приносящего жертву при помощи акта освящения и принесение которой создает мистическое примирение с высшими силами.
Такою жертвою являются все ранние архитектуры – величайшей жертвою, которая когда-либо была приносима. Ибо в них не только заключен тот или Другой символический смысл, как в культовых танцах и песнях, в картине, статуе или сонате, но в них пребывает весь дух данной культуры, которая, оцепеневая в камне, стремится таким образом связать себя с основой мира. Старый готический собор есть совершеннейший макрокосм фаустовской души, храм-пирамида – макрокосм египетской души, купольные базилики Равенны и Византии – магической. По сравнению с этим все позднейшие произведения искусства есть нечто мелкое. Звуки и цвета, рассекаемый мрамор, отлитая бронза, прочтенное и высказанное поэтическое слова суть средства искусства; они отрицают его первоначально материальную сущность или не владеют ею. Всякоесознательное художество эгоистично, исполнено капризов и «свободно». Его произведения уже не вырастают из родного ландшафта. Идея сверхличной жертвы всей души умерла вместе с порой младенчества.
Это первое искусство нуждалось в сознании победы; поэтому оно преодолевало камень и принуждало его вырастать из земли, принимая символические формы. Так как темой этого искусства была сама жизнь, то его формы связывались непосредственно с мыслью о смерти, как в храмах-пирамидах, внутренние галлереи которых приводят к гробнице фараона, так и в соборах, чьи сводчатые корабли с рядами колонн ведут к высокому алтарю с совершающимся на нем таинством евхаристии, в котором вочеловечившийся Бог приносит себя в жертву. По сравнению с этим искусством все другие есть игра, наслаждение; все они слишком земные. Вот откуда эти исполинские грузы, которые приняло верующее человечество, обратившее в истинную жертву самую работу над постройкой. Чудесной кажется нам духовная сила, с какой люди этих ранних эпох разрешали технические задачи, с уверенностью сомнамбулиста, почти бессознательно, – те задачи, перед которыми зрелое знание современности со стыдом останавливается. Я имею в виду исполинские каменные глыбы в фундаменте храма Солнца в Баальбеке», с которыми справлялась раннеарабская эпоха совершенно загадочным для нас образом; это был ее способ служения идее своего существования, своему переживанию мирового пространства. Я имею в виду также сказочные каменные массы соборов и пирамид, вознесшиеся от земли ввысь, в мировое пространство. Как около 1100 года князья, горожане и рыцари сами таскали тяжести, чтобы воздвигнуть эти соборы посреди крошечных городов – вся гордость» строителя выражена в стихах младшего Титуреля, – так и сооружение пирамиды Хеопса было священным делом. Ни рококо, ни Афины Перикла, ни Багдад Гарун-аль-Рашида – при всем изобилии их технических и материальных средств – не были способны к таким сооружениям. Акрополь, Версальский дворец, Альгамбра – произведения утонченного художественного ума – представляются рядом с этим маленькими и слишком человеческими.
9.
Величественная орнаментика и величественная архитектура – эти сновидческие искусства, – как родные сестры, неизменно обозначают начало нового культурного развития. Конечно, многие мотивы северного орнамента раннегерманского и кельтского происхождения – даже в «Эдде» есть много кельтского, – не говоря уже о заимствованиях из арабского и античного искусства, но только в X веке возникает концепция единого, органического фаустовского орнамента, безмерно глубокого по замыслу, того орнамента, которому мы удивляемся в церквах св. Трофима в Арле, св. Петра в Ольнее, св. Лазаря в Отёне, в Пуатье, в Муассаке, а в Германии главным образом в соборах эпохи Оттонов и Штауфенов, на скамьях хора, на утвари, облачениях, книгах, оружии. Всюду здесь новый символ – бесконечное пространство – отчеканил художественные формы в один общий язык. Одновременно с магическими купольными пространствами сирийских базилик пробуждается волшебный язык арабесок, которые, мерцая, извиваясь, пожирая все линии, одухотворяют и делают бестелесной всю область арабской культуры – вплоть до художественных форм персидского, лангобардского, норманнского, то есть так называемого средневекового, искусства.
Священная строгость присуща этим ранним формам. Древнейшая дорика не без основания называется геометрическим стилем. Древнехристианское и позднеязыческое искусство рельефа и портретных изображений на саркофагах, искусство так называемого константиновского стиля, рассматривалось поэтому, и теперь еще рассматривается, как упадочное искусство. В храме мертвых Хефрена (IV династия) достигнута вершина математической простоты: всюду прямые углы, квадраты, прямоугольные колонны; ни одного украшения, ни одной надписи, ни одного перехода; только несколькими поколениями позже смягчающий напряжение орнамент отваживается проникнуть в царственную магию этих пространств. Таким же духом проникнуто благородное романское искусство Вестфалии (Корвей, Минден, Фрекен Хорст) и Саксонии (Хильдесхайм, Гернроде), которое с не поддающимся описанию внутренним весом и достоинством возвысилось над готикой в собственном смысле этого слова и было способно вложить мировой смысл в одну линию, одну капитель, одну арку.
Для этого простого языка младенческой души нет ничего невозможного. Мы находим в нем символы, специфический характер которых до тех пор никто даже не предчувствовал. Египетская душа, с ее постоянным влечением к хронологии, к неслыханной размеренности и взвешенности социального бытия – которое в этом единственном случае действительно разыгрывалось «sub specie aeternitatis», – с ее любовью к самым твердым камням, с ее отказом от всего чисто литературного, уже с самого начала объединила все это со страстной силой в своем высшем проявлении – в государстве, которое является наиболее адекватным выражением духа египетской культуры. И государство есть элемент архитектуры. И его формы, формы ставшего, совершившегося, протяженного, говорят об основном символе всякой культуры. Античный полис есть коррелят дорического храма, чисто эвклидовское тело. Западноевропейская система государств есть динамика географических пространств. Еще более ясным языком говорит форма египетского государства. Его мероприятия и учреждения считаются по династиям; его население, тщательно расслоенное на сословия, тоже образует пирамиду с фараоном во главе. У каждого своя общественная обязанность. Индивидуальная жизнь растворяется в великом общем потоке. Нет «гения», нет частных интересов. Это государство есть судьба; оно является выражением пути египтян; оно ставит самое себя в отношение к идее смерти. Пирамида есть исполинская гробница фараона, закладка которой образует первый акт его царствования; в течение его царствования над ее сооружением работает весь народ. К фараону, «ка» которого, связанное с его мумией, переживает все династии, ведет величественная дорога колонных зал и анфилад статуй; ряды колонн, барельефов, статуй повторяют еще раз метафизический мотив рядов властителей, которые представляют собою изменчивое в неизменном, живое в протяженном, в государстве как законченном бытии. То, что в других культурах воплощается в тысяче образов, здесь воплощено в одном-единственном. Государство есть действительность. Кроме него, нет иной действительности. Переживание пути, символизированное в храмовом пути, есть переживание всей целокупности египтян, а не отдельных душ. Во всем органическом мире существует только одна возвышенная параллель этого государства, никем еще не оцененная по достоинству – государство пчел.
Оба государства суть высшее выражение заботы; можно даже сказать – долга. Если кантовская этика находит где-нибудь осуществление, не в формулах, но в живой действительности, то именно здесь. Есть нечто прусское, нечто от Фридриха Великого в государственном настроении египетского населения. Но в тесном соседстве с Египтом стоит культура, которой никогда не было свойственно чувство будущего, направленность жизни, смысл истории, которая никогда, следовательно, не знала никакой заботы, – я разумею античную культуру. Вот почему она никогда не вылилась в действительное государство и не дала ранней архитектуры высокого стиля.
Отсюда понятно, почему всемирная история всегда понимается и трактуется по преимуществу как история государства. Эта связь таит в себе глубочайшую необходимость. Культура (душа), которая лишена ощущения собственного становления – то есть истории, осуществления возможностей, – лишена также понимания своих задач. В идее государства рисуется история будущего, как его хочет данная культура. Прошлое и будущее в одинаковой мере есть феномены третьего измерения. Можно заботиться о том и о другом или ни о том, ни о другом, об усопших и о неродившихся или только о счастье минуты. Социализм предполагает высокую оценку истории, поскольку наступающее он связывает с прошлым; стоицизм же, напротив, неисторичен. Он ни о чем не вспоминает и ни о чем не заботится. Египетское государство в известном отношении социалистично. Индийская государственная история – если только мы имеем право говорить о таковой – в отношении своей беззаботности и предоставления вещей своей собственной участи содержит в себе нечто античное. Кому свойственно внутреннее развитие – в эпоху Гете его называли культурой личности – и кто дает себе отчет о нем, тот имеет также внутреннее будущее и волю к нему. «Государство» внутреннего человека есть его характер. Образование характера и история государства в глубине своей тождественны, как биографические формы отдельной личности и культуры, к которой принадлежит она. Шекспир наряду с «Отелло» и «Макбетом» дал нам ряд своих хроник, Гете наряду с «Эгмонтом» – «Тассо», наряду с внешней – внутреннюю революцию. Дон Кихот, Дон Жуан резюмируют также политическую фазу, и мы вправе назвать политикой души совершенно не античную, психологическую диалектику романов Шодерло де Лакло, Стендаля и Бальзака; в этом смысле Жюльен Сорель есть питомец Наполеона. Но аттическая драма аполитична – следовательно, мифична – и лишена формального мотива внутреннего развития. Как Антигона не была характером, который «складывается в потоке мира», так и Афины не были государством в западноевропейском смысле. И первая и вторые всей совокупностью своего существования принадлежат моменту, слепому случаю. Они всегда закончены, как эвклидовское тело. У них нет генезиса, существование их лишено цели. Оба явления, мировой образ истории и феномен государства, в котором, по выражению Гете, непосредственно созерцается идея, относятся как жизнь и пережитое. Политическая история Запада и западная система государств относятся как хотение и достигнутое, античная же история и голое множество «полисов» – соответственно этому как laissez faire [19] и его результат.
Готический собор так относится к религии Севера, как пережитое к переживанию. Дыхание его пространства есть Дух Божий. Он символизирует «путь к Богу», к высокому алтарю, который в бескровной жертве заключает непрерывное чудо, соединяющее причастников ее в видимую церковь, в фаустовское общество, пребывающее по ту сторону границ пространства и времени. Эта мысль, всецело являющаяся достоянием западной души, мысль, возникшая в X столетии и фиксированная как догма в 1215 году на Латеранском соборе, создала из арабской базилики восточного христианства собор. Ощущение пространства магического человека, нашедшее себе выражение в построенном сирийцем римском Пантеоне и приведшее к купольным сводам Равенны и Константинополя и грандиозным мечетям ислама, внезапно уступило место новому переживанию глубины и, следовательно, новой архитектуре и новой идее государства. Дворцовая капелла Карла Великого в Аахене – по духу своему мечеть – еще не таит в себе предчувствия всего этого. В начале IV династии, около 3000 года, когда вместе с окончанием эпохи Тинитов появилась на свет египетская культура, путем такого же внезапного творчества одновременно с новым мироощущением возникла как целое идея новой религии, идея государства фараонова и воплощающего ее исполинского храма Мертвых,
10.
Теперь, когда выяснено различие собора и пирамиды, невидимой церкви и видимого государства как форм, воплощающих общее душ, для нас становится понятным мощное явление готической души, устремляющейся в величественном порыве за пределы оптически связанной чувственности. Может ли что-либо быть более чуждым смыслу египетского государства – которому все фараоны служили, тенденция которого может быть названа возвышенным реализмом, – чем политическое честолюбие великих саксонских, франконских и штауфеновских императоров, которые гибли, устремляясь за пределы всякой государственной деятельности? Признание границы было бы для них равнозначно обесценению идеи владычества. Здесь бесконечное пространство входит в круг публичной жизни со всей неописуемой мощью изначального символа, и мы можем к фигурам Оттонов, Конрада II, Генриха II и Фридриха II причислить также норманнов, завоевателей Исландии, и прежде всего великих пап Григория VII и Иннокентия III: все они хотели распространить сферу своего владычества на весь известный тогда мир. В этом отличие гомеровских героев, с их скромным географическим горизонтом, и постоянно устремляющихся в бесконечность героев сказаний о Граале, Артуре и Зигфриде. В этом также отличие крестовых походов, участники которых стекались от берегов Эльбы и Луары вплоть до границ известного тогда мира, и событий, лежащих в основе «Илиады», местная ограниченность и обозримость которых дает нам право с полной уверенностью заключить о стиле античной души.
Дорическая душа осуществила символ наличной телесной вещи, поскольку она отказалась от всех величественных и широких замыслов. Есть достаточные основания тому, что первая послемикенская эпоха ничего не оставила нашим археологам. Если египетская и фаустовская душа нашла для себя выражение прежде всего в мощной архитектуре, то античная душа искала своего выражения в решительном отказе от нее. Последним достигнутым ею выражением является дорический храм, который производит впечатление только снаружи, как массивное сооружение, составляющее часть ландшафта, внутри же содержит пространство, которое, будучи оставлено художником без всякого внимания, отрицается как «mл on», как то, что вообще не должно существовать. Египетская колоннада поддерживала крышу зала. Грек заимствовал мотив и применил его в своем смысле, вывернувши тип сооружения, как перчатку. Внешняя колоннада есть остаток «внутреннего пространства».
В противоположность этому магическая и фаустовская душа возносит свои окаменелые сны в виде сводчатых покрытий больших внутренних пространств. Архитектурная идея этих сводов предвосхищает дух двух математических дисциплин – алгебры и анализа. В архитектурном стиле, зародившемся в Бургундии и Фландрии, крестовые своды, с их остроконечным завершением и контрфорсами, обозначают вообще разрешение замкнутого, ограниченного чувственно-осязательными плоскостями пространства. Внутреннее пространство все еще есть нечто телесное. Но здесь чувствуется стремление убежать от него в бесконечное; такое же стремление позже было свойственно родственной этим сводам музыке контрапункта, бесплотный мир которой навсегда останется миром ранней готики. Даже в позднейшие времена полифонная музыка давала свои высшие достижения, например «Страсти по Матфею» Баха, «Героическая симфония» Бетховена, «Тристан» и «Парсифаль» Вагнера, только в тех случаях, когда она была необходимо связана с собором и возвращалась на свою родину, к каменному языку эпохи крестовых походов. Чтобы изгнать античное веяние плоти, понадобилось все влияние глубокомысленной орнаментики, с ее причудливыми и страшными мотивами растений, животных и человеческих тел (собор св. Петра в Муассаке), орнаментики, отрицающей субстанцию камня и разрешающей все линии в мелодии и вариации данной темы, все фасады – в многоголосные фуги, телесность статуй – в музыку складок драпировки. Только эта орнаментика сообщает глубокий смысл исполинским оконным стеклам соборов, с их цветной, прозрачной, то есть совершенно бесплотной, живописью – искусством, которое никогда не повторялось и было самой резкой, какую только можно представить, противоположностью античной фрески. Ее смысл становится для нас всего более понятным в парижской Сен-Шапель, где рядом с прозрачным стеклом камень почти что исчезает. В противоположность фреске, живописи телесно сросшейся со стеной, чьи краски действуют как материя, мы находим здесь цвета освобожденных от пространства органных тонов, цвета, совершенно отрешенные от посредства носящей их поверхности, фигуры, которые свободно парят в беспредельном. Сравним теперь фаустовский дух этих высокосводчатых, пронизанных цветовыми лучами и стремящихся ввысь, к хору, церковных кораблей с действием арабских, то есть древнехристианских, византийских, куполов. Купол, свободно парящий над базиликой или над восьмиугольником, также означает преодоление античного принципа естественной тяжести, нашедшего себе выражение в соотношении колонн и архитрава. И здесь отрицается камень. Причудливое переплетение форм шара и многогранника, тяжесть, легко парящая над землей на каменном кольце, задрапированные архитектурные линии, маленькие отверстия в высоких сводах, сквозь которые проникает неверный свет, делающий пространственные границы еще более недействительными, – таковы гениальные произведения этого искусства: Сан Витале в Равенне, Святая София в Константинополе, иерусалимский собор. Вместо египетского рельефа, с его чисто плоскостной трактовкой, мучительно избегающего всякого ракурса, содержащего намек на глубину, вместо уносящейся в мировое пространство прозрачной живописи готических соборов все стены покрыты здесь мерцающими мозаиками, арабесками и позолотой, которые погружают действительность в сказочное, неверное сияние, так всегда пленяющее северянина в мавританском искусстве.
11.
Так из раскрытой здесь сущности макрокосма, из первоначального символа всякой культуры возникает феномен стиля. Кто умеет понимать значение этого слова, тот не станет относить к всеобъемлющей определенности стиля отрывочные и хаотические произведения искусства первобытного человека. Стиль присущ только искусству великих культур, производящему целостное впечатление; притом он присущ не одному искусству.
Мы располагаем прекрасными изображениями животных дилювиального человека и некоторых диких народов, а также высоко стоящим микенским и меровингским искусством. Но как раз это искусство делает различие очевидным. Здесь нет никакого стиля. Здесь все изолированно, исполнено радости творчества и подражания, исполнено понимания гармонии и нюансов, но здесь нет, так сказать, спокойного метафизического ощущения формы, которое, даже будучи ярко выражено, бессознательно стремится к одной цели в художественных произведениях, постройках, утвари, украшениях. Только при этом условии существует стиль, непроизвольная и неуклонная (в настоящее время это необходимо подчеркивать) тенденция во всем творчестве, которая остается одинаковой в ранней дорике и в римском искусстве, в раннем романском искусстве и в стиле ампир. Сравним Аахенский собор с постройками, которые возникли только на 150 лет позже: в течение этого промежутка времени родился стиль. В Аахене его еще нет. Постройка Карла Великого есть образец искусства, пребывающего вне и до атмосферы стиля, то есть вне культуры! В ней нет никакого первоначального символа, который мог бы и должен бы быть осуществлен. Такая же внутренняя необходимость формы отличает геометрические украшения позднемикенского и раннедорического искусства. Только дорика вкладывает тенденцию, мировой закон. С другой стороны, в античности вместе с александрийскою эпохою, а у нас около 1800 года, эта тенденция иссякает. История стиля кончается. Возможности одной формы мышления оказываются исчерпанными. После этого начинают подделывать, мастерить, создавать «стили», которые меняются через каждые десять лет, с которыми каждый обращается как хочет; начинают повторять, комбинировать, утрировать, ибо потребность в искусстве еще осталась, между тем как стиль, то есть необходимое искусство, умер. Таково положение в настоящий момент.
В противоположность сознательному художеству, которое всегда есть явление позднее, продукт городской культуры, – стиль есть проявление бессознательного душевного начала, которое я назвал идеей жизни. Стиль есть судьба. Судьба нам дается, мы ее не приобретаем. Сознательный, намеренный, сделанный стиль есть ложный стиль, как доказывают все поздние эпохи, особенно же современность. Великие художники и художественные произведения суть явления природы. Мир – природа – есть создание души; совершенное произведение искусства точно так же создание души: обоим им свойственна непреднамеренность, предопределенность, необходимость, оба, следовательно, являются «природой». На этом покоится внутреннее тождество стиля и математики какой-нибудь эпохи. В самом деле, все без исключения формы стиля суть экстенсивные формы. Они изгоняют чуждый протяженности элемент наличного ощущения. Из обоих изначальных человеческих стимулов к художественному творчеству – подражательного и символического – стиль порождается последним, то есть влечением к орнаментике. Не любование миром, но страх перед ним есть последний доступный нам корень всякой элементарной художественной формы. Произведению искусства присущ стиль в точно таком же смысле и в точно такой же степени, в какой физическому представлению помимо теоретически-образного содержания присуща также математическая форма.
Чтобы подтвердить сказанное примером, я еще раз возвращаюсь к грандиозному явлению египетского стиля, который стал доступен для нас в течение последних немногих лет. Смерть действительно изгнана в этом стиле, более яркого примера мы не подыщем. На каждом штрихе здесь покоится вечность. Здесь нет той исступленной страстности, которая расправляет крылья в готике с целью отрешиться от земного и потеряться в потусторонних пространствах; здесь нет слишком плотской и слишком для нас поверхностной склонности древних длить приятность мгновения и забывать все остальное. Египетский стиль проникнут глубоким реализмом. Он охватывает все прошлое; он признает закончившееся и ограниченное; чтобы преодолеть его, поэтому до самого конца материалом для него служит камень. Каждая черточка Рембрандта Бетховена и Микеланджело выдает их страх перед пространством; в архитектуре Мемфиса и Фив страх остался где-то далеко позади.
Около 1100 года во Франции, верхней Италии и западной Германии одновременно вводится сводчатое покрытие среднего корабля соборов, который до тех пор имел плоскую крышу. Египетский стиль начинается столь же бессознательным и столь же ярко символическим актом. Изначальный символ пути внезапно входит в жизнь в начале IV династии (2930 г. до Р. X.). Мирообразующее переживание глубины этой души получает свое содержание от самого фактора направленности: сама глубина пространства, как окаменевшее время, даль, смерть, судьба, есть ее господствующее выражение; чисто чувственные измерения длины и ширины обращаются в сопровождающей плоскости, которые суживают и предписывают пути судьбы. Специфически египетский плоский барельеф рассчитанный на рассматривание вблизи и своим циклическим порядком принуждающий зрителя идти в предписанном направлении вдоль стенных поверхностей, точно так же внезапно появляется в начали V династии. Появившиеся несколько позже аллея сфинксов и статуй, храмы из каменных глыб, храмы с террасами, портретные статуи, которые мыслятся постоянно идущими и смотрящими вперед, никогда не в профиль, еще более укрепляют стремление к единственной дали, известной миру египтянина, – к гробу, к смерти. Нужно обратить особенное внимание на то, что уже колоннады ранней эпохи так рассчитаны по своим диаметрам и расстоянию между их мощными стволами, что они закрывают все боковые просветы между колоннами. Это не повторяется ни в каков другой архитектуре.
Величие этого стиля кажется нам застывшим и неподвижным. Он, во всяком случае, находится за пределами страстности, которая ищет и боится и благодаря этому в течение столетий сообщает подчиненным деталям неустанную субъективную подвижность. В элементах своего макрокосма эта душа передала почти все для нас существенное, но, конечно, столь чуждый египтянину фаустовский стиль – который точно так же образует единое целое от романского искусства до рококо и ампира, – со всем его беспокойством и постоянным исканием, казался бы ему гораздо одноообразнее, чем мы можем себе представить. Мы, во всяком случае, не должны забывать, что, согласно развиваемому здесь понятию стиля, романское искусство, готика, Возрождение, барокко, рококо суть только фазы одного и того же стиля, в котором мы, естественно, замечаем прежде всего изменчивое, а глаза людей иных культур – то, что во всех этих изменениях пребывает устойчивым. В самом деле, «фамильное сходство» этих фаз вопреки мнению людей, принадлежащих нашей культуре, доказывается бесчисленными, ничуть не режущими глаз перестройками произведений романского искусства в стиле барокко, поздней готики – в стиле рококо (внутренней гармонией северного Возрождения и крестьянского искусства, где готика и барокко становятся совершенно тождественными), улицами старых городов, в которых фронтоны и фасады всех стилей образуют чистое созвучие, и, наконец, невозможность вообще провести в отдельных случаях различие между романским искусством и готикой, Возрождением и барокко, барокко и рококо.
Египетский стиль абсолютно архитектоничен – вплоть до того, что здесь исчерпалась египетская душа. Он не позволяет никакого уклонения в другие искусства, не позволяет стенной живописи, бюстов, музыки мирового значения. В античности центр тяжести вместе с ионийским стилем переходит от архитектуры к независимой от нее пластике; в барокко он переходит к музыке, чей язык в свою очередь господствует над всем архитектурным искусством XVIII века; в арабской культуре с началом исламской фазы орнаментика арабесок растворяет в себе все формы архитектуры, живописи и пластики, так что у нас создается даже впечатление какой-то ремесленности. В Египте господство архитектуры остается непоколебленным. Самое большее мы можем говорить о смягчении ее языка. В залах храмов-пирамид IV династии (пирамиды Хефрена) стоят лишенные всякого украшения остроугольные колонны. В сооружениях V династии (пирамиды Сахура) появляется растительная колонна. Исполинские лотосы и пучки папирусов произрастают из прозрачной алебастровой почвы, означающей воду, с пурпурными стенами между ними. Крыша украшена птицами и звездами. Священный путь от портала к гробнице, символ жизни, есть не что иное, как река. Эта река – сам Нил, который тождествен изначальному символу направленности. Дух родного ландшафта соединяется с происшедшей из него душою. Совершенно так же эвклидовская душа античной культуры таинственным образом соединяется с множеством маленьких островов и горным ландшафтом Эгейского моря, а страстность Запада, постоянно устремляющаяся в бесконечность, – с широкими франконскими, бургундскими и саксонскими равнинами.
Египетскому стилю свойственна полнота выражения, которая кажется просто недостижимой при других условиях. Я думаю, что скука, это разжижение отдельных жизненных моментов, одинаково свойственная и нам и грекам, была неизвестна египетской душе. Жить, и только жить, вкладывать в каждое мгновение величайшее возможное содержание – вот что является необходимостью для этого мирового аспекта, с его символикой мумий, иероглифов и пирамид-гробниц. Характер египетского «этоса» мы можем только чувствовать, выразить же в словах не в состоянии. Правилом здесь является не наша «воля», не античная «софросюне», но невыразимая словами полнота бытия. Никто не пишет и не читает, все действуют и творят в образах. Глубокое безмолвие – таково наше первое впечатление от Египта – вводит в заблуждение относительно силы его жизненности. Нет культуры высших способностей души. Нет «агора», нет болтливой античной публичности, нет северных гор литературы и публицистики; есть только безукоризненно точные, само собою разумеющиеся действия. О частностях мы уже упоминали. Египет владел прекрасно разработанной математикой, но раскрылся всецело в гениальной архитектуре, в несравненной системе каналов, в удивительной астрономической практике; он не оставил не одной теоретической книги («Счетную книгу Яхмоса» нельзя принимать всерьез). Уже Древнее царство (соответствующее императорскому периоду немецкой истории) владело тонко разработанной, способной предвидеть вперед на целые поколения социальной экономией, но владело в форме прекрасно расчлененного, обо всем пекущегося чиновничества. Римлянам приходилось опираться на него для поддержания жизнеспособности своей империи, но они не отдавали себе ясного отчета о его духе. Египет должен был кормить и оплачивать их государство, управлять им; вследствие образцового характера своих учреждений Египет был естественным центром империи, и Цезарь намеревался перенести свою резиденцию в Александрию. Но тем не менее у египтян нет ни одного научного труда о государственном праве и о финансах. Поздние римляне стяжали себе литературную славу приведением в систему тени этой мудрости. В настоящее время мы еще не знаем, как много Corpus Juris [20](произведение римлян, а не их правосознание) заимствовал с Нила. Египтяне были философами, но у них не было никакой «философии». Нигде ни малейшей попытки теории и всюду инстинктивное мастерство практики, достигнутое лишь немногими другими народами.
И так как всякая наука на Ниле делалась, а не обсуждалась, то ранний эпос и идиллии, которыми обладает каждая культура, возникли здесь не в виде словесного искусства, но также из камня. В этом отношении V и VI династии соответствуют эпохе Гомера, «Песни о Нибелунгах» и «Парсифаля». Тогда были созданы циклы барельефов великих храмов. Беспримерны жизнерадостность, детская непринужденность и тонкое мастерство исполнения, свойственные этим каменным идиллиям, относящимся к 2700 году до Р. X., с их охотами, рыбными ловлями, пастушескими сценами, с их перебранкой и игрой, празднествами и семейными сценами, увеселительными прогулками, изображениями пахоты и занятиями ремеслами; эти идиллии свободны от мучительной – гомеровской – рефлексий и дают нам светлую и сочную картину всей жизни, выполненную с неподражаемой чувственной грацией. Мы так часто говорим о светлом настроении людей других культур, называя при этом Гомера, Феокрита, Вальтера фон дер Фогельвейде, Рабле и Моцарта. Но даже в высшие моменты своего бытия греки не достигали светлого настроения, не говоря уже о флорентийцах, нидерландцах, Рафаэле и Рубенсе. Это состояние – «счастье». Лишь оно делает символику храма-пирамиды совершенной. Рядом с архитектоническим формальным элементом, который постигает и преодолевает идею смерти, стоит лирический, подражательный элемент, который облекает в художественные образы жизнь. В готике первый элемент создал художественный мир соборов, а второй – мир эпических сказаний; оба эти мира были, таким образом, разделены, здесь же было достигнуто возвышенное единство при помощи отнесения всего к символу пути.
Однажды Гете постиг счастье своего существования, сказавши: «Когда мне было восемнадцать лет, Германии тоже было только восемнадцать». Из всех культур, может быть, только одна египетская познала это счастье. Когда она родилась, впервые началась высшая ступень человеческого бытия. Эти идиллии, подражательное, а не символическое искусство, возникли из любви к миру молодой культуры, из чистой радости распускающейся жизни. Глубокая, ясная жизнерадостность, не смущаемая зрелищем более древних, умерших культур – перед глазами греков был уже седой Восток, перед нами – гибель «античного мира», – светлая духовность, ощущение полноты своих сил, господство над собой, ясное сознание цели, осуществляемый в жизни и привычный строгий порядок и дисциплина, никаких тяжелых снов, никаких порхающих желаний, никакой трусливой стоической умеренности, никакого принужденного веселья Возрождения или «galēnē» перикловской эпохи, результата резиньяции, но наивное, полное, непосредственное счастье – вот о чем говорит нам язык барельефов, украшающих путь в гробницы царей.
12.
Египетский стиль есть выражение отважной души. Его строгость и значительность никогда не ощущались и не подчеркивались египтянами. Египтяне отваживались на все, но они не хвастались. В готике и барокко преодоление тяжести становится постоянно сознаваемым мотивом языка художественных форм. Драма Шекспира ясно говорит о мучительной борьбе между волей и миром. Античный человек чувствовал свою слабость перед «высшими силами». «Катарсис» страха и сострадания, отдых аполлоновской души в момент перипетии – таково было, по мнению Аристотеля, действие аттической культовой трагедии. Когда грек имел перед собой зрелище другого человека, которого он знал – ибо всякий знал миф и жил с ним и в нем – и который, будучи бессмысленно раздавлен роком, даже и не думал о каком-либо противодействии высшим силам, благородно и героически погибал, то это зрелище действительно вызывало в его эвклидовской душе чудесный подъем. Если жизнь ничего не стоила, то был все же величественный жест, с которым грек ее терял. Грек ничего не хотел и ни на что не отваживался, но он находил опьяняющую красоту в претерпевании. Об этом свидетельствует уже образ Одиссея, в гораздо большей степени типичный для эллина, чем образ Ахилла. Мораль циников, Стой, Эпикура, общий эллинский идеал «софросюны» и «атараксии», поклонник «дейкии» Диоген в своей бочке – все это замаскированная трусость, очень отличная от отваги египетской души; аполлоновский человек, в сущности, уклоняется от встречи с жизнью; эту тенденцию он доводит вплоть до самоубийства, которое в одной только этой культуре приобрело значение положительного этического акта и совершалось с торжественностью сакрального символа; дионисовское опьянение является средством заглушить сомнения, остававшиеся неизвестными египетской душе. Греческая архитектура, в которой опора всегда пропорциональна поддерживаемой тяжести, которой свойственны маленькие масштабы, постоянно уклоняется от трудных тектонических проблем, в разрешении которых нильская и позже рейнская культура смутно ощущала свой долг и которые знала и не избегала микенская эпоха. Египтянин любил твердый камень массивных построек; он отвечал его склонности выбирать только самую трудную задачу; грек избегал его. Достойно внимания, что грек, будучи наследником высокоразвитого микенского искусства обращения с камнем и живя к тому же в скалистой стране со скудными лесами, вернулся к употреблению дерева. Стремление к долговременности вовсе не свойственно его технике. Его архитектурное искусство сначала ограничивалось маленькими задачами, а затем и вовсе перестало существовать. Если мы сравним всю совокупность произведений греческой архитектуры с совокупностью произведений индийской, египетской или даже западноевропейской архитектуры, то мы поразимся незначительностью зрелища. Вся греческая архитектура исчерпывается несколькими вариациями храма дорического типа и кончается изобретением коринфской капители (около 400 г.). Все позднейшее есть комбинация достигнутого прежде.
Стиль – как и манускрипт – ничего не утаивает. Античное бытие, как бы ни верили в его жизненность, держится только удивительною способностью к мудрому ограничению. Ему не было свойственно душевное мотовство. Все оно – теперь и здесь, все – на переднем плане жизни; в его образе мира отсутствуют дали рождения и смерти, прошлого и будущего, ибо их усвоение предполагает совсем другое напряжение воли и совсем другие душевные силы; оно страшится тех далей, о которых глубокомысленно намекает праэллинский миф, живо звучащий еще у Эсхила.
Вот откуда аполлоновский принцип разграничения произведений искусства и форм жизни. Вот почему грек отвергает историю, как отвергает пространственные дали. Одинокий храм, одинокая статуя, одинокий город – точки, куда возвращается бытие, подобно улитке, возвращающейся в свою раковину. Всякая другая культура знает политические действия на больших расстояниях, колонии и колониальные государства. Но сотни крошечных греческих городов представляют собою столько же политических центров; они, согласно Цицерону, «как эллинская кайма, пришиты к землям варваров». Всякая попытка оказать воздействие на колониальные города в смысле образования более крупного политического организма тотчас же приводила к свирепым войнам (Коринф и Коркира около 670 г.). Каждый храм с его штатом жрецов образуем религиозный атом. Едва ли было уделено должное внимание гротеску этого явления. Дураки нашли здесь «здоровое отвращение эллинов к клерикализму». Хотя Аполлон и Афина по имени являются общеэллинскими божествами, у них нет никакого общего культа. Поэзия не должна вводить нас в заблуждение. Великие имена богов были до некоторой степени (далеко не всецело) общим достоянием, но numen [21], обозначаемый словом «Аполлон», был в каждой местности чем-то совершенно самостоятельным. Святилища Зевса в Додоне, Олимпии и других местах ничем не связаны друг с другом, как не связаны друг с другом храмы различных богов в одном и том же городе. О религиозных общинах в смысле жречества Ра, религии Митры, древнеперсидских, древнехристианских общин или сект ислама и протестантизма не может быть и речи даже у орфиков и пифагорейцев. Но такова же основная черта аттической пластики – статуи, свободно стоящей в пространстве и совершенно независимой. Эта черта повторяется в образе каждого античного города. Никакого широко задуманного расположения улиц, никакой планомерно сооруженной площади; запутанное переплетение построек и скульптурных произведений на Акрополе и в священных округах Дельфов и Олимпии. Только эллинизм мировых столиц приобретает вкус к подражанию восточным планам городов, построенных в строгом порядке, свойственном духу восточной общественности.
Организм исторического чередования стилей становится теперь доступным обозрению. Стили следуют друг за другом не так, как волны или биения пульса. Они не зависят от личности отдельного художника, его воли и сознания. Наоборот, стиль a priori лежит в основе феномена художественной индивидуальности. Стиль, как и культура, есть первичный феномен в том строгом смысле, который придавал этому слову Гете, будем ли мы иметь в виду стиль искусств, государственных образований, мыслей, чувств, форм выражения религиозного сознания или других групп реальностей. Как «природа» есть всегда новое переживание человека, являющееся общим термином для обозначения наличного характера его становления, являющееся его alter ego и зеркальным отражением, так этими же свойствами можно характеризовать стиль. Поэтому в историческом образе целой культуры может быть только один стиль, именно – стиль этой культуры. В корне ошибочно называть разными стилями то, что на самом деле есть только фазы одного и того же стиля, как то: романское искусство, готика, барокко, рококо, ампир, и приравнивать их системам совсем другого порядка – египетскому, дорическому или мавританскому стилю – или даже такому явлению, как «доисторический стиль». Готика и барокко – это юность и старость одной и той же совокупности форм, зреющий и созревший стиль Запада. Нашей эстетике не хватает дистанции, беспристрастия и доброй воли к абстракции. Ведь так удобно называть «стилями» все без исключения отчетливо ощущаемые различия форм. Едва ли стоит упоминать, что схема «Древность – Средневековье – Новое время» и здесь окончательно спутала правильный взгляд на вещи. На самом деле даже артистическое произведение строгого Возрождения, как, например, двор палаццо Фарнезе, стоит бесконечно ближе к притвору св. Патрокла в Сесте, внутренности Магдебургского собора и отделке лестниц южногерманских замков XVIII столетия, чем к храму в Пестуме или Эрехтейону. То же отношение существует между дорикой и ионикой. Поэтому ионийская колонна может давать такое же совершенное соединение с дорическими формами, какое дают поздняя готика и раннее барокко в церкви св. Лаврентия в Нюрнберге или позднее романское искусство и позднее барокко в прекрасной верхней части майнцского западного хора. Вот почему наш глаз едва только научился различать в египетском стиле элементы Древнего и Среднего царства, соответствующие дорически-готической юности и ионически-барочному зрелому возрасту: после XII династии эти элементы с совершенной гармонией взаимно переплетаются друг с другом в художественных формах всех великих произведений египетской культуры.
13.
Истории искусств предстоит задача написать сравнительные биографии великих стилей. Все они, будучи организмами одного и того же рода, имеют родственную структуру своей жизненной истории.
Всюду перед нами сначала робкое, скромное, чистое выражение только что просыпающейся души, еще ищущей своего отношения к миру, которому, хотя он и является ее собственным созданием, она все же противостоит как чужая и отчужденная. В постройках епископа Бернварда из Хильдесхайма, в древнехристианской живописи катакомб и колонных залах начала VI династии заключен какой-то детский страх. Ранняя весна искусства, глубокое предчувствие будущей полноты форм, мощное, но сдерживаемое напряжение разлиты над ландшафтом, который, еще совсем крестьянский, украшается первыми бургами и маленькими городами. Затем следует ликующий взлет в позднюю готику, в барельефы константиновской эпохи, с ее колонными базиликами и купольными храмами, и к украшенным барельефами храмам V династии. Бытие становится теперь понятным; распространяется блеск совершенных, артистических художественных форм, и стиль созревает для выражения величественной символики глубины и судьбы. Но юношеское опьянение кончается. Из самой души рождается противоречие. Возрождение, дионисовски-музыкалъвая враждебность против аполлоновской дорики, египтизирующий стиль Византии около 450 года, в противоположность светлому и ленивому антиохийскому искусству, означают фазу уклонения, намеренного разрушения достигнутого; объяснение этих явлений очень сложно и здесь неуместно.
Вслед за тем наступает зрелый возраст души. Культура проникается духом больших городов, которые теперь господствуют над ландшафтом; они одухотворяют также стиль. Возвышенная символика блекнет; буйство сверхчеловеческих форм приходит к концу; более мягкие светские искусства вытесняют великое искусство обработки камня: даже в Египте пластика и фреска отваживаются на более легкие движения. Является художник. Он «сочиняет» теперь то, что раньше вырастало из земли. Еще раз бытие, ставшее бессознательным и отрешенным от местного, мечтательного и мистического элемента, останавливается в недоумении и устремляется к выражению своего нового определения: таково начало барокко, когда Микеланджело в состоянии дикой неудовлетворенности восстал против ограниченности своего искусства и воздвиг купол св. Петра; такова эпоха Юстиниана I, когда около 520 года возникают Святая София и украшенные мозаиками купольные базилики Равенны; таковы эпохи около 2000 года в Египте и около 600 года в Греции. Много позже Эсхил раскрыл то, что греческая архитектура этой решающей эпохи могла и должна была выразить.
Затем наступают прозрачные осенние дни стиля: еще раз он изображает счастье души, достигшей сознания своего последнего совершенства. «Возврат к природе», почувствованный и возвращенный как насущная необходимость мыслителями и поэтами, Руссо, Горгием и представителями других культур того же возраста, в художественных формах обнаруживается, как ощущение и предчувствие конца. Ясная духовность, светлая изысканность и грусть расставания – об этих последних красочных десятилетиях культуры Талейран позже сказал: «Кто не жил до революции 1789 года, тот никогда не наслаждался жизнью». Так является свободное, солнечное, уточненное искусство эпохи Сезостриса и Аменемхета (после 2000 г.). Таковы же краткие моменты удовлетворенного счастья, когда под властью Перикла возникло пестрое великолепие Акрополя и произведения Фидия и Праксителя. Мы находим их тысячелетие спустя, во времена Абассидов, в светлом, сказочном мире мавританских построек, с их хрупкими колоннами и подковообразными арками, которые могли бы раствориться в воздухе, в блеске арабесок и сталактитов, и еще тысячелетие спустя – в камерной музыке Гайдна и Моцарта, в группах пастушков мейсенского фарфора, в картинах Ватто и Гварди и в сооружениях немецких архитекторов в Дрездене, Потсдаме, Вюрцбурге и Вене.
Затем стиль гаснет. Вслед за чрезвычайно одухотворенными, хрупкими и близкими к самоуничтожению художественными формами Эрехтейона и дрезденского Цвингера появляется вялый и старческий классицизм одинаково в эллинистических больших городах, в Византии 900 года и в северном ампире. Мимолетное оживление в архаической или эклектической манере пустых заимствованных форм означает конец. «Стили», изображаемые на сцене, и экзотические заимствования должны заменить недостаток судьбы и внутренней необходимости. Полусерьезность и сомнительная подлинность господствуют в искусстве. В таком положении находимся мы сегодня. Происходит утомительная игра мертвыми формами, и таким способом пытаются сохранить иллюзию живого искусства.
14.
Если мы освободимся от иллюзии оболочки, которая архаическим или эклектическим применением внутренне давно умерших художественных приемов совершенно заглушает душу молодого Востока императорского периода; если мы усмотрим весну арабского стиля в древнехристианском искусстве и во всем, что в позднеримскую эпоху было действительно жизненно; если в эпохе Юстиниана I мы найдем точную параллель испанско-венецианского барокко, которое царило в Европе при великих Габсбургах, Карле V и Филиппе II; если мы найдем во дворцах Византии (с их величественными изображениями битв и торжественных сцен, давно погибшее великолепие которых было прославлено в эвфуистически напыщенных речах и стихах таких придворных писателей, как Прокопий Кесарийский), если мы найдем в них Мадрид, Рубенса и Тинторетто, – только тогда приобретет ясные очертания явление арабского искусства, которое наполняет все первое тысячелетие нашей эры и которое никем до сих пор не рассматривалось как единое целое. Так как оно занимает весьма важное место в общей схеме истории искусств, то неправильное его понимание вредило уразумению необходимейших органических связей.
Замечательное зрелище! Кто впервые увидел до сих пор неизвестные вещи, тот поражен, как эта молодая душа, скованная формами античной цивилизации и не отваживавшаяся свободно пошевелиться, будучи загипнотизирована прежде всего политическим всемогуществом Рима, – как эта душа смиренно подчинилась ветхим и чуждым ей формам и пыталась удовольствоваться греческим языком, греческими идеями и элементами греческого искусства. Пламенная отдача силам молодого дневного мира, свойственная юности всякой культуры, смирение готики, с ее благочестивыми пространствами, заключенными под высокими сводами, с ее статуями в нишах и пронизанною светом живописью на стекле, высокое напряжение египетской души, окруженной миром пирамид, лотосообразных колонн и украшенных барельефами зал на Ниле, смешивается здесь с духовным преклонением перед умершими формами, которые почитаются как вечные. Несмотря на это, заимствование и дальнейшее развитие античных форм ей не удалось; против воли и незаметно, без всякой гордости готики своим – напротив, здесь, в Сирии императорского периода, почти что сожалели о своей оригинальности и считали ее упадком, – вырос законченный новый мир форм, который подчинил своему духу – под маской греко-римских архитектурных приемов – самый Рим, где сирийские мастера работали над Пантеоном и императорскими форумами. Все это как нельзя лучше доказывает нетронутую силу молодой души, которая должна завоевать себе свой мир.
Историю души этой младенческой эпохи рассказывает базилика, тип восточного храма, начиная с ее и сейчас еще загадочного происхождения из поздне-эллинистических форм и вплоть до завершения центральным куполом над Св. Софией. С самого начала она мыслилась как внутреннее пространство – в нем нашло себе выражение магическое мироощущение. Античный храм до сих пор был телом. Но мы не можем понять этого раннеарабского искусства, если будем, как принято в наше время, трактовать его как искусство всецело древнехристианское и ограничиваться пределами распространения этой религиозной общины. В таком случае нам следовало бы рассматривать изолированно также искусство культов Митры, Изиды и Солнца, искусство синагог неоплатонизма со стороны их архитектуры, символики и орнамента и затем из группы этих обнаружений одной и той же художественной воли выделить раннеарабское искусство как некоторое единство. Но сила античной опеки почти никогда не позволяла ему обнаруживаться в чистом виде. Раннехристианское позднеантичное искусство обнаруживает в отношении орнамента и фигур то же самое смешение унаследованного чужого и только что рожденного своего, какое свойственно каролингско-раннероманскому искусству. Там происходит смешение эллинистического с раннемагическим, здесь – мавританско-византийского с фаустовским. Чтобы отделить друг от друга оба слоя, историк искусства должен исследовать в отношении чувства формы каждую линию, каждый орнамент. Каждый архитрав, каждый фриз, каждая капитель содержит в себе тайную борьбу между желаемыми старыми и нежелаемыми, но победоносными новыми формами. Повсюду взаимопроникновение позднеэллинистического и раннеарабского чувства формы сбивает нас с толку: в портретных бюстах города Рима, где часто только прическа принадлежит новым художественным формам; в завитках аканфа часто одного и того же фриза, где работа резца и сверла проникнута разным духом; в саркофагах II века, где примитивное настроение в манере Джотто или Пизано переплетается с упадочным натурализмом больших городов, напоминающим нам Давида или Карстенса, и в таких сооружениях, как построенный сирийцем Пантеон (первомечеть!), базилика Максенция и форум Траяна, рядом с которыми стоят еще вполне античные по духу части терм и императорские форумы, форум Нервы например.
И все же арабской душе не дано было пережить расцвета: она оказалась подобной молодому деревцу, росту которого мешает рухнувший ствол первобытного леса. У арабского искусства нет яркой эпохи, которая была бы почувствована и пережита как таковая, подобно эпохе крестовых походов, когда деревянное покрытие соборов заменяется крестовыми сводами и идея бесконечного пространства символизируется и завершается их внутренним устройством. Красота политического творения Диоклетиана – первого халифа – была помрачена тем, что ему приходилось считаться с наличностью на античной почве целой массы римских административных навыков, которые низвели его создание до простой реформы старых сословий. И все же он выводит на свет идею арабского государства. Только его государство и политический тип возникшего одновременно с ним государства Сасанидов дают нам почувствовать идеал, который должен был получить развитие в ту эпоху. И так было повсюду. Вплоть до настоящего момента мы изумляемся как последним творением античности таким явлениям, которые и сами, впрочем, не хотели быть понятыми иначе: мыслям Плотина и Марка Аврелия, культам Исиды, Митры, Солнца, математике Диофанта и всему тому искусству, которое Возрождение пыталось впоследствии оживить как «античное», – искусству, из которого было исключено все подлинно греческое.
Лишь этот факт объясняет необычайный пыл, с которым арабская культура, освобожденная и раскованная наконец исламом, устремилась на все те земли, которые были ее духовным достоянием уже в течение столетий, – свойство души, которая чувствует, что она не должна терять ни одной минуты, которая в страхе замечает появление старческих черт еще до того, как она успела пожить жизнью юности. В 634 году была покорена – правильнее было бы сказать, освобождена – Сирия, в 635-м – Дамаск, в 637-м – Ктезифон, в 641-м – Египет и Индия, в 647-м – Карфаген, в 676-м – Самарканд, в 710 году – Испания; в 732 году арабы стоят под Парижем. Так спешит вылиться вся накопленная страстность, запоздалое творчество, задержанная энергия; другие, медленно вырастающие культуры могли бы заполнить всем этим историю целых столетий. Крестоносцы перед Иерусалимом, Гогенштауфены на Сицилии, Ганза в Балтийском море, орденские рыцари на славянском востоке, испанцы в Америке, португальцы в Ост-Индии, империя Карла V, в которой никогда не заходило солнце, начало английского колониального могущества при Кромвеле – все это выливается здесь в один разряд, который привел арабов в Испанию, Францию, Индию и Туркестан.
Правда, все культуры, за исключением египетской и, может быть, китайской, выросли под влиянием более древних культур; чуждые элементы появляются в каждом из этих миров. Фаустовская душа готики, уже благодаря арабскому происхождению христианства привыкшая с благоговением относиться к своему источнику, с жадностью устремилась к богатой сокровищнице позднеарабского искусства. Арабески, созданные бесспорно южной, я решился бы сказать – арабской готикой, опутывают фасады соборов Бургундии и Прованса, сообщают магическое очарование камням Страсбургского собора. Повсюду – на статуях и порталах, в тканях, резной работе, металлических изделиях, в кудрявых фигурах схоластического мышления и в одном из высочайших символов Запада, в легенде о священном Граале, – эта арабская готика ведет незаметную борьбу с северным мироощущением викинговской готики, которым мы проникаемся, например, внутри Магдебургского собора, которое свойственно верхним частям Фрейбургского собора и мистике Мейстера Эккарта. Стрельчатая арка готики не раз обнаруживает тенденцию превратиться в подковообразную арку мавританско-норманнских построек.
Аполлоновское искусство ранней дорики, первые достижения которого для нас почти что потеряны, несомненно, заимствовало египетские формы, например тип фронтальной статуи и мотив колоннады, и на этом фундаменте выработало впоследствии свою собственную символику. Одна только магическая душа, заимствуя чужие средства, отдавалась им всецело; вот почему психология арабского стиля допускает такое бесконечное множество объяснений.
15.
Так, из идеи макрокосма, которая в проблеме стиля предстоит перед нами в более упрощенном и в более понятном виде, вырастает множество задач, разрешение которых принадлежит будущему. Использовать мир художественных форм для проникновения в душевное начало, понимая эти формы чисто физиогномически и символически, – вот начинание, попытки которого, сделанные до сих пор, поражают бедностью мысли. Мы совсем не знаем действительной психологии основных архитектонических форм. Мы не чувствуем, какой смысл заключен в изменении значения, которое претерпевают такие формы, когда они заимствуются другою культурою. История души колонны еще никогда не была рассказана. Мы не имеем никакого понятия о глубине символики художественных средств, орудий искусства. Я здесь только намечаю некоторые из этих задач, более же обстоятельно займусь ими впоследствии.
Мозаики, которые в эпоху эллинской культуры составлялись из кусочков мрамора, были непрозрачными, телесными, эвклидовскими и служили украшением пола, как, например, знаменитая битва Александра в Неаполе, с пробуждением арабской души складываются из кусочков стекла, окружаются золотым фоном и как бы окутывают стены и своды купольных базилик. Эпохе этой раннеарабской, идущей из Сирии мозаичной живописи вполне соответствует эпоха живописи на стекле готических соборов; это два ранних искусства на службе религиозной архитектуры. Одно при помощи льющегося внутрь света расширяет пространство храма до размеров мирового пространства, другое превращает его в ту магическую сферу, золотое мерцание которой отрешает от земной действительности и возносит в область видений Плотина, Оригена, манихеян, гностиков и отцов церкви, в область апокалипсических образов – начиная с апокалипсиса Иоанна и вплоть до апокалипсиса столпника Ефрема IV столетия.
То же самое можно сказать относительно богатого мотива соединения круглой арки с колоннами, которое точно так же есть плод сирийского творчества III столетия – эпохи Высокой готики. До сих пор даже в отдаленной степени не было познано выдающееся значение этого специфически магического мотива, который, по общепринятому мнению, есть античный мотив и для большинства даже кажется особенно характерным признаком античности. Для египтянина его растительные колонны не были особенно тесно связаны с покрытием. Они изображали рост, а не силу. Античный человек, для которого монолитная колонна – замкнутое тело, замкнутое единство и покой, – была самым ярким символом эвклидовского бытия, связывал ее с архитравом, соблюдая строгое соответствие вертикальной и горизонтальной линий, силы и тяжести. Но здесь – любопытно отметить трагикомическое заблуждение Возрождения, для которого этот мотив, как мотив чисто античный, стал излюбленным, тогда как античность вовсе не владела им и не могла владеть! – отрицая материальный принцип тяжести и косности, из стройных колонн вырастает легкая арка; воплощенная таким образом идея освобождения от всякой земной тяжести глубоко родственна современной ей идее свободно парящего над землей купола – магическому мотиву большой силы выражения, который вполне логически достиг наивысшей степени совершенства в мавританском рококо мечетей, например в мечетях Кордовы, где кажется, что колонны неземной нежности, часто вырастающие прямо из земли, без всякого базиса, способны только каким-то тайным волшебством поддерживать весь этот мир бесчисленных зарубчатых арок, светящихся орнаментов, сталактитов и насыщенных красками сводов. Чтобы подчеркнуть все значение этой основной архитектонической формы арабского искусства, мы назовем связь колонны и архитрава аполлоновским лейтмотивом, колонны и круглой арки – магическим, колонны и стрельчатой арки – фаустовским.
Возьмем, далее, историю мотива аканфа. Та его форма, в которой он появляется на памятнике Лисистрата, есть одна из характернейших для античной орнаментики. У него есть тело. Он остается отдельной вещью. Структура его схватывается одним взором. Уже в искусстве римских императорских форумов (Нервы, Траяна), на храме Марса-Мстителя, он более тяжел и богат содержанием. Органическое расчленение так усложняется, что обыкновенно нуждается в изучении. Обнаруживается тенденция заполнятьплоскости. В византийском искусстве – о «латентных сарацинских чертах» которого говорит уже А. Ригль, не чувствуя, однако, раскрытой здесь связи, – листок аканфа распадается на бесчисленные завитки, которые, как в Святой Софии, совершенно неорганически покрывают и устилают целые поверхности. К античному мотиву привходят прасметические мотивы виноградного листа и пальметты, которые занимают большое место уже в древнеиудейском орнаменте. Заимствуется мотив плетенки «позднеримских» мозаичных полов и углов саркофагов, а также геометрический мотив плоскости; в результате в Сирии и в царстве Сасанидов возникает арабеска, с ее все нарастающим движением и спутанностью рисунка. Она до крайности антипластична и является подлинно магическим мотивом. Сама бесплотная, она делает бесплотным предмет, который она покрывает своим бесконечным рисунком. Мастерским произведением этого рода, куском архитектуры, который всецело подчинен орнаментике, является фасад построенного Хасанидами пустынного замка М'шатта (теперь в Берлине). Распространившееся по всему Западу и всецело полонившее государство Каро-лингов искусство византийско-исламистского стиля было большею частью произведением восточных художников или ввозилось, как товар, с Востока. Равенна, Лукка, Венеция, Гранада суть центры, откуда распространяются эти художественные формы тогдашней высокой цивилизации, которая безраздельно царила в Италии еще около 1000 года, когда на Севере уже сложились и выковывались формы новой культуры.
В заключение – об изменении пластического понимания человеческого тела. С победой арабского мироощущения оно испытывает полнейшую метаморфозу. Почти в каждой римской голове ватиканского собрания, произведениях искусства от 100 до 250 года, противоположность аполлоновского и магического ощущения выражается сосредоточением внимания на мускулатуре, с одной стороны, и на «взгляде» – с другой. Начинают часто пользоваться – даже в самом Риме со времени Адриана – буравом, инструментом, который совершенно претил эвклидовскому ощущению камня. Телесность, материальность мраморной глыбы утверждается работой резца, который как бы подчеркивает ограничивающие поверхности, и отрицается буравом, который ломает поверхности и вследствие этого создает эффект светотени. В соответствии с этим утрачивается вкус к явлению нагого тела, одинаково и у «языческих» и у христианских художников. Рассмотрите плоские и пустые статуи Антиноя, которые, по общему мнению, являются вполне античными. В них достойна внимания в физиогномическом отношении только голова, чего никогда не бывает в аттической пластике. Одежда приобретает совершенно новый смысл, который доминирует над всем произведением. Статуи консуларов на Капитолии служат наилучшими примерами этого. Благодаря пробуравленным зрачкам направленных вдаль глаз все выражение отвлекается от тела и вкладывается в тот «пневматический», магический принцип, который принимается за господствующее начало в человеке как неоплатонизмом и постановлениями христианских соборов, так равно и религией Митры и римским городским культом Исиды.
Примечания
1
в зародыше, в зачатке (латин.).
(обратно)2
всеобщее согласие (латин.).
(обратно)3
хлеба и зрелищ (латин.).
(обратно)4
быть – значит быть воспринимаемым (латин.).
(обратно)5
Двигайтесь вперед, и вы постигнете закономерность (франц.).
(обратно)6
с точки зрения вечности (латин.).
(обратно)7
Соответственно: детство, отрочество, юность, зрелость, старость (латин.).
(обратно)8
Здесь: «божья воля» (франц.).
(обратно)9
Лови день (латин.), то есть пользуйся сегодняшним днем, лови мгновение. Девиз эпикурейцев.
(обратно)10
Когда в Бесконечном одно и то же вечно течет, повторяясь, многообразные своды мощно смыкаются воедино, тогда радость бытия струится из всех вещей, из малейшей, как и величайшей, звезды, и все стремленье, и все боренье есть вечный покой в Господе Боге (нем.).
(обратно)11
Крайняя мера, последнее средство (латин.).
(обратно)12
великая нация (франц.).
(обратно)13
старый строй, старый порядок (франц.). Государственное устройство и бытовой уклад во Франции до революции 1789 года.
(обратно)14
самое существенное, самое главное (франц.).
(обратно)15
Здесь: пустяки, незначительные факты, события (франц.).
(обратно)16
Здесь: в параллель, в дополнение (франц.).
(обратно)17
Орфическая формула освобождения души, заключенной в человеческом теле (sōma), как в гробнице (sēma).
(обратно)18
средство умиротворения небесного гнева (латин.).
(обратно)19
Здесь: свобода действий, независимость (франц.).
(обратно)20
Свод законов (латин.).
(обратно)21
Здесь: изображение или статуя бога (латин.).
(обратно)



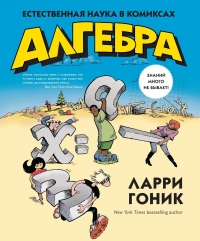
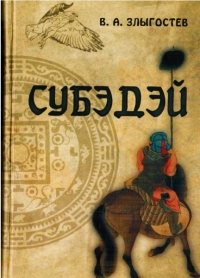


Комментарии к книге «Закат Европы», Освальд Шпенглер
Всего 0 комментариев