Стивен Вайнберг Объясняя мир. Истоки современной науки
Переводчик Виктория Краснянская
Научные редакторы Дмитрий Баюк, к. ф.-м. н.; Владимир Сурдин, к. ф.-м. н.
Редактор Антон Никольский
Руководитель проекта И. Серёгина
Корректор М. Миловидова
Компьютерная верстка A. Фоминов
Дизайн обложки Ю. Буга
Карта звездного неба на обложке Shutterstock
Рисунок глаза на обложке Pepin van Roojen
Издание подготовлено при поддержке Фонда Дмитрия Зимина «Династия»
Фонд некоммерческих программ «Династия» основан в 2002 году Дмитрием Борисовичем Зиминым, почетным президентом компании «Вымпелком». Приоритетные направления деятельности Фонда – поддержка фундаментальной науки и образования в России, популяризация науки и просвещение. «Библиотека Фонда «Династия» – проект Фонда по изданию современных научно-популярных книг, отобранных экспертами-учеными. Книга, которую вы держите в руках, выпущена под эгидой этого проекта.
© Steven Weinberg, 2015
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2015
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
* * *
Посвящается Луизе, Элизабет и Габриель Вообрази: пока мы тут, гуляя, С тобой беседовали, дорогая, За нашею спиной Ползли две тени, вроде привидений; Но полдень воссиял над головой Мы попираем эти тени! Джон Донн. Лекция о тени[1]Предисловие
Я физик, а не летописец, но с годами меня все больше и больше очаровывает история науки. Это необычайно интересная тема, одна из самых захватывающих в истории человечества. Мы, ученые, делаем на нее особую ставку. Те исследования, которые ведутся сегодня, берут свое начало в прошлом, на них ложится отсвет достижений предыдущих поколений – история науки вдохновляет ученых в их работе. Каждый из нас надеется внести хотя бы маленький вклад в грандиозную летопись естественной науки.
В своих книгах я много говорил об истории, но это в основном была история развития науки позднейшего времени, начиная со второй половины XIX в. до наших дней. И хотя за этот период мы узнали невероятно много новых фактов, цели и методы физики существенно не изменились. Если бы некоему физику из 1900 г. рассказать о нынешней Стандартной модели, применяемой в космологии или в физике элементарных частиц, он узнал бы много непривычного и удивительного, но сам принцип поиска выраженной на языке математики теории, выводы которой подтверждаются экспериментальным путем и объясняют целые категории явлений, был бы вполне понятен и знаком ему.
Пришло время, и я решил «копнуть глубже», чтобы получше узнать ранние эпохи научного познания, когда цели и методы физики и астрономии еще не сформировались в нынешнем виде. Следуя естественному для профессора университета пути, для того, чтобы самому узнать что-то новое, я решил заняться преподаванием интересующей меня области знаний как предмета. В Техасском университете за последние десять лет я на протяжении нескольких лет читал курс истории физики и астрономии для студентов старших курсов, не имеющих специальных знаний в области физики, математики или истории. Накопившихся при подготовке заметок мне хватило, чтобы написать эту книгу.
Но по мере того, как книга обретала форму, я увидел, что у меня получается нечто большее, чем простой нарратив: отражение того, как современный ученый воспринимает опыт науки прошедших эпох. В этой работе я пользуюсь возможностью раскрыть свое видение природы физической науки и ее неразрывной связи с религией, техникой, философией, математикой и эстетикой.
В доисторический период существовало что-то вроде науки. Природа все время демонстрировала множество загадочных явлений: огонь, грозы, эпидемии чумы, движение планет, свет, приливы и т. д. Наблюдение за миром вело к полезным обобщениям: огонь горячий, гром предвещает дождь, приливы выше в полнолуние и новолуние и т. д. Эти сопоставления стали частью эмпирических знаний человечества. Но появились люди, которых не удовлетворяло простое коллекционирование фактов. Они хотели объяснить мир.
Это было нелегко. Наши предшественники не только не знали того, что известно нам; что важнее, они не разделяли наши понятия о том, каким образом и что именно следует изучать в природе. Снова и снова, готовясь к очередной лекции моего курса, я поражался тому, насколько отличается методология науки минувших веков от современной. Цитируя знаменитые слова из известного романа Л. Хартли[2], «прошлое – это чужая страна; обычаи его обитателей отличаются от наших». Я надеюсь, что мне удастся донести до читателей не только смысл событий, ставших вехами в истории точных наук, но и то, как трудно давались ученым того времени научные достижения.
Таким образом, моя книга не только о том, как мы пришли к пониманию различных явлений и свойств окружающего мира. Любой труд по истории науки рассказывает об этом. Основное внимание в книге сосредоточено на том, как мы научились изучать мир.
Я отдаю себе отчет, что слово «объясняя» в заглавии книги поднимает вопросы, актуальные для философии науки. Они часто указывают на то, что трудно провести четкую границу между объяснением и описанием (мне придется сказать об этом несколько слов в главе 8). Но эта работа скорее по истории науки, а не по ее философии. Под объяснением я имею в виду нечто заведомо неопределенное, примерно то же, что в обычной жизни получается, когда мы пытаемся объяснить, почему лошадь выиграла скачки или почему самолет разбился.
Слово «истоки» в подзаголовке тоже довольно противоречиво. Я размышлял о том, не стоит ли дать книге подзаголовок «Открытие современной науки». В конце концов, не может же наука существовать отдельно от занимающихся ею людей. Тем не менее я выбрал слово «истоки» взамен слова «открытие», чтобы подчеркнуть, что наука такова, как она есть, не в результате цепочки каких-то состоявшихся по счастливой случайности исторических изобретений, а просто потому, что она – естественное отражение природы. Несмотря на все свои несовершенства, современная наука – это способ познания, достаточно точный, чтобы с его помощью устанавливать достоверные факты об окружающем мире. В этом смысле рано или поздно люди должны были эту технику познания открыть.
Таким образом, можно рассуждать об истоках науки примерно так же, как историки рассуждают об истоках сельского хозяйства. Несмотря на свое многообразие и несовершенство, сельское хозяйство работает, поскольку его методика хорошо приспособлена к конечной задаче – выращивать пищу.
Называя так книгу, я хотел бы отмежеваться от немногих оставшихся социальных конструктивистов: тех социологов, философов и историков, которые пытаются объяснить не только процесс научного познания, но и его результаты особенностями специфической культурной среды.
Из всех отраслей науки наибольший упор в моей книге сделан на физике и астрономии. Причина в том, что именно в физике, особенно в ее приложении к решению астрономических задач, наука впервые обрела свою современную форму. Конечно, есть границы тому, насколько закономерности развития таких наук, как, например, биология, чьи принципы очень тесно связаны с определенной последовательностью исторических случайностей, могут или должны соотноситься с закономерностями физики как с моделью. Тем не менее есть резон рассматривать развитие биологии и химии в XIX и XX вв. в сравнении с моделью революции в физике в XVII в.
Наука сейчас интернациональна и, возможно, является самым общечеловеческим аспектом деятельности современной цивилизации, но зарождение современной науки произошло в той части света, которую можно очень условно обозначить как «Запад». Современная наука пользуется методами, разработанными во времена научной революции в Европе, материалом для которой, в свою очередь, послужили труды европейских и ближневосточных арабских ученых Средних веков, которые, в конечном счете, основывались на рано созревшей науке Древней Греции. Запад заимствовал научное знание из многих источников: геометрию – из Египта, астрономию – из Вавилона, арифметику – из Вавилона и Индии, магнитный компас – из Китая и т. д., но, насколько мне известно, Запад ни у кого не перенял методы современного научного познания. Поэтому в моей книге особое значение придается именно Западу (включая средневековый ислам), в противоположность мнению Освальда Шпенглера и Арнольда Тойнби: мне почти нечего сказать о науке в иных частях света и совсем нечего о занятном, но совершенно изолированном развитии культур доколумбовой Америки.
Рассказывая обо всем этом, я неоднократно буду скользить в опасной близости от грани, которую нынешние историки старательно избегают, – суждения о прошлом по стандартам нашего времени. Это будет повествование без должного почтения. Я не останавливаюсь перед критикой методов и достижений прошлого с позиций нынешнего знания. Мне даже доставило удовольствие отыскать кое-какие ошибки признанных в истории научных авторитетов, ошибки, о которых обычно молчат историки.
Часто случается так, что какой-нибудь историк проводит годы, изучая труды великого человека, и в конце концов поддается искушению чрезмерно превозносить своего героя. Я наблюдал, как такое случалось с теми, кто описывал труды Платона, Аристотеля, Авиценны, Гроссетеста или Декарта. Но это не означает, что я вознамерился обозвать всех философов прошлого дураками. Напротив, показывая, как далеки были эти обладатели великолепного интеллекта от современных концепций науки, я хочу продемонстрировать, как был труден и неочевиден путь к открытию методов научного познания, нынешних общепринятых практик. С другой стороны, это же говорит нам о том, что не стоит считать построение здания науки завершенным. Я неоднократно отмечаю в книге, что, как бы ни впечатлял прогресс методов научного познания, мы и сейчас не застрахованы от повторения ошибок прошлого.
Некоторые историки предпочитают игнорировать современные научные знания, занимаясь описанием работ ученых прошлого. В отличие от них, я активно использую знания нашего дня, чтобы объяснять былые научные концепции. К примеру, было бы очень интересно попытаться понять, как астрономы эпохи эллинизма Аполлоний и Гиппарх, основываясь на доступных им данных, пришли к выводу, что планеты, описывающие петли-эпициклы, движутся вокруг Земли, но это невозможно, поскольку большая часть информации, которой они располагали, утеряна. Но мы точно знаем, что и в древности, и сейчас Земля и все планеты двигались и движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, и, зная это, мы можем объяснить, как наблюдения астрономов древности могли подтолкнуть их к выводу теории эпициклов. Так или иначе, как можно, читая об астрономии древних, не принимать во внимание наши современные знания об устройстве Солнечной системы?
Для тех читателей, которые хотели бы лучше понять, насколько работы ученых прошлого соответствуют современным научным знаниям, в конце книги имеется раздел «Технические замечания». Чтобы понимать основной текст книги, читать их не обязательно, но читатели этих замечаний могут открыть для себя интересные факты из области физики и астрономии, как это случалось и со мной в процессе работы над книгой.
Наука сегодня совсем не та, какой она была на заре своего становления. Ее достижения не связаны с конкретными личностями. Вдохновение и эстетическое чувство важны в тот момент, когда рождается новая научная теория, но устоит ли теория, зависит от того, насколько ее предсказания подтвердятся в беспристрастно проводимой серии экспериментов. Несмотря на то что математика используется для формулирования физических теорий и понимания их следствий, вся наука не является подмножеством математики, и нет способа выводить научные теории из голой математики. Наука и техника идут рука об руку и извлекают взаимную пользу, но на фундаментальном уровне ученые не занимаются исследованиями в прикладных целях. Хотя у науки нет какого-либо ответа на вопросы о существовании Бога и загробной жизни, ее задача – поиск объяснений явлениям природы, которые имеют исключительно естественные причины. Наука имеет свойство накапливать знания; каждая вновь создаваемая теория включает успешно доказанные более ранние теории как частные случаи и даже обязана объяснять, почему и в каких условиях выводы этих теорий справедливы.
Ничего из сказанного выше не являлось очевидными фактами для ученых Древнего мира или Средних веков и приобрело силу фактов с огромным трудом лишь в результате научной революции XVI–XVII вв. Никто не ставил перед собой цель когда-либо создать то, что мы называем современной наукой. Так как же вышло, что научная революция состоялась, и какой путь развития прошла наука после нее? Вот что мы попытаемся узнать, изучая историю становления современной науки.
Часть I Физика в Древней Греции
Задолго до и в процессе расцвета науки в Древней Греции существенный вклад в технику, математику и астрономию внесли вавилоняне, китайцы, египтяне, индийцы и представители других народов. Тем не менее именно Греция осветила путь будущего развития науки и явилась образцом для остальной Европы, и именно Европа стала колыбелью современной науки, в формировании которой древнегреческие мыслители сыграли особую роль.
Можно до бесконечности спорить о том, как получилось, что именно древние греки достигли таких высот знания. Возможно, свою роль сыграло то, что зачатки науки появились тогда, когда древнегреческая цивилизация складывалась из независимых городов-государств, многие из которых были демократическими. Но, как мы увидим, самые выдающиеся открытия греки совершили уже тогда, когда эти маленькие государства оказались поглощены великими империями: эллинистическими царствами, а позже – Римом. Греки эпохи эллинизма и римского господства добились таких успехов в естествознании и математике, которые никто не смог превзойти до самой научной революции XVI–XVII вв. в Европе.
В этой части моей работы я расскажу о том, как древнегреческая наука отражала физическую картину мира. Об астрономии мы поговорим во второй части. В каждой из пяти глав, на которые поделена первая часть, вы в более или менее хронологическом порядке познакомитесь с пятью направлениями познания, с которыми наука пришла в согласие: поэзией, математикой, философией, техникой и религией. К теме взаимоотношений науки с этими пятью родственными направлениями мы будем возвращаться вновь и вновь.
1. Материя и поэзия
Мысленно перенесемся в прошлое. К VI в. до н. э. западное побережье нынешней Турции уже было заселено греками, говорившими преимущественно на ионийском диалекте. Самым богатым и мощным среди ионийских городов был Милет, основанный в естественной гавани при впадении реки Меандр в Эгейское море. В Милете на столетие раньше Сократа греческие мыслители стали рассуждать о природе первичной субстанции, из которой создан мир.
О милетцах я впервые узнал на старших курсах Корнелльского университета, когда занимался историей и философией науки. В лекциях милетцев называли «физиками». Одновременно я прослушал курс физики, в том числе современную атомистическую теорию строения вещества. Мне казалось, что между учением милетцев и нынешней физикой очень мало общего. Не то чтобы они были совершенно неправы в своих заключениях о строении вещества, скорее, я не понимал, как именно они могли прийти к ним. Исторических свидетельств о том, как греческие мыслители рассуждали в доплатоновскую эпоху, очень мало, но я был практически уверен, что ни милетцы, ни другие древнегреческие естествоиспытатели архаического и классического периодов (примерно от 600 до 450 г. до н. э. и от 450 до 300 г. до н. э.) не могли рассуждать так же, как это делают нынешние ученые.
Первым из философов Милета, о котором сохранились сведения, был Фалес, живший за двести лет до Платона. Предполагается, что ему удалось предсказать солнечное затмение, которое, по современным данным, произошло в 585 г. до н. э. и наблюдалось в Милете. Даже если бы Фалес пользовался вавилонскими хрониками солнечных затмений, маловероятно, что он смог бы сделать это предсказание, потому что солнечное затмение можно наблюдать лишь в небольшом географическом регионе, но тот факт, что предсказание именно этого затмения приписывают Фалесу, говорит о том, что, вероятно, он жил и работал в начале VI в до н. э. Мы не знаем, записывал ли Фалес свои мысли. Так или иначе, ничего из того, что он мог написать, не сохранилось даже в цитатах позднейших авторов. Он является скорее персонажем из области преданий, тем, кого во времена Платона было принято считать одним из «семерых мудрецов» Греции (наравне с его современником Солоном, которому приписывается создание конституции Афин). Например, считалось, что Фалес доказал или позаимствовал у египтян доказательство знаменитой геометрической теоремы (см. техническое замечание 1). Для нас важно то, что в заслугу Фалесу ставят идею о том, что любое вещество состоит из единой первичной субстанции. В «Метафизике» Аристотеля говорится: «Из тех, кто первые занялись философией, большинство считало началом всех вещей одни лишь начала в виде материи: то, из чего состоят все вещи… […] Фалес – родоначальник такого рода философии – считает его [начало] водою…»{1} Гораздо позже, около 230 г., жизнеописатель древнегреческих философов Диоген Лаэртский писал: «Началом всего он полагал воду, а мир считал одушевленным и полным божеств»{2}.
Имел ли в виду Фалес, говоря, что «всеобщей первичной субстанцией» является вода, что все вещество состоит из воды? Если это так, то мы не можем сказать ничего о том, как он пришел к такому выводу, но если считать, что все вещество имеет единую первооснову, то вода не так уж плоха в этой роли. Вода может быть не только жидкой: замерзая, она, легко переходит в твердое состояние или превращается в пар в процессе кипения. Также очевидно, что без воды не может быть жизни. Но мы не знаем, считал ли Фалес, что, к примеру, камни тоже состоят из обыкновенной воды, или лишь видел что-то значительное в том, что камни и другие твердые тела имеют много общего с замерзшей водой.
У Фалеса был друг и ученик по имени Анаксимандр, который пришел к иному заключению. Он тоже считал, что существует единая фундаментальная субстанция, но Анаксимандр не сопоставлял ее с каким-либо обычным веществом. Вместо этого он полагал, что такой субстанцией является нечто, которое он называл «бесконечным» или «беспредельным». Его взгляды дошли до нас в изложении Симпликия Киликийского, философа-неоплатоника, жившего примерно тысячу лет спустя. В своем труде «Комментарий к “Физике» Аристотеля”» Симпликий приводит фразу, которая, вероятно, является изложением слов самого Анаксимандра:
«Из полагающих одно движущееся и бесконечное [начало] Анаксимандр, сын Праксиада, милетец, преемник и ученик Фалеса, началом и элементом сущих [вещей] полагал бесконечное, первым введя это имя начала. Этим [началом] он считает не воду и не какой-нибудь другой из так называемых элементов, но некую иную бесконечную природу, из которой рождаются небосводы [миры] и находящиеся в них космосы. “А из каких начал вещам рожденье… назначенный срок времени…”, как он сам говорит об этом довольно поэтическими словами. Ясно, что, подметив взаимопревращение четырех элементов, он не счел ни один из них достойным того, чтобы принять его за субстрат [остальных], но [признал субстратом] нечто иное, отличное от них»{3}.
Несколько позднее другой милетец, Анаксимен, возвратился к идее о том, что все создано из некой единой простой субстанции, но, с его точки зрения, это была не вода, а воздух. Он написал книгу, от всего содержания которой сохранилось одно-единственное предложение: «Подобно тому как душа… будучи воздухом, сдерживает нас, так дыхание и воздух объемлет весь мир»{4}.
На Анаксимене цепочка преемственности философов из Милета заканчивается. С 550-х годов до н. э. Милет и другие ионийские города попадают под власть растущего Персидского царства. В 499 г. до н. э. жители Милета подняли восстание против персов, но потерпели поражение, и город оказался разорен. Впоследствии он возродился как важный центр древнегреческой цивилизации, но никогда больше не становился центром греческой науки.
После Милета размышления о природе материи были продолжены философами-ионийцами из других областей. Предположительно, землю считал первичной субстанцией Ксенофан, который родился около 570 г. до н. э. в ионийском Колофоне, а впоследствии переехал в южную Италию. В одной из его поэм есть строка: «Из земли все [возникло], и в землю все обратится в конце концов»{5}. Впрочем, не исключено, что это был всего лишь его вариант известной фразы, которую испокон веков говорят на похоронах: «Земля к земле, прах к праху». Мы снова вернемся к наследию Ксенофана, когда будем говорить о религии, в главе 5.
В расположенном недалеко от Милета Эфесе около 500 г. до н. э. Гераклит учил, что первоосновой всего является огонь. Он также написал книгу, дошедшую до нашего времени отдельными фрагментами. В одном из них говорится: «Этот космос{6}, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий»{7}. Также Гераклит подчеркивал непрерывность изменений в природе, так что для него естественно было принимать за главный элемент всегда мятущийся огонь, проводник перемен, а не более косные землю, воздух или воду.
Классический взгляд на то, что вещество состоит не из какого-то одного, а сразу из четырех элементов – воды, воздуха, земли и огня, – вероятно, восходит к Эмпедоклу. Он жил на Сицилии в городе Акрагасе, ныне известном как Агридженто, в начале V в. до н. э. и был практически единственным известным в том раннем периоде древнегреческим философом не ионийского, а дорийского происхождения. Эмпедокл написал две гекзаметрические поэмы, многие части которых сохранились. В поэме «О природе» мы находим: «Как от смешенья Воды, Земли, Эфира и Солнца // Родились [многообразные] формы и окраски смертных [существ]»{8}, а также: «Огнем, Водой, Землей и несметной высью Эфира, // Проклятая Ненависть порознь от них [= элементов], совершенно уравновешенная, // И Любовь в них, равная в длину и ширину»{9}.
Возможно, что Эмпедокл и Анаксимандр использовали понятия «любовь», «ненависть», а также «справедливость» и «несправедливость» лишь как метафоры порядка и беспорядка, примерно в том же духе, как Эйнштейн, бывало, употреблял слово «бог» в качестве метафоры еще непознанных законов природы. Но нам не следует пытаться втиснуть слова досократиков в тесные рамки современных интерпретаций. Как мне кажется, появление в рассуждениях о сути природы категорий человеческих эмоций, таких как любовь и ненависть у Эмпедокла, или таких, как справедливость и воздаяние у Анаксимандра, – лишь свидетельство той пропасти, которая разделяет образ мысли древних досократиков и современных ученых-физиков.
Все досократики, начиная с Фалеса и кончая Эмпедоклом, по всей видимости, считали первичные элементы сплошными недифференцированными средами. Иной взгляд на природу вещества, более близкий к современным представлениям, был позднее высказан мыслителями из Абдер, города на побережье Фракии, основанном беженцами из ионийских городов, после того как их восстание против Персии, начавшееся в 499 г. до н. э., было подавлено. Первым из известных философов-абдеритов был Левкипп, который известен благодаря одному-единственному высказыванию в духе детерминизма: «Ни одна вещь не происходит попусту, но все на [некотором] основании и по необходимости»{10}. Гораздо больше известно о последователе Левкиппа Демокрите. Он родился в Милете, путешествовал в Вавилон, Египет и Афины и в конце концов поселился в Абдерах в конце V в до н. э. Демокрит писал труды по этике, естествознанию, математике и музыке, до нашего времени дошли многие из этих книг. В одной из них он утверждает, что все вещество состоит из мельчайших неделимых частиц, которые называются атомами (от др. – гр. ατομος – неделимый, неразрезаемый), движущихся в пустом пространстве: «Во мнении сладкое, во мнении горькое, во мнении теплое, во мнении холодное, во мнении цветное, в действительности же атомы и пустота»{11}.
Как и современные ученые, ранние греческие мыслители намеревались проникнуть сквозь поверхностные представления о мире, пытаясь заглянуть вглубь реальности. Сущность мира невозможно определить с первого взгляда, из чего бы он ни состоял: из воды, из воздуха, из земли, из всех четырех стихий или даже из атомов.
Парменид из Элеи, который вызывал восхищение у Платона, дошел до крайности в своих поисках тайных смыслов. Элея (современное название Велия) – город в южной части Италии. В начале V в. до н. э. Парменид, в противовес Гераклиту, учил, что постоянная изменчивость и разнообразие природы являются иллюзией. Эти идеи отстаивал его ученик Зенон из Элеи, которого не следует путать с другим Зеноном, так называемым Зеноном-стоиком. В своем сочинении «Апории» Зенон описывал некоторое количество парадоксальных утверждений, доказывающих невозможность движения. Например, чтобы пробежать всю беговую дорожку стадиона, вначале необходимо покрыть половину расстояния, потом – половину от оставшегося, и так до бесконечности. Таким образом, пробежать всю беговую дорожку невозможно. Насколько мы можем судить из дошедших до нас отрывков, по тем же самым причинам Зенону казалось, что невозможно путешествовать на какое-либо заданное расстояние, следовательно, движения вообще не существует.
Конечно, аргументация Зенона неверна. Как позже укажет Аристотель{12}, нет никаких причин, которые мешают нам совершить бесконечное количество шагов в определенное время при условии, что время, необходимое для каждого последующего шага, уменьшается достаточно быстро. Действительно, бесконечный ряд типа 1/2+1/3+1/4… дает бесконечную сумму, но бесконечный ряд типа 1/2+1/4+1/8… дает конечную сумму, которая в данном случае равна 1.
Гораздо более поразительно не то, насколько Парменид и Зенон были неправы, а то, почему же они не удосужились объяснить, по какой причине, если движения не существует, вещи выглядят движущимися. На самом деле ни один из древнегреческих мыслителей от Фалеса до Платона – ни из Милета, ни из Абдер, ни из Элеи, ни из Афин – никогда не брал на себя труд детально объяснить, как его теория конечной, истинной реальности соотносится с восприятием вещей.
Это вовсе не было умственной ленью, а, скорее, чем-то вроде склонности ранних греков к интеллектуальному высокомерию, которое привело их к решению, что не стоит стремиться к пониманию явлений окружающего мира вообще. Это лишь первый из примеров подобного отношения, нанесшего большой вред познанию в истории науки. В разные времена считалось, что круговые орбиты более совершенны, чем эллиптические, что золото – более благородный металл, чем свинец, и что человек – существо высшего порядка по сравнению с его собратьями-обезьянами.
Может быть, мы и сейчас совершаем подобные ошибки, обходя вниманием какие-то возможности научного прогресса, потому что игнорируем некие явления, считая их недостойными нашего внимания? Нельзя быть уверенным, но я думаю, что не совершаем. Конечно, невозможно исследовать все, но мы выбираем задачи, которые, по нашему мнению, правильному или ошибочному, дают лучшие перспективы для научного осмысления. Биологи, изучающие хромосомы или нервные клетки, работают с такими животными, как мухи-дрозофилы и кальмары, а не с орлами или львами. Физиков, исследующих элементарные частицы, иногда обвиняют в снобистском и очень дорогом увлечении, требующем использования самых высоких энергий, которые можно достигнуть. Но только при высоких энергиях мы можем создавать и изучать гипотетические частицы большой массы, например, частицы так называемой темной материи, которая, по мнению астрономов, составляет 5/6 вещества во Вселенной. В любом случае мы уделяем достаточно внимания и изучению явлений, наблюдаемых при низких энергиях, как, например, определение массы нейтрино, составляющей миллионную долю массы электрона.
Делая критические замечания по поводу досократиков, я вовсе не имею в виду, что априорная аргументация не присутствует в науке. Сегодня, например, мы ожидаем, что фундаментальные физические законы удовлетворяют принципам симметрии, то есть что физические законы не изменятся, если мы неким определенным образом изменим систему отсчета. Точно так же как принцип неизменности Парменида, некоторые из этих законов симметрии не проявляют себя непосредственно в физических явлениях – считается, что они могут спонтанно нарушаться. Это значит, что уравнения наших теорий обладают определенной простотой, касающейся, например, некоторых свойств разных видов элементарных частиц, но эта простота не присуща решениям уравнений, а именно они-то и описывают реальные явления. Как бы то ни было, в отличие от приверженности Парменида принципу неизменности мира, априорное предположение о существовании фундаментальной симметрии законов природы симметрии появилось в результате многолетних экспериментов, проводимых в поисках физических законов, описывающих реальный мир. Существование как спонтанно нарушенных, так и не нарушенных видов симметрии доказано экспериментами, которые подтверждают следствия этих нарушений и сохранений. Субъективные суждения, которыми мы руководствуемся в человеческих отношениях, здесь никак не задействованы.
Начиная с Сократа, родившегося в конце V в. до н. э., и – всего на сорок лет позже – Платона, центр греческой интеллектуальной жизни переносится в Афины, один из немногих городов-государств ионических греков непосредственно на греческой земле. Практически все, что мы знаем о Сократе, нам известно из диалогов Платона. Кроме того, он выступал как комический персонаж в комедии Аристофана «Облака». По всей видимости, не осталось никаких записей идей Сократа. Насколько мы можем судить по тому, что до нас дошло через вторые руки, этот мыслитель не слишком интересовался естественными науками. В диалоге Платона «Федон» Сократ вспоминает, как он был разочарован, прочтя книгу Анаксагора (более подробно я расскажу о нем в главе 7), потому что Анаксагор описывал Землю, Солнце и Луну чисто физическими терминами, не говоря ничего о том, какое из этих тел хуже, а какое лучше{13}.
Платон, в отличие от своего кумира Сократа, был афинским аристократом. Он является первым греческим философом, большое количество письменных источников которого сохранилось. Платона, как и Сократа, куда больше интересовали проблемы рода человеческого, чем природа вещей. Он надеялся сделать политическую карьеру, которая позволила бы ему воплотить свои утопические и антидемократические идеи на практике. В 367 г. до н. э. Платон получил приглашение от Дионисия II приехать в Сиракузы и оказать помощь в реформировании правительства, но, к счастью для жителей Сиракуз, этого так и не случилось.
В одном из своих диалогов, «Тимее», Платон свел вместе мысли о четырех основополагающих элементах с абдерским понятием атомов. Платон считал четыре элемента Эмпедокла состоящими из частиц, имеющих форму четырех из пяти правильных многогранников, известных из математики. Это тела, грани которых представляют собой многоугольники, с одинаковыми ребрами, образующими в вершинах одинаковые телесные углы (см. техническое замечание 2). Например, один из таких правильных многогранников – куб, грани которого являются одинаковыми квадратами и в каждой вершине встречается по три квадрата. Платон полагал, что атомы земли имеют форму куба. Другие правильные многогранники – это тетраэдр (пирамида с четырьмя треугольными гранями), восьмигранный октаэдр, двадцатигранный икосаэдр и двенадцатигранный додекаэдр. Платон предполагал, что атомы огня, воздуха и воды имеют соответственно формы тетраэдра, октаэдра и икосаэдра. Оставался додекаэдр, который, по мнению Платона, лежал в основе стихии космоса. Позже Аристотель представил пятый элемент – эфир (или квинтэссенцию), заполняющий, как он считал, пространство за орбитой Луны.
Обычно, когда описывают эти ранние размышления, касающиеся природы вещества, подчеркивают, что они послужили прообразом современной науки. Особенно принято восхищаться Демокритом: в Греции даже есть университет, названный его именем. В самом деле, попытки определить основные составляющие вещества продолжались тысячелетиями, хотя время от времени состав элементов менялся. К началу нового времени алхимики выделяли три основополагающих элемента: ртуть, соль и серу. Современное понятие о химических элементах появилось в период революционных преобразований в химии, инициированных Пристли, Лавуазье, Дальтоном и другими учеными в конце XVIII в. Сейчас насчитывается 92 элемента естественного происхождения, от водорода до урана (включая серу и ртуть, но не соль). К тому же постоянно растет перечень искусственно созданных элементов тяжелее урана. В нормальных условиях чистый химический элемент состоит из атомов одного и того же вида, элементы отличаются друг от друга по типу атомов, из которых они состоят. Сегодня мы изучаем элементарные частицы, из которых состоят атомы химических элементов, но, тем или иным образом, мы продолжаем поиск основополагающих составляющих природы, начатый в Милете.
Тем не менее я считаю, что нельзя преувеличивать современное значение архаической или классической греческой науки. В современной науке есть важная особенность, которая полностью отсутствует у всех упомянутых мною мыслителей от Фалеса до Платона: никто из них не пытался доказать или хотя бы (кроме разве что Зенона) серьезно подтвердить свои предположения. Читая их записи, постоянно задаешь один и тот же вопрос: «А откуда вы знаете?» Это относится как к Демокриту, так и ко всем остальным. Нигде в отрывках его работ, которые дошли до нас, мы не видим ни одной попытки показать, что вещество действительно состоит из атомов.
Идеи Платона о пяти элементах – это хороший пример его безразличного отношения к подтверждению своих гипотез. В «Тимее» он начинает не с правильных многогранников, а с треугольников, которые он предлагает соединить вместе в форме многогранника. О каких треугольниках идет речь? Платон предлагает взять прямоугольный равнобедренный треугольник с углами 45°, 45° и 90° и прямоугольный треугольник с углами 30°, 60° и 90°. Квадраты, формирующие кубический атом земли, могут быть составлены из двух равнобедренных прямоугольных треугольников, а треугольные грани тетраэдра, октаэдра и икосаэдра, представляющих атомы огня, воздуха и воды (в указанном порядке), могут быть составлены из двух других прямоугольных треугольников. (Додекаэдр, таинственным образом представляющий космос, не может быть собран таким способом.) Объясняя свой выбор, Платон пишет: «Что ж, если кто-нибудь выберет и назовет нечто еще более прекрасное, предназначенное для того, чтобы создавать эти [четыре тела], мы подчинимся ему не как неприятелю, но как другу; нам же представляется, что между множеством треугольников есть один, прекраснейший, ради которого мы оставим все прочие, а именно тот, который в соединении с подобным ему образует третий треугольник – равносторонний. Обосновывать это было бы слишком долго (впрочем, если бы кто изобличил нас и доказал обратное, мы охотно признали бы его победителем)»{14}. Я могу себе представить, как бы отреагировали мои коллеги сегодня, если бы я в статье по физике выдвинул новую гипотезу о строении вещества, написав, что объяснять, как я дошел до нее, слишком долго, и предложив им опровергнуть мое предположение, если они считают его неверным.
Аристотель называл ранних греческих мыслителей физиологами, что иногда переводят как «физики»{15}, но это совершенно неправильный перевод. Слово «физиологи» (от др. – гр. φύσις) просто обозначает тех, кто изучает природу, у древних греков очень мало общего с сегодняшними физиками. В их теориях нет никакой физической изюминки. Эмпедокл мог строить предположения об элементах, а Демокрит – об атомах, но их соображения не несут новой информации о природе, не говоря уж о том, что из их теорий не делалось никаких проверяемых выводов.
Мне кажется, что для того, чтобы правильно понимать ранних греческих мыслителей, лучше воспринимать их не как физиков, не как ученых и даже не как философов, а как поэтов.
Я должен объяснить, что имею в виду поэзию в узком смысле этого слова – как язык, в котором используются такие словесные приемы, как размер, ритм и аллитерация. Даже в этом смысле Ксенофан, Парменид и Эмпедокл были поэтами. После дорийского вторжения и окончания бронзовой эры Микенской цивилизации в XII в. до н. э. греки, по большей части, стали неграмотными. При отсутствии письменности стихи стали практически единственным способом, с помощью которого люди могли оставить свое послание следующим поколениям, поскольку они запоминаются намного легче, чем проза. Греки оставались неграмотными примерно до 700 г. до н. э. Новый алфавит, заимствованный у финикийцев, был впервые использован Гомером и Гесиодом, чтобы записать, опять-таки, стихи, часть из которых брала свое начало в надолго запомнившихся темных временах Греции. Проза появилась позднее.
Даже те ранние греческие философы, которые писали прозой, как Анаксимандр, Гераклит и Демокрит, приспосабливали свои строки к поэтическому стилю. Цицерон говорил о Демокрите, что он более поэтичен, чем многие поэты. Платон в юности хотел стать поэтом, и хотя он писал прозой и жестоко обрушился на поэзию в своем «Государстве», его литературный стиль всегда вызывал восхищение.
Здесь я имею в виду поэзию в более широком смысле: слова используются скорее для эстетического эффекта, чем для того, чтобы ясно сказать, что же действительно имеется в виду. Когда Дилан Томас пишет, что «Та сила, что цветы сквозь зелень подожжет, // Творит и зелень юности моей»{16}, мы не рассматриваем эти строки как серьезное положение об унификации сил в ботанике и зоологии и не ищем ей никакого подтверждения; мы (по крайней мере, я) воспринимаем ее скорее как выражение грусти по поводу подступающей старости и смерти.
Иногда становится понятно, что Платон не намеревался говорить обо всем буквально. Один из примеров этого – уже упомянутая исключительно слабая аргументация того, что он выбирает именно два треугольника как основу всей материи. Если взять еще более явный пример, в «Тимее» Платон рассказывает историю Атлантиды, которая якобы процветала за тысячи лет до времени его собственного существования. Платон не мог серьезно полагать, что он действительно знал о чем-то, происходившем тысячи лет назад.
Я не хочу сказать, что ранние греческие мыслители выбрали поэтическую форму для своих записок, чтобы им не надо было доказывать свои теории. Они просто не чувствовали необходимости в каких-либо доказательствах. Сегодня мы проверяем наши предположения о природе, используя выдвинутые теории, чтобы прийти к более или менее точным умозаключениям, которые можно проверить наблюдением. Ранние греческие мыслители и их многочисленные последователи этого не делали по одной простой причине: они никогда не видели, как это делается.
Можно найти различные свидетельства того, что ранние греческие мыслители продолжали сомневаться в своих собственных теориях, даже когда они хотели, чтобы их принимали всерьез, и они чувствовали недостаточность своих знаний для познания недосягаемого. Один пример этого я привел в своей монографии (написанной в 1972 г.) по общей теории относительности. В начале главы, рассказывающей о космологических представлениях, я процитировал несколько строк из Ксенофана: «Истины точной никто не узрел и никто не узнает // Из людей о богах и о всем, что я только толкую: // Если кому и удастся вполне сказать то, что сбылось, // Сам все равно не знает, во всем лишь догадка бывает»{17}. В том же духе в своей работе «О разнице форм» Демокрит отмечает: «На самом деле мы ничего не знаем точно» и «Многими способами показано, что мы на самом деле не знаем, чем являются или не являются вещи».
В современной физике сохранился некий поэтический элемент. Мы не пишем свои работы стихами, большая часть написанного физиками едва дотягивает до уровня прозы. Но в наших теориях мы ищем красоту и используем эстетические рассуждения как ключ в исследованиях. Некоторые из нас считают, что это работает потому, что сотни лет удач и провалов в физических исследованиях научили нас предугадывать определенные законы природы. Благодаря этому опыту мы можем чувствовать, что проявления законов природы красивы{18}. Но мы никогда не приводим красоту теории как убедительное доказательство ее верности.
Например, теория струн, которая описывает различные взаимодействия элементарных частиц как разного рода колебания микроскопических струн, очень красива. Она имеет достаточно последовательное математическое обоснование, таким образом, ее содержание не произвольно, а в значительной степени подтверждается с помощью математического аппарата. К тому же в этой теории есть красота настоящего произведения искусства – сонета или сонаты. Но, к сожалению, теория струн так и не получила ни одного экспериментального доказательства, поэтому физики-теоретики (по крайней мере большинство из нас) не могут сказать однозначно, приложима ли эта теория к реальности. Это то самое требование подтверждения, которое так часто отсутствует в произведениях поэтов, изучающих природу, от Фалеса до Платона.
2. Музыка и математика
Даже если бы Фалес и его последователи понимали, что им необходимо делать выводы из своих теорий строения материи, которые можно сравнить с результатами наблюдений, эта задача оказалась бы для них чрезмерно трудной, отчасти из-за ограничений древнегреческой математики. Вавилоняне достигли больших успехов в арифметике, используя шестидесятеричную систему счисления, а не десятичную. Также они развили некоторые простые алгебраические приемы (хотя и не записывая их специальными символами), например, решение различных квадратных уравнений. Но для древних греков математика была, скорее, геометрией. Как мы можем заметить, к тому времени, когда жил Платон, уже были доказаны теоремы, связанные с треугольниками и многогранниками. Большая часть геометрических понятий, описанных в Евклидовых «Началах», была известна задолго до Евклида, примерно в 300 г. до н. э. Но и в то время у греков были очень ограниченные представления об арифметике, не говоря уж об алгебре, тригонометрии и математическом анализе.
Возможно, первым явлением, которое древние изучали с помощью арифметических методов, была музыка. Это описано в работах последователей Пифагора. Уроженец населенного ионийцами острова Самос Пифагор уехал в южную Италию примерно в 530 г. до н. э. Там, в греческом городе Кротоне, он основал культ, который просуществовал до конца IV в. до н. э.
Слово «культ» в данном случае кажется мне подходящим. Ранние пифагорейцы не оставили никаких записей, но, по свидетельству других авторов{19}, они верили в переселение душ. Пифагорейцы должны были носить белые одежды, им было запрещено есть бобы из-за того, что они напоминают человеческие зародыши. Они организовали нечто вроде теократического общества, и под их управлением жители Кротона в 510 г. до н. э. разрушили соседний город Сибарис.
Для истории науки важно, что кроме всего вышесказанного пифагорейцы развили интерес к математике. В «Метафизике» Аристотель пишет: «… так называемые пифагорейцы, занявшись математическими науками, впервые двинули их вперед и, воспитавшись на них, стали считать их начала началами всех вещей»{20}.
Возможно, их особое внимание к математике было вызвано наблюдением за музыкой. Они заметили, что если во время игры на струнном инструменте щипнуть одновременно две струны одинаковой толщины, состава и натяжения, то приятный звук получается только в том случае, если длины струн относятся друг к другу как соотношение небольших целых чисел. Самый простой случай – когда одна струна наполовину короче второй. Сейчас мы говорим, что звучание двух струн расходится на октаву, и мы обозначаем издаваемый ими звук одной и той же буквой алфавита. Если одна струна составляет две трети длины другой, то проигрываются две ноты, интервал между которыми составляет квинту, имеющую достаточно гармоничное звучание. Если одна струна составляет три четверти длины другой, они производят гармоничное звучание, которое называется квартой. Напротив, если длины струн не соотносятся как небольшие целые числа (например, длина одной струны составляет 100 000/314 159 длины другой) или вообще не попадают в множество целых чисел, то получается неприятный, режущий ухо звук. Сейчас мы знаем, что для этого есть две причины: частота звуковых волн, производимых двумя струнами одновременно, и совпадение обертонов, производимых каждой струной (см. техническое замечание 3). Пифагорейцы ничего этого не понимали, как и никто другой, пока в XVII в. не появилась работа французского естествоиспытателя-священника Марена Мерсенна. Вместо этого, по Аристотелю, пифагорейцы «… всю вселенную признали гармонией и числом»{21}. Эта идея имела долгую жизнь. Например, Цицерон в своем диалоге «О государстве» рассказывает историю о том, как великий римский полководец Сципион Африканский знакомит своего внука с музыкой сфер.
Большего прогресса пифагорейцы достигли, скорее, в чистой математике, чем в физике. Все знают теорему Пифагора о том, что площадь квадрата, одной из сторон которого является гипотенуза прямоугольного треугольника, равна сумме площадей двух квадратов, стороны которых являются катетами этого треугольника. Но неизвестно, кто именно из пифагорейцев доказал эту теорему и как он это сделал. Ее можно очень просто доказать, основываясь на теории соотношений, которая принадлежит пифагорейцу Архиту Тарентскому, современнику Платона (см. техническое замечание 4). В теореме 46 Первой книги «Начал» Евклида приводится более сложное доказательство. Кстати, Архит решил знаменитую задачу, которая до него оставалась нерешенной: как, имея куб и используя чисто геометрические методы, построить куб, в два раза больший по объему.
Теорема Пифагора ведет к другому великому открытию о том, что геометрические построения могут привести к соотношениям, которые не могут быть выражены частным от деления целых чисел. Если каждый катет прямоугольного треугольника имеет длину, равную единице (неважно, в каких единицах измерения), то сумма площадей двух квадратов, сторонами которого являются эти катеты, составляет 1² + 1² = 2. Тогда в соответствии с теоремой Пифагора длина гипотенузы должна выражаться числом, квадрат которого равен 2, но легко увидеть, что число, квадрат которого равен 2, не может быть выражено как соотношение целых чисел (см. техническое замечание 5). Доказательство этого дается в Десятой книге «Начал» Евклида. Ранее о нем говорит Аристотель в «Первой аналитике»{22} в качестве примера reductio ad impossibile[3], не давая ссылку на оригинальный источник. Существует легенда о том, что это открытие принадлежит пифагорейцу Гиппасу, который, возможно, родился в городе Метапонте на юге Италии и был изгнан или убит пифагорейцами за разглашение этого открытия.
Сегодня мы можем описать это открытие следующим образом: такие числа, как квадратный корень из двух, являются иррациональными – они не могут быть выражены как отношение целых чисел. Согласно Платону{23}, Феодор Киренский показал, что квадратные корни из 3, 5, 6,…, 15, 17 и т. д. (и вдобавок, хотя Платон этого и не говорит, квадратные корни из всех целых чисел, кроме 1, 4, 9, 16 и т. д., которые являются квадратами целых чисел) иррациональны в том же смысле. Но древние греки не выражали эту мысль таким образом. Скорее, судя по переводу Платона, они говорили о сторонах квадратов, площадь которых равна 2, 3, 5 и т. д., несоизмеримых единице. У древних греков не было понятия о каких-либо числах, кроме рациональных, поэтому для них такое число, как квадратный корень из двух, могло быть представлено только геометрически, что затрудняло развитие арифметики.
Традиция чистой математики была продолжена в Академии Платона. Говорили, что у ее дверей висело предупреждение, запрещающее вход любому, кто невежествен в геометрии. Сам Платон математиком не был, но с восторгом относился к математикам, отчасти, вероятно, потому, что во время своего путешествия в Сиракузы, чтобы стать наставником молодого Дионисия II Младшего, встречался с пифагорейцем Архитом Тарентским.
В Академии одним из математиков, который оказал огромное влияние на Платона, был Теэтет Афинский, ставший главным героем одного из диалогов Платона и объектом для обсуждения в другом. Теэтет знаменит открытием пяти правильных многогранников, которые, как мы уже видели, обеспечили основу теории элементов Платона. Доказательство{24} того, что эти тела являются единственно возможными выпуклыми многогранниками, предложено в «Началах» Евклида и приписывается Теэтету, который также внес свой вклад в теорию того, что мы сегодня называем иррациональными числами.
Самым великим эллинским математиком IV в. до н. э. был Евдокс Книдский, ученик Архита и современник Платона. Хотя он прожил большую часть своей жизни в городе Книде, на побережье Малой Азии, Евдокс учился в Академии Платона и позже вернулся туда, чтобы самому стать учителем. От Евдокса не осталось никаких записей, но он известен тем, что решил множество сложных математических задач, например доказал, что объем конуса равен одной трети объема цилиндра с тем же основанием и высотой (я не представляю, как Евдокс мог сделать это, не прибегая к математическому анализу). Его величайшим вкладом в математику стало изобретение метода исчерпывания, при использовании которого теоремы выводились из простых аксиом, не требующих доказательства. Этот же метод использовал Евклид в своих работах. На самом деле многое в «Началах» Евклида может быть отнесено на счет Евдокса.
Хотя открытия Евдокса и пифагорейцев были большим интеллектуальным достижением сами по себе, они оказали неоднозначное влияние на естественные науки. Начнем с того, что дедуктивное изложение в работах математиков, достигшее вершины в «Началах» Евкилида, постоянно повторялось и в работах исследователей – естественников, где такой стиль совершенно неприемлем. Как мы видим, в работах Аристотеля математика привлекается очень мало, но временами его аргументация выглядит как пародия на математическое доказательство, как, например, в дискуссии о движении в «Физике»: «Положим, что тело, обозначенное Α, будет проходить через среду Β в течение времени Γ, а через более тонкую среду Δ – в течение [времени] Ε; если расстояния [проходимые телом] в средах Β и Δ равны, [то Γ и Ε будут] пропорциональны [сопротивлению] препятствующего тела. Пусть, например, Β будет вода, а Δ – воздух…»{25}. Возможно, величайшая древнегреческая работа в области физики – это сочинение Архимеда «О плавающих телах», о чем мы поговорим в главе 4. Оно изложено как математическая работа, где из постулатов выводятся доказательства утверждений. Архимед был достаточно умен, чтобы выбрать подходящие постулаты для своих выводов, но научное исследование честнее представлять как единство дедукции, индукции и предположения.
Однако гораздо более важным, чем вопрос стиля (хотя и связано с ним), является ошибочное желание достичь абсолютной истины при помощи одного лишь чистого разума, на что вдохновляли математики. В своей дискуссии об образовании философа в диалоге «Государство» Платон использовал сократовский аргумент о том, что астрономию нужно изучать таким же способом, как и геометрию. Согласно Сократу, смотреть в небо может быть полезно для развития разума, точно так же как смотреть на геометрические построения полезно для изучения математики, но в обоих случаях настоящее знание приходит только через мысль. «Значит, мы будем изучать астрономию так же, как геометрию, с применением общих положений, а то, что на небе, оставим в стороне…»{26}
Математика – это средство, с помощью которого мы выводим следствия физических законов. Более того, это незаменимый язык, на котором излагаются сами физические законы. Она часто пробуждает новые идеи в области естественных наук, и, в свою очередь, нужды науки часто подталкивают развитие математики. Работа физика-теоретика Эдварда Виттена обеспечила такой громадный прорыв в математике, что в 1990 г. он получил одну из самых высоких наград в области математики – Филдсовскую медаль. Но при этом математика не является естественной наукой. Математика сама по себе, без наблюдений за окружающим миром, не может ничего рассказать о нем. И математические теоремы не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты такими наблюдениями.
Ни в древнем мире, ни даже в начале Нового времени об этом не подозревали. Мы уже видели, что Платон и пифагорейцы воспринимали математические объекты, например, числа или треугольники, как элементарные составляющие природы, и мы еще увидим, как некоторые философы считали вычислительную астрономию частью математики, а не естественной наукой.
Различие между математикой и естественными науками достаточно четко. Для нас остается загадкой, как математические построения, никак не связанные с природой, часто оказываются применимы к физическим теориям. В своей знаменитой статье{27} физик Юджин Вигнер писал о «непостижимой эффективности математики». Но в целом мы никоим образом не смешиваем математические концепции и принципы естественных наук, которые в конечном счете должны быть подтверждены наблюдением за окружающим миром.
Сейчас конфликты между математиками и другими учеными порой возникают из-за вопросов математической строгости. С начала XIX в. чистые математики требовали, чтобы строгость стала основой всего. Определения и допущения должны быть точными, а доказательства проведены с абсолютной достоверностью. Физики более гибки, точность и достоверность требуется им только для того, чтобы избежать серьезных ошибок. В предисловии к своей монографии по квантовой теории полей я признаю, что «в книге есть части, которые читатель, склонный к математике, будет читать со слезами на глазах».
Это вызывает сложности во взаимопонимании. Математики говорили мне, что работы физиков часто кажутся им раздражающе расплывчатыми. Те физики, которым, как и мне самому, нужен продвинутый математический аппарат, часто находят, что стремление математиков к строгости усложняет работу, но не так ценно для самой физики.
Физики, склонные к математике, совершили благородный поступок, формализовав современную физику элементарных частиц – квантовую теорию поля – по строгим математическим канонам, и достигли некоторых интересных результатов. Но за последние полвека в Стандартной модели элементарных частиц не было никакого развития, связанного с достижением более высокого уровня математической строгости.
Греческие математики процветали и после Евклида. В главе 4 мы поговорим о великих достижениях математиков позднего эллинистического периода – Архимеда и Аполлония Пергского.
3. Движение и философия
После Платона размышления греков о природе стали менее поэтическими и более аргументированными. Прежде всего, эти изменения заметны в работах Аристотеля. Аристотель не был ни урожденным афинянином, ни даже ионийцем. Он родился в 384 г. до н. э. в Македонии и переехал в Афины в 367 г. до н. э., чтобы учиться в основанной Платоном Академии. После смерти Платона в 347 г. до н. э. Аристотель уехал из Афин, некоторое время жил на острове Лесбос в Эгейском море и в прибрежном городе Ассос. В 343 г. до н. э. царь Филипп II призвал его обратно в Македонию, чтобы сделать наставником для своего сына, будущего Александра Великого.
Македония возвысилась в греческом мире после того, как армия Филиппа разбила армию Афин и Фив в битве при Херонее в 338 г. до н. э. После смерти Филиппа в 336 г. до н. э. Аристотель вернулся в Афины, где основал свою собственную школу Ликей. Наряду с Академией Платона, Садом Эпикура и Портиком[4] стоиков Ликей был одной из четырех самых великих афинских школ. Он просуществовал несколько веков, вероятно, пока не был закрыт, когда Афины были захвачены римскими войсками под предводительством Суллы в 86 г. до н. э. У Ликея была долгая жизнь, но Академия Платона, действовавшая в том или ином виде до 529 г. н. э., имеет более долгую историю, чем многие ныне существующие европейские университеты.
Дошедшие до нас работы Аристотеля в основном выглядят как заметки для его лекций в Ликее. Они касаются удивительного множества предметов: астрономия, зоология, сновидения, метафизика, логика, этика, риторика, политика, эстетика и то, что обычно переводят как «физика». По мнению одного из современных переводчиков{28}, язык Аристотеля был «выразителен, краток, резок, его аргументы выражены сжато, его мысль глубока», что вовсе не похоже на поэтический стиль Платона. Я должен сознаться, что иногда нахожу Аристотеля таким скучным, каким Платон не бывает, в то же время Аристотель не часто демонстрирует глупость, чего не скажешь о Платоне.
Платон и Аристотель были реалистами, но в разном смысле этого слова. Платон был реалистом в средневековом значении: он верил в реальность абстрактных идей, в частности, в идеальную форму вещей. Он считал, что реально существует идеальная форма сосны, а все отдельно существующие сосны только являются ее неидеальными воплощениями. Идеальные формы неизменны, как этого требовали Парменид и Зенон. Аристотель был реалистом в общепринятом современном смысле: для него категории хотя и были очень интересны, но существовали отдельные вещи, например, отдельные сосны, вполне реальные, а не платоновские отражения идеального.
Чтобы подтвердить свои предположения, Аристотель чаще пользовался доводами разума, а не действовал по наитию. Нельзя не согласиться со специалистом по классической филологии Р. Дж. Ханкинсоном, что «мы не должны упускать из виду тот факт, что Аристотель был человеком своего времени, и для этого времени он был чрезвычайно наблюдательным, прозорливым и передовым»{29}. Как бы то ни было, сквозь все учение Аристотеля проходили принципы, от которых современная наука отказалась на пути своего становления.
Начнем с того, что работы Аристотеля переполнены телеологией: вещи являются тем, что они есть, благодаря целям, которым они служат. В «Физике» мы читаем: «Кроме того, дело одной и той же [науки – познавать] «ради чего» и есть цель, а также [средства], которые для этого имеются. Ведь природа есть цель и “ради чего”…»{30}
То, что Аристотель придает особое значение телеологии, вполне естественно для человека его склада, который интересовался биологией. В Ассосе и на Лесбосе Аристотель изучал морскую биологию, а его отец Никомах был врачом при македонском дворе. Друзья, более сведущие в биологии, чем я, говорят, что описания животных, сделанные Аристотелем, достойны восхищения. Телеология вполне естественна для того, кто, как Аристотель в своем сочинении «О частях животных», изучает сердце или желудок животного – едва ли ему приходится задаваться вопросом, какой цели служат эти органы.
Более того, до работ Дарвина и Уоллеса в XIX в. натуралисты не понимали, что, хотя органы тела служат разным целям, не существует никакой цели, лежащей в основе эволюции. Живые организмы стали тем, чем они стали, благодаря продолжавшемуся миллионы лет естественному отбору из передающихся по наследству вариаций. И, конечно, задолго до Дарвина физики изучали вещество и силу, не задумываясь, какой цели они служат.
Увлечение Аристотеля зоологией, возможно, определило и то, что он особо подчеркивал значение классификации и систематизации, подразделял предметы и понятия на категории. Некоторые из них мы используем до сих пор: например, аристотелевское деление способов управления государством на монархию, аристократию и, хотя и не демократию, но конституционное государственное устройство. Однако многие его классификации бессмысленны. Я могу себе представить, как Аристотель мог бы классифицировать фрукты: все фрукты делятся на три разновидности – яблоки, апельсины и фрукты, которые не являются ни яблоками, ни апельсинами.
Через все работы Аристотеля красной нитью проходит один тип классификации, ставший в дальнейшем препятствием для развития науки. Он настаивал на разделении естественного и искусственного. Вторую книгу «Физики» он начал словами: «Из существующих [предметов] одни существуют по природе, другие – в силу иных причин»{31}. Он считал достойной своего внимания только природу. Возможно, именно это разделение естественного и искусственного не позволяло Аристотелю и его последователям интересоваться экспериментами. Что может быть хорошего в создании искусственной ситуации, когда настоящий интерес вызывают природные явления?
Аристотель не отвергал наблюдения за природными явлениями. Наблюдая временной промежуток между вспышкой молнии и ударом грома и слушая звуки весел, которые опускали в воду гребцы на триреме, плывущей вдали, он сделал вывод о том, что скорость распространения звука в воздухе конечна{32}. Также мы увидим, что Аристотель, удачно используя наблюдения, сделал выводы о форме земного шара и о причине возникновения радуг. Но это были обычные наблюдения природных явлений, а не создание искусственных ситуаций с целью проведения эксперимента.
Разделение между естественным и искусственным значительно повлияло на размышления Аристотеля о проблеме, имеющей огромное значение для истории науки, – изучения падения тел. Аристотель учил, что твердые тела падают, потому что естественное место элемента земли – внизу, в центре космоса или мироздания, а искры летят вверх, потому что естественное место огня – в небе. Земля представляет собой практически правильный шар, и ее центр является центром космоса, потому что в этом положении большая часть земной тверди примыкает к центру мироздания. В его трактате «О небе» мы читаем: «Если такая-то тяжесть проходит такое-то расстояние за такое-то время, то такая-то плюс N – за меньшее. И пропорция, в которой относятся между собой времена, будет обратной к той, которой относятся между собой тяжести. Например, если половинная тяжесть – за такое-то [время], то целая – за его половину»{33}.
Аристотеля нельзя обвинить в том, что он полностью игнорировал наблюдения падающих тел. Хотя и не понимая причин этого явления, он отметил, что сопротивление воздуха или любой другой окружающей среды оказывает эффект на падающее тело: его скорость приближается к постоянному значению, равновесной скорости, которая возрастает при увеличении массы предмета (см. техническое замечание 6). Возможно, для Аристотеля было более важно, что наблюдения того, что скорость падающего тела увеличивается при возрастании его веса, подтверждали его учение о том, что тело падает, потому что естественное место материала, из которого оно сделано, находится в центре мира.
Для Аристотеля наличие воздуха или другой среды было основополагающим в понимании движения. Он думал, что если не будет никакого сопротивления, то тела будут двигаться с бесконечной скоростью, – нелепость, которая привела его к отрицанию возможности существования пустого пространства. В «Физике» он выдвигает такой аргумент: «…не существует пустоты, как чего-то отдельного, как утверждают некоторые, об этом мы поговорим снова»{34}. Но на самом деле существует только установившаяся скорость падения тела, которая обратно пропорциональна силе сопротивления. Установившаяся скорость действительно будет бесконечной, если сопротивления не станет, но в этом случае падающее тело никогда ее не достигнет.
В той же главе Аристотель высказывает еще более спорную мысль о том, что в пустоте не может существовать ничего, с чем движение может соотноситься: «… ни один [предмет] не может двигаться, если имеется пустота. Ведь подобно тому, как, по утверждению некоторых, Земля покоится вследствие одинаковости [всех направлений], так необходимо покоиться и в пустоте, ибо нет оснований двигаться сюда больше, сюда меньше: поскольку это пустота, в ней нет различий»{35}. Но это только аргумент против существования бесконечной пустоты; иначе говоря, движение в пустоте может соотноситься с тем, что находится вне этой пустоты.
Поскольку Аристотель представлял себе движение только при наличии сопротивления, он считал, что любое движение имеет причину{36}. (Аристотель выделял четыре причины: материя, форма, действие и конечная причина, которая является телеологической, – это цель изменения.) Каждая причина должна сама по себе быть вызванной еще какой-то причиной, но эта последовательность причин не бесконечна. В «Физике» мы читаем: «Так как все движущееся должно приводиться в движение чем-нибудь, а именно если нечто перемещается под действием другого движущегося и это движущееся, в свою очередь, приводится в движение другим движущимся, а оно другим и так далее, то необходимо [признать] существование первого движущегося и не идти в бесконечность»{37}. Теория о существовании перводвигателя позже подарила христианству и исламу аргумент в пользу существования Бога. Но, как мы увидим далее, в Средние века мысль о том, что Бог не мог создать пустоту, создавала проблемы для последователей Аристотеля и в христианстве, и в исламе.
Аристотеля нисколько не беспокоил тот факт, что тела не всегда перемещаются на свои естественные места. Камень, который держат в руках, не падает, но для Аристотеля этот пример просто демонстрирует искусственное вмешательство в естественный ход вещей. Однако его волновало, что камень, подброшенный вверх, какое-то время продолжает удаляться от Земли, даже после того, как выпадет из руки. Его объяснение, которое на самом деле объяснением не является, гласит, что камень какое-то время удаляется от Земли, потому что это движение придается ему воздухом. В третьей книге трактата «О небе» он пишет: «…и в том и в другом случае [сила] передает [движение] телам, как бы приложив [его к воздуху]. Вот почему [предмет], приведенный в движение силой, продолжает двигаться даже тогда, когда то, что привело его в движение, больше его не сопровождает»{38}. Как мы увидим далее, это положение часто обсуждалось и отвергалось и в древности, и в Средние века.
То, что Аристотель писал о падающих телах, типично для его физики: детальная, хотя и не имеющая отношения к математике, аргументация, основывающаяся на базовых принципах, которые, в свою очередь, выводятся из самых простых наблюдений за явлениями природы. При этом он даже не пытается проверить те принципы, которые положены в основу всего рассуждения.
Я не хочу сказать, что философия Аристотеля была воспринята его последователями и продолжателями как альтернатива науке. В древности и Средневековье не было концепции науки, существующей отдельно от философии. Размышления о природе уже были философией. Только в XIX в., когда немецкие университеты учредили докторскую степень для ученых, занимающихся искусствами и науками, чтобы приравнять их по статусу к докторам теологии, юриспруденции и медицины, было изобретено звание «доктор философии». До этого, когда философию сравнивали с другими способами познания природы, ее противопоставляли не науке, а математике.
Ни один мыслитель не оказал такого влияния на историю философии, как Аристотель. Как мы увидим в главе 9, им восхищались некоторые арабские философы, причем Аверроэс дошел в этом восхищении до раболепия. Глава 10 расскажет о влиянии Аристотеля на христианскую Европу в начале XIII в., когда Фома Аквинский увязал его мысли с христианством. В позднем Средневековье Аристотель был известен просто как Философ, а Аверроэс – как комментатор. После Аквинского изучение трудов Аристотеля заняло центральное место в университетском образовании. В прологе к «Кентерберийским рассказам» Чосера мы знакомимся с оксфордским студентом:
Студент оксфордский с нами рядом плелся… Ему милее двадцать книг иметь, Чем платье дорогое, лютню, снедь. Он негу презирал сокровищ тленных, Но Аристотель – кладезь мыслей ценных – Не мог прибавить денег ни гроша…{39}Конечно, в наше время все изменилось. После открытия науки стало необходимо отделить ее от того, что мы сейчас называем философией. Существуют очень интересные работы по философии науки, но они не сильно влияют на научные исследования.
Попытки научной революции в XIV в. были во многом бунтом против аристотелизма, о котором подробно рассказывается в главе 10. В последние годы те, кто изучает труды Аристотеля, часто принимаются опровергать тех, кто считает его идеи устаревшими, устраивая своего рода «контрреволюцию». Знаменитый историк Томас Кун так описывал, как он перешел от пренебрежения по отношению к Аристотелю к восхищению им:
«В частности, его сочинения о движении казались мне полными вопиющих ошибок, как логических, так и связанных с результатами наблюдений. Мне казалось, что эти заключения говорят о том, что Аристотеля напрасно считали корифеем древней логики. Почти две тысячи лет его работы играли в логике почти такую же роль, как работы Евклида – в геометрии… Каким образом его воистину выдающийся талант отказывал ему каждый раз, когда он брался за изучение движения и механики? Помимо этого, почему его работы по физике рассматривались так серьезно в течение стольких лет после его смерти?.. Но неожиданно все эти разрозненные фрагменты сложились в моей голове в совершенно иную картину, и все встало на место. Я даже рот открыл от изумления: Аристотель вдруг показался мне совсем неплохим физиком, только того сорта, который я раньше себе не представлял. Я просто нашел способ читать тексты Аристотеля»{40}.
Я слышал, как Кун говорил это, когда мы оба получали почетные степени университета Падуи, и попросил разъяснить их. Он ответил: «После моего первого прочтения (работ Аристотеля по физике) изменилась не моя оценка его достижений, но мое понимание их». Я не понимал этого: для меня «совсем неплохой физик» звучит именно как оценка.
Рассматривая отсутствие интереса к эксперименту у Аристотеля, историк Дэвид Линдберг отмечал, что «научную деятельность Аристотеля тем не менее нельзя объяснять как результат глупости или неполноценности с его стороны, как неудачу в понимании очевидного усовершенствования процедуры исследования. Это был метод, совместимый с миром в представлении Аристотеля, и он хорошо подходил к тем вопросам, которые его интересовали». В более объемной статье о том, как оценивать успехи Аристотеля, Линдберг{41} позже добавил: «Было бы совершенно несправедливо и бессмысленно оценивать успехи Аристотеля по тому, насколько они предугадывали современную науку (словно бы он отвечал на вопросы, которые задаем мы, а не на свои собственные)». И во втором издании той же работы: «Правильной мерой философской системы или научной теории является не то, насколько хорошо они предвосхитили современную научную мысль, но то, насколько успешно они разрешали научные и философские проблемы своего времени»{42}.
Я на это не купился. В науке (я здесь не говорю о философии) важно не решение каких-то популярных научных проблем-однодневок, а понимание мира. В рамках этой работы ученый находит, какие объяснения возможны и решение каких задач может привести к этим объяснениям. Прогресс науки во многом зависит от поиска вопросов, которые нуждаются в ответах.
Конечно, ученый должен попытаться понять исторический контекст научных открытий. Исходя из этого, задача историка зависит от его планов. Если его целью является только воссоздать прошлое, понять «как все было на самом деле», тогда ему, возможно, и не понадобится оценивать достижения ученых прошлого по современным стандартам. Но таких суждений не избежать, если кто-то хочет проследить развитие научного прогресса от прошлого к настоящему.
Этот прогресс – совершенно объективное явление, а не просто новые веяния в моде. Можно ли сомневаться в том, что Ньютон знал о движении больше, чем Аристотель, или что мы знаем больше, чем Ньютон? Вопросы о том, какие виды движения являются естественными или какова цель того или иного физического явления, никогда не имели смысла.
Я согласен с Линдбергом, что несправедливо считать Аристотеля глупцом. Я оцениваю прошлое по стандартам современности только с целью подвести к пониманию того, как трудно было даже для такого умного человека, как Аристотель, научиться познавать природу. Ничего из того, что стало обычной практикой в современной науке, не является очевидным для человека, который никогда не видел, как это делается.
Аристотель покинул Афины после смерти Александра Македонского в 323 г. до н. э. и вскоре умер, в 322 г. до н. э. Согласно Майклу Мэтьюсу, это была «смерть, которая свидетельствовала об окончании одного из самых ярких периодов интеллектуального развития в истории человечества»{43}. Это и в самом деле был конец Классического периода, но, как мы увидим в дальнейшем, это стало и началом эпохи, которая была отмечена гораздо более яркими научными достижениями, – Эллинистической эры.
4. Эллинистическая физика и техника
После смерти Александра Македонского его империя развалилась на несколько частей. С точки зрения истории науки наибольший интерес из образовавшихся в тот момент государств представляет Египет. Там правила династия царей греческого происхождения, которую основал Птолемей I, один из главных военачальников армии Александра. Закончилась династия на Птолемее XV, сыне Клеопатры и (возможно) Юлия Цезаря. Последний из царствовавших Птолемеев был убит вскоре после поражения флота Антония и Клеопатры у мыса Акциум в 31 г. до н. э., после чего Египет был поглощен Римской империей.
Эпоху от Александра до битвы при Акциуме{44} принято называть Эллинистическим периодом. Это понятие (в немецком языке – Hellenismus) было введено в употребление в 1830-х гг. Иоганном Гюставом Дройзеном. Не уверен, так ли задумал Дройзен, но, с моей точки зрения, по-английски слова с суффиксом «-ический» звучат как понятия с оттенком вторичности, в отличие от слов без него. Например, «архаический» используется для имитации чего-либо из эпохи архаики, и в этом отношении напрашивается мысль, что эллинистическая культура была вторична по отношению к культуре непосредственно Эллады, как если бы она лишь воспроизводила достижения Классического периода, длившегося с V по I в. до н. э. Эти достижения действительно были значительны, особенно в области геометрии, драматического искусства, историографии, архитектуры, скульптуры и, возможно, в иных областях искусства Классического периода, таких как музыка или живопись, которые не дошли до нашего времени. Но именно наука достигла в Эллинистический период таких высот, которые не только затмили научные успехи Классической эры, но и не были превзойдены вплоть до научной революции XVI–XVII вв.
Особенно важным центром науки эллинизма был город Александрия, столица династии Птолемеев, основанная самим Александром недалеко от устья Нила. Александрия стала крупнейшим городом в греческом мире, и даже потом, в Римской империи, уступая размером и роскошью лишь самому Риму.
Около 300 г. до н. э. Птолемей I основал Александрийский Мусейон – им стала часть царского дворца. Вначале Музей, названный так, потому что был посвящен девяти музам, был местом, где изучали литературу и языки. Но после восшествия на престол Птолемея II в 285 г. до н. э. он превратился также и в центр по изучению наук. Над литературой знатоки продолжали работать и в Музее, и в Александрийской библиотеке, но теперь в Музее муза астрономии Урания засияла ярче своих сестер, отвечающих за различные искусства. Музей и наука Древней Греции пережили падение династии Птолемеев, и, как мы увидим, некоторые наиболее значительные достижения в науке совершались в греческой половине Римской империи – в основном в Александрии.
Миграция интеллектуалов того времени между Египтом и греческой метрополией напоминала миграцию между Америкой и Европой в XX в.{45} Богатство Египта и щедрость по отношению к грамотным людям, по крайней мере первых трех правителей из династии Птолемеев, привлекали в Александрию уже прославившихся в Афинах ученых, точно так же как Америка притягивала к себе европейскую интеллигенцию начиная с 30-х годов XX в. и по сей день. Начиная с 300 г. до н. э. бывший участник афинского Ликея Деметрий Фалерский стал первым директором Музея, перевезя в него свою афинскую библиотеку. Примерно тогда же Птолемей I вызвал из Афин другого участника Ликея, Стратона из Лампсака, чтобы тот стал учителем его сына. Возможно, именно ему принадлежит заслуга в том, что Музей превратился в научный центр после того, как сын Птолемея унаследовал престол.
Путешествие морем из Афин в Александрию в эпоху эллинизма и во времена Рима занимало примерно то же время, какое требовалось пароходу в XX в., чтобы дойти из Ливерпуля в Нью-Йорк. Поэтому люди массово перемещались в обоих направлениях между Египтом и Грецией. К примеру, Стратон не остался в Египте насовсем – он вернулся в Афины, чтобы стать третьим главой Ликея.
Стратон был ученым-наблюдателем. Он сумел установить, что падающие тела движутся вниз с ускорением, наблюдая, как ведет себя струя воды, стекающей с крыши во время дождя, когда она разбивается на отдельные капли. Он заметил, что эти капли удаляются друг от друга по мере падения. Так происходит потому, что капля в нижней части струи падает дольше и в силу того, что ускоряется, проходит большее расстояние, чем непосредственно следующая за ней капля, которая в тот же момент времени падала не столь долго (см. техническое замечание 7). Также Стратон обратил внимание, что тело, падающее с небольшой высоты, лишь слегка ударяется о землю, тогда как оно же, упавшее со значительной высоты, бьется о землю гораздо сильнее, и это означает, что его скорость увеличивается за время падения{46}.
Вероятно, не случайно Александрия, как и другие центры древнегреческой натуральной философии – Милет и Афины, была и центром коммерции. Оживленный рынок привлекает выходцев из иных культур и вносит разнообразие в сельское хозяйство. Коммерческие связи Александрии простирались очень далеко: товары из Индии попадали морским путем в Средиземноморье, путешествуя на судах через Аравийское море, далее – на север вдоль Красного моря, потом караваном до Нила и затем вниз по реке до Александрии.
Однако в интеллектуальном климате Афин и Александрии были существенные различия. В частности, ученые из Музея обычно не занимались созданием всеобъемлющих теорий, так привлекавших греческих мыслителей от Фалеса до Аристотеля. Как отмечает Флорис Коэн, «афиняне мыслили о всеобщем, а александрийцы – о частном»{47}. Ученые из Александрии сосредоточились на изучении отдельных явлений, в чем они действительно могли добиться реальных успехов. Их тематика включала оптику, гидростатику и, прежде всего, астрономию – предмет второй части этой книги.
То, что древнегреческие мыслители Эллинистической эры не пытались создать «теорию всего», вовсе не говорило об их ущербности. И тогда, и сейчас для развития науки крайне важно отличать, какие задачи созрели для изучения, а какие – еще нет. Например, на рубеже XIX–XX вв. некоторые ведущие физики того времени, такие как Хендрик Лоренц и Макс Абрахам, затратили массу усилий на то, чтобы понять структуру открытого незадолго до того электрона. Все было напрасно: никто не смог добиться лучшего понимания природы электрона до тех пор, пока два десятилетия спустя не была изобретена квантовая механика. Создание и развитие Специальной теории относительности Альбертом Эйнштейном стало возможно благодаря тому, что он решил не принимать во внимание, чем на самом деле являются электроны. А затем, в преклонном возрасте, Эйнштейн обратился к вопросу объединения известных природных взаимодействий и не достиг никакого успеха, поскольку в то время еще не было накоплено достаточно знаний для новой теории.
Другое важное отличие ученых эпохи эллинизма от ученых эпохи классицизма было в том, что, в отличие от своих предшественников, они с гораздо меньшим снобизмом относились к делению предмета науки на чистое знание как таковое и на знание, используемое в прикладных целях: в греческом языке – противопоставление понятий ἐπιστήμη и τέχνη (в латыни – scientia и ars). История свидетельствует, что многие философы рассматривали изобретателей примерно так же, как распорядитель увеселений Филострат в шекспировской пьесе «Сон в летнюю ночь», говоря об участниках афинской актерской труппы: «Здешний мелкий люд, мастеровые с жесткими руками, вовек не изощрявшие мозгов». Как физик, чья область интересов – исследование элементарных частиц и космология, не имеющая немедленного практического применения, я, разумеется, не собираюсь утверждать, что чистое знание – это что-то плохое, но проведение научных исследований на благо человека – это чудесный способ заставить ученых перестать витать в эмпиреях и вернуться к реальности{48}.
Естественно, что люди были заинтересованы в усовершенствованиях техники еще с тех времен, как научились использовать огонь для приготовления пищи и делать инструменты, ударяя одним камнем по другому. Но устойчивый интеллектуальный снобизм таких мыслителей Классического периода, как Платон или Аристотель, прочно отгораживал их теоретические работы от реального применения.
И хотя этот предрассудок не исчез и при эллинизме, он перестал быть столь влиятельным, как раньше. Некоторые люди, даже не аристократического происхождения, в это время смогли прославиться, создав технические изобретения. Хорошим примером служит Ктезибий Александрийский, сын цирюльника, который в середине III в. до н. э. изобрел гидравлические насосы и водяные часы, измеряющие время более точно, чем их предшественники, за счет поддержания постоянного уровня жидкости в сосуде-измерителе, из которого вытекала вода. Ктезибий снискал такую известность, что его упоминал два столетия спустя римский автор Витрувий в своем трактате «Об архитектуре».
Важно то, что некоторые технические изобретения века эллинизма были созданы теми же учеными, которые занимались систематическими научными исследованиями, в свою очередь служившими почвой для изобретений. К примеру, Филон Византийский, живший и работавший в Александрии примерно в 250 г. до н. э., был военным инженером, написавшим сочинение под названием «Механика», посвященное устройству гаваней для судов, укреплений, осадных приспособлений и катапульт (частично его работа была основана на трудах вышеупомянутого Ктезибия). Но в книге «Пневматика» Филон приводит экспериментальные доводы, подтверждающие взгляд Анаксимена, Аристотеля и Стратона на то, что воздух является реальной субстанцией. Например, если пустую бутылку опустить в воду открытым горлышком вниз, вода не станет ее наполнять, поскольку ее не пустит воздух, которому некуда выйти из такой бутылки. Но если позволить воздуху уйти, проделав отверстие в донце, то вода заполнит сосуд{49}.
Существовала важная тема для изучения, имеющая практическое применение, к которой древнегреческие ученые обращались снова и снова, даже в период владычества Рима: поведение лучей света. Интерес к ней возник еще в начале Эллинистической эры в работах Евклида.
О жизни Евклида известно мало. Можно предполагать, что он жил во времена правления Птолемея I и мог быть основоположником изучения математики в Александрийском музее. Наиболее известная его работа, «Начала», открывается набором геометрических определений, аксиом и постулатов и продолжается более или менее проработанными доказательствами различных теорем геометрии, начиная с простых и кончая сложными. Но кроме этой книги Евклид также написал «Оптику», посвященную законам перспективы, и ему также приписывается «Катоптрика» – книга о зеркальных отражениях, хотя современные историки не убеждены в его авторстве.
Стоит задуматься о том, что в зеркальных отражениях есть нечто особенное. Когда вы смотрите на отражение какого-нибудь небольшого предмета в плоском зеркале, вы видите его в одной определенной точке, а не «размазанным» по всему зеркалу. Но ведь существует много возможных способов нарисовать путь луча света от реального объекта к поверхности зеркала и затем к глазу наблюдателя{50}. Однако свет следует лишь по одному из таких возможных путей, и поэтому отражение можно видеть в той точке, где этот путь упирается в зеркало. Но чем определяется расположение этой точки на поверхности зеркала? В «Катоптрике» имеется описание фундаментального закона, который дает ответ на этот вопрос: угол, который падающий на плоское зеркало луч образует с его поверхностью, равен такому же углу для отраженного луча. Только один-единственный путь луча света удовлетворяет этому условию.
Неизвестно, кто именно в эпоху эллинизма открыл этот принцип. Тем не менее мы знаем, что позднее, около 60 г., Герон Александрийский в своем труде под названием «Катоптрика» привел математическое доказательство равенства углов падения и отражения, основываясь на предположении, что путь светового луча от объекта к зеркалу, а затем к глазу наблюдателя есть кратчайший возможный путь (см. техническое замечание 8). В качестве обоснования того, почему эта закономерность наблюдается, Герон ограничивается лишь высказыванием: «Все согласны, что Природа ничего не делает зря и не напрягает силы без нужды»{51}. Возможно, что он находился под влиянием телеологии Аристотеля – идеи о том, что все происходящее служит некоему замыслу. Тем не менее Герон был прав; как мы увидим в главе 14, только в XVII в. Гюйгенс сумел вывести принцип следования света по кратчайшему пути (в действительности по пути, следование по которому занимает наименьшее время) из волновой природы света. Тот же Герон помимо фундаментальных исследований в оптике, позволивших ему создать теодолит – прибор для нужд практической геодезии, привел объяснение действию сифонов и занимался проектированием и созданием военных катапульт и примитивного парового двигателя.
Изучение оптики продолжалось в Александрии в середине II в н. э. великим астрономом Клавдием Птолемеем (не имевшим отношения к царской династии Птолемеев). Его книга «Оптика» известна в переводе на латынь с утерянного перевода на арабский язык с утраченного греческого оригинала (возможно, впрочем, промежуточным звеном был еще и исчезнувший перевод на древний сирийский язык). В этой книге Птолемей описывает измерения, подтверждающие правило равенства угла падения и отражения, ранее сформулированное Евклидом и Героном. Он также распространяет это же правило на отражения от кривых зеркал, типа тех, которые сейчас можно увидеть в парках аттракционов. Птолемей верно заключил, что отражение света от поверхности кривого зеркала происходит точно так же, как и отражение от зеркала плоского – при равенстве углов падения и отражения по отношению к нормали в точке отражения.
В заключительном томе «Оптики» Птолемей также описывал преломление света – явление, когда световые лучи изменяют направление при переходе из одной прозрачной среды в другую, например, из воздуха в воду. Он разметил диск отметками углов и наполовину погрузил в сосуд с водой. Наблюдая объект на дне сосуда сквозь трубку, укрепленную на краю диска, он смог замерить углы, которые исходный и преломленный лучи образуют с перпендикуляром к поверхности воды, с точностью, колебавшейся от долей градуса до нескольких градусов{52}. Как будет описано в главе 13, закон, раскрывающий соотношение этих углов, был выведен в XVII в. Ферма как простое расширение принципа, сформулированного Героном об отражении: преломление обусловлено тем, что путь луча света от объекта к глазу наблюдателя не кратчайший геометрически, а такой, который занимает наименьшее время прохождения пути для света. В случае отражения между кратчайшим и самым быстрым путем разницы нет, поскольку и падающий, и отраженный лучи движутся сквозь одну и ту же среду, и пройденное расстояние прямо пропорционально времени, но в случае преломления разница существует, так как скорость света меняется при переходе из одной среды в другую. Птолемей этого не понял; истинный закон преломления, известный как закон Снеллиуса (для французов – закон Декарта), был открыт в результате экспериментов только в начале XVII в.
Наиболее впечатляющих успехов из ученых-практиков эпохи эллинизма (и, не исключено, вообще всех эпох) добился Архимед. Он жил в III в. до н. э. в греческом городе Сиракузы на Сицилии, но есть сведения, что он как минимум однажды бывал в Александрии. Архимеду приписывают изобретение различных видов блоков и винтов, а также ряда военных механизмов, таких как «Лапа Архимеда», в основе которых лежал принцип рычага. С их помощью обороняющиеся в прибрежной крепости могли хватать и переворачивать вражеские корабли, стоящие на якоре у берега. Одним из его изобретений, широко использовавшимся в сельском хозяйстве на протяжении веков, стал так называемый винт Архимеда – приспособление для подъема воды из каналов для орошения полей. История о том, что Архимед при обороне Сиракуз использовал искривленные зеркала, чтобы сфокусировать солнечные лучи на римских кораблях и поджечь их, наверняка легенда, но она свидетельствует о том, что он приобрел репутацию волшебника в области техники.
В своем труде «О равновесии плоских фигур» Архимед вывел правило работы рычажных весов: стержень с грузами на обоих концах находится в равновесии тогда, когда расстояния между концами и точкой опоры стержня обратно пропорциональны весам этих грузов. К примеру, если на один конец стержня положить гирю в пять килограмм, а на другой – в один килограмм, то равновесие получится тогда, когда расстояние от килограммовой гири до точки опоры будет в пять раз больше, чем от точки опоры до пятикилограммовой гири.
Самое великой научное открытие Архимеда в области физики содержится в его книге «О плавающих телах». Архимед доказывал, что если какая-то часть жидкости окажется сдавлена в вертикальном направлении сильнее другой части весом самой жидкости или плавающими или погруженными в нее телами, то жидкость станет течь, пока все ее части не будут сдавлены одинаковым весом. Он формулировал это так:
«Предположим, что жидкость имеет такую природу, что из ее частиц, расположенных на одинаковом уровне и прилежащих друг к другу, менее сдавленные выталкиваются более сдавленными и что каждая из ее частиц сдавливается жидкостью, находящейся над ней по отвесу, если только жидкость не заключена в каком-нибудь сосуде и не сдавливается еще чем-нибудь другим»{53}.
Отсюда Архимед заключил, что плавающее тело погружается в жидкость до уровня, на котором его собственный вес уравнивается весом вытесненной им жидкости. (Именно поэтому, говоря о весе судна или корабля, используют термин «водоизмещение».) Кроме того, твердое тело, слишком тяжелое, чтобы плавать, погруженное в жидкость, будучи подвешенным к рычагу весов на веревке, «…будет легче своего истинного веса на величину веса вытесненной жидкости» (см. техническое замечание 9). Отношение истинного веса тела к значению уменьшения его веса в погруженном в воду состоянии называется относительной плотностью тела, то есть отношением веса тела к весу воды того же объема. У каждого материала есть свое характерное значение относительной плотности: для золота оно равняется 19,32, для свинца – 11,34 и т. д. Этот метод, выведенный из систематического изучения статики жидкостей, позволил Архимеду выяснить, была ли царская корона изготовлена из чистого золота или сплава золота с более дешевыми металлами. Не установлено, применял ли сам Архимед свое открытие на практике, но и столетия спустя этот метод оставался надежным способом выяснения состава материалов.
Еще более потрясающих успехов Архимед добился в математике. Используя технику, предвосхитившую интегральный анализ, он смог вычислить площади и объемы различных плоских фигур и пространственных тел. Например, площадь круга равна половине длины соответствующей окружности, помноженной на радиус (см. техническое замечание 10). Используя методы геометрии, он показал, что соотношение, выражаемое числом, которое мы (но не Архимед) называем «пи», то есть отношение длины окружности к ее диаметру, находится между 3 1/7 и 3 10/17. Цицерон свидетельствует, что он видел на могильном камне Архимеда чертеж цилиндра, описанного вокруг сферы, поверхность которой касается боковой поверхности и обоих концов цилиндра, наподобие теннисного мяча, плотно всунутого в жестяную банку. По всей видимости, Архимед больше всего гордился своим доказательством того, что в этом случае объем сферы составляет ровно 2/3 объема цилиндра.
Существует рассказ о смерти Архимеда, переданный древнеримским историком Титом Ливием. Архимед погиб в 212 г. до н. э. во время разграбления Сиракуз римскими воинами под командованием Марка Клавдия Марцелла (до этих событий власть в Сиракузах была захвачена сторонниками Карфагена во время Второй Пунической войны). Когда римляне ворвались в Сиракузы, Архимеда убил солдат в тот момент, когда он работал над решением очередной геометрической задачи.
Помимо несравненного Архимеда к величайшим математикам Эллинистической эпохи относится его более поздний современник Аполлоний Пергский. Аполлоний родился в 262 г. до н. э. в Перге, городе на юго-восточном побережье Малой Азии, который в тот момент находился под властью набиравшего силу Пергамского царства. Но он путешествовал в Александрию во время правления Птолемея III и Птолемея IV, то есть в период с 247 по 203 г. до н. э. Выдающаяся работа Аполлония посвящена коническим сечениям – эллипсу, параболе и гиперболе. Это кривые, которые получаются при рассечении конуса плоскостью под различными углами. Намного позднее теория конических сечений оказалась принципиально важной для Кеплера и Ньютона, но применения в физике античного мира она не нашла.
Несмотря на эти блестящие прозрения в области геометрии, в древнегреческой науке практически отсутствовали математические методы, являющиеся неотъемлемой частью современной физики. Греки не умели писать и преобразовывать алгебраические формулы. Выражения наподобие E = mc² и F = ma – суть современной физики. (В своем чисто математическом труде Диофант Александрийский, живший и работавший в Александрии в середине III в., использовал формулы, но символы в его уравнениях обозначали только целые или рациональные числа, а в используемых сейчас физиками формулах это не так.) Даже когда нужно описать пространственные свойства явления, современный физик предпочитает выводить геометрические соотношения алгебраическим путем, используя приемы аналитической геометрии, разработанные в XVII в. Рене Декартом и другими (об этом будет рассказано в главе 13). Вероятно, из-за престижа, заработанного успехами древнегреческих математиков, геометрический стиль доказательств превалировал вплоть до научной революции XVII в. Когда Галилео Галилей в 1623 г. в своей книге «Пробирных дел мастер»{54} воздает хвалу математике, в первую очередь он говорит о геометрии: «Философия написана в величественной книге (я имею в виду Вселенную), которая постоянно открыта нашему взору, но понять ее может лишь тот, кто сначала научится постигать ее язык и толковать знаки, которыми она написана. Написана же она на языке математики, и знаки ее – треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых человек не смог бы понять в ней ни единого слова; без них он был бы обречен блуждать в потемках по лабиринту». Надо заметить, что Галилей несколько отстал от времени, превознося геометрию над алгеброй. В своих собственных работах он уже использовал алгебру, но доля геометрии в них была больше, чем у некоторых его современников, и намного больше, чем можно ожидать от статьи в физическом журнале нашего времени.
Сегодня есть место и для чистой науки – науки, в которой исследования проводятся безотносительно возможности практического применения. В древнем же мире, до того, как ученые поняли необходимость находить подтверждения своих теорий, практическое применение науки было важно потому, что сулило немалую выгоду ученому – в том случае, если теория оказывалась верна. Если бы Архимед при своих измерениях относительной плотности неверно заключил, что фальшивая корона сделана из чистого золота, его репутация в Сиракузах сильно бы пострадала.
Я не хочу преувеличивать то значение, которое технические изобретения, основанные на научных выводах, имели в эпоху эллинизма или Древнего Рима. Многие из устройств Ктезибия или Герона служили не более чем игрушками или театральной машинерией. Историки утверждают, что основанная на рабовладении экономика не нуждается в машинах, позволяющих экономить человеческий труд, и поэтому паровой двигатель Герона остался игрушкой. Военное и гражданское строительство и механизация были важны и в древности, и цари Александрии поддерживали изучение катапульт и других метательных приспособлений, вероятно, в рамках деятельности Музея. Но эти направления не так много взяли от науки того времени.
Лишь одна сторона древнегреческой науки, имевшая огромное практическое значение, развивалась, достигая больших высот познания. Это была астрономия, о которой мы поговорим во второй части книги.
В отношении сделанных замечаний следует сказать, что есть одно серьезное исключение из правила о том, что необходимость практического применения вынуждает науку быть точной. Это – практическая медицина. До наступления современной эпохи самые авторитетные медики упорно применяли практические методики, такие как кровопускание, значение которых не было подтверждено экспериментально, притом на самом деле они несли больше вреда, чем пользы. Когда в XIX в. впервые была внедрена действительно полезная методика антисептики, имевшая реальную научную основу, поначалу многие врачи активно сопротивлялись ее распространению. К тому моменту, когда клинические испытания новых лекарств стали общепризнанной практикой, уже вовсю шел XX в. Врачи давно научились распознавать симптомы различных заболеваний, и для некоторых из них нашли эффективные лекарства – как, например, кора перуанского хинного дерева против малярии. Они знали, как готовить анальгетики, опиаты, рвотные, слабительные, снотворные средства или яды. Но до начала XX в. часто совершенно справедливо отмечалось, что заболевшему человеку, как правило, для его же пользы лучше было не обращаться к врачам.
Дело даже не в том, что у медицины не было никакой теории. Существовала так называемая «гуморальная теория», или учение о «четырех соках человеческого тела» – крови, лимфе, черной желчи и желтой желчи, которые влияют на характер человека и заставляют его быть сангвиником, флегматиком, меланхоликом или холериком. Гуморальная теория появилась во времена классической Древней Греции и была придумана Гиппократом или его коллегами, авторство трудов которых приписывали Гиппократу. Как замечал в гораздо более позднюю эпоху поэт Джон Донн в сонете «С добрым утром»: «Есть смеси, что на смерть обречены», имея в виду эту теорию. Учение о соках тела было развито в древнеримский период Галеном из Пергама, чьи сочинения приобрели огромное влияние сначала в арабском мире, а затем в Европе в начале II тыс. н. э. Мне не известно ни об одной попытке экспериментально обосновать гуморальную теорию в тот период, когда она считалась общепринятой. До наших дней гуморальная теория сохранилась в аюрведе, традиционной системе индийской медицины, но в ней выделяется только три «сока»: лимфа, желчь и прана.
Вдобавок к учению о соках европейские врачи вплоть до Нового времени должны были разбираться еще в одной теории, которая имела большое значение для медицины, – в астрологии. Забавно, что те доктора медицины, которые имели возможность изучать астрологию в университетах, пользовались гораздо большим престижем, чем простые хирурги, которые умели выполнять действительно полезные действия, например, совмещать и фиксировать сломанные кости, но до наступления более просвещенных времен не обучались в университетах.
Но почему же доктрины и практические методы медицины существовали так долго без критики и влияния со стороны экспериментальной науки? Конечно, прогресс в биологии достигается с бо́льшим трудом, чем в астрономии. Как мы прочтем в главе 8, видимые движения Солнца, Луны и планет настолько регулярны, что совсем не трудно убедиться в том, что та или иная теория не работает, и спустя несколько веков наблюдений заменить ее более совершенной теорией. Но если пациент умирает, несмотря на усилия компетентного врача, кто может точно сказать, почему это произошло? Может быть, пациент слишком поздно обратился к доктору. Может быть, он недостаточно тщательно следовал его предписаниям.
По крайней мере, учение о соках и астрология производили впечатление некой науки. Было ли что-то лучше? Не возвращаться же к приношению в жертву животных во славу Асклепия?
Излечение от болезни всегда было критически важно для пациента, а врачам это давало власть над пациентами, которую им необходимо было поддерживать, чтобы иметь возможность применять свои методы лечения. Не только в медицине бывает так, что обличенные властью лица противятся исследованиям, которые могут ослабить их влияние.
5. Древняя наука и религия
Древнегреческие досократики сделали большой шаг к современной науке, когда начали искать объяснения явлениям природы без связи с религией. Это была робкая попытка порвать с прошлым. Как мы уже видели в главе 1, Диоген Лаэртский[5] описывал учение Фалеса не только положением «вода – это главное вещество во Вселенной», но и говорил: «Мир одушевлен и населен божествами». Таким образом, только в учениях Левкиппа и Демокрита начался отказ от религиозной составляющей. По крайней мере, нигде в дошедших до нас сочинениях о природе материи божества не упоминаются.
Для успешного развития науки было необходимо отделить религиозные идеи от процесса познания. Это разделение продолжалось много сотен лет. В физике оно полностью завершилось только в XVIII в., а в биологии и тогда еще не закончилось.
Никто не говорит о том, что современный ученый обязательно должен отказаться от веры в сверхъестественные силы. Лично я не верю, но есть очень хорошие ученые, которые являются глубоко религиозными людьми. Важно скорее то, насколько ученый в своей работе может дистанцироваться от веры в сверхъестественное. Только таким путем можно развивать науку, потому что вмешательством сверхъестественного можно объяснить все что угодно, а подтвердить ни одно из этих объяснений невозможно. Именно поэтому идеология «разумного начала», которая сегодня очень широко продвигается, не является наукой – это, скорее, отказ от науки.
Размышления Платона были прочно связаны с религией. В «Тимее» он описывал, как бог поместил планеты на их орбиты. Вполне возможно, он считал, что и сами планеты являются богами. Даже когда философы Эллинистической эпохи пытались обойтись без богов, некоторые из них описывали природу в терминологии человеческих ценностей и эмоций, которые в целом интересовали их больше, чем неодушевленный мир. Как мы уже видели, обсуждая изменения материи, Анаксимандр говорил о справедливости, а Эмпедокл – о борьбе. Платон считал, что элементы и другие составляющие природы стоит изучать не из-за их собственной ценности, но потому, что для него они служили неким воплощением божества, присутствующего как в мире природы, так и во взаимоотношениях людей. Его религиозное мировоззрение было наполнено этим чувством, что видно в отрывке из «Тимея»: «Итак, пожелавши, чтобы все было хорошо и чтобы ничто по возможности не было дурно, бог позаботился обо всех видимых вещах, которые пребывали не в покое, но в нестройном и беспорядочном движении; он привел их из беспорядка в порядок, полагая, что второе, безусловно, лучше первого»{55}.
Сегодня мы продолжаем изучать законы природы, но не считаем их каким-то образом связанными с человеческими ценностями. Это устраивает не всех ученых. Уже в XX в. великий физик Эрвин Шрёдингер приводил аргументы за возвращение к античным образцам{56} с их слиянием науки и человеческих ценностей. В том же духе высказывался и историк Александр Койре, считая современное расхождение науки и того, что мы теперь называем философией, «катастрофическим»{57}. Я в этом вопросе придерживаюсь мнения о том, что вся эта тоска по холистическому подходу к природе – именно то, что ученые давно должны были перерасти. Мы попросту не можем найти в законах природы ничего, что хоть каким-то образом соответствовало бы идеям добра, справедливости, любви или вражды. Мы не можем полагаться на философию как на надежный путь к объяснению природы.
Непросто понять, какой смысл язычники вкладывали в свою религию. Те греки, у которых была возможность путешествовать или много читать, знали, что в Европе, Азии и Африке люди поклоняются огромному количеству различных богов и богинь. Некоторые греки пытались увидеть в них своих божеств под другими именами. Например, историк Геродот, будучи религиозным человеком, не писал, что египтяне поклоняются богине Бубастис, которая напоминает греческую богиню Артемиду, но представлял это так, как будто они поклоняются Артемиде под именем Бубастис. Другие греки считали, что все эти боги реально существуют, и даже упоминали иностранных богов в своих молитвах. Некоторые олимпийские боги, например, Дионис и Афродита, были заимствованы из азиатских культов.
Тем не менее были греки, у которых существование множества богов и богинь вызывали недоверие. Достаточно вспомнить известный комментарий досократика Ксенофана: «Эфиопы [изображают богов] черными и с приплюснутыми носами, // Фракийцы – рыжими и голубоглазыми… // Так и души их они изображают подобными себе». Также он заметил в стихах:
Если бы руки имели быки и львы или <кони>, Чтоб рисовать руками, творить изваянья, как люди, Кони б тогда на коней, а быки на быков бы похожих Образы рисовали богов и тела их ваяли, Точно такими, каков у каждого собственный облик{58}.В отличие от Геродота историк Фукидид не демонстрировал никаких пристрастий к религии. Он критикует афинского генерала Никия за злополучное (принятое им из-за лунного затмения) решение в битве при Сиракузах не отводить войска в тот момент, когда это было необходимо сделать. Фукидид заметил, что Никий был «чересчур склонен к гаданиям и другим подобным вещам».
Скепсис по отношению к религии особенно распространялся среди греческих мыслителей, которые занимались познанием законов природы. Как мы уже видели, размышления Демокрита об атомах относились целиком к области естествознания. Сначала идеи Демокрита были восприняты как противоядие от религии Эпикуром из Самоса (341–271 гг. до н. э.), который поселился в Афинах и в начале Эллинистической эпохи основал свою школу, известную под названием «Сад Эпикура». Эпикур, в свою очередь, вдохновил римского поэта Лукреция. Поэма Лукреция «О природе вещей» истлевала в монастырских библиотеках, пока не была открыта снова в 1417 г. Она оказала огромное влияние на Возрождение в Европе. Стивен Гринблат{59} прослеживает влияние Лукреция на работы Макиавелли, Мора, Шекспира, Монтеня, Гассенди{60}, Ньютона и Джефферсона.
Даже когда языческие верования полностью не отвергались, греки все чаще и чаще начинали воспринимать их аллегорически, как ключ к скрытой истине. Как говорил Гиббон, «Сумасбродная греческая мифология провозглашала ясным и громким голосом, что благочестивый исследователь ее мистерий, вместо того чтобы находить в их буквальном смысле или повод к скандалу, или полное удовлетворение, должен старательно доискиваться сокровенной мудрости, которую древние из предосторожности прикрыли маской безрассудства и вымысла»{61}. Поиск скрытой мудрости привел во времена Рима к появлению школы, которую сейчас называют Римской школой неоплатонизма. Она была основана в III в. Плотином и его учеником Порфирием. Хотя неоплатоники не добились большого прорыва в науке, они возродили интерес Платона к математике; например, Порфирий написал биографию Пифагора и комментарии к «Началам» Евклида. Поиск скрытого смысла под внешней оболочкой составляет важную задачу в науке, поэтому неудивительно, что представители неоплатонизма, по крайней мере, сохраняли интерес к научным вопросам.
Язычников не очень заботили верования других людей, если те не стремились утвердить истинность своей веры публично. У языческих религий никогда не было общепринятых письменных источников, таких как Библия или Коран. Гомеровские «Илиада» и «Одиссея» и «Теогония» Гесиода воспринимались как литературные произведения, а не как теологические трактаты. Язычество породило множество поэтов и священников, но не произвело на свет ни одного теолога. Тем не менее открыто выражать атеистические убеждения было опасно. По крайней мере в Афинах обвинения в атеизме иногда служили оружием в политических дебатах, а философы, которые демонстрировали неверие в языческий пантеон, могли навлечь на себя гнев государства. Философ-досократик Анаксагор был вынужден покинуть Афины из-за своего учения о том, что Солнце – это не божество, а огромный раскаленный камень размером больше Пелопоннеса.
Платон в особенности заботился о сохранении роли религии в изучении природы. Атеистическое учение Демокрита привело Платона в смятение настолько, что в 10-й книге своих «Законов» он писал, что в его идеальном обществе любой, кто отрицает существование богов и их вмешательство в дела людей, будет приговорен к пяти годам одиночного заключения. Если виновный не откажется от своих заблуждений, то за этим последует смертный приговор.
В этом вопросе, как ни в каком другом, Александрия отличалась от Афин. Я не могу назвать ни одного ученого Эллинистической эпохи, в чьих сочинениях отражается хоть какой-то интерес к религии, и не знаю ни одного из них, кто пострадал бы из-за своего неверия.
В Римской империи известны случаи религиозных преследований. В то же время вера в иностранных богов не возбранялась. Пантеон богов поздней Римской империи включал фригийскую Кибелу, египетскую Исиду и персидского Митру. Но во что бы ни веровал римский гражданин, он должен был демонстрировать верность государству и публично поддерживать официальную римскую религию. Согласно Гиббону, все религии в Римской империи «… были в глазах народа одинаково истинны, в глазах философов одинаково ложны, а в глазах правительства одинаково полезны»{62}. Христиан преследовали не за то, что они верили в Иегову или Иисуса, а за то, что они публично отрицали римскую религию; чаще всего с них снимали бремя вины после того, как они приносили щепотку благовоний на алтарь римских богов.
Во времена Римской империи не было никаких вмешательств в работу греческих ученых. Гиппарха и Птолемея никогда не преследовали за их нетеистические теории планет. Религиозный языческий император Юлиан критиковал последователей Эпикура, но не подвергал их гонениям.
Хотя христианство было запрещено из-за того, что его последователи не поддерживали государственную религию, оно широко распространилось в Римской империи во II и III вв. В 313 г., при императоре Константине I, оно было признано законным, а в 380 г., при Феодосии I, стало единственным законным вероисповеданием в империи. За эти годы величайшая греческая наука пришла в запустение. Естественно, историки задаются вопросом, не стал ли расцвет христианства причиной упадка науки.
В прошлом возможные расхождения между религиозными учениями и научными открытиями были в центре внимания. Например, Коперник посвятил свой шедевр «О вращении небесных сфер» папе Павлу III и в посвящении предупреждал, что не следует использовать отрывки из Священного Писания в противовес достижениям науки. Коперник процитировал как отвратительный, на его взгляд, пример точку зрения Лактанция, христианского воспитателя старшего сына Константина:
«Если и найдутся какие-нибудь “пустословы”, которые, будучи невеждами во всех математических науках, все-таки берутся о них судить и на основании какого-нибудь места Священного Писания, неверно понятого и извращенного для их цели, осмелятся порицать и преследовать это мое произведение, то я, ничуть не задерживаясь, могу пренебречь их суждением как легкомысленным. Ведь не тайна, что Лактанций, вообще говоря, известный писатель, но небольшой математик, почти по-детски рассуждал о форме Земли, осмеивая тех, кто утверждал, что Земля имеет форму шара»{63}.
Это было не совсем справедливое обвинение. Лактанций действительно говорил, что небо не может находиться под Землей{64}. Он утверждал также, что если мир имеет форму шара, то тогда должны быть люди и животные, живущие на его обратной стороне, – антиподы. Это абсурд; нет никаких причин, по которым люди и животные должны населять все части шарообразной Земли. И что тут такого, если на обратной стороне земного шара живут антиподы? Лактанций предполагал, что они свалились бы «на заднюю сторону неба». Затем он высказывает точку зрения, противоположную мнению Аристотеля (не называя его имени), который утверждал, что «это в природе вещей, когда вес стремится к центру», обвиняя тех, кто поддерживает это мнение, в «доказательстве нелепости нелепостью». Конечно, здесь именно Лактанций говорит нелепости, но, в отличие от того, что предполагал Коперник, Лактанций ссылался не на Священное Писание, а просто на чрезвычайно поверхностное объяснение природных явлений. Подводя итог, я не думаю, что прямой конфликт между Священным Писанием и научными знаниями был главной причиной противоречий между христианством и наукой.
Гораздо более важной, как мне кажется, причиной было распространенное среди ранних христиан мнение о том, что языческая наука – это то, что отвлекает от духовного сосредоточения, к которому христианин должен стремиться. Эта мысль восходит к самому началу христианства, к апостолу Павлу, который предупреждал: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу»{65}. Самое знаменитое высказывание, основанное на этих словах, принадлежит известному отцу Церкви Тертуллиану, который примерно в 200 г. спрашивал: «Какое отношение Афины имеют к Иерусалиму и Академия к Церкви?» (Тертуллиан выбрал Афины и Академию как символы эллинской философии, с которой он, по всей видимости, был знаком лучше, чем с александрийскими научными течениями.) Изучая труды других богословов, мы находим, что один из самых знаменитых отцов Церкви Августин из Гиппона (Блаженный Августин) испытал глубокое разочарование относительно языческих научно-философских учений. В молодости Августин изучал греческую философию (правда, только в латинских переводах) и щеголял своим знанием Аристотеля, но позже он спрашивал: «И какая польза была для меня, что я, в то время негодный раб злых страстей, сам прочел и понял все книги, относившиеся к так называемым свободным искусствам, какие только мог прочесть?»{66} Августина также волновали конфликты между христианством и языческой философией. До конца своей жизни (до 426 г.) он возвращался к своим прошлым сочинениям и комментировал их: «Теперь я чувствую себя также разочарованным тем, что возносил хвалу Платону и его последователям или философам Академии больше того, чего были достойны такие неверующие люди, особенно те, от великих ошибок которых следует защищать христианское учение»{67}.
Другим фактором стало то, что христианство открывало возможность продвижения в церковной иерархии для умных молодых людей, некоторые из которых при других обстоятельствах могли бы стать математиками или учеными. Священники и архиепископы обычно не попадали под юрисдикцию гражданских судов и не платили налоги. Такие священники, как Кирилл Александрийский или Амвросий Медиоланский, добились значительной политической власти, гораздо большей, чем мог себе представить какой-нибудь ученый или философ в Александрийском музее или Афинской академии. Это было совершенно новое явление. При языческих религиях руководящие посты доставались богатым людям, обладающим политической властью, а представители культов гораздо реже обретали власть и богатство. Например, Юлий Цезарь и его преемники добились поста верховного понтифика не благодаря своему благочестию или образованности, а с помощью своей политической власти.
После принятия христианства греческая наука просуществовала какое-то время, хотя в основном ученые занимались комментариями более ранних работ. Философ-неоплатоник Прокл, руководивший Академией Платона в Афинах в V в., написал комментарии к «Началам» Евклида, в которые внес некоторые оригинальные дополнения. В главе 8 мне представится возможность процитировать замечания более позднего члена Академии Симпликия о взглядах Платона на движение планет, которые были частью его комментариев к работам Аристотеля. В конце IV в. Теон Александрийский создал комментарии к величайшему труду Птолемея по астрономии «Альмагесту» и подготовил свою редакцию работы Евклида. Его знаменитая дочь Гипатия стала главой неоплатонической школы в Александрии. Век спустя в Александрии христианин Иоанн Филопон написал комментарии к работам Аристотеля, где рассматривал аристотелевскую доктрину движения. Иоанн опровергал мнение Аристотеля, который считал, что тела, подброшенные в воздух, не падают мгновенно, потому что их поддерживает воздух. Он полагал, что брошенные тела приобретают какое-то качество, которое позволяет им сохранять движение. Это было предвосхищение более поздних идей об импульсе, или количестве движения. Но больше не появлялось ученых, создающих что-то новое, уровня Евдокса, Аристарха, Гиппарха, Евклида, Эратосфена, Архимеда, Аполлония, Герона или Птолемея.
Неизвестно, было ли это связано с развитием христианства, но вскоре и комментаторы исчезли. В 415 г. Гипатия была убита толпой, подстрекаемой архиепископом Кириллом Александрийским, хотя трудно судить, по каким причинам он это сделал – по политическим или по религиозным. В 529 г. император Юстиниан (который известен повторным завоеванием Италии и Африки, приведением в систему римского закона и строительством собора Святой Софии в Константинополе) приказал закрыть неоплатоновскую Академию в Афинах. Хотя Гиббон настроен против христианства, но в этом случае стоит процитировать его слова:
«Военные успехи го́тов были менее пагубны для афинских школ, чем введение новой религии, служители которой считали развитие разума ненужным, решали все вопросы ссылками на догматы веры и осуждали неверующих или скептиков на вечные мучения. Во множестве сочинений, наполненных утомительной полемикой, они доказывали бессилие разума и испорченность сердца, оскорбляли человеческое достоинство в лице древних мудрецов и запрещали философские исследования, столь несовместимые с теориями или по меньшей мере со смирением верующих»{68}.
Греческая часть Римской империи просуществовала до 1453 г., но, как мы увидим в главе 9, задолго до этого центр научной мысли переместился на восток, в Багдад.
Часть II Астрономия в Древней Греции
В древности астрономия получила наибольшее развитие среди всех прочих наук. Одна из причин этого заключалась в том, что астрономические явления проще для понимания, чем явления, наблюдаемые на поверхности Земли. Хотя древние не знали этого, тогда, как и теперь, Земля и другие планеты двигались вокруг Солнца по орбитам, близким к круговым, примерно с постоянной скоростью, под воздействием единственной силы – гравитации, а также вращались вокруг своих осей, в общем, с постоянными скоростями. Все это справедливо и по отношению к движению Луны вокруг Земли. В результате Солнце, Луна и планеты кажутся с Земли движущимися упорядоченным и предсказуемым образом, и их движение можно изучать с достаточной точностью.
Другая причина была в том, что в древности астрономия имела практическое значение, в отличии от физики. Как использовали астрономические знания, мы увидим в главе 6.
В главе 7 мы рассмотрим то, что стало, несмотря на неточности, триумфом науки эпохи эллинизма: успешное измерение размеров Солнца, Луны и Земли, а также расстояний от Земли до Солнца и Луны. Глава 8 посвящена задачам анализа и предсказания видимого движения планет – проблеме, которая оставалась до конца не решенной астрономами и в Средних веках и решение которой в конечном итоге породило современную науку.
6. Практическая польза астрономии{69}
Даже в доисторические времена люди, должно быть, ориентировались по небу как по компасу, часам и календарю. Трудно не заметить, что солнце встает каждое утро примерно в одной и той же стороне света; что можно определить, скоро ли наступит ночь, глядя, как высоко солнце над горизонтом, и что теплая погода наступает в то время года, когда дни длиннее.
Известно, что звезды стали использовать для подобных целей довольно рано. Около III тыс. до н. э. древние египтяне знали, что разлив Нила – важнейшее событие для сельского хозяйства – совпадает с днем гелиакического восхода звезды Сириус. Это тот день в году, когда Сириус в первый раз становится виден в лучах зари перед восходом солнца; в предшествующие дни он вообще не виден, а в последующие дни появляется на небе все раньше и раньше, задолго до рассвета. В VI в. до н. э. Гомер в своей поэме сравнивает Ахилла с Сириусом, который виднеется высоко в небе на исходе лета:
Словно звезда, что под осень с лучами огнистыми всходит И, между звезд неисчетных горящая в сумраках ночи (Псом Ориона ее нарицают сыны человеков), Всех светозарнее блещет, но знаменьем грозным бывает; Злые она огневицы наносит смертным несчастным…{70}Позже поэт Гесиод в поэме «Труды и дни» советовал земледельцам собирать виноград в дни гелиакического восхода Арктура; пахать следовало в дни так называемого космического захода звездного скопления Плеяды. Так называется день в году, когда это скопление в первый раз садится за горизонт в последние минуты перед восходом солнца; до этого солнце уже успевает подняться, когда Плеяды еще высоко на небе, а после этого дня они заходят раньше, чем встает солнце. После Гесиода календари, называемые «парапегма», в которых для каждого дня давались моменты восхода и захода хорошо заметных звезд, получили широкое распространение в древнегреческих городах-государствах, которые не имели другого общепринятого способа отмечать дни.
Наблюдая темными ночами звездное небо, не засвеченное огнями современных городов, жители цивилизаций древности ясно видели, что за рядом исключений, о которых мы скажем позже, звезды не меняют своего взаимного расположения. Поэтому созвездия не изменяются из ночи в ночь и из года в год. Но при этом весь свод этих «неподвижных» звезд каждую ночь поворачивается с востока на запад вокруг особой точки на небе, указывающей точно на север, которую назвали северным полюсом мира. В терминах нашего дня это та точка, куда направлена ось вращения Земли, если продлить ее из северного полюса Земли в небо.
Эти наблюдения сделали звезды с древнейших времен полезными для моряков, которые по ним определяли расположение сторон света ночью. Гомер описывает, как Одиссей по дороге домой в Итаку был пленен нимфой Калипсо на ее острове в западном Средиземноморье и оставался в плену, пока Зевс не приказал ей отпустить путешественника. Напутствуя Одиссея, Калипсо советует ему ориентироваться по звездам:
Руль обращая, он бодрствовал; сон на него не спускался Очи, и их не сводил […] с Медведицы, в людях еще Колесницы Имя носящей и близ Ориона свершающей вечно Круг свой, себя никогда не купая в водах океана. С нею богиня богинь повелела ему неусыпно Путь соглашать свой, ее оставляя по левую руку{71}.Медведица – это, конечно же, созвездие Большой Медведицы, также известное древним грекам под названием Колесница. Она располагается недалеко от северного полюса мира. По этой причине на широтах Средиземноморья Большая Медведица никогда не заходит («… себя никогда не купая в водах океана», как выразился Гомер) и всегда видна ночью в более или менее северном направлении. Держа Медведицу по левому борту, Одиссей мог постоянно сохранять курс на восток, в Итаку.
Некоторые древнегреческие наблюдатели поняли, что среди созвездий есть и более удобные ориентиры. В биографии Александра Великого, созданной Луцием Флавием Аррианом, упоминается, что, хотя большинство мореходов предпочитало определять север по Большой Медведице, финикийцы, настоящие морские волки Древнего мира, с этой целью пользовались созвездием Малой Медведицы – не таким ярким, как Большая Медведица, но ближе расположенным на небе к полюсу мира. Поэт Каллимах из Кирены, чьи слова приводит Диоген Лаэртский{72}, заявлял, что способ искать полюс мира по Малой Медведице придумал еще Фалес.
Солнце тоже совершает днем видимый путь по небу с востока на запад, двигаясь вокруг северного полюса мира. Конечно, днем звезды обычно не видны, но, по всей видимости, Гераклит{73} и, возможно, его предшественники поняли, что их свет теряется в сиянии солнца. Некоторые звезды можно видеть незадолго до рассвета или вскоре после заката солнца, когда его положение на небесной сфере очевидно. Положение этих звезд в течение года меняется, и отсюда ясно, что Солнце не находится в одной и той же точке по отношению к звездам. Точнее, как было хорошо известно еще в древнем Вавилоне и Индии, вдобавок к видимому ежедневному вращению с востока на запад вместе со всеми звездами, Солнце также совершает оборот за год в обратную сторону, с запада на восток, вдоль пути, известного как зодиак, на котором расположены традиционные зодиакальные созвездия: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Как мы увидим, Луна и планеты тоже перемещаются по этим созвездиям, хотя и не по одинаковым путям. Тот путь, который проделывает через них именно Солнце, называется эклиптикой.
Поняв, что такое зодиакальные созвездия, легко определить, где сейчас находится Солнце среди звезд. Надо лишь посмотреть, какое из созвездий зодиака видно выше всех на небе в полночь; Солнце будет находиться в том созвездии, которое напротив данного. Утверждают, что Фалес рассчитал, что один полный оборот Солнца по зодиаку занимает 365 дней.
Наблюдающий с Земли может полагать, что звезды расположены на твердой сфере, окружающей Землю, полюс мира которой расположен над северным полюсом Земли. Но зодиак не совпадает с экватором этой сферы. Анаксимандру приписывается открытие того, что зодиак располагается под углом 23,5° по отношению к небесному экватору, причем созвездия Рак и Близнецы находятся ближе всего к северному полюсу мира, а Козерог и Стрелец – дальше всего от него. Сейчас мы знаем, что этот наклон, обуславливающий смену времен года, существует потому, что ось вращения Земли не перпендикулярна плоскости орбиты Земли вокруг Солнца, которая, в свою очередь, довольно точно совпадает с той плоскостью, в которой движутся почти все тела Солнечной системы. Отклонение земной оси от перпендикуляра составляет угол в 23,5°. Когда в Северном полушарии лето, солнце находится в той стороне, куда наклонен северный полюс Земли, а когда зима – в противоположной.
Астрономия как точная наука началась с применения устройства, известного как гномон, с помощью которого стало возможным измерять видимое движение солнца по небу. Епископ Евсевий Кесарийский в IV в. писал, что гномон изобрел Анаксимандр, но Геродот приписывал заслугу его создания вавилонянам. Это всего лишь стержень, вертикально установленный на освещаемой солнцем плоской площадке. С помощью гномона можно точно сказать, когда наступает полдень, – в этот момент солнце стоит на небе выше всего, поэтому гномон отбрасывает самую короткую тень. В любом месте земли к северу от тропиков в полдень солнце расположено точно на юге, и значит, тень от гномона указывает в этот момент точно на север. Зная это, легко разметить площадку по тени гномона, нанеся на нее направления на все стороны света, и она станет служить компасом. Также гномон может работать как календарь. Весной и летом солнце восходит немного севернее точки востока на горизонте, а осенью и зимой – южнее нее. Когда тень гномона на рассвете показывает точно на запад, солнце встает точно на востоке, и значит, сегодня день одного из двух равноденствий: или весеннего, когда зима сменяется весной, или осеннего, когда лето оканчивается и приходит осень. В день летнего солнцестояния тень гномона в полдень самая короткая, в день зимнего – соответственно, самая длинная. Солнечные часы похожи на гномон, но устроены иначе – их стержень параллелен оси Земли, а не вертикальной линии, и тень от стержня каждый день, в одно и то же время указывает в одном и том же направлении. Поэтому солнечные часы, собственно, и есть часы, но их нельзя использовать как календарь.
Гномон – прекрасный пример важной связи между наукой и техникой: техническое приспособление, придуманное с практической целью, которое дает возможность совершать научные открытия. С помощью гномона стал доступным точный подсчет дней в каждом из времен года – промежуток времени от одного равноденствия до солнцестояния и затем до следующего равноденствия. Так, Евктемон, живший в Афинах современник Сократа, открыл, что длительности времен года не совпадают в точности. Это оказалось неожиданным, если считать, что Солнце движется вокруг Земли (или Земля вокруг Солнца) по правильной окружности с Землей (или Солнцем) в центре с постоянной скоростью. Исходя из этого предположения, все времена года должны быть строго одинаковой длины. Веками астрономы пытались понять причину их фактического неравенства, но правильное объяснение этой и других аномалий появилось лишь в XVII в., когда Иоганн Кеплер понял, что Земля обращается вокруг Солнца по орбите, которая является не кругом, а эллипсом, и Солнце расположено не в его центре, а смещено в точку, которая называется фокусом. При этом движение Земли то ускоряется, то замедляется по мере приближения или удаления от Солнца.
Луна для земного наблюдателя тоже вращается вместе со звездным небом каждую ночь с востока на запад вокруг северного полюса мира и так же, как Солнце, медленно движется по зодиакальному кругу с запада на восток, но ее полный оборот по отношению к звездам, «на фоне» которых он происходит, занимает чуть больше 27 суток, а не год. Поскольку для наблюдателя Солнце движется по зодиаку в ту же сторону, что и Луна, но медленнее, проходит около 29,5 суток между моментами, когда Луна оказывается в том же положении по отношению к Солнцу (на самом деле 29 суток 12 часов 44 минуты и 3 секунды). Так как фазы Луны зависят от взаимного расположения Солнца и Луны, именно этот интервал в 29,5 суток и есть лунный месяц{74}, то есть время, проходящее от одного новолуния до другого. Давно было замечено, что лунные затмения происходят в фазе полнолуния и их цикл повторяется каждые 18 лет, когда видимый путь Луны на фоне звезд пересекается с путем Солнца{75}.
В некотором отношении Луна более удобна для календаря, чем Солнце. Наблюдая фазу Луны в какую-либо ночь, можно приблизительно сказать, сколько дней прошло с момента последнего новолуния, и это гораздо более точный способ, чем пытаться определять время года, просто глядя на солнце. Поэтому лунные календари были очень распространены в Древнем мире и до сих пор находят применение – например, таков исламский религиозный календарь. Но, само собой, для того, чтобы строить планы в сельском хозяйстве, мореходстве или военном деле, надо уметь предугадывать смену времен года, а она происходит под влиянием Солнца. К сожалению, в году не целое число лунных месяцев – год примерно на 11 суток длиннее, чем 12 полных лунных месяцев, и по этой причине дата любого солнцестояния или равноденствия не может оставаться одной и той же в календаре, основанном на смене фаз Луны.
Другая известная сложность заключается в том, что сам год занимает не целое число суток. Во времена Юлия Цезаря было принято считать каждый четвертый год високосным. Но это не решило проблему полностью, поскольку год длится не в точности 365 суток с четвертью, а на 11 минут дольше.
История помнит бессчетные попытки создать календарь, который учитывал бы все указанные сложности – их было так много, что нет смысла говорить здесь обо всех. Фундаментальный вклад в решение этого вопроса сделал в 432 г. до н. э. афинянин Метон, который, возможно, был коллегой Евктемона. Используя, вероятно, вавилонские астрономические хроники, Метон определил, что 19 лет точно соответствуют 235 лунным месяцам. Погрешность составляет лишь 2 часа. Поэтому можно создать календарь, но не на один год, а на 19 лет, в котором и время года, и фаза Луны окажутся точно определенными для каждого дня. Дни календаря будут повторяться каждые 19 лет. Но поскольку 19 лет почти точно равняются 235 лунным месяцам, этот промежуток на треть суток короче, чем ровно 6940 дней, и по этой причине Метон предписал каждые несколько 19-летних циклов выбрасывать один день из календаря.
Усилия астрономов согласовать солнечные и лунные календари хорошо иллюстрирует определение дня Пасхи. Никейский собор в 325 г. объявил, что Пасху следует праздновать каждый год в воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием. В период правления императора Феодосия I Великого было установлено законом, что празднование Пасхи в неправильный день строго карается. К несчастью, точная дата наблюдения весеннего равноденствия не всегда одна и та же в различных точках земли{76}. Чтобы избежать ужасных последствий от того, что кто-то где-то отмечает Пасху не в тот день, возникла необходимость назначить какой-то из дней точным днем весеннего равноденствия, а также договориться, когда именно случается следующее за ним полнолуние. Римско-католическая церковь в позднеантичный период стала пользоваться для этого Метоновым циклом, в то время как монашеские ордена Ирландии приняли за основу более ранний иудейский 84-летний цикл. Вспыхнувшая в XVII в. борьба между миссионерами Рима и монахами Ирландии за контроль над английской церковью была в основном спровоцирована спором из-за точной даты Пасхи.
До наступления Нового времени создание календарей было одним из основных занятий астрономов. В итоге в 1582 г. был создан и при покровительстве папы Григория XIII введен в употребление общепринятый в наши дни календарь. Для определения дня Пасхи теперь считается, что весеннее равноденствие всегда происходит 21 марта, но только это 21 марта по григорианскому календарю в западном мире и тот же день, но по юлианскому календарю, в странах, исповедующих православие. В результате в разных частях мира Пасху празднуют в разные дни.
Хотя астрономия была полезной наукой уже в Классическую эпоху Эллады, на Платона это не производило никакого впечатления. В диалоге «Государство» есть иллюстрирующее его точку зрения место в разговоре Сократа с его оппонентом Главконом. Сократ утверждает, что астрономия должна быть обязательным предметом, которому надо обучать будущих царей-философов. Главкон легко соглашается с ним: «По-моему, да, потому что внимательные наблюдения за сменой времен года, месяцев и лет пригодны не только для земледелия и мореплавания, но не меньше и для руководства военными действиями». Однако Сократ объявляет эту точку зрения наивной. Для него смысл астрономии заключается в том, что «… в науках этих очищается и вновь оживает некое орудие души каждого человека, которое другие занятия губят и делают слепым, а между тем сохранить его в целости более ценно, чем иметь тысячу глаз, ведь только при его помощи можно увидеть истину»{77}. Такое интеллектуальное высокомерие было менее характерно для александрийской школы, чем для афинской, но даже в работах, к примеру, философа Филона Александрийского в I в. отмечается, что «воспринимаемое умом всегда выше всего того, что воспринимается и видится чувствами»{78}. К счастью, хотя бы и под давлением практической необходимости, астрономы постепенно отучились полагаться на один лишь собственный интеллект.
7. Измерения Солнца, Луны и Земли
Одним из самых выдающихся достижений астрономии Древней Греции является успешное измерение размеров Земли, Солнца и Луны, а также расстояний от Земли до Луны и Солнца. Успех заключался не в том, что полученные величины были точными – они были далеки от точности. Наблюдения, на которых основывались вычисления, были слишком грубы, чтобы служить верными исходными данными. Но это был первый случай, когда математику использовали правильным образом, чтобы дать количественную характеристику объектам окружающего мира.
Сперва было необходимо понять природу таких явлений, как затмения Солнца и Луны, а также уяснить, что Земля имеет форму шара. И христианский мученик Ипполит Римский, и часто цитируемый философ Аэций, годы жизни которого точно неизвестны, приписывают самое раннее открытие истинных причин затмений Анаксагору, греку-ионийцу, рожденному около 500 г. до н. э. в Клазоменах близ Смирны, который занимался преподаванием наук и философии в Афинах{79}. Возможно, опираясь на подмеченный Парменидом факт, что освещенная сторона Луны всегда обращена к Солнцу, Анаксагор заключил, что «лишь Солнце дарует Луне ее свечение»{80}. Отсюда было естественным заключить, что затмения Луны происходят в те моменты, когда она проходит сквозь тень Земли. Также полагают, что он понял тот факт, что затмения Солнца происходят там, где тень Луны падает на поверхность Земли.
В вопросе определения формы Земли Аристотель продемонстрировал блестящую комбинацию наблюдательности и анализа. Диоген Лаэртский и древнегреческий географ Страбон писали, что еще Парменид задолго до Аристотеля учил, что Земля – это шар, но мы не знаем, как и почему Парменид пришел к такому выводу (если это вообще правда). Аристотель же в трактате «О небе» приводит и теоретические, и эмпирические аргументы в пользу шарообразной формы Земли. Как мы уже видели в главе 3, согласно априорной теории материи Аристотеля, тяжелые элементы, такие как земля и (в меньшей степени) вода, стремятся оказаться в центре мироздания, в то время как воздух или (в еще большей степени) огонь стремятся прочь от него. Земля является шаром, центр которого совпадает с центром всего космоса, потому что это расположение позволяет наибольшему количеству тяжелого вещества оказываться в положенном ему месте, ближе к центру. Аристотель не стал полагаться лишь на один этот аргумент, а добавил эмпирические свидетельства сферической формы земной поверхности. Тень Земли, отбрасываемая на Луну во время лунного затмения, искривлена{81}, и наблюдаемое положение звезд на небе меняется в зависимости от того, путешествует наблюдатель на север или на юг:
«… в затмениях терминирующая линия всегда дугообразна. Следовательно, раз Луна затмевается потому, что ее заслоняет Земля, то причина [такой] формы – округлость Земли, и Земля шарообразна. Во-вторых, наблюдение звезд с очевидностью доказывает не только то, что Земля круглая, но и то, что она небольшого размера. Стоит нам немного переместиться к югу или северу, как горизонт явственно становится другим: картина звездного неба над головой существенно меняется, и при переезде на север или на юг видны не одни и те же звезды. Так, некоторые звезды, видимые в Египте и в районе Кипра, не видны в северных странах, а звезды, которые в северных странах видны постоянно, в указанных областях заходят»{82}.
Подход Аристотеля к математике хорошо иллюстрирует то, что он даже не попытался использовать наблюдения звезд для того, чтобы количественно оценить размер Земли. Кроме этого, я нахожу загадочным то, что Аристотель ничего не говорит о явлении, знакомом каждому моряку. Когда наблюдатель замечает судно в море в ясный день на большом расстоянии, он видит его с «корпусом под горизонтом» – кривизна земной поверхности скрывает все, кроме верхушек мачт удаленного судна. И только по мере приближения далекое судно становится видимым целиком{83}.
То, что Аристотель понял, что Земля имеет шарообразную форму, было немалым достижением. Анаксимандр думал, что Земля имеет форму цилиндра и что мы живем на одной из плоских частей его поверхности. По мнению Анаксимена, Земля плоская, а Солнце, Луна и звезды парят над ней в воздухе, скрываясь от нас иногда за возвышенными частями Земли. Ксенофан писал: «Этот верхний конец земли мы зрим под ногами, // Воздуху он сопределен, а низ в бесконечность уходит»{84}. Позднее и Демокрит, и Анаксагор вслед за Анаксименом думали, что Земля плоская.
Полагаю, что настойчивое возвращение к идее плоской Земли проистекает из очевидной проблемы восприятия Земли шарообразной: если Земля – шар, то почему не падают те, кто перемещается по ее поверхности? Аристотелева теория строения материи давала на это удобный ответ. Аристотель осознавал, что не существует всеобщего направления «вниз», в котором движутся все падающие где-либо предметы. Вместо этого везде на Земле то, что сложено из тяжелых элементов – земли и воды, стремится упасть ближе к центру мира, что и подтверждается наблюдениями.
В этом отношении теория Аристотеля о естественном месте тяжелых элементов в центре космоса работала так же, как и нынешняя теория всемирного тяготения, с одним важным отличием: по Аристотелю, у мироздания был лишь один-единственный центр, а сейчас мы понимаем, что любая достаточно большая масса стремится приобрести форму шара под действием своей собственной силы тяготения и далее притягивает прочие тела в направлении к своему центру. Теория Аристотеля не объясняла, почему что-то еще, кроме Земли, должно иметь форму шара, хотя он знал, что как минимум Луна имеет такую форму, что наглядно видно по смене ее фаз в цикле от новолуния до полнолуния и обратно{85}.
После Аристотеля точка зрения о том, что Земля – шар, стала общепризнанной среди астрономов и философов (кроме отдельных деятелей вроде Лактанция). Мощный ум Архимеда усмотрел сферическую поверхность земного шара даже в стакане воды. В книге первой своего труда «О плавающих телах» он демонстрирует, что «поверхность любой покоящейся жидкости есть сфера, центр которой совпадает с центром Земли»{86}. (Хотя это было бы правдой лишь в отсутствие силы поверхностного натяжения, которую Архимед игнорировал.)
Теперь я перехожу к самому впечатляющему во многих отношениях примеру применения математики в естествознании Древнего мира – работе Аристарха Самосского. Аристарх родился около 310 г. до н. э. на населенном ионийцами острове Самос, учился у Стратона из Лампсака, третьего директора афинского Ликея, и впоследствии работал в Александрии до своей смерти около 230 г. до н. э. К счастью, текст его труда «О величинах и расстояниях Солнца и Луны» сохранился до наших дней{87}. В нем Аристарх основывается как на постулатах на четырех астрономических наблюдательных фактах:
1. «В фазе первой четверти Луны ее угловое расстояние от Солнца на одну тридцатую квадранта меньше, чем целый квадрант». (То есть, когда Луна выглядит как полукруг, угол между направлениями на Луну и на Солнце на 3° меньше 90°, составляя 87°.)
2. «Диск Луны точно закрывает видимый диск Солнца во время солнечного затмения, имея тот же размер».
3. «Ширина земной тени равна двойной ширине диска Луны». (Проще всего это геометрически интерпретировать таким образом: если на место Луны поместить сферу в два раза большего диаметра, чем Луна, она точно заполнит пространство земной тени во время лунного затмения. Возможно, это было определено путем сравнения промежутков времени от момента начала покрытия Луны тенью Земли до полного ее вхождения в тень; пребывания Луны внутри полной тени; от начала выхода Луны из тени до полного окончания затмения.)
4. «Размер Луны равен одной пятнадцатой части зодиака». (Весь зодиак – это полная окружность в 360°, но, очевидно, здесь Аристарх имел в виду один отдельно взятый зодиакальный знак. Поскольку зодиак состоит из 12 созвездий, один знак занимает в угловом измерении 360°/12 = 30°, а 1/15 часть от этого угла равняется 2°.)
Исходя из вышесказанного, Аристарх заключил, что:
1. Расстояние от Земли до Солнца не менее чем в 19 и не более чем в 20 раз больше расстояния от Земли до Луны.
2. Диаметр Солнца не менее чем в 19 и не более чем в 20 раз больше диаметра Луны.
3. Диаметр Земли не менее чем в 108/43 и не более чем в 60/19 раз больше диаметра Луны.
4. Расстояние от Земли до Луны не более чем в 30 и не менее чем в 45/2 раз больше диаметра Луны.
Когда Аристарх проводил эти вычисления, тригонометрия еще не была известна, поэтому ему приходилось прибегать к сложным геометрическим построениям, чтобы получить эти нижние и верхние предельные значения. Сегодня с использованием методов тригонометрии мы можем получить более точные результаты. Например, из исходного положения 1 можно заключить, что расстояние от Земли до Солнца относится к расстоянию от Земли до Луны как секанс (функция, обратная косинусу) угла 87°, то есть 19,1 – это значение действительно находится между 19 и 20. (Это и другие заключения Аристарха повторно выводятся с помощью современной методики в техническом замечании 11.)
Исходя из полученных результатов, Аристарх смог вывести размеры Солнца и Луны, а также их расстояния от Земли, выраженные в единицах диаметра земного шара. В частности, совмещая выводы 2 и 3, Аристарх заключил, что диаметр Солнца не менее чем в 361/60 и не более чем в 251/27 раз больше диаметра Земли.
Выкладки Аристарха были математически безупречны, но полученные им результаты очень сильно ушли от истинных величин, потому что в его наборе исходных данных положения 1 и 4 содержали серьезные ошибки. В середине первой четверти угол между направлениями на Солнце и на Луну в действительности составляет не 87°, а 89,853°, и это значит, что Солнце находится от Земли в 390 раз дальше, чем Луна, то есть значительно дальше, чем думал Аристарх. Измерить этот угол с требуемой точностью невооруженным глазом было невозможно, хотя Аристарх верно утверждал, что в момент середины первой четверти он не меньше чем 87°. И, кроме того, видимый угловой размер диска Луны образует угол 0,519°, а не 2°, что дает расстояние от Земли до Луны, близкое к 111 диаметрам Луны. Аристарх определенно мог бы измерить этот угол лучше, и в труде Архимеда «Псаммит» (или «Исчисление песчинок») содержится намек на то, что впоследствии Аристарх так и сделал{88}.
Тем не менее не наличие ошибок в измерении отличает научный подход Аристарха от современных методов. Время от времени серьезные ошибки в данных продолжают появляться и в наблюдательной астрономии, и в экспериментальной физике. Например, в 1930-х гг. считалось, что Вселенная расширяется в 7 раз быстрее истинной скорости расширения, известной сегодня. На самом деле отличие Аристарха от нынешних астрономов и физиков не в том, что его данные содержали ошибку, а в том, что он ни разу не попытался оценить их погрешность и вообще не признавал того факта, что они могут быть неточными.
Теперь физики и астрономы с полной серьезностью относятся к погрешностям эксперимента. Даже несмотря на то, что еще студентом я знал, что хочу стать физиком-теоретиком и не заниматься экспериментами, мне приходилось делать лабораторные работы, как и всем студентам-физикам в Корнелле. Большую часть времени на этом курсе мы занимались оценкой погрешности своих измерений. Но если рассматривать этот вопрос в контексте истории науки, то ученые стали сравнительно недавно обращать на него внимание. Насколько мне известно, ни в древности, ни в Средневековье никто не относился серьезно к ошибкам измерений. Как мы увидим в главе 14, даже Ньютон лихо игнорировал неточности наблюдений.
На примере труда Аристарха мы наблюдаем пагубный эффект раздутого престижа математики. Его текст напоминает «Начала» Евклида: данные в положениях 1–4 он принимает за постулаты, исходя из которых, используя строгие математические методы, приходит к некоторым выводам. Эффект ошибки наблюдений в его заключениях намного превысил те пределы допущения для размеров и расстояний, которые он жестко обосновал. Может быть, Аристарх не хотел сказать, что угол между направлениями на Луну и Солнце в момент середины четверти составляет ровно 87°, а лишь взял такое значение для примера, чтобы показать, какие выводы можно из этого сделать. Не зря современники прозвали Аристарха Математиком, в то время, как у его учителя Стратона было прозвище Физик.
Тем не менее Аристарх сделал один важный качественный вывод: Солнце значительно больше Земли. Подчеркивая этот факт, Аристарх рассчитал, что объем Солнца как минимум в (361/60)³ раз (около 218 раз) больше объема Земли. Конечно, мы знаем теперь, что разница гораздо значительнее.
И Архимед, и Плутарх оставили интригующие свидетельства того, что Аристарх, посчитав, что Солнце огромно, решил, что не Солнце обращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Как пишет Архимед в своем «Псаммите»{89}, Аристарх не только сделал вывод, что Земля обращается вокруг Солнца, но и что размер земной орбиты ничтожно мал по сравнению с расстоянием до неподвижных звезд. Похоже, что Аристарх столкнулся с проблемой, которая появляется при рассмотрении любой теории движения Земли. Когда мы, например, вертимся на карусели[6], окрестные наземные предметы с нашей точки зрения двигаются то в одну сторону, то в другую. Точно так же и звезды должны двигаться то вперед, то назад по мере того, как мы их наблюдаем в течение года с движущейся Земли. По всей видимости, Аристотель понимал это, когда оставил замечание, что если бы Земля двигалась, то «… должны происходить отклонения и попятные движения неподвижных звезд. Однако этого не наблюдается: одни и те же звезды всегда восходят и заходят в одних и тех же местах Земли»{90}. Точнее говоря, если Земля обращается вокруг Солнца, то каждая звезда должна описывать в небе замкнутую кривую, размер которой зависит от отношения диаметра орбиты Земли вокруг Солнца к расстоянию до этой звезды.
Так почему, если Земля обращается вокруг Солнца, астрономы древности не наблюдали этого перемещения звезд, известного как годичный параллакс? Чтобы параллакс оставался слишком маленьким для возможности его пронаблюдать, было необходимо предположить, что звезды находятся на очень больших расстояниях. К сожалению, в «Псаммите» Архимед ни разу явно не говорит о параллаксе, и мы не знаем, использовал ли кто-либо в древности этот аргумент для того, чтобы оценить минимально возможное расстояние до звезд.
Аристотель приводил и другие аргументы против гипотезы движущейся Земли. Некоторые опирались на теорию о том, что естественное движение направлено в центр мироздания, как описывалось в главе 3, но другие были основаны на наблюдательных фактах. Аристотель говорил, что если Земля находится в движении, то тела, подброшенные вертикально вверх, отстанут от двигающейся Земли и должны будут упасть не в то же самое место, откуда их подбросили. Вместо этого, как он отмечает, «… тяжести, силой бросаемые вверх, падают снова на то же место отвесно, даже если сила забросит их на бесконечно большое расстояние»{91}. Этот аргумент повторялся разными мыслителями много раз, например, Клавдием Птолемеем (знакомым нам по главе 4) около 150 г., затем Жаном Буриданом в Средние века, до тех пор, пока (как мы увидим в главе 10) настоящий ответ на него не был дан Николаем Оремом.
Судить о том, как широко была распространена идея движущейся Земли в античности, было бы можно, если бы сохранилось хорошее описание древнего планетария, механической модели Солнечной системы{92}. Цицерон в диалоге «О государстве» пересказывает разговор, имеющий предметом такой планетарий, состоявшийся в 129 г. до н. э., за двадцать три года до рождения самого Цицерона. В нем Луцию Фурию Филу принадлежат слова о механическом планетарии, созданном Архимедом, который был взят завоевателем Марцеллом в качестве трофея во время падения Сиракуз и который он якобы видел в свое время в доме внука того Марцелла. Трудно судить по информации из третьих рук о том, как именно работал этот механизм (вдобавок в этой части диалога «О государстве» не хватает некоторых страниц), но в одном месте у Цицерона Фил говорит, что это была «такая сфера, на которой были бы представлены движения Солнца, Луны и пяти звезд, называемых странствующими [планетами]»{93}, что дает основания думать, что в конструкции планетария Солнце двигалось, а Земля покоилась.
Как я расскажу в главе 8, задолго до Аристарха пифагорейцы считали, что и Земля, и Солнце обращаются вокруг центрального огня. Они ничем не подтверждали свое мнение, но почему-то их рассуждения вспоминались чаще, чем почти забытые идеи Аристарха. Лишь об одном древнегреческом астрономе известно, что он воспринял гелиоцентризм Аристарха: это был таинственный Селевк из Селевкии, живший в середине II в. до н. э. Во времена Коперника и Галилея астрономы и представители Церкви, рассуждающие о Земле, находящейся в движении, называли ее пифагорейской, а не аристарховой. Приехав на остров Самос в 2005 г., я обратил внимание, что там полно баров и ресторанов, названных в честь Пифагора, но нет ни одного, названного в память об Аристархе Самосском.
Легко понять, почему идея движения Земли не закрепилась в античности. Мы не ощущаем этого движения, и вплоть до XIV в. никто не понимал, что нет причины, по которой мы должны были бы чувствовать его. К тому же ни Архимед, ни кто-либо другой не оставили свидетельств того, что Аристарх показывал, как должны выглядеть движения планет с Земли, которая движется сама.
Измерение расстояния между Землей и Луной было повторено со значительно лучшей точностью Гиппархом, которого принято считать лучшим астрономом-наблюдателем Древнего мира{94}. Гиппарх занимался астрономическими наблюдениями в Александрии с 161 по 146 г. до н. э., а затем продолжал их вплоть до 127 г. до н. э., вероятно, на острове Родос. Почти все им написанное было утрачено, и мы знаем о его вкладе в астрономию в основном по свидетельствам Клавдия Птолемея, жившего на три столетия позднее. Один из расчетов Гиппарха базировался на наблюдении полного солнечного затмения, которое, как мы теперь знаем, произошло 14 марта 129 г. до н. э. Во время этого затмения солнечный диск был полностью закрыт Луной в Александрии, но лишь на 4/5 в районе пролива Геллеспонт (сейчас известного как Дарданеллы – этот пролив разделяет Европу и Азию). Поскольку видимый диаметр дисков Луны и Солнца, как это очевидно во время солнечного затмения, почти одинаков и, согласно измерениям Гиппарха, составляет около 33 минут дуги, или 0,55°, он заключил, что разность углов между направлениями на Луну из района Геллеспонта и Александрии есть 1/5 от 0,55°, или 0,11°. Из наблюдений за Солнцем Гиппарх знал широты Геллеспонта и Александрии, также он знал положение Луны на небе в обоих пунктах во время затмения, исходя из чего смог рассчитать расстояние до Луны, выразив его в единицах радиуса Земли. Зная также величину изменений видимого размера Луны на протяжении лунного месяца, Гиппарх сделал вывод, что расстояние от Земли до Луны меняется в пределах от 71 до 83 радиусов Земли. Средняя величина, которую мы знаем сейчас, составляет 60 радиусов Земли.
Я должен прервать рассказ, чтобы упомянуть другое великое достижение Гиппарха, пусть даже оно и не относится напрямую к измерениям размеров и расстояний. Гиппарх создал звездный каталог, в котором было более 800 звезд с указанием их небесных координат. Справедливо, что самый лучший современный звездный каталог, содержащий координаты более чем 118 000 звезд, составлен по материалам наблюдений искусственного спутника Земли, названного в честь Гиппарха.
Измерения Гиппархом положений звезд помогли ему совершить открытие примечательного явления, которое не было понято, пока не нашло объяснения в трудах Ньютона. Чтобы объяснить суть открытия, необходимо сказать несколько слов о том, как описываются небесные координаты астрономических объектов. Каталог Гиппарха не сохранился до нашего времени, и мы не знаем, как именно он описывал эти координаты. Со времен владычества Рима было известно два возможных способа это сделать. Один метод, который использовал Птолемей при создании своего каталога{95}, заключается в изображении неподвижных звезд как точек на сфере, экватор которой совпадает с эклиптикой – линией, по которой пролегает видимый годичный путь Солнца среди звезд. Небесные долгота и широта определяют расположение звезд на этой сфере так же, как обыкновенные долгота и широта определяют положение точек на поверхности Земли{96}. Согласно другому методу, который, возможно, был использован Гиппархом{97}, точки также наносятся на координатную сферу, но ее полярная ось совпадает с осью Земли, а не с перпендикуляром к плоскости эклиптики. Северный полюс такой сферы есть северный полюс мира, вокруг которого обращаются звезды. Координаты на этой сфере называются не долготой и широтой, а склонением и прямым восхождением.
По словам Птолемея{98}, измерения Гиппарха были точны до такой степени, что Гиппарх обратил внимание на изменение, которое произошло с небесной долготой (или прямым восхождением) звезды Спики по сравнению со значением, которое было зарегистрировано задолго до него астрономом Тимохарисом в Александрии: разница составила 2°. Но это не Спика переместилась в другую точку относительно других звезд, а то место на небесной сфере, где находится Солнце во время осеннего равноденствия, – именно от этой точки отмеряется небесная долгота.
Трудно сказать в точности, сколько времени прошло между двумя измерениями. Тимохарис родился около 320 г. до н. э., примерно за 130 лет до Гиппарха, но есть сведения, что он умер молодым около 280 г. до н. э., на 160 лет раньше Гиппарха. Если мы примем, что их наблюдения Спики разделяло примерно 150 лет, то результаты наблюдений показывают, что положение Солнца во время осеннего равноденствия смещается на один градус за 75 лет{99}. Смещаясь с этой скоростью, точка равноденствия совершает полный круг в 360° по зодиаку за промежуток времени, равный произведению 360 и 75, то есть за 27 000 лет.
Сейчас мы знаем, что прецессия точек равноденствия вызывается смещением земной оси (похожей на медленные «блуждающие» оси быстро крутящегося волчка) вокруг перпендикуляра к плоскости орбиты Земли, в то время как угол между этим направлением и осью Земли остается постоянным и приблизительно равен 23,5°. Равноденствия – это дни, когда отрезок прямой между Землей и Солнцем перпендикулярен земной оси, поэтому изменение направления земной оси заставляет точки равноденствия прецессировать. В главе 14 мы узнаем, что причина этого вращения была впервые объяснена Исааком Ньютоном как результат действия сил тяготения со стороны Солнца и Луны на экваториальное вздутие Земли. В действительности поворот земной оси на полные 360° занимает 25 727 лет. Замечательно, насколько точно сумел Гиппарх предсказать длительность процесса, происходящего в течение такого большого промежутка времени. Между прочим, именно из-за прецессии точек равноденствия древним мореходам приходилось определять направление на север приближенно по созвездиям вблизи северного полюса мира, а не по привычной нам Полярной звезде. Полярная осталась на том же месте среди звезд, но в древности ось Земли была направлена вовсе не на нее, и в будущем северный полюс мира снова перестанет совпадать с Полярной звездой.
Возвращаясь к задачам измерения расстояний до небесных тел, надо отметить, что и Аристарх, и Гиппарх давали оценки расстояния до Луны и Солнца, выраженные в относительных единицах, привязанных к размеру Земли. Сам этот размер был измерен спустя несколько десятков лет после работ Гиппарха другим ученым, Эратосфеном. Он родился в 273 г. до н. э. в Кирене, греческом городе на Средиземноморском побережье нынешней Ливии, который был основан около 630 г. до н. э. и ко времени рождения Эратосфена стал частью царства Птолемеев. Он учился в Афинах, в том числе у мудрецов Ликея, а около 245 г. до н. э. царь Птолемей III пригласил его в Александрию, чтобы сотрудничать с Музеем и служить наставником будущему Птолемею IV. В 234 г. до н. э. Эрастофен стал пятым главой Александрийской библиотеки. Его основные труды «Об измерениях Земли», «Географические мемуары», «Гермес», к сожалению, были полностью утрачены, но многие цитаты из них сохранились в работах последователей.
То, как Эратосфен измерял Землю, описал философ-стоик Клеомед в своем труде «О небе»{100}, написанном после 50 г. до н. э. Эратосфен взял за основу наблюдение того, что в полдень во время летнего солнцестояния в Сиене, египетском городе, который Эратосфен считал расположенным точно к югу от Александрии, солнце находится на небе прямо над головой, а измерения, которые сам Эратосфен производил с гномоном в Александрии, показали, что во время солнцестояния в полдень направление на Солнце отклонено на 1/50 полного круга, или 7,2° от вертикали. Отсюда он заключил, что длина окружности земного шара в 50 раз больше, чем расстояние между Александрией и Сиеной (см. техническое замечание 12). Расстояние от Александрии до Сиены измерялось (вероятно, пешими измерителями, которые тренировались совершать шаги одинаковой длины) и равнялось 5000 стадиям, поэтому длина окружности всей Земли должна была составлять 250 000 стадий.
Насколько точно это значение? Мы не можем определенно сказать, какова была длина стадии, которую использовал Эратосфен, и Клеомед, по всей видимости, тоже этого не знал, потому что у древних греков не было общего стандарта длины наподобие наших километров или миль. Но, даже не зная длину стадии, мы можем оценить, насколько точно Эратосфен применял астрономический метод. По нынешним данным, длина окружности Земли в 47,9 раз больше расстояния между Александрией и Сиеной (нынешним Асуаном), поэтому вывод Эратосфена о том, что длина окружности земного шара в 50 раз больше этой дистанции, вполне точный, независимо от конкретной длины одной стадии{101}. И если не в географии, то в астрономии Эратосфен наверняка добился успеха.
8. Загадка планет
Не только Солнце и Луна в течение года двигаются по зодиаку с запада на восток, совмещая это передвижение с ежедневным вращением с востока на запад вокруг северного полюса мира вместе с остальным звездным небом. Еще представители древних цивилизаций заметили, что, если наблюдать в течение многих дней, можно заметить, как пять «звезд» двигаются по небосклону с запада на восток и почти так же, как Солнце и Луна, проходят по одному и тому же пути на фоне неподвижных звезд. Греки назвали их странствующими звездами, или планетами, и дали имена богов: Гермес, Афродита, Арес, Зевс и Кронос. Римляне перевели эти имена как Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Вслед за вавилонянами они также включили в состав планет Луну и Солнце{102}, так что всего их было семь, как и дней в неделе{103}.
Планеты движутся по небу с разной скоростью: Меркурий и Венера проходят свой путь по зодиаку за год, Марс – за год и 322 дня, Юпитер – за 11 лет и 315 дней, Сатурн – за 29 лет и 166 дней. Все эти цифры являются средними значениями, поскольку планеты не движутся через зодиак с постоянной скоростью. Иногда они меняют направление движения на некоторое время, а потом возвращаются на свой привычный путь с запада на восток. Основная часть истории возникновения современной науки связана с длившимися более 2000 лет попытками понять особенности движения планет.
Одна из самых ранних теорий движения планет, Солнца и Луны принадлежала пифагорейцам. Они представляли себе, что пять планет, Солнце и Луна вместе с Землей обращаются вокруг огня, расположенного в центре. Чтобы объяснить, почему мы на Земле не видим этого огня, пифагорейцы предположили, что мы живем на той стороне Земли, которая обращена в противоположную от него сторону. Как и практически все досократики, пифагорейцы считали, что Земля плоская и имеет форму диска; они полагали, что этот диск всегда повернут одной стороной к расположенному в центре мироздания огню, а люди находятся на другой стороне. Дневное обращение Земли вокруг центрального огня предположительно объясняло видимое ежедневное движение более медленно вращающегося вокруг Земли Солнца, движение Луны, планет и неподвижных звезд{104}. Согласно Аристотелю и Аэцию, пифагореец Филолай в V в. до н. э. придумал противоземие – планету, обращающуюся там, где мы не можем наблюдать ее с нашей стороны Земли, то есть либо между Землей и центральным огнем, либо с другой стороны центрального огня. Аристотель объяснял появление этого противоземия увлечением пифагорейцев числами. Солнце, Луна, пять планет, неподвижная сфера со звездами и Земля составляли девять объектов, обращающихся вокруг центрального огня, а пифагорейцам хотелось, чтобы их было десять, поскольку десять является идеальным числом, если представить его следующим образом: 10=1+2+3+4. Как с некоторым презрением описывает Аристотель, пифагорейцы
«… элементы чисел предположили элементами всех вещей и всю вселенную <признали> гармонией и числом. И все, что они могли в числах и гармонических сочетаниях показать согласующегося с состояниями и частями мира и со всем мировым устройством, это они сводили вместе и приспособляли <одно к другому>; и если у них где-нибудь того или иного не хватало, они стремились <добавить это так>, чтобы все построение находилось у них в сплошной связи. Так, например, ввиду того, что десятка (декада), как им представляется, есть нечто совершенное и вместила в себе всю природу чисел, то и несущихся по небу тел они считают десять, поэтому на десятом месте они помещают противоземлю»{105}.
По всей видимости, пифагорейцы никогда не пытались показать, как их теория детально описывает видимое движение по небу Солнца, Луны и планет, проходящих на фоне неподвижных звезд. Объяснение этого видимого движения стало делом будущих веков и было завершено только во времена Кеплера.
Решению этой задачи способствовало появление таких приборов, как гномон, необходимый для изучения движения Солнца, и других инструментов, которые позволили измерить углы между направлениями на различные звезды и планеты или углы между этими астрономическими объектами и линией горизонта. Конечно, все астрономические наблюдения в те времена проводились невооруженным глазом. По иронии судьбы Клавдий Птолемей, который подробно изучил преломление (рефракцию) и отражение света (в том числе эффекты рефракции в атмосфере при определении видимого положения звезд) и который, как мы увидим далее, сыграл основополагающую роль в истории астрономии, так и не понял, что линзы и изогнутые зеркала могут быть использованы для того, чтобы увеличивать изображения небесных тел, как это было сделано в телескопе-рефракторе Галилео Галилея и зеркальном телескопе, изобретенном Исааком Ньютоном.
Но не только измерительные инструменты помогли достичь огромных успехов научной астрономии в Греции. Эти достижения стали возможны благодаря открытиям в области математики. В то время как решались новые задачи, основной спор и в античной, и в средневековой астрономии велся не о том, что движется – Земля или Солнце, а по поводу двух разных объяснений, каким образом Солнце, Луна и планеты обращаются вокруг неподвижной Земли. Как мы увидим далее, большинство этих споров было связано с различиями в понимании роли математики в естественных науках.
Все началось с того, что я люблю называть решением «домашнего задания» Платона. Согласно последователю неоплатонизма Симпликию, писавшему в 530 г. в своих комментариях к трактату Аристотеля «О небе»,
«Платон, безоговорочно потребовавший, чтобы небесные движения были круговыми, равномерными и упорядоченными, предложил математикам проблему: какие надо принять гипотезы, чтобы посредством равномерных круговых упорядоченных движений спасти явления, касающиеся планет»{106}.
«Спасти (или сохранить) явления» – это традиционный перевод; Платон спрашивает, какие комбинации движений планет (в том числе Солнца и Луны) по круговым орбитам с постоянной скоростью всегда в одном и том же направлении могли бы показать ту картину, которую мы в действительности наблюдаем.
Первоначально этот вопрос был адресован современнику Платона математику Евдоксу Книдскому{107}. Он создал математическую модель, описанную в утерянной книге «О скоростях», содержание которой дошло до нас в изложении Аристотеля{108} и Симпликия{109}. Согласно этой модели, звезды расположены вокруг Земли на сфере, которая поворачивается в течение дня с востока на запад, тогда как Солнце, Луна и планеты находятся на сложной системе вращающихся сфер. Самая простая модель имела две сферы для Солнца. Внешняя сфера в течение суток поворачивается вокруг Земли с востока на запад, обладая той же самой геометрической осью и скоростью вращения, что и сфера, где находятся звезды, но Солнце также находится на экваторе внутренней сферы, которая вращается вместе с внешней так, как если бы была прикреплена к ней, но за год один раз поворачивается вокруг своей оси с запада на восток. Ось внутренней сферы наклонена на 23,5° по отношению к внешней сфере. Это должно было объяснять видимое суточное движение Солнца и его годичное прохождение через зодиакальные созвездия. Точно так же предполагалось, что Луна расположена на двух сферах, вращающихся вокруг Земли в противоположных направлениях, с той лишь разницей, что внутренняя сфера Луны совершает один оборот с запада на восток не за год, а за месяц. По не совсем ясным причинам Евдокс добавил по третьей сфере для Солнца и для Луны. Такие теории называются гомоцентрическими, поскольку сферы с расположенными на них планетами, Солнцем и Луной вращаются вокруг центра, совпадающего с центром Земли.
Нерегулярные движения планет представляли более сложную проблему. Евдокс выделил для каждой планеты по четыре сферы. Во-первых, внешняя сфера, совершающая за сутки оборот вокруг Земли с востока на запад, с той же самой осью вращения, что и сфера неподвижных звезд и внешние сферы Солнца и Луны. Далее – такая же сфера, как внутренние сферы Солнца и Луны, вращающаяся медленнее с характерной для каждой планеты скоростью с запада на восток и имеющая угол наклона оси вращения на 23,5° по отношению к внешней сфере. И, наконец, две сферы, наиболее близкие к центру, вращающиеся практически с одинаковой скоростью в противоположных направлениях вокруг осей, почти параллельных друг другу, и имеющие большие углы наклона по отношению к осям вращения двух внешних сфер. Планета «крепится» к сфере, наиболее близкой к центру. Две внешние сферы дают каждой планете ее суточное движение вокруг Земли вместе со звездами и ее обычный путь по зодиакальным созвездиям в течение более длительных периодов. Эффекты от двух сфер, вращающихся в противоположных направлениях, почти не заметны, поскольку их оси вращения практически параллельны. Небольшой угол между осями добавляет движение по «восьмерке» планетам, движущимся по знакам зодиака, таким образом объясняя периодические развороты планет. Греки называли такой путь гиппопеда (греч. ἱπποπέδη – лошадиные путы), потому что он напоминал путы, которыми оплетали ноги лошади, чтобы она не уходила слишком далеко.
Модель Евдокса не полностью согласуется с наблюдениями Солнца, Луны и планет. Например, его описание движения Солнца не соответствует разной длине времен года, которая, как мы уже видели в главе 6, была определена Евктемоном с помощью гномона. Модель Евдокса допускает серьезные ошибки в объяснении движения Меркурия и слабо соответствует реальному движению Венеры и Марса. Улучшенную модель предложил Каллипп из Кизика. Он добавил еще по две сферы для Солнца и Луны и по одной для Меркурия, Венеры и Марса. Модель Каллиппа лучше описывает движение небесных тел, хотя, согласно ей, в видимом движении планет должны быть некоторые особенности, которых на самом деле нет.
В концентрических моделях Евдокса и Каллиппа Солнце, Луна и планеты были снабжены отдельным комплектом сфер, в котором все внешние сферы вращаются в полном согласии с отдельной сферой, на которой находятся неподвижные звезды. Это один из первых примеров того, что современные физики называют «подгонка теории». Мы называем теорию «подогнанной», когда она приводит гипотезы и данные наблюдений в соответствие друг с другом без всякого понимания, почему они должны быть отождествлены. Появление «подгонки» в научной теории – это словно ответ на вопль природы, требующей внятного объяснения явлений.
Неприятие современными физиками подгонки привело к открытию фундаментальной важности. В конце 1950-х гг. было обнаружено, что у двух типов нестабильных частиц, которым дали название «тау-мезоны» и «тета-мезоны», распад происходит разными путями: тета-мезоны распадались на два пиона (более легкие частицы), а тау-мезоны – на три. Тау– и тета-мезоны имели не только одинаковую массу, но и примерно одинаковое время существования и, несмотря на это, распадались совершенно по-разному! Физики предположили, что тау-мезоны и тета-мезоны не могут быть одной и той же частицей из-за природной симметрии между правым и левым (которая говорит о том, что законы природы должны работать одинаково и для нашего мира, и для мира, отраженного в зеркале). Эта симметрия не позволяла одной и той же частице распадаться то на два пиона, то на три.
Используя имевшиеся у нас тогда знания, стало возможным подогнать константы в теориях, чтобы сделать массу и время жизни тау-мезонов и тета-мезонов одинаковыми, но такую теорию трудно было принять за истину, ведь она была бы безнадежно подогнана. В конце концов выяснилось, что подгонка совершенно не нужна: тета– и тау-мезоны все же оказались одной частицей. Симметрия между правым и левым, хотя и подчиняет себе силы, удерживающие вместе атомы и их ядра, вовсе не распространяется на некоторые процессы распада, в том числе и на распад так называемых тау– и тета-мезонов{110}.
Физики, решившие эту задачу, совершенно правильно не поверили идее о том, что тау-мезоны и тета-мезоны случайно имеют одну и ту же массу и время жизни. В этой гипотезе слишком многое было подогнано.
Не так давно мы столкнулись с еще более тревожным вариантом подгонки. В 1998 г. астрономы выяснили, что расширение Вселенной не замедляется, как этого можно было ожидать благодаря взаимному гравитационному притяжению галактик, но, напротив, ускоряется. Причиной этого ускорения считается энергия самого космоса, так называемая «темная энергия». Теории говорят о разных возможных источниках этой энергии. Некоторые из них мы можем оценить, другие – нет. Вклад тех источников, которые мы можем оценить, оказывается больше, чем весь объем темной энергии, который был зафиксирован астрономами, примерно на 56 порядков величины – то есть это единица с 56 нулями. Это не парадокс, поскольку мы можем положить, что эти источники компенсируются действием контристочников, которые мы рассчитать не можем. Но тогда их совокупная интенсивность должна быть равной наблюдаемым источникам с точностью до 56-й значащей цифры. Такой уровень подгонки неприемлем, и теоретики должны потрудиться, чтобы объяснить как-то иначе, почему количество темной энергии намного меньше, чем оно должно быть по расчетам. (Одно возможное объяснение упоминается в главе 11.)
В то же самое время нужно признать, что некоторые явные примеры кажущейся подгонки являются совершенно случайными. Например, расстояния от Земли до Луны и Солнца пропорциональны их диаметрам, поэтому с Земли диски Солнца и Луны кажутся примерно одинакового размера. Это доказывается тем, что во время полного солнечного затмения лунный диск точно закрывает солнечный. Нет никакой причины искать в этом факте что-то, кроме простого совпадения.
Аристотель попытался придать моделям Евдокса и Каллиппа бо́льшую реалистичность. В «Метафизике»{111} он предложил соединить все сферы в единую взаимосвязанную систему. Вместо того чтобы выделить самой удаленной планете – Сатурну четыре сферы, как Евдокс и Каллипп, Аристотель оставил только три внутренние сферы; суточное движение Сатурна с востока на запад объяснялось привязкой этих трех сфер к сфере неподвижных звезд. Также Аристотель добавил три дополнительные сферы, вращающиеся в противоположном направлении, внутрь трех сфер Сатурна. Это было нужно для того, чтобы свести к нулю влияние движения трех сфер Сатурна на следующую планету, Юпитер, внешняя сфера которой крепилась к самой удаленной из этих трех дополнительных сфер между Юпитером и Сатурном.
После добавления трех дополнительных сфер, вращающихся в противоположном направлении, и привязки внешней сферы Сатурна к сфере неподвижных звезд у Аристотеля получилась достаточно изящная картина. Больше не нужно было задаваться вопросом, почему Сатурн каждый день двигается по небосклону точно так же, как звезды, – Сатурн физически привязан к их сфере. Но потом Аристотель сам все испортил: он оставил Юпитеру четыре сферы, точно так же как Евдокс и Каллипп. Проблема в том, что после этого Юпитер должен был совершать суточное вращение вместе с Сатурном и одновременно вместе с наиболее удаленной своей сферой, таким образом он оборачивался бы вокруг Земли два раза в сутки. Не мог ли Аристотель забыть, что три дополнительные сферы, вращающиеся в противоположном направлении, компенсируют лишь особые перемещения Сатурна, но не его суточное обращение вокруг Земли?
Хуже того, Аристотель добавил только три сферы (которые должны были компенсировать особые перемещения Юпитера), вращающиеся в противоположном направлении, внутрь его четырех сфер, и затем придал Марсу, следующей планете, целых пять сфер, которые придумал Каллипп. Следовательно, Марс за сутки совершал бы три оборота вокруг Земли. Далее в том же духе, по схеме Аристотеля, Венера, Меркурий, Солнце и Луна должны были оборачиваться вокруг Земли, соответственно, четыре, пять, шесть и семь раз за сутки.
Эта очевидная ошибка поразила меня, когда я читал «Метафизику» Аристотеля. Позже я узнал, что ее отметили еще несколько авторов, в том числе Дж. Дрейер, Томас Хит и В. Росс{112}. Некоторые из них объясняли эту ошибку тем, что текст в этом месте был искажен. Но если Аристотель в самом деле поместил описание этой схемы в известную нам стандартную версию «Метафизики», тогда это нельзя объяснить тем, что он мыслил в категориях, отличных от привычных нам. Мы вынуждены признать, что Аристотель оказался невнимателен, работая над задачами, которые были ему интересны.
Даже если бы Аристотель разместил вращающиеся в противоположном направлении сферы в правильном порядке и каждая планета оборачивалась бы вокруг Земли вместе со звездами только один раз за сутки, в его схеме все равно оставалось бы слишком много подгонки. Вращающиеся в противоположном направлении сферы, вставленные внутрь сфер Сатурна, чтобы компенсировать влияние его особых перемещений на движение Юпитера, должны были вращаться в точности с той же скоростью, что и три сферы Юпитера. То же самое справедливо и для планет, находящихся ближе к Земле. И точно так же, как у Евдокса и Каллиппа, в схеме Аристотеля вторые сферы Меркурия и Венеры должны были вращаться в точности с той же скоростью, что и вторая сфера Солнца, чтобы объяснить тот факт, что Солнце, Меркурий и Венера движутся по зодиаку вместе; таким образом внутренние планеты на небе видны недалеко от Солнца. Например, Венера – это всегда утренняя или вечерняя звезда, она никогда не видна высоко на небе в полночь.
По крайней мере один из древних астрономов серьезно подошел к проблеме подгонки теории к фактам. Это был Гераклид Понтийский. Гераклид учился в Академии Платона в V в. до н. э. и, возможно, руководил ею, когда Платон уезжал на Сицилию. И Симпликий{113}, и Аэций утверждали, что Гераклид учил, что Земля вращается вокруг своей оси{114}, что вполне объясняет наблюдаемое суточное вращение звезд, планет, Солнца и Луны вокруг Земли. Эта идея Гераклида иногда упоминалась разными авторами в поздней античности и в Средние века, но она не стала популярной до времен Коперника, предположительно потому, что мы не ощущаем вращения Земли. Нет никаких данных в пользу того, что Аристарх, живший через сто лет после Гераклида, действительно подозревал, что Земля не только обращается вокруг Солнца, но и вращается вокруг своей оси.
Согласно Халкидию, христианину, который перевел диалог «Тимей» с греческого на латинский в IV в., Гераклид также предположил, что, поскольку Меркурий и Венера всегда видны на небе неподалеку от Солнца, они скорее обращаются вокруг Солнца, чем вокруг Земли. Это убирало еще один подогнанный элемент из схем Евдокса, Каллиппа и Аристотеля: искусственное согласование вращения вторых сфер Солнца и внутренних планет. Но Солнце, Луна и три внешние планеты по-прежнему считались обращающимися вокруг неподвижной, хотя и вращающейся вокруг своей оси, Земли. Эта теория очень хорошо работает для внутренних планет, поскольку она описывает то самое видимое движение, что и в самой простой версии теории Коперника, по которой Меркурий, Венера и Земля с постоянной скоростью вращаются вокруг Солнца по круговым орбитам. Там, где речь идет о внутренних планетах, единственным отличием Гераклида от Коперника является точка наблюдения: один из них смотрит с Земли, другой – с Солнца.
Но кроме подгонки, присущей схемам Евдокса, Каллиппа и Аристотеля, была еще одна проблема: все эти гомоцентрические теории не слишком хорошо согласовывались с наблюдениями. В те времена считалось, что планеты светят своим собственным светом, и, поскольку в этих схемах сферы, на которых находятся планеты, всегда остаются на одинаковом расстоянии от Земли, их яркость никогда не должна меняться. Тем не менее очевидно, что их яркость меняется очень сильно. Согласно Симпликию, около 200 г. философ-перипатетик Сосиген писал:
«Явления отнюдь не спасаются (сферами), которые придумали сторонники Евдокса, – не только те явления, что были обнаружены позднее, но и те, что были известны еще прежде них и в существовании которых были уверены они сами. Стоит ли тут говорить о других (явлениях), иные из которых после того, как не сумел этого сделать Евдокс, попытался спасти кизикенец Каллипп, пусть отчасти и успешно? Я говорю вот о чем: бывает так, что планеты представляются нам то близкими, то удаленными от нас. И действительно, для некоторых из них это легко различимо простым глазом: Венера и Марс в периоды своего попятного движения кажутся более крупными, и доходит до того, что в безлунные ночи Венера заставляет тела отбрасывать тень…»{115}
Мы должны понимать, что, говоря о размерах планет, Симпликий и Сосиген, скорее, имеют в виду их видимую яркость: ведь мы не можем увидеть диск планеты невооруженным глазом, но чем ярче блеск, тем больше он кажется.
На самом деле это положение не столь однозначно, как считал Симпликий. Планеты и их спутники (например, Луна) отражают свет Солнца, поэтому, даже если принять на веру схемы Евдокса и других, их яркость менялась бы в то время, когда они проходят разные фазы, как Луна. Этого ученые древности не понимали, пока не появились работы Галилея. Но даже если принимать во внимание фазы планет, изменение их яркости в соответствии с концентрической моделью не совпадает с результатами наблюдений.
В эллинистический и романский периоды в среде профессиональных астрономов (но не философов) концентрические системы Евдокса, Каллиппа и Аристотеля были вытеснены теорией, которая гораздо лучше объясняет видимое движение Солнца и планет. Эта теория основана на трех математических понятиях – эпицикл, эксцентр и эквант, которые будут описаны ниже. Мы не знаем, кто придумал эпицикл и эксцентр, но они совершенно точно были известны эллинскому математику Аполлонию из Перги и астроному Гиппарху из Никеи, с которыми мы встречались в главах 6 и 7{116}. Мы узнали о теории эпицикла и эксцентра из работ Клавдия Птолемея, который изобрел эквант и с чьим именем обычно связывают эту теорию.
Птолемей жил примерно в 150 г., во время расцвета Римской империи при правлении императоров династии Антонинов. Он работал в музее в Александрии и умер после 161 г. В главе 4 мы уже говорили о изучении Птолемеем отражения и преломления света. Его работы по астрономии содержатся в труде под названием «Великое построение», который у арабов превратился в «Альмагест». Под этим названием труд Птолемея стал широко известен в Европе. «Альмагест» был так популярен, что переписчики перестали переписывать творения более ранних астрономов, таких как Гиппарх, поэтому теперь трудно вычленить то, что Птолемей написал сам.
В «Альмагесте» был на две сотни записей увеличен звездный каталог Гиппарха, в котором теперь насчитывалось 1028 звезд. Звездный каталог был снабжен отметками о яркости звезд и их положении на небе{117}. Но птолемеева теория планет, Солнца и Луны была гораздо важнее для будущего науки. Его работа над этой теорией, описанная в «Альмагесте», является поразительно современной по своим методам. Предложенные математические модели планетного движения содержали различные свободные числовые параметры. Затем, в процессе наблюдений, эти параметры определялись. Ниже мы увидим это на примере, связанном с эксцентром и эквантом.
В самом упрощенном виде по теории Птолемея каждая планета движется по кругу, называемому эпициклом, не вокруг Земли, а вокруг движущейся точки, которая обращается вокруг Земли по другому кругу, который называется деферентом. Внутренние планеты Меркурий и Венера проходят свой путь по эпициклу соответственно за 88 и 225 дней. Модель аккуратно подогнана таким образом, что центр эпицикла обращается вокруг Земли по деференту точно за один год, всегда оставаясь на прямой между Землей и Солнцем.
Можно понять, почему эта теория работает. По наблюдениям за движением планет невозможно определить, как далеко от нас они находятся. По этой причине в теории Птолемея видимое движение планет по небу никак не зависит от абсолютных значений линейных размеров эпицикла и деферента, а зависит только от отношения этих значений. Если бы Птолемей только захотел, он мог бы подогнать значения эпицикла и деферента для Венеры так, чтобы их отношение не менялось, и сделать то же самое для Меркурия. Таким образом, у обеих планет оказался бы одинаковый деферент, а именно – орбита Солнца. Тогда Солнце стало бы точкой деферента, вокруг которой по эпициклу путешествуют внутренние планеты. Этого не было в теориях Гиппарха и Птолемея, но при таком раскладе движение внутренних планет выглядит так же, как в их теориях, поскольку разница заключается только в размере орбит. Оба варианта дают одинаковую картину видимого движения планет. В теории эпициклов второй вариант просто является особым случаем, совпадающим с теорией Гераклида, которую мы обсуждали выше: Меркурий и Венера обращаются вокруг Солнца, тогда как Солнце обращается вокруг Земли. Как уже упоминалось раньше, теория Гераклида оправдывается, поскольку результат ее применения эквивалентен предсказанию другой теории[7], где Земля и внутренние планеты обращаются вокруг Солнца, и отличие заключается только в точке наблюдения астронома. Поэтому не случайно теория эпициклов Птолемея, которая описывает движение Меркурия и Венеры так же, как теория Гераклида, тоже подтверждается наблюдениями.
Птолемей мог бы применить ту же самую теорию эпициклов и деферентов и к внешним планетам – Марсу, Юпитеру и Сатурну, – но чтобы эта теория работала, движение планет по эпициклам должно было быть намного медленнее, чем движение центров эпициклов по деферентам. Не знаю, что с этим положением было не так, но по той или иной причине Птолемей пошел другим путем. В самом упрощенном виде по его схеме каждая внешняя планета проходит путь по своему эпициклу вокруг точки, расположенной на деференте, за год, а точка на деференте совершает один оборот вокруг Земли за более длительное время: 1,88 года для Марса, 11,9 лет для Юпитера и 29,5 лет для Сатурна. Здесь использован совершенно другой вид подгонки: линия, проведенная из центра эпицикла до планеты, всегда параллельна линии от центра Земли до Солнца. Эта схема достаточно хорошо согласуется с наблюдаемыми движениями внешних планет, поскольку, как и в случае с внутренними планетами, различные особые случаи этой теории, отличающиеся лишь линейными размерами эпицикла и деферента (при фиксированном их соотношении), дают одни и те же предсказания для наблюдаемых движений. Существует одно особое значение этих величин, которое делает модель Птолемея идентичной простейшей модели из теории Коперника, с единственным отличием – в местоположении наблюдателя: на Земле или на Солнце. Для внешних планет в этом особом случае выбирается величина радиуса эпицикла, равная расстоянию от Земли до Солнца (см. техническое замечание 13).
Теория Птолемея хорошо объясняет видимое обратное движение планет по небу. Например, кажется, что Марс меняет направление своего движения по зодиаку, когда он находится в самой близкой к Земле точке своего эпицикла, поскольку предполагается, что тогда его движение по эпициклу идет в обратном направлении к предполагаемому обращению эпицикла вокруг деферента, и скорость его выше. Это всего лишь перевод в систему отсчета, связанную с Землей, современного представления о том, что кажется, что Марс движется по зодиаку в обратном направлении, когда Земля обгоняет его во время их совместного обращения вокруг Солнца. В это время Марс очень ярок (как отмечено в вышеприведенной цитате из Симпликия), потому что он наиболее близок к Земле, и та сторона, которую мы видим, обращена к Солнцу.
Теории Гиппарха, Аполлония и Птолемея не были просто какими-то фантазиями, которые случайно оказались подтвержденными наблюдениями, и в то же время не имели никакой связи с реальностью. Когда речь идет о видимом движении Солнца и планет в своей самой простой версии, с одним эпициклом для каждой планеты и без всяких дополнительных усложнений, эта теория точно так же предсказывает движение планет, как и самая простая версия теории Коперника – то есть теория, по которой Земля и остальные планеты вращаются по круговым орбитам с постоянной скоростью вокруг Солнца. Как я уже объяснял на примере Меркурия и Венеры, а также в техническом замечании 13, это происходит потому, что теория Птолемея относится к классу теорий, которые одинаковым образом описывают видимое движение планет и Солнца по небу, а одна из этих теорий (хотя и не та, которую выбрал Птолемей) точно совпадает с предсказанием простейшей версии теории Коперника о движении Солнца и планет относительно друг друга.
На этом лучше всего закончить историю греческой астрономии. Но, к сожалению, как Коперник сам хорошо понимал, предсказания видимого движения планет по простейшей версии его теории не совсем совпадают с наблюдениями, так же как и предсказания по простейшей версии теории Птолемея. Со времен Кеплера и Ньютона мы знаем, что орбиты планет не являются правильными окружностями, Солнце находится не совсем в центре их орбит, а Земля и другие планеты обращаются вокруг него не с постоянной скоростью. Конечно, ни о чем этом греческие астрономы не догадывались. Почти все астрономы до Кеплера занимались тем, что старались устранить небольшие неточности в простейших версиях теорий Птолемея и Коперника.
Платон потребовал рассчитать движение по окружностям с постоянной скоростью, и, насколько нам известно, никто в античности не заподозрил, что астрономические тела могут совершать движение по более сложной траектории, чем комплекс круговых движений, хотя Птолемей пытался поставить под сомнение постоянную скорость движения. Создавая теории, основанные на круговых орбитах, Птолемей и его последователи разработали различные усложнения, которые были нужны для того, чтобы их модели более точно соответствовали наблюдениям как за Солнцем и Луной, так и за планетами{118}.
Одним из усложнений стало увеличение количества эпициклов. Единственной планетой, для которой Птолемей счел необходимым это сделать, был Меркурий, орбита которого в действительности отличается от круга больше, чем орбиты всех других планет. Другим усложнением стал эксцентр. Земля размещалась не в самом центре деферента для каждой планеты, а на некотором расстоянии от него. Например, по теории Птолемея центр деферента для Венеры смещен от Земли на 2 % от значения своего радиуса{119}.
Эксцентр мог комбинироваться с другим математическим понятием, впервые использованным Птолемеем, – эквантом. Это попытка показать, как планета может двигаться по своей орбите с переменной скоростью, независимо от изменения скорости в результате движения по эпициклу. Можно себе представить, что мы, сидя на Земле, видим каждую планету, точнее, центр эпицикла каждой планеты, двигающийся вокруг нас с постоянной скоростью (например, столько-то градусов в день). Но Птолемей знал, что это положение не совсем подтверждается реальными наблюдениями. Вводя эксцентр, мы можем себе представить, что должны увидеть центры эпициклов планет, обращающиеся с постоянной скоростью не вокруг Земли, а вокруг центров деферентов планет. Увы, это тоже не работает. Вместо этого для каждой планеты Птолемей предложил то, что позже стало называться эквантом{120}, – точку, расположенную с противоположной стороны от деферента напротив Земли, но на таком же расстоянии от деферента, как и Земля. Он предположил, что центры эпициклов планет будут обращаться с постоянной угловой скоростью вокруг экванта. Тот факт, что Земля и эквант должны находиться на равном расстоянии от центра деферента, не выводился из основных философских постулатов. Расстояния были заданы как свободные параметры, а потом были подобраны те значения, при которых теоретические предсказания совпадают с результатами наблюдений.
Но между моделью Птолемея и наблюдениями все еще оставались значительные расхождения. Как мы увидим, когда будем говорить о Кеплере в главе 11, последовательное использование только одного эпицикла для каждой планеты в комбинации с эксцентром и эквантом как для Солнца, так и для каждой планеты, может позволить сымитировать реальное движение планет (в том числе и Земли) по эллиптическим орбитам. Эта имитация будет достаточно хороша, чтобы не противоречить наблюдениям, сделанным без телескопа. Но Птолемей не был последователен. Он не использовал эквант в описании предполагаемого движения Солнца вокруг Земли, и из-за этого упущения все предсказания движения планет путались, так как положение планет было связано с расположением Солнца. Как подчеркивал Джордж Смит{121}, это как раз и указывает на разницу между античной и средневековой астрономией и современной наукой: никто после Птолемея не ухватился за эти расхождения, чтобы попытаться создать теорию получше.
Луна представляла собой особую проблему: модель, которая хорошо подходит для движения планет и Солнца, не работает для Луны. Этого не понимали, пока не появились работы Исаака Ньютона, где объясняется, что движение Луны зависит от двух тел одновременно: Земли и Солнца, тогда как движение планет происходит под действием гравитации, в основном, одного тела – Солнца. Гиппарх предложил теорию, по которой Луна обращается только по одному эпициклу и которая неплохо описывала ее движение между затмениями, но, как выяснил Птолемей, эта модель не могла предсказать положение Луны на зодиакальном круге между затмениями. Птолемей смог исправить это упущение, создав более сложную модель, но в его теории появились другие проблемы: расстояние между Землей и Луной значительно варьировалось, но, по данным наблюдений за видимым размером Луны, этого не происходило.
Как уже упоминалось, в системе Птолемея и его предшественников наблюдение планет никоим образом не позволяло выявить размеры деферентов и эпициклов, можно было только исправить соотношение между их значениями для каждой планеты{122}. Птолемей заполнил этот пробел в «Планетных гипотезах» – работе, продолжившей «Альмагест». В ней он опирается на априорный принцип, возможно, заимствованный у Аристотеля, о том, что в системе мира не должно быть пустот. Каждая планета, точно так же как Солнце и Луна, должна занимать свою оболочку, которая простирается от минимального до максимального удаления этой планеты (или же Солнца или Луны) от Земли. Все эти оболочки должны быть заполнены. В этой схеме относительные размеры орбит планет, Солнца и Луны оказывались фиксированными в порядке их удаления от Земли. Кроме того, Луна находится достаточно близко к Земле, так что абсолютное расстояние до нее (в радиусах Земли) может быть оценено несколькими способами, в том числе методом Гиппарха, который мы обсуждали в главе 7. Сам Птолемей разработал метод параллакса: отношение расстояния до Луны к радиусу Земли может быть получено из значения наблюдаемого угла, между направлением в зенит и направлением на Луну, и рассчитанного значения угла, который мог бы получиться, если бы можно было наблюдать Луну из центра Земли{123} (см. техническое замечание 14). По мысли Птолемея, чтобы определить расстояние до Солнца и других планет, достаточно знать порядок расположения их орбит по отношению к Земле.
Таким образом, самую близкую к Земле внутреннюю орбиту занимает Луна, поскольку время от времени она закрывает Солнце и другие планеты во время затмений. Также естественно было бы предположить, что дальше всего от Земли находятся те планеты, которые имеют самый длинный период обращения вокруг Земли, – Марс, Юпитер и Сатурн находились именно в таком порядке от Земли. Но Солнце, Венера и Меркурий, как казалось, совершают в среднем один оборот вокруг Земли за год, поэтому порядок их расположения стал спорным вопросом. Птолемей предполагал, что порядок должен быть следующим: Земля, Луна, Меркурий, Венера, Солнце, затем – Марс, Юпитер и Сатурн. По расчетам Птолемея, расстояния до Солнца, Луны и планет, выраженные в диаметрах Земли, оказываются намного меньше, чем на самом деле, при этом для Солнца и Луны они практически совпадают (возможно, не случайно) с результатами, полученными Аристархом, о которых мы говорили в главе 7.
Различные усложнения – эпицикл, эквант и эксцентр – принесли астрономии Птолемея дурную славу. Однако не надо думать, что Птолемей просто упрямо усложнял свою систему, чтобы ошибочно представить Землю как неподвижный центр Солнечной системы. Эти усложнения, вдобавок к единственному эпициклу для каждой планеты и Солнца, движущегося без эпициклов, не имеют отношения к тому, вращается ли Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Они были необходимы из-за фактов, которые не были поняты до Кеплера: орбиты не являются правильными окружностями, Солнце не находится в центре этих орбит, а скорости планет не являются постоянными. Те же самые усложнения коснулись и первоначальной теории Коперника, который предполагал, что орбиты Земли и планет являются окружностями, а скорости – постоянными. К счастью, получилось очень хорошее приближенное решение, и даже самая простая версия теории эпицикла с одним эпициклом для каждой планеты и отсутствием эпицикла для Солнца работает гораздо лучше, чем гомоцентрические сферы Евдокса, Каллиппа и Аристотеля. Если бы Птолемей добавил только эквант и эксцентр для Солнца и каждой планеты, то расхождения между теорией и наблюдениями стали бы столь малы, что их невозможно было бы заметить доступными для того времени средствами.
Но это не разрешало противоречий между теориями планетного движения Птолемея и Аристотеля. Теория Птолемея лучше согласовывалась с наблюдениями, но она нарушала принцип физики Аристотеля, гласивший, что все небесные движения должны совершаться по круговым орбитам, центр которых совпадает с центром Земли. В самом деле, подозрительное движение планет по петлям эпициклов трудно принять на веру даже тому, кто не знаком ни с какой другой теорией.
Полторы тысячи лет продолжались споры между защитниками Аристотеля, которых часто называли «физиками» или «философами» и сторонниками Птолемея, которых обычно считали «астрономами» или «математиками». Те, кто был на стороне Аристотеля, часто признавали, что модель Птолемея лучше соответствует наблюдаемым данным, но ссылались на то, что такие вещи могут интересовать только математиков, а не тех, кто на самом деле хочет познать природу. Эту точку зрения выражает высказывание Гемина Родосского, который жил примерно в 70 г. до н. э. Его слова три века спустя процитировал Александр Афродисийский, а до нас они дошли в изложении Симпликия в комментариях к «Физике» Аристотеля. В этом высказывании сосредоточена сущность спора между натурфилософами (это наименование часто переводят как «физики») и астрономами:
«Заботой физики является проникнуть в сущность вещества небес и небесных тел, их силу и природу их появления и исчезновения; с помощью Зевса можно обнаружить правду об их размерах, формах и местоположении. Астрономы не пытаются задаваться этими вопросами, они проникают в предопределенную природу явлений, происходящих в небесах, показывая, что небеса в самом деле являются упорядоченным космосом, а также обсуждают формы, размеры и относительные расстояния Земли, Солнца, Луны, а также затмения, соединения небесных тел, измеряют качество и количество их путей. Поскольку астрономия касается изучения количества, размеров и качества их форм, она, по вполне понятным причинам, питает уважение к арифметике и геометрии. А что касается этих вопросов, только часть которых мы изложили, ученые в силах найти на них ответы, используя арифметику и геометрию. Астроном и натурфилософ, таким образом, во многих случаях пытаются достичь одной и той же цели, например, доказать, что Солнце – это тело порядочного размера, что Земля имеет форму шара, но они пользуются разными методами. Для натурфилософа доказательство любой его мысли идет из сущности небесных тел, или из их сил, или из того факта, что одни из них лучше других в силу своей природы, или из их происхождения и изменения, в то время как астроном спорит о свойствах их форм и размеров, или об особенностях движения, или времени, за которое они его совершают… В общем, астронома не заботит узнать, что по своей природе находится в покое, а что движется; он, скорее, должен предполагать, что остается на месте, а что движется, и размышлять, какие его предположения подтверждаются наблюдениями за небесами. Он должен взять свои первые изначальные принципы у натурфилософа, а именно – принципы о том, что танец небесных тел прост, регулярен и упорядочен; из этих принципов он сможет понять, что движение всех небесных тел осуществляется по кругу – и у тех, которых двигаются параллельными курсами, и у тех, орбиты которых наклонены»{124}.
«Натурфилософы» Гемина имеют некоторые черты современных физиков-теоретиков, но с очень большими отличиями. Следуя за Аристотелем, Гемин видит их как ученых, опирающихся на базовые принципы, в том числе на телеологические: натурфилософ предполагает, что одни небесные тела «лучше в силу своей природы», чем другие. По Гемину, только астроном пользуется математикой в приложение к своим наблюдениям. Гемин даже представить себе не мог постоянный взаимообмен, который возникает между теорией и наблюдением. Современный физик-теоретик тоже делает выводы из базовых принципов, но в своей работе использует математику, сами принципы выражены математически и получены из наблюдений, и, конечно, никто не размышляет, какие из наблюдаемых явлений «лучше».
В отсылке Гемина к движению планет, которые «двигаются параллельными курсами, и тех, орбиты которых наклонены», легко узнать гомоцентрические сферы, вращающиеся по наклонным осям в схемах Евдокса, Каллиппа и Аристотеля, к которым Гемин, как верный последователь Аристотеля, естественно, должен быть лоялен. С другой стороны, Адраст Афродисийский, который примерно в 100 г. написал комментарий к «Тимею», и – поколение спустя – математик Теон из Смирны явно были сторонниками теории Аполлония и Гиппарха, пытаясь придать ей больший вес через истолкование эпициклов и деферентов как твердых прозрачных сфер на манер концентрических сфер Аристотеля. Правда, теперь эти сферы не являлись гомоцентрическими.
Некоторые авторы, столкнувшись с противостоянием различных теорий планет, опускали руки и заявляли, что люди и не предназначены для того, чтобы понимать небесные явления. Так, в середине V в. неоплатоник Прокл в комментариях к «Тимею» заявлял:
«Когда мы имеем дело с подлунным миром, мы довольны, поскольку нестабильность субстанции, которая его составляет, позволяет, в большинстве случаев, охватить умом то, что происходит. Но когда мы хотим узнать о небесных вещах, мы используем нашу способность к чувственному восприятию и призываем всю нашу изобретательность, достаточно далекую от правдоподобия… То, как обстоят дела, полностью показывается открытиями, сделанными по поводу этих небесных вещей – от разных гипотез мы приходим к одним и тем же заключениям по поводу одних и тех же объектов. Среди этих гипотез есть те, которые спасают явления с помощью эпицикла, другие – с помощью эксцентров, а третьи спасают явления с помощью вращающихся в противоположных направлениях сфер, лишенных планет. Разумеется, Бог знает об этом более определенно. Но что же до нас, мы должны удовлетвориться тем, что “близко подошли” к таким вещам, поскольку мы люди, которые могут говорить, только предполагая истину, и чьи речи похожи на сказки»{125}.
Прокл не прав в трех своих утверждениях. Он упустил из виду, что теория Птолемея, которая использовала эпициклы и эксцентры, гораздо лучше «спасала явления», чем теория Аристотеля, основанная на гипотезе о вращающихся в противоположных направлениях гомоцентрических сферах. Есть еще один небольшой технический момент: ссылаясь на то, что есть гипотезы, которые «спасают явления с помощью эпициклов, другие – с помощью эксцентров», Прокл, кажется, не понимает, что в случае, когда эпицикл может сыграть роль эксцентра (см. примечание 27), речь идет не о разных гипотезах, а о разных способах описания того, что математически является одной и той же гипотезой. Более всего Прокл не прав в том, что труднее понять небесное движение, чем то, что происходит на Земле, под орбитой Луны. На самом деле все как раз наоборот. Мы знаем, как с превосходной точностью рассчитать движение тел в Солнечной системе, но мы все еще не умеем предсказывать землетрясения и ураганы. Но Прокл был не одинок. Мы еще увидим, как его ничем не оправданный пессимизм по поводу понимания движения планет повторится столетия спустя в работах Моисея Маймонида.
В первом десятилетии ХX в. обратившийся к философии физик Пьер Дюэм{126} встал на сторону Птолемея и его последователей, поскольку их модель лучше соответствовала наблюдениям. В то же время Дюэм не одобрял Теона и Адраста за попытки придать модели реалистичность. Возможно, из-за своей глубокой религиозности Дюэм старался свести роль науки к простому созданию математических теорий, которые согласуются с наблюдениями, и отвергал попытки что-либо объяснить. Мне такая точка зрения чужда, поскольку вся работа физиков моего поколения состоит, как мы обычно говорим, именно в объяснении, а не в описании{127}. Огромный успех Ньютона был именно в том, что он объяснил движение планет, а не просто описал его. Ньютон не объяснял притяжение и считал, что не должен этого делать, но с объяснениями всегда так бывает – что-то остается на будущее.
Из-за своих нерегулярных перемещений планеты были бесполезны в качестве часов, календаря или компаса. Однако им нашли другое применение – в астрологии, лженауке, перенятой у вавилонян{128}. Современное отчетливое разграничение астрономии и астрологии было далеко не таким отчетливым в античности и в Средневековье, поскольку мысль о том, что законы, которыми управляется движение звезд и планет, не имеют никакого отношения к делам людей, еще не была усвоена. Властители, начиная с династии Птолемеев, широко поддерживали изучение астрономии, надеясь, что астрология позволит им узнать будущее. Поэтому естественно, что астрономы посвящали много времени астрологии. В самом деле, Клавдий Птолемей является автором не только величайшего астрономического труда «Альмагест», но и трактата по астрологии «Четверокнижие» (др. – гр. Τετράβιβλος).
Но я не могу закончить рассказ о греческой астрономии на такой печальной ноте. Чтобы конец второй части этой книги был более счастливым, я процитирую слова Птолемея, передающие его восхищение астрономией:
«Знаю, что я смертен, знаю, что дни мои сочтены, но, когда я в мыслях неустанно и жадно прослеживаю пути светил, тогда я не касаюсь ногами земли: на пиру Зевса наслаждаюсь амброзией – пищей богов»{129}.
Часть III Средние века
В греческой части Древнего мира наука поднялась до такого уровня, который никому не удавалось достичь вплоть до наступления научной революции XVI–XVII вв. Греки сделали великое открытие: некоторые законы природы, особенно в оптике и астрономии, могут быть описаны с помощью четких математических моделей естествознания, которые согласуются с наблюдениями. Изучение света и космоса было важно, но еще важнее было то, что они обнаружили, какие именно явления могут быть изучены и каким образом это следует делать.
В Средние века ни в исламском мире, ни в христианской Европе не было научных достижений, которые могли бы сравниться с древнегреческими. Но тысячелетие между падением Рима и научной революцией не было интеллектуальной пустыней. Достижения греческой науки сохранялись и даже приумножались в исламских учебных заведениях, а потом – в европейских университетах. Таким образом была подготовлена почва для научной революции.
Средние века не только сохраняли достижения греческой науки. Мы увидим, что и в средневековом исламском мире, и в христианской Европе продолжился древний спор о роли философии, математики и религии в науке.
9. Арабы
После того как в V в. западная часть Римской империи пришла в упадок, восточная, где говорили по-гречески, продолжила свое существование в качестве Византийской империи и даже увеличилась в размерах. Византийская империя достигла высочайших военных успехов при правлении императора Ираклия, армия которого в 627 г. в битве при Ниневии разбила персов, давних врагов Рима. Однако в течение следующего десятилетия Византии пришлось столкнуться с куда более грозным противником.
В период античности арабов считали варварами, живущими на границе Римской империи и Персии в землях, которые «только служат границей между пустыней и посевами». Они были язычниками, центр их религии находился в Мекке, городе в заселенной части западной Аравии, которая называлась Хиджаз. С конца VI в. Мухаммед, житель Мекки, начал приводить своих сограждан к монотеизму. Столкнувшись с сопротивлением, Мухаммед и его последователи в 622 г. бежали в Медину, которую они сделали своим военным лагерем для завоевания Мекки и большей части Аравийского полуострова.
После смерти Мухаммеда в 632 г. большинство мусульман подчинилось власти четырех его последователей, находившихся тогда в Медине. Это были друзья и родственники Мухаммеда – Абу Бакр, Умар, Усман и Али. Сунниты называют их «четырьмя праведными халифами». Всего через девять лет после битвы при Ниневии, в 636 г., мусульмане завоевали византийскую провинцию Сирию и отправились в поход на Персию, Месопотамию и Египет.
Завоевания познакомили арабов с многонациональным миром. Например, генерал Амру сообщал халифу Умару после взятия Александрии: «Я взял город, о котором могу сказать только, что в нем 6000 дворцов, 4000 купален, 400 театров, 12 000 зеленщиков и 40 000 евреев»{130}.
Меньшинство, ставшее прародителями современных шиитов, признавало только власть Али, четвертого халифа, мужа дочери Мухаммеда Фатимы. Раскол в исламском мире обострился и стал постоянным после бунта против Али, во время которого были убиты Али и его сын Хуссейн. Так в 680 г. в Дамаске появилась новая династия – суннитский халифат Омейядов.
При правлении Омейядов арабские завоевания распространились на территории современных Афганистана, Пакистана, Ливии, Туниса, Алжира, Марокко, большей части Испании и Центральной Азии до Амударьи. Теперь арабы управляли бывшими византийскими землями, на которых они начали постепенно впитывать греческие научные знания. Также некоторые достижения греков пришли из Персии, чьи правители всегда привечали греческих ученых (в том числе и Симпликия) до того, как в стране воцарился ислам и Академия неоплатоников была закрыта императором Юстинианом. Упадок христианского мира совпал с восхождением ислама.
При правлении следующей суннитской династии халифата Аббасидов арабская наука достигла своей золотой эры. Багдад, столица Аббасидов, был возведен на обоих берегах реки Тигр в Месопотамии халифом аль-Мансуром, правившим с 754 по 775 г. В то время Багдад стал самым большим городом мира, если не считать китайских городов. Самым знаменитым его правителем был Гарун ар-Рашид, халиф с 786 по 809 г., известный как персонаж «Тысячи и одной ночи». Во время правления ар-Рашида и его сына аль-Мамуна, халифа с 813 по 833 г., движение в сторону Греции, Персии и Индии заметно активизировалось. Аль-Мамун послал в Константинополь миссию, которая доставила манускрипты на греческом языке. Возможно, в делегацию был включен врач Хунайн ибн Исхак, величайший переводчик IX в., основавший династию переводчиков, обучив этому делу своего сына и племянника. Хунайн ибн Исхак перевел труды Платона и Аристотеля, а также медицинские тексты Диоскорида, Галена и Гиппократа. Работы по математике Евклида, Птолемея и других авторов также были переведены на арабский в Багдаде, некоторые из них до этого были переведены на сирийский язык. Историк Филипп Хитти с иронией противопоставляет расцвет знания в Багдаде того времени практически полной безграмотности в Европе начала Средних веков: «В то время как на востоке ар-Рашид и аль-Мамун углублялись в греческую и персидскую философию, на западе Карл Великий и его лорды овладевали искусством написания собственных имен»{131}.
Иногда утверждают, что самым большим вкладом халифата Аббасидов в науку было основание института перевода и творческих исследований Байт-аль-хикма, или Дома мудрости. Байт-аль-хикма предположительно выполнял для арабов те же функции, что для греков Музей и Александрийская библиотека. Эта точка зрения оспаривается известным арабистом, профессором Димитрием Гутасом{132}. Он указывает на то, что термин «Байт-аль-хикма» является переводом персидского термина, который долгое время использовался в доисламской Персии в качестве наименования для хранилища книг, причем чаще книг по персидской истории и поэзии, чем по греческой науке. Можно привести всего несколько примеров книг, которые были переведены в Байт-аль-хикма во время правления аль-Мамуна, причем это были переводы с персидского, а не с греческого. Как мы увидим далее, в Байт-аль-хикма проводились некоторые астрономические исследования, о которых известно очень мало. Что однозначно не обсуждается, так это факт, что Багдад при аль-Мамуне и ар-Рашиде, независимо от того, был в нем Байт-аль-хикма или нет, являлся крупным центром переводов и исследований.
Развитие арабской науки не ограничивалось Багдадом, она распространялась на запад – в Египет, Испанию и Марокко, а также на восток – в Персию и Центральную Азию. Свой вклад в ее развитие внесли не только арабы, но и персы, евреи, и турки. Представители этих народов являлись частью арабской цивилизации и писали по-арабски (или, по крайней мере, пользовались арабской вязью). Арабский в то время имел в науке примерно тот же статус, каким сейчас обладает английский. Иногда трудно даже определить этническую принадлежность тех или иных ученых. Я буду говорить о них, пользуясь обобщенным наименованием «арабы».
В грубом приближении можно определить две различные научные традиции, к которым принадлежали арабские ученые. С одной стороны, среди них были настоящие математики и астрономы, которых мало заботило то, что мы сегодня называем философией. С другой стороны, существовали философы и врачи, которые не слишком интересовались математикой и находились под сильным влиянием трудов Аристотеля. Их интерес к астрономии ограничивался только астрологией. Если говорить о теории движения планет, то философы и врачи предпочитали аристотелевскую теорию сфер, центром которых является Земля, а астрономы и математики были в основном последователями птолемеевой теории эпициклов и деферентов. Обе эти модели мы обсуждали в главе 8. Этот интеллектуальный раскол, как мы увидим дальше, просуществовал и в Европе до времен Коперника.
Достижения арабской науки стали результатом трудов многих людей, среди которых трудно выделить крупные фигуры, сыгравшие роль, подобную, скажем, роли Галилея и Ньютона в научной революции. Далее я коротко расскажу о средневековых арабских ученых и их достижениях.
Первым среди значительных астрономов и математиков в Багдаде был аль-Хорезми{133}. Он был персом и родился примерно в 780 г. на территории нынешнего Узбекистана. Аль-Хорезми работал в Байт-аль-хикма и составил имевшие широкое применение астрономические таблицы, частично основанные на наблюдениях индусов. Его знаменитая книга по математике называлась «Китаб аль-джебр ва-ль-мукабала» и была посвящена халифу аль-Мамуну, который сам был наполовину персом. Из этого заглавия легко выделить слово «алгебра». Но на самом деле описанное в книге не совсем соответствует тому, что мы сегодня называем алгеброй. Формулы, такие, как, например, решение квадратных уравнений, даны словами, а не символами (которые являются неотъемлемыми элементами алгебры). В этом отношении математика аль-Хорезми была менее развита, чем математика Диофанта. От аль-Хорезми мы также получили название для порядка действий при решении задачи – «алгоритм»[8]. В тексте «Китаб аль-джебр ва-ль-мукабала» беспорядочно смешаны римские цифры, вавилонская шестидесятеричная система счисления и новая система счисления, заимствованная из Индии и основанная на степенях десятки. Возможно, самым важным вкладом аль-Хорезми в математику было преподнесение арабам этих индийских цифр, которые, в свою очередь, стали известны в Европе как арабские.
Вдобавок к значительной фигуре аль-Хорезми в Багдаде собралась плодовитая группа астрономов IX в., в том числе аль-Фаргани (Альфраганус{134}), который написал популярное краткое изложение «Альмагеста» Птолемея и разработал собственную версию схемы движения планет, опираясь на «Планетные гипотезы» Птолемея.
Основным занятием этой группы багдадских астрономов было уточнение сделанного Эратосфеном измерения размера Земли. Аль-Фаргани, в частности, получил гораздо меньшее значение длины окружности земного шара, что столетия спустя подтолкнуло Колумба (о чем упомянуто в сноске 10 к части II) к мысли о том, что он сможет пересечь океан в западном направлении и прибыть из Испании в Японию. Возможно, это была самая удачная вычислительная ошибка в истории.
Арабом, оказавшим наибольшее влияние на европейских астрономов, был аль-Баттани (Альбатениус), родившийся примерно в 858 г. в северной Месопотамии. Он работал с «Альмагестом» Птолемея и внес в него некоторые поправки: например, провел более точные измерения угла, равного примерно 23,5°, который образует линия движения Солнца через зодиак с небесным экватором, длины года и его сезонов, прецессии равноденствий и расположения звезд. Он заимствовал из работ индийских ученых тригонометрическую функцию синус, которая заменила рассчитанную и использовавшуюся Гиппархом хорду (см. техническое замечание 15). Цитаты из Альбатениуса часто встречаются в работах Коперника и Тихо Браге.
Персидский астроном ас-Суфи (Азофи) сделал открытие, космологическое значение которого стало понятно только в XX столетии. В 964 г. в своей «Книге неподвижных звезд» он описал «маленькое облачко», всегда находящееся в созвездии Андромеды. Это было самое раннее из известных наблюдений того, что мы сейчас называем галактиками. В данном случае это была крупная спиральная галактика М31. Ас-Суфи работал в Исфахане и также принимал участие в переводе работ греческих астрономов на арабский язык.
Возможно, самым внушительным астрономом эпохи Аббасидов был аль-Бируни. В средневековой Европе его работы были неизвестны, поэтому латинизированной версии его имени не существует. Аль-Бируни жил в Центральной Азии и в 1017 г. совершил путешествие в Индию, где читал лекции по греческой философии. Он допускал вероятность того, что Земля вращается, дал точные значения широты и долготы для разных городов, составил таблицу значений для тригонометрической функции, ныне известной как тангенс, и измерил удельные плотности различных твердых тел и жидкостей. Аль-Бируни открыто высмеивал астрологию. В Индии он изобрел новый способ измерить длину окружности земного шара. Он описывал его так:
«Когда мне случилось остановиться в крепости Нандана в Земле Индии, над которой возвышается на западе высокая гора, я заметил к югу от последней пустыню, и пришло мне на ум испробовать в ней этот метод [метод, описанный ранее]. Я различил, (находясь) на вершине горы, явственное соприкосновение Земли с (небом), окрашенным в лазурные (тона). Линия визирования опустилась от перпендикуляра, падающего на вертикальную линию, на 34 минуты. Я измерил перпендикуляр горы [то есть ее высоту] и нашел его в 652,055 локтя, относящегося (к виду) локтя ас-сияб, использующегося в этой местности»{135}.
Из этой информации аль-Бируни сделал вывод{136}, что радиус Земли составляет 12 803 337,0358 локтей. В его расчеты вкралась небольшая ошибка: по полученным данным, радиус Земли должен был составлять примерно 13,3 млн локтей (см. техническое замечание 16). Конечно, вполне возможно, что он не знал точного значения высоты горы, поэтому практического различия между 12,8 млн локтей и 13,3 млн локтей нет. Высчитывая радиус земного шара до двенадцатой значащей цифры, аль-Бируни совершил ту же самую ошибку, которые мы видели у Аристарха: он неоправданно использовал и записывал больше значащих цифр, чем ему позволяла использовать точность проведенных измерений, на основе которых велся расчет.
Однажды такое случилось и со мной. Когда-то давно у меня была летняя работа, где я должен был рассчитывать путь атомов через ряд магнитов в атомном генераторе пучков. Это было еще до появления персональных компьютеров или электронных калькуляторов, но у меня была электромеханическая счетная машина, которая могла складывать, вычитать, умножать и делить с точностью до восьмой значащей цифры. Из-за собственной лени в своем отчете я привел результаты расчетов с той точностью, какую получил на счетной машине, и не потрудился их округлить до реальных значений. Мой шеф с сожалением заметил, что измерения магнитного поля, на которых были основаны мои расчеты, имели точность лишь несколько процентов и любая запись с более высокой точностью лишена смысла.
В любом случае сегодня мы никак не можем судить, насколько точен был результат аль-Бируни, получившего радиус Земли, равный примерно 13 млн локтей, потому что никто не знает, чему была равна длина этого локтя. Аль-Бируни сказал, что в одной миле содержится 4000 локтей, но что он имел в виду под милей?
Омар аль-Хайям, поэт и астроном, родился в 1048 г. в Нишапуре, в Персии, и умер примерно в 1131 г. Он был главой обсерватории в Исфахане, где составлял астрономические таблицы и планировал реформирование календаря. Англоговорящим читателям он больше всего известен как поэт благодаря великолепным переводам, сделанным Эдвардом Фицджеральдом в XIX в. Фицджеральд перевел 75 четверостиший (их было гораздо больше), написанных аль-Хайямом на персидском и имевших название «рубаи». Ничего удивительного в том, что несговорчивый реалист, написавший эти стихи, был ярым противником астрологии.
Самый большой вклад арабы сделали в оптику. Во-первых, в конце Х в. благодаря Ибн Сахлю, который, вероятно, разработал правило преломления лучей света (о нем мы подробнее поговорим в главе 13). Во-вторых, благодаря великому аль-Хайсаму (Альхазену). Аль-Хайсам родился в Басре, в южной Месопотамии, примерно в 965 г., но работал в Каире. Среди дошедших до нас трудов есть следующие сочинения: «Книга оптики», «О свете Луны», «О гало и радуге», «О параболических зажигательных зеркалах», «О свойствах теней», «О свете светил», «Рассуждение о свете», «О горящей сфере», «О формах затмений» и др. Он верно связал преломление света с изменением скорости света при переходе из одной среды в другую и экспериментально обнаружил, что угол преломления пропорционален углу падения лишь для малых углов, но не смог дать верную общую формулу. В астрономии он вслед за Адрастом и Теоном пытался дать физические объяснения эпициклов и деферентов Птолемея.
Один из первых химиков Джабир ибн Хайян (Гебер), как теперь считается, жил в конце VIII или начале IX в. Его жизнь покрыта тайной, и не ясно, действительно ли большинство приписываемых ему работ написаны одним человеком. Также в XIII–XIV вв. в Европе появилось множество написанных на латыни трудов, которые приписывались Геберу, но сейчас считается, что их автор не был тем же самым человеком, что автор работ, приписываемых Джабиру ибн Хайяну. Джабир разработал технологии выпаривания, очищения, плавления и кристаллизации. Он искал путь превращения недрагоценных металлов в золото, и поэтому его часто называют алхимиком, но разница между химией и алхимией тех времен надуманна, поскольку не существовало никакой фундаментальной научной теории, которая доказывала бы, что такое превращение невозможно. На мой взгляд, для будущего науки куда важнее разница между химиками или алхимиками, которые вслед за Демокритом работали с веществами в чисто натуралистическом ключе, независимо от того, правильными ли были теории, и теми, кто, как Платон (и, если только они не переусердствовали с метафорами, Анаксимандр и Эмпедокл), переносил человеческие или религиозные категории на изучение веществ. Возможно, Джабир принадлежал к последним. Например, он придавал особое значение в химии числу 28, совпадающему с количеством букв в арабском алфавите, то есть в языке Корана. Почему-то ему было важно, что 28 – это произведение 7 (предположительно, количество металлов) и 4 (количество качеств: холод, тепло, сырость и сухость).
Теперь обратимся к арабской медицинской и философской традиции. Здесь одной из первых значимых фигур был аль-Кинди (Алькиндус), который родился в IX в. в знатной семье в Басре, но работал в Багдаде. Он был последователем Аристотеля и пытался согласовать его доктрины с доктринами Платона и ислама. Аль-Кинди был человеком с энциклопедическими знаниями, очень интересовался математикой, но, как и Джабир, вслед за пифагорейцами использовал в некотором роде магию чисел. Он писал работы по оптике и медицине, критиковал алхимию, хотя и защищал астрологию. Аль-Кинди также руководил некоторыми работами по переводу с греческого на арабский.
Впечатляющей фигурой был ар-Рази (Разес), говорящий на арабском перс из следующего за аль-Кинди поколения. В числе его работ был «Трактат о малой оспе и кори». В «Сомнениях относительно Галена» он бросал вызов авторитету известного римского врача и спорил с теорией, идущей от Гиппократа, о том, что здоровье – это равновесие между четырьмя «соками тела» (эта теория была описана в главе 4). Ар-Рази объяснял: «Медицина – это философия, и она не совместима с отказом от критики в адрес ведущих авторитетов». В отличие от типичных взглядов арабских врачей, он также бросал вызов и учению Аристотеля, например, его доктрине о конечности космоса.
Самым известным арабским врачом был Ибн Сина (Авиценна), еще один перс, говоривший на арабском. Он родился в 980 г. около Бухары в Центральной Азии. Ибн Сина стал придворным врачом султана Бухары и был назначен управляющим одной из провинций. Он был последователем Аристотеля и, как и аль-Кинди, пытался согласовать его учение с исламом. Его трактат «Канон врачебной науки» был самым значительным медицинским сочинением в Средние века.
В то же самое время медицина расцвела и в исламской Испании. Аз-Захрави (Абалкасис) родился в 936 г. неподалеку от Кордовы, главного города Андалусии, и работал там до своей смерти в 1013 г. Он был самым великим хирургом Средневековья и сильно повлиял на христианскую Европу. Возможно, из-за того, что хирургия была менее подвержена беспочвенным теориям, чем другие разделы медицины, аз-Захрави считал медицину наукой, не имеющей отношения к философии и теологии.
Медицина и философия в разлуке просуществовали недолго. В следующем веке в Сарагосе родился врач Ибн Баджа (Авемпас). Он работал на своей родине, а также в Фесе, Севилье и Гранаде. Ибн Баджа был последователем Аристотеля, который критиковал Птолемея, поэтому отрицал астрономию Птолемея, делая исключение для теории движения Аристотеля.
Работу Ибн Баджи продолжил его ученик Ибн Туфайль (Абубацер), который также родился в мусульманской части Испании. Он был врачом в Гранаде, Сеуте и Танжере и стал визирем и врачом султана из династии Альмохадов. Он выступал за то, что между учением Аристотеля и исламом нет противоречий, и, как и его учитель, отрицал эпициклы и эксцентры астрономии Птолемея.
В свою очередь, у Ибн Туфайля был выдающийся ученик аль-Битруджи. Он унаследовал от своего учителя преклонение перед Аристотелем и его отрицание Птолемея. Аль-Битруджи неудачно пытался заново интерпретировать движение планет по эпициклам через терминологию концентрических сфер.
Один из врачей мусульманской Испании прославился как философ. Ибн Рушд (Аверроэс) родился в 1126 г. в Кордове. Он был внуком имама Кордовы. В 1169 г. Ибн Рушд стал кади (судьей) в Севилье, в 1171 г. – в Кордове, а затем по рекомендации Ибн Туфайля в 1182 г. стал судебным врачом. Как врач Аверроэс больше всего известен тем, что распознал функцию сетчатой оболочки глаза, но гораздо большую славу он имел как комментатор трудов Аристотеля. Его восхищенные слова в адрес Аристотеля даже несколько неудобно читать:
«[Аристотель] основал и завершил логику, физику и метафизику. Я говорю, что он основал их, потому что о работах, написанных по этим наукам до него, даже не стоит говорить, и они в значительной степени были превзойдены его сочинениями. И я говорю, что он завершил их, потому что никто из тех, кто пришел после него до наших дней (а прошло уже пятнадцать веков), не смог ничего добавить к его трудам или найти в них какую-либо стоящую упоминания ошибку»{137}.
Отец современного писателя Салмана Рушди выбрал эту фамилию в честь светского рационализма Ибн Рушда.
Естественно, Ибн Рушд отвергал астрономию Птолемея как противоречащую физике, под которой он подразумевал физику Аристотеля. Он осознавал, что гомоцентрические сферы Аристотеля «не спасают явления», и пытался согласовать теорию Аристотеля с наблюдениями, но пришел к выводу, что это задача для будущего:
«В юности я надеялся, что я доведу это исследование [в астрономии] до благополучного завершения. Теперь, в старости, я потерял последнюю надежду, поскольку на моем пути стояли несколько препятствий. Но я могу сказать, что это, возможно, привлечет внимание будущих исследователей. Безусловно, современная астрономическая наука не может предложить ничего, из чего можно было бы вывести существующую реальность. Модель, которую мы разработали в наши дни, соответствует результатам вычислений, а не тому, что есть на самом деле»{138}.
Конечно, надежды Ибн Рушда на будущих исследователей не оправдались: никто и никогда не смог заставить работать теорию планет Аристотеля.
Были в мусульманской Испании и серьезные астрономические исследования. В XI в. в Толедо аз-Заркали (Арзахель) стал первым, кто вычислил прецессию кажущейся орбиты Солнца вокруг Земли (в действительности это, конечно же, была прецессия перигелия орбиты Земли вокруг Солнца), которая, как сейчас известно, зависит от гравитационного притяжения между Землей и другими планетами. Аз-Заркали определил значения прецессии в 12,9 секунды за год, что достаточно хорошо согласуется с современным значением в 11,6 секунды в год{139}. Группа астрономов, в которую входил аз-Заркали, используя более ранние работы аль-Хорезми и аль-Баттани, разработала «Толедские таблицы», которые можно назвать наследниками «Подручных таблиц» Птолемея. Эти астрономические таблицы, как и те, которые последовали за ними, примечательны для истории астрономии тем, что описывали видимое движение Солнца, Луны и планет по зодиакальным созвездиям.
При правлении халифата Омейядов и сменившей его берберской династии Альморавидов Испания была свободным от национальных предрассудков центром знания, где терпимо относились как к мусульманам, так и к евреям. Моше бен Маймон (Маймонид) был евреем, который в это счастливое время – в 1135 г. – родился в Кордове. Несмотря на то что евреи и христиане были гражданами второго сорта в местах правления исламских правителей, в Средние века условия жизни евреев в арабском мире были гораздо лучше, чем в христианской Европе. К несчастью, во времена юности бен Маймона власть в Испании перешла в руки фанатичного исламского халифата Альмохадов, и он был вынужден бежать, пытаясь найти убежище в Альмейре, Марракеше, Кесарии и Каире. В конце концов он осел в Фустате, пригороде Каира. Там он жил до своей смерти в 1204 г., выполняя как обязанности раввина, оказавшего влияние на всех средневековых евреев, так и врача, которого высоко ценили и евреи, и арабы. Одна из его широко известных работ – «Путеводитель растерянных»[9], написанная в форме писем к юноше. В нем он выражает свое неприятие астрономии Птолемея, противоречащей Аристотелю:
«Ты знаешь об астрономии и то, что ты узнал из моего учения, и то, что прочитал в книге “Альмагест”. У нас было недостаточно времени, чтобы двинуться дальше. Теория, гласящая, что сферы движутся упорядоченно и что рассчитанные пути звезд находятся в согласии с наблюдением, зависит, как ты знаешь, от верности двух гипотез: или истинны эпициклы или эксцентрические сферы, или же и то и другое. Теперь я покажу, что и та и другая гипотеза опорочена неупорядоченностью и находится в прямом противоречии с выводами естественной науки».
Затем он признает, что схема Птолемея согласуется с наблюдениями, а схема Аристотеля – нет, и, как до него Прокл, бен Маймон разочаровывается в попытках понять небеса:
«Но обо всех вещах небесных человек не знает ничего, кроме нескольких математических расчетов, и ты видишь, как далеко он заходит в них. Я скажу словами поэта: “Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим”{140}. Это значит, один лишь Бог владеет верным и совершенным знанием небес, их природы, их сути, их форм, их движений и их причин. Но Он дал человеку силу познавать все то, что творится под этими небесами…»
Как выяснилось, на самом деле все наоборот: именно движение небесных тел было объяснено в первые дни становления современной науки.
Следствием арабского влияния на европейскую науку стало множество терминов и имен собственных, имеющих арабское происхождение: не только упоминавшиеся «алгебра» и «алгоритм», но и названия звезд, например, Альдебаран, Алголь, Альфекка, Альтаир, Бетельгейзе, Мицар, Ригель, Вега и т. д., а также химические термины, например, калий[10], аламбик[11], алкоголь, ализарин (краситель) и, конечно же, алхимия.
Этот краткий обзор вызывает один вопрос: почему именно те ученые, которые были практикующими врачами, например, Ибн Баджа, Ибн Туфайль, Ибн Рушд и бен Маймон, были такими ярыми приверженцами учения Аристотеля? Я думаю, этому могло быть три причины. Во-первых, врачам, естественно, были интересны работы Аристотеля по биологии, а тут он был на высоте. Также на арабских врачей большое влияние оказали труды Галена, который восхищался Аристотелем. И, наконец, медицина является областью, в которой трудно представить четкое противопоставление теории и наблюдений (такую ситуацию мы можем наблюдать и сегодня), поэтому некоторое расхождение физики и астрономии Аристотеля с наблюдениями могло не казаться врачам таким уж важным. Однако исследования астрономов использовались для целей, где требовались точные результаты, например, для создания календарей, измерения расстояний, выбора правильного времени для дневной молитвы и определения киблы – направления на Мекку, куда надо было поворачиваться лицом во время молитвы. Даже астрономы, которые пользовались своими наблюдениями для астрологических прогнозов, должны были уметь точно определить, в каком знаке зодиака находится Солнце и планеты в то или иное время, поэтому они не могли принять теорию Аристотеля, дающую неправильные ответы.
Арабская наука пошла на спад еще до конца правления халифата Аббасидов, начиная примерно с 1100 г. После этого уже не было ученых, которые могли бы сравниться с аль-Баттани, аль-Бируни, Ибн Синой и аль-Хайсамом. Это спорная точка зрения, причем, увы, часть противоречий привносит современная политическая ситуация. Некоторые ученые отрицают, что вообще был какой-то спад{141}.
Конечно, какой-то научный прогресс продолжался и после окончания правления династии Аббасидов: при монголах – в Персии, затем – в Индии, а еще позже – в Оттоманской империи. Например, в 1259 г., всего через год после завоевания Багдада, по приказанию Хулагу была построена Марагинская обсерватория. Она должна была стать знаком благодарности астрологам, которые, как считал Хулагу, предсказали его успешные завоевания. Ее основатель и глава – астроном ат-Туси – писал о сферической геометрии (геометрии больших кругов[12] на поверхности сфер, например, на воображаемой сфере неподвижных звезд), составлял астрономические таблицы и предложил улучшения к теории эпициклов Птолемея. Ат-Туси основал научную династию: его ученик аль-Ширази был астрономом и математиком, а ученик аль-Ширази аль-Фариси внес значительный вклад в оптику, объяснив радугу и ее цвета расщеплением солнечного света в каплях дождя.
Более впечатляющей фигурой, как мне кажется, был Ибн аш-Шатир, астроном XIV в. из Дамаска. Опираясь на работы астрономов из Марагинской обсерватории, он развил теорию движения планет, в которой придуманный Птолемеем эквант был заменен парой эпициклов, что удовлетворяло требованию Платона о том, что планеты должны двигаться с постоянными скоростями по круговым орбитам. Также аш-Шатир предложил теорию движения Луны, основанную на эпициклах, в которой ему удалось избежать избыточной вариативности расстояния между Луной и Землей, которая сокрушила лунную теорию Птолемея. В ранней работе Коперника, на которую он ссылается в своем «Малом комментарии», представлена теория движения Луны, идентичная теории аш-Шатира, и теория движения планет, которая дает те же видимые результаты, что и у аш-Шатира{142}. Сейчас считают, что Коперник узнал об этих результатах (а, возможно, и об их источнике), когда в молодости учился в Италии.
Некоторые ученые придают особое значение тому факту, что геометрическая конструкция, так называемая «пара Туси», придуманная ат-Туси при работе над планетным движением, была позже использована Коперником. (Это был способ математического преобразования вращательного движения двух соприкасающихся сфер в колебательное прямолинейное движение). Возникла в некотором роде спорная ситуация: неизвестно, узнал ли Коперник о паре Туси из каких-либо арабских источников или придумал ее сам{143}. Он достаточно охотно воздавал должное арабам и в своих работах упомянул пятерых ученых, в том числе аль-Баттани, аль-Битруджи и Ибн Рушда, но ни слова не сказал об ат-Туси.
Известно, что, несмотря на влияние, которое ат-Туси и аш-Шатир оказали на Коперника, их работы не были продолжены исламскими астрономами. В любом случае необходимость введения пар Туси и планетных эпициклов аш-Шатира была вызвана трудностями, которые в действительности (об этом не знали ни ат-Туси, ни аш-Шатир, ни Коперник) происходят от того, что планеты движутся по эллиптическим орбитам, а Солнце находится не в центре этих орбит. Эти трудности, как обсуждалось в главах 8 и 11, одинаково искажают предсказания теорий Птолемея и Коперника и не зависят от того, обращается ли Солнце вокруг Земли или Земля – вокруг Солнца. Гелиоцентрическую теорию ни один арабский астроном серьезно не рассматривал до современной эпохи.
В исламских государствах продолжали строительство обсерваторий. Возможно, самой грандиозной среди них была обсерватория в Самарканде, построенная в 1420-х гг. при правлении Улугбека из династии Тимуридов, начало которой было положено Тимуром (Тамерланом). Там были получены более точные значения для звездного года (365 дней 5 часов 49 минут и 15 секунд) и прецессии равноденствия (один градус прецессии за 70, а не за 75 лет, что вполне сравнимо с современным значением – один градус за 71,46 года).
Важное открытие в медицине было сделано сразу же после окончания периода правления Аббасидов. Арабский врач Ибн ан-Нафис описал легочное кровообращение, то есть малый круг кровообращения, который начинается в правом желудочке сердца, выбрасывает кровь в сосуды легких, где она обогащается кислородом и возвращается в левое предсердие. Ан-Нафис работал в больницах Дамаска и Каира, а также писал сочинения в области офтальмологии.
Но, несмотря на эти примеры, трудно избежать ощущения, что развитие науки в исламском мире начало терять темп после окончания эры Аббасидов, а позже начался и ее упадок. Когда пришло время научной революции, она затронула только Европу и не коснулась исламских государств и исламских ученых. Даже после того, как в XVII в. стали доступны телескопы, астрономы в обсерваториях исламских стран продолжали наблюдать небесные тела невооруженным глазом{144} (хотя они и пользовались некоторыми инструментами). Астрономия по-прежнему применялось в основном для составления календарей и в религиозных целях, а не для развития науки.
Неизбежно возникает тот же самый вопрос, что и при рассмотрении регресса науки после падения Римской империи: не связано ли это с тем, что религия набирала силу? В исламе, как и в христианстве, вопрос о противоречии между наукой и религией сложен, и я не берусь дать однозначный ответ. Эту проблему следует разделить как минимум на две. Во-первых, каким было отношение исламских ученых к религии? То есть только ли те, кто сумел не принимать в расчет влияние религии, стали выдающимися учеными? И, во-вторых, каким было отношение к науке в мусульманском обществе?
Во время эры Аббасидов религиозный скептицизм был широко распространен в среде ученых. Самый яркий пример этого – астроном Омар Хайям, которого считали атеистом. В его рубаи явно видно это скептическое отношение:
Одних манит удел владык земли, Других же рай, мерцающий вдали… Держи что есть, о барышах забудь И дальним барабанам не внемли! Все мудрецы, которые в веках Так тонко спорили о Двух Мирах, Как лжепророки свергнуты; их речь Развеял ветер, уста засыпал прах. И я когда-то к магам и святым Ходил, познанья жаждою томим, Я им внимал; но уходил всегда Чрез ту же дверь, как и являлся к ним{145}.Перевод, конечно, менее поэтичен, но вполне выражает скептицизм. Недаром Хайяма после смерти называли «змеей, жалящей шариат». Сегодня в Иране правительственная цензура требует редактуры поэзии Хайяма, чтобы скрыть или смягчить его атеистические воззрения.
Примерно в 1195 г. сторонник Аристотеля Ибн Рушд был отправлен в изгнание из-за подозрения в ереси. Другой врач, ар-Рази, откровенно высказывал свой скептицизм. В своем сочинении «Проделки пророков» он доказывает, что все религиозные чудеса были чистой воды мошенничеством, что людям не нужны религиозные лидеры и что Евклид и Гиппократ гораздо полезнее для человечества, чем все толкователи священных писаний. Его современник астроном аль-Бируни явно разделял эти взгляды, поскольку он написал биографию ар-Рази, где искренне им восхищался.
С другой стороны, врач Ибн Сина в своей переписке с аль-Бируни вел бурные споры и говорил, что ар-Рази лучше заниматься вещами, в которых он разбирается, например, гнойниками и экскрементами. Астроном ат-Туси был правоверным шиитом и писал о теологии. Имя астронома ас-Суфи говорит о том, что он был последователем суфизма.
Очень трудно свести воедино эти отдельные примеры. Большинство арабских ученых не оставили никаких записей о своих религиозных взглядах. Я предполагаю, что это молчание, скорее, указывает на скептицизм и возможный страх наказания.
Теперь перейдем к вопросу о том, как мусульмане в целом относились к науке. Халиф аль-Мамун, который основал Дом мудрости, был явным сторонником науки. Особенно значимо, что он принадлежал к мусульманскому течению мутазилитов, для которых характерна более рациональная интерпретация Корана, за что они позднее подвергались гонениям. Но мутазилитов нельзя воспринимать как религиозных скептиков. Они не сомневались в том, что Коран является словом Божьим; они лишь отстаивали идею, что он создан Богом, а не существовал всегда. Нельзя их и путать с современными сторонниками гражданских свобод; мутазилиты преследовали мусульман, которые считали, что у Бога не было нужды создавать Коран, ибо тот существовал вечно.
К XI в. в исламском мире появились признаки явной враждебности к науке. Астроном аль-Бируни жаловался на антинаучный настрой среди исламских экстремистов:
«Среди них были сторонники крайностей, которые клеймили науку за атеизм и заявляли, что они поведут за собой сбившихся с пути людей, чтобы заставить таких неучей, как они сами, возненавидеть науки. Это помогло им скрывать свое невежество и открыть двери полному уничтожению науки и ученых»{146}.
Есть хорошо известный исторический анекдот, в котором религиозный фанатик критиковал аль-Бируни из-за того, что астроном пользовался инструментом, на шкале которого месяцы были размечены на греческом, языке христианской Византии. На это аль-Бируни ответил: «Византийцы тоже принимают пищу».
Ключевой фигурой в нарастании напряжения между наукой и исламом часто называют аль-Газали (Альгазеля). Он родился в 1058 г. в Персии, затем переехал в Сирию, потом – в Багдад. Его религиозные взгляды тоже менялись – от ортодоксального ислама к скептицизму, затем к мистицизму суфизма и обратно к ортодоксальности, но в сочетании с мистическим суфизмом. Изучив работы Аристотеля и подведя итог в труде «Намерения философов», он позднее подверг критике рационализм в своей самой известной работе «Самоопровержение философов». (Ибн Рушд, сторонник Аристотеля, парировал ударом на удар и написал «Самоопровержение самоопровержения».) Вот как аль-Газали выражает свою точку зрения относительно греческой философии:
«В наше время еретики слышат такие повергающие в трепет имена, как Сократ, Гиппократ, Платон, Аристотель и другие. Последователи этих философов сознательно вводят людей в заблуждение с помощью преувеличений, из-за чего создается ощущение, что эти древние мастера обладали исключительными интеллектуальными способностями; что математика, логика, физика и метафизика были основательно развиты ими; что их великолепный ум оправдывает их бесплодные попытки проникнуть в сокрытое с помощью дедуктивного метода; что со всей остротой своего ума и всей оригинальностью достижений они отвергали авторитет религиозных законов: отрицали вескость позитивного содержания исторических религий и верили, что все, что в них говорится, – это только ханжеская ложь и тривиальность»{147}
Атака аль-Газали на науку приняла форму окказионализма – доктрины, гласящей, что все, что творится в мире, не подчиняется никаким законам природы, а лишь непосредственно воле Бога. (Эта доктрина не была новой в исламе – за сто лет до аль-Газали ее развил аль-Ашари, противник мутазилитов.) В разделе XVII сочинения аль-Газали «Опровержение их веры в невозможность отклонения от естественного хода событий» мы читаем следующее:
«С нашей точки зрения связь между тем, что мы считаем причиной и следствием, не является необходимой… У [Бога] есть сила создать чувство удовлетворения голода без еды, или смерть без отсечения головы, или даже оставить человека в живых после того, как голова была отрезана, или сделать все что угодно из взаимосвязанных вещей (независимо от того, что из них считается причиной). Философы отрицают эту возможность; напротив, они настаивают на том, что это невозможно. Поскольку познание таких вещей (которые неисчислимы) может занять бесконечное время, позволим себе привести один пример – а именно, сгорание комочка хлопка в момент его соприкосновения с огнем. Мы допускаем возможность контакта огня и хлопка, который не закончится сгоранием. Также мы допускаем возможность трансформации комочка хлопка в пепел без соприкосновения с огнем. А они отрицают эту возможность… Мы говорим, что Бог посредством своих ангелов или напрямую создает черноту в этом хлопке или уничтожение его частиц и их трансформацию в тлеющую массу или пепел. Огонь как неодушевленная вещь не производит никакого действия».
Другие религии, такие как христианство или иудаизм, тоже допускали возможность чудес и отклонений от естественного порядка, но здесь мы видим, что аль-Газали отрицает само существование какого-либо естественного порядка.
Это трудно понять, поскольку мы, конечно, наблюдаем проявление закономерностей в природе. Сомневаюсь, что аль-Газали не знал, что небезопасно совать руку в огонь. Он мог бы отвести науке безопасное место в мире ислама, назвав ее изучением того, как Бог обычно повелевает происходящим, – эту позицию в XVII в. занял Николя Мальбранш. Но аль-Газали не пошел этим путем. Причина этого изложена в другой его работе – «Начале наук»{148}, в которой он сравнивает науку с вином. Вино укрепляет тело, но тем не менее для мусульман оно находится под запретом. Точно так же астрономия и математика укрепляют ум, но «мы тем не менее опасаемся, что они могут привлечь кого-нибудь к опасным учениям».
Не только сочинения аль-Газали демонстрируют нагнетание исламской враждебности к науке в Средние века. В 1194 г. в Кордове под управлением династии Альмохадов, в другой части исламского мира, улемы (местные религиозные учителя) сожгли все медицинские и научные книги. А в 1449 г. религиозные фанатики разрушили обсерваторию Улугбека в Самарканде.
В сегодняшнем исламе мы видим проявления тех же самых опасений, которые беспокоили аль-Газали. Мой покойный друг Абдус Салам, пакистанский физик, которому первому среди мусульман была присуждена Нобелевская премия (за работу, которой он занимался в Англии и Италии), однажды рассказывал мне, как он пытался убедить правителей богатых нефтью государств Персидского залива вкладывать деньги в научные исследования. Выяснилось, что они с энтузиазмом готовы поддерживать развитие технологий, но боятся, что чистая наука может отрицательно сказаться на культуре. Салам сам был правоверным мусульманином. Он принадлежал к религиозному течению ахмадитов, которое в Пакистане было признано еретическим, из-за чего Салам многие годы не мог вернуться домой.
По иронии судьбы в XX в. Сайид Кутб, один из главных духовных лидеров радикального исламизма, призывал к замене христианства, иудаизма и ислама универсальным чистым исламом. Частично причиной этого было то, что таким способом он надеялся создать исламскую науку, которая преодолеет пропасть между наукой и религией. Но арабские ученые в свою золотую эру не занимались исламской наукой. Они занимались просто наукой.
10. Средневековая Европа
После того как западная часть Римской империи пришла в упадок, Европа за пределами Византии представляла собой бедные сельскохозяйственные земли, по большей части населенные неграмотными людьми. Там, где сохранилась какая-то грамотность, она была сосредоточена вокруг Церкви, при этом использовался только латинский язык. Фактически в раннем Средневековье в Западной Европе никто не умел читать по-гречески.
Некоторые фрагменты сочинений древних греков сохранились в латинских переводах в монастырских библиотеках, в том числе части диалога Платона «Тимей» и переведенные примерно в 500 г. римским аристократом Боэцием работа Аристотеля по логике и учебник арифметики. Кроме того, существовали труды, описывающие достижения греческой науки и написанные римлянами по-латыни. Особенно примечательна энциклопедия V в. Марциана Капеллы со странным названием «О браке Филологии и Меркурия», где описывались (как подружки невесты Филологии) семь свободных наук и искусств: грамматика, логика, риторика, география, арифметика, астрономия и музыка. Говоря об астрономии, Марциан описал древнюю теорию Гераклида о том, что Меркурий и Венера обращаются вокруг Солнца, которое обращается вокруг Земли, – описание, о котором тысячелетие спустя с похвалой отзывался Коперник. Но несмотря на эти крохи древних знаний, в начале Средневековья европейцы не знали практически ничего о великих научных достижениях Древней Греции. У жителей Западной Европы, постоянно подвергавшихся нашествиям готов, вандалов, гуннов, аваров, арабов, мадьяров и норманнов, были другие заботы.
Европа начала возрождаться в Х – XI вв. Нашествия стали редкостью, и новые технические достижения повысили производительность сельского хозяйства{149}. Но заметная научная деятельность возобновилась только в конце XIII в. При этом значительные свершения были достигнуты лишь в XVI в. Тем не менее в промежутке готовилась почва для возрождения науки – организационная и интеллектуальная.
В период господства религии в X–XI вв. большая часть создаваемых материальных благ, естественно, доставалась не крестьянству, а Церкви. Как с восторгом описывает примерно в 1030 г. французский хронист Рауль (или Радульфо) Глабер, «мир как будто был потрясен и избавился от всего старого, надев белые церковные одежды». Для будущего науки самым важным достижением было открытие кафедральных школ при соборах и монастырях (например, в Орлеане, Реймсе, Лане, Кёльне, Утрехте, Сансе, Толедо, Шартре и Париже).
В этих школах учеников обучали не только богословию, но и свободным искусствам и наукам по учебному плану, оставшемуся с римских времен и основанному на сочинениях Боэция и Марциана: тривиум из грамматики, логики и риторики и, особенно в Шартре, квадривиум из арифметики, геометрии, астрономии и музыки. Некоторые из таких школ были основаны еще во времена Карла Великого, но к XI в. стали привлекать отличающихся выдающимся умом преподавателей. В некоторых школах изучение христианских догм даже стало мирно сосуществовать с проснувшимся интересом к изучению мира природы. Как отмечал историк Питер Дир, «изучение Бога через то, что Он сделал, и стремление к пониманию причин и основ его творения многие стали воспринимать как в высшей степени благочестивое предприятие»{150}. Например, Тьерри из Шартра, который был учителем в Париже и Шартре и в 1142 г. стал ректором школы в Шартре, объяснял происхождение мира в своем трактате «О шести днях творения» через теорию о четырех основных элементах, о которой он узнал из «Тимея».
Но имело место и еще одно важное изменение помимо открытия кафедральных школ, хотя оно и было в какой-то мере связано с этими школами. По Европе прокатилась новая волна переводов работ древних ученых. Поначалу переводы чаще всего делались не с греческого, а с арабского. Среди них были как труды арабских ученых, так и сочинения, ранее переведенные с греческого на арабский или на сирийский, а потом – на арабский.
Переводить начали ранее, в середине Х в., например, в монастыре Санта-Марии де Риполи в Пиренеях, на границе между христианской Европой и Испанией Омейядов. Для иллюстрации того, как новые знания распространялись по средневековой Европе и оказывали влияние на кафедральные школы, рассмотрим жизненный путь Герберта Аврилакского. Он родился в 945 г. в Аквитании, о его семье ничего неизвестно. Герберт изучал работы арабских математиков и астрономов в Каталонии, некоторое время жил в Риме, затем отправился в Реймс, где рассказывал ученикам об арабских цифрах и обучал счету на абаке, а также реорганизовал кафедральную школу. Затем он стал аббатом и архиепископом Реймса, участвовал в коронации основателя новой династии французских королей Гуго Капета, сопровождал германского императора Оттона III в Италию и Магдебург, стал архиепископом Равенны и в 999 г. был избран папой под именем Сильвестра II. Его ученик Фульберт Шартрский, учившийся в кафедральной школе в Реймсе и ставший епископом Шартра в 1006 г., возглавил научную и образовательную деятельность в Шартрском соборе, а также занимался восстановлением его великолепного здания после пожара.
Количество переводов заметно увеличилось в XII в. В начале века англичанин Аделард Батский, побывавший во многих арабских странах, перевел труды аль-Хорезми и в своем трактате «Естественные вопросы» описал систему обучения арабов. Тьерри из Шартра узнал об использовании нуля арабскими математиками и принес эти знания в Европу. Вероятно, наиболее значимым переводчиком в XII в. был Герард Кремонский. Он жил в Толедо – столице католической Испании до арабских завоеваний, которая оставалась центром арабской и еврейской культуры, несмотря на то что в 1085 г. была отвоевана кастильцами. Его перевод с арабского на латынь «Альмагеста» Птолемея открыл астрономию древних греков ученым средневековой Европы. Кроме того, Герард перевел «Элементы» Евклида и работы Архимеда, ар-Рази, аль-Фергани, Галена, Ибн Сины и аль-Хорезми. После завоевания Сицилии норманнами в 1091 г. переводы делались непосредственно с греческого языка на латынь, минуя арабские переводы.
Огромное влияние оказал перевод трудов Аристотеля. В Толедо из арабских источников было переведено одновременно большое количество его сочинений. Например, Герард Кремонский перевел «О Небе», «Физику» и «Метеорологию».
Не всегда и не везде Церковь приветствовала работы Аристотеля. На средневековое христианство гораздо большее влияние оказывали платонизм и неоплатонизм, частично через труды святого Августина. Сочинения Аристотеля были натуралистическими, а сочинения Платона таковыми не являлись. У Аристотеля мы видим космос, управляемый определенными законами, пусть даже и не такими, как в действительности, и такое понимание создавало образ Бога, руки которого скованы цепями, тот образ, который был так неприемлем для аль-Газали. Спор из-за Аристотеля частично стал причиной конфликта между двумя монашескими орденами: орденом францисканцев (так называемых «серых братьев»), основанным в 1209 г., который возражал против учения Аристотеля, и орденом доминиканцев («черных братьев»), появившимся в 1216 г., которые восхищались Философом.
Конфликт продолжился и после образования в Европе университетов – новых учебных заведений для получения высшего образования. Одна из кафедральных школ, находившаяся в Париже, получила от короля статус университета в 1200 г. (университет в Болонье немного старше, но он специализировался на изучении медицины и юриспруденции). Практически сразу, в 1210 г., в Парижском университете запретили преподавать труды Аристотеля по натуральной философии. В 1213 г. папа Григорий IX потребовал подвергнуть их цензуре, таким образом, можно было безопасно изучать и преподавать студентам хотя бы их части.
Запрет на Аристотеля не был повсеместным. Его работы изучали в университете Тулузы, основанном в 1229 г. В Париже запрет трудов Аристотеля был отменен в 1234 г., и в следующие несколько десятилетий их изучение оказалось в центре образовательного процесса. Этому, по большей части, была посвящена деятельность двух священников, живших в XIII в.: Альберта Великого и Фомы Аквинского. Согласно моде того времени они носили докторские титулы: Альберта называли Доктор всеобъемлющий, а Фому – Доктор ангельский.
Альберт Великий учился в Падуе и Кёльне, стал доминиканцем и приехал в Париж в 1241 г. С 1245 по 1248 г. он занимал профессорскую кафедру для иностранных ученых в Парижском университете, затем перебрался в Кёльн, где основал университет. Альберт был умеренным поклонником Аристотеля, отдавая предпочтение учению Птолемея, но озабоченным тем, что эта концепция идет вразрез с физикой Аристотеля. Альберт выдвинул предположения, что Млечный Путь состоит из множества звезд и (в отличие от Аристотеля) что темные пятна на Луне являются свойственными ей несовершенствами. Несколько позже примеру Альберта последовал еще один немецкий доминиканец Дитрих из Фрайбурга, который независимо повторил часть работы аль-Фариси по исследованию природы радуги. В 1941 г. Ватикан провозгласил Альберта Великого покровителем всех ученых.
Фома Аквинский родился в благородной семье в южной Италии. Получив образование в монастыре Монтекассино и университете Неаполя, он не оправдал надежд семьи, отказавшись от карьеры настоятеля богатого монастыря. Напротив, как и Альберт Великий, он вступил в доминиканское братство. Фома уехал из Парижа в Кёльн, где учился у Альберта, затем вернулся в Париж и состоял профессором университета в 1256–1259 и 1269–1272 гг.
Величайшей работой Фомы Аквинского стала «Сумма теологии», впечатляющий синтез философии Аристотеля и христианской теологии. В этой работе он занимал промежуточную позицию между точкой зрения радикальных аристотелианцев, каким был Ибн Рушд, и ярых противников Аристотеля, какими были монахи недавно образованного ордена августинцев. Фома Аквинский категорически возражал против доктрины, которая часто (и, возможно, несправедливо) приписывалась последователям Аверроэса, жившим в XIII в., – например, Сигеру Брабантскому и Боэцию Дакийскому. Согласно этой доктрине истина, полученная путем философии (например, вечность материи или невозможность воскрешения из мертвых), может прийти в противоречие с религиозной истиной. Для Фомы Аквинского истина может быть только одна. В астрономии он склонялся к гомоцентрической теории движения планет Аристотеля, в качестве довода говоря, что эта теория основана на разуме, хотя теория Птолемея всего лишь лучше согласуется с наблюдениями, а какая-нибудь еще гипотеза тоже может соответствовать наблюдениям. В то же время Фома Аквинский не соглашался с аристотелевской теорией движения, он утверждал, что даже в вакууме любое перемещение будет занимать конечное время. Считается, что Фома Аквинский поддерживал переводы трудов Аристотеля, Архимеда и других ученых непосредственно с греческого на латынь, которыми занимался его современник фламандский монах-доминиканец Виллем ван Мурбеке. К 1255 г. парижские студенты уже сдавали экзамены на знание работ Фомы Аквинского.
Но злоключения с теорией Аристотеля на этом не закончились. Начиная с середины XIII в. парижскую оппозицию сторонникам Аристотеля яростно возглавил францисканец Бонавентура. В 1245 г. папой Иннокентием IV было запрещено изучение трудов Аристотеля в Тулузе. В 1270 г. епископ Парижа Этьен Тампье запретил изучение тринадцати аристотелевских положений. Папа Иоанн XXI приказал Тампье проработать этот вопрос, и в 1277 г. Тампье сформулировал 219 тезисов, заимствованных у Аристотеля и Фомы Аквинского, которые запрещалось защищать. Запреты добрались и до Англии, где их провел в жизнь Роберт Килворди, архиепископ Кентерберийский, а затем возобновил в 1284 г. его преемник Джон Пекхем.
Запрещенные положения{151} можно разделить по причинам их запрета. Некоторые противоречили Священному Писанию – например, тезисы, касающиеся вечности мира:
9. Что не было первого человека, как не будет и последнего; напротив, всегда были и всегда будут поколения людей сменяться другими людьми.
87. Что мир вечен, как и все особи, населяющие его; и что время вечно, как и движение, вещество, субъект и объект…
Некоторые из запрещенных положений описывали методы изучения истины, которые бросали вызов власти религии, например:
38. Что ничего нельзя принимать на веру, кроме того, что самоочевидно или может быть выведено из самоочевидного.
150. Что нельзя удовлетворяться ответом на вопрос с убежденностью, основанной на власти.
153. Что ничего нельзя узнать лучше, лишь исходя из теологии.
Наконец, некоторые из запрещенных положений выросли из того самого вопроса, который волновал аль-Газали, – философские и научные объяснения ограничивают свободу Бога. Среди них, были, к примеру, такие:
34. Что первопричина не может создать несколько миров.
49. Что Бог не мог сдвинуть небеса с помощью прямолинейного движения, тогда остался бы вакуум.
141. Что Бог не может позволить, чтобы случайности происходили без причины, и не может сотворить более [трех] измерений, существующих одномоментно.
Под запретом положения Аристотеля и Фомы Аквинского пребывали недолго. В 1323 г. во времена нового папы Иоанна XXII, получившего образование у доминиканцев, Фома Аквинский был канонизирован. В 1325 г. все запреты были отменены епископом Парижа, который заявил: «Мы полностью аннулируем вышеупомянутые запреты статей и приговоры об отлучении от церкви, которые касались прямо или косвенно учения святого Фомы, упомянутого выше, и из-за этого мы больше не высказываем ни одобрения, ни порицания этим статьям, а оставляем их для научных дискуссий»{152}. В 1341 г. магистры искусств в университете Парижа должны были давать клятву в том, что они будут изучать «систему Аристотеля и его комментатора Аверроэса, а также всех других древних комментаторов и толкователей слов Аристотеля, за исключением тех, которые противоречат вере»{153}.
Историки не имеют единого мнения по поводу важности для науки этого запрещения Аристотеля и Аквинского и их последующей реабилитации. Возникает два вопроса: если бы запрет не был отменен, какой эффект это оказало бы на науку? И что произошло бы с наукой, если бы не было никакого запрета вообще?
Мне кажется, что, если бы этот запрет не был отменен, последствия для науки были бы катастрофическими. Это не связано с важностью заключений Аристотеля о природе. Как бы то ни было, большинство из них были неверны. Вопреки мнению Аристотеля время существовало еще до появления людей, во Вселенной есть множество планетных систем и, возможно, происходило множество больших взрывов; тела в небе могут двигаться по прямым и часто двигаются именно так; в вакууме нет ничего невозможного; в современных теориях струн измерений больше чем три, дополнительные измерения не поддаются наблюдениям, поскольку они плотно свернуты. Опасность этого запрета лежала в его причине, а не в отрицании самих положений.
Несмотря на то что Аристотель во многом ошибался по поводу законов природы, было важно верить, что эти законы есть. Если бы запрет на обобщения по поводу природы, которые изложены в положениях 34, 49 и 141, сохранился на основании того, что Бог может сделать все что угодно, то христианская Европа могла скатиться на позиции окказионализма, к которому подталкивал ислам аль-Газали.
Также запрет положений, которые касаются власти Церкви (таких как положения 38, 150 и 153, процитированные выше), был одним из эпизодов противостояния, разыгравшегося между факультетами свободных искусств и теологии в средневековых университетах. Теология имела заметно более высокий статус: ее изучение вело к получению степени доктора теологии, а изучающим свободные искусства не присуждалось более высокой степени, чем магистр искусств. Университетские процессии возглавлялись докторами теологии, юриспруденции и медицины – именно в таком порядке, а далее следовали магистры искусств. Отмена запрета не приравнивала свободные искусства по статусу к теологии, но помогала освободить факультеты свободных искусств от интеллектуального давления их коллег-теологов.
Гораздо труднее сказать, каковы были бы последствия, если бы этого запрета никогда не было. Как мы увидим далее, в XIV в. авторитету Аристотеля в области физики и астрономии часто бросали вызов и в Парижском университете, и в Оксфорде, хотя иногда новые идеи приходилось маскировать как построения secundum imaginationem (согласно воображению) – то есть в основе этих идей лежало предположение, а не утверждение. Осмелился ли кто-нибудь бросать Аристотелю такие вызовы, если бы его авторитет не был поколеблен запрещением его теорий в XIII в.? Дэвид Линдберг цитирует слова Николая Орема{154} (о котором мы подробнее поговорим позже), который в 1377 г. писал, что вполне возможно представить, что Земля летит по прямой по бесконечному космосу, поскольку «противоположное мнение было в статье, запрещенной в Париже»{155}. Возможно, итог этих событий XIII в. можно подвести, сказав, что запрет трудов Аристотеля спас науку от догматов аристотелизма, а отмена запрета – от догматов христианства.
После окончания эпохи переводов и конфликта по поводу запрета трудов Аристотеля в XIV в., наконец, началась творческая научная работа. Одной из ключевых фигур в ней был Жан Буридан, француз, родившийся в 1296 г. неподалеку от Арраса и большую часть жизни проживший в Париже. Буридан был духовным лицом, но монахом не был, то есть он не принадлежал ни к какому духовному ордену. По своим философским воззрениям он был номиналистом и верил в реальность отдельных вещей, а не их классов. Дважды, в 1328 и 1340 гг., Буридан удостаивался чести быть избранным на должность ректора Парижского университета.
Буридан был эмпириком, он отрицал логическую необходимость принципов в науке: «Эти принципы не являются самоочевидными: на самом деле нам может потребоваться длительное время для размышления. Но их называют принципами, потому что они недоказуемы, не могут быть выведены из каких-то иных посылов или доказаны с помощью какой-либо формальной процедуры, но они принимаются, потому что оказались верными во многих случаях наблюдений и ни в одном не были неверны»{156}.
Понимание – неотъемлемая и не самая простая часть современной науки. Недостижимая цель Платона – чисто дедуктивная естественная наука – долгое время стояла на пути научного прогресса, который может быть основан только на тщательном анализе аккуратно выполненных наблюдений. Даже сегодня из-за этого случаются недоразумения. Например, психолог Жан Пиаже{157} считал, что обнаружил признаки того, что у детей есть врожденное понимание теории относительности, которое с возрастом исчезает, как будто бы относительность является для людей необходимостью с точки зрения логики и философии, хотя на самом деле выводы этой теории основаны на наблюдениях за телами, движущимися со скоростью света или почти со скоростью света.
Будучи эмпириком, Буридан в то же время не был эксперименталистом. Как и у Аристотеля, его аргументация основывалась на будничных наблюдениях, но в выводах он был куда осторожнее Аристотеля. Например, у Буридана было свое мнение по поводу старой проблемы Аристотеля: почему тело, брошенное горизонтально или вверх, не сразу начинает совершать движение к центру Земли, которое считалось для него естественным. Буридан сразу по нескольким пунктам опроверг объяснение Аристотеля о том, что брошенное тело некоторое время поддерживает воздух. Во-первых, воздух должен скорее препятствовать движению, чем помогать ему, поскольку твердому телу приходится раздвигать воздух, двигаясь сквозь него. Далее, почему воздух сохраняет свою движущую способность, когда рука, бросившая предмет, уже прекращает движение? В-третьих, если бросить пику, заостренную с заднего конца, она движется сквозь воздух так же хорошо или даже лучше, чем такая же пика с широкой тыльной частью, которую теоретически мог бы толкать воздух.
Вместо воздуха, поддерживающего движущиеся тела, Буридан предположил, что наблюдаемый эффект вызывает нечто, названное им импетус (от лат. impetus – импульс), который рука бросающего передает бросаемому телу. Как мы уже видели, подобная идея была предложена Иоанном Филопоном, а Буриданов импетус, в свою очередь, стал предзнаменованием того, что Ньютон назвал «количеством движения», или, в современной терминологии, импульсом, хотя Буридан вкладывал в это понятие не совсем то же самое. Французский ученый, как и Аристотель, разделял заблуждение о том, что что-то должно поддерживать движущиеся тела в движении, и предположил, что импетус играет именно эту роль, а не является лишь свойством движения, как импульс. Буридан никогда не рассчитывал свойственный телу импетус как произведение его массы на скорость (так импульс определяется в физике Ньютона). Тем не менее он кое-чего добился. Сила, необходимая для того, чтобы остановить движущееся тело за определенное время, пропорциональна его импульсу, и в этом смысле импульс играет ту же роль, что и импетус Буридана.
Буридан распространил идею импетуса и на круговое движение, предположив, что планеты сохраняют свое движение благодаря своему импетусу, данному им Богом. Таким образом Буридан искал компромисс между наукой и религией тем способом, который стал очень популярным столетия спустя: Бог привел «космическую машинерию» в движение, после чего все сущее стало подчиняться законам природы. Но хотя закон сохранения импульса действительно заставляет планеты двигаться, сам по себе он не мог бы искривлять их орбиты, как считал Буридан; для этого требуется дополнительная сила, которую в будущем назвали силой тяготения.
Также Буридан забавлялся со старой идеей, принадлежащей еще Гераклиду, о том, что за сутки Земля совершает оборот с запада на восток. Он понял, что это выглядело бы точно так же, как если бы небеса за сутки обращались вокруг неподвижной Земли с востока на запад. Буридан признавал, что это более естественная гипотеза, поскольку Земля намного меньше, чем небесный свод с Солнцем, Луной, планетами и звездами. Но он отрицал вращение Земли, исходя из соображения, что если бы Земля действительно вращалась, то стрела, выпущенная из лука точно вверх, падала бы к западу от лучника, поскольку за время полета Земля бы успела повернуться под летящей стрелой. Смешно, но Буридан мог бы избежать этой ошибки, если бы понял, что вращение Земли придает стреле импетус, который направляет ее на восток, в сторону вращения Земли. Вместо этого он оказался сбит с толку своим представлением о сути импетуса: Буридан рассматривал только вертикальный импетус, который лук придает стреле, и упускал из виду горизонтальный импетус, который придает стреле вращение Земли.
Буридан был на стороне Аристотеля и по поводу идеи о невозможности существования пустоты, вакуума. Но, что характерно, его выводы основывались на наблюдениях: если втянуть воздух через соломинку для питья, вакуум не образуется, поскольку его место занимает всасываемая жидкость; когда ручки кузнечных мехов разведены, вакуума тоже нет, потому что воздух рвется внутрь мехов. На этих основаниях естественно заключить, что природа не терпит пустоты. В главе 12 мы увидим, что правильное понимание этих явлений, вызванных давлением воздуха, появилось лишь в XVII в.
Работу Буридана продолжили два его ученика: Альберт Саксонский и Николай Орем. Философские сочинения Альберта были широко распространены, но именно Орем внес огромный вклад в науку.
Орем родился в 1325 г. в Нормандии и в 1340-х гг. приехал в Париж, чтобы учиться у Буридана. Он был яростным противником попыток заглянуть в будущее с помощью «астрологии, геомантии, некромантии и других подобных искусств, если их только можно назвать искусствами». В 1377 г. Орем вернулся в Нормандию, где был назначен епископом города Лизье, где умер в 1382 г.
Сочинение Орема «Книга о небе и мире»{158}, написанная по-французски для удобства короля Франции, имела форму расширенного комментария к трактату Аристотеля «О небе», в котором автор снова и снова возражал Философу. В этой книге Орем воскрешает мысль о том, что Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток, а не небеса обращаются вокруг Земли с востока на запад. И Буридан, и Орем поняли, что мы наблюдаем только относительное движение, поэтому то, что мы видим движение небесного свода, оставляет возможность того, что на самом деле движется Земля. Орем приводит различные возражения против этой идеи и детально разбирает их. Птолемей в «Альмагесте» возражал, что если бы Земля вращалась, то она обгоняла бы в движении облака и подброшенные тела; Буридан, как мы только что видели, возражал против вращения Земли на основании того, что если бы она вращалась с запада на восток, то стрела, выпущенная из лука вертикально вверх, отклонилась бы на запад, тогда как наблюдения показывают, что стрела падает в то самое место, откуда была выпущена. Орем отвечал, что вращение Земли увлекает с собою стрелу, а также лучника, воздух вокруг и все остальное, что находится на земной поверхности, что соответствовало теории Буридана об импетусе и чего ее автор не увидел.
Орем ответил и на другое возражение против вращения Земли – возражением совсем иного рода, когда в качестве аргумента приводились слова из Священного Писания (например, из Книги Иисуса Навина), где говорилось, что Солнце ежедневно совершает оборот вокруг Земли. Орем отвечал, что это всего лишь уступка условностям просторечия, и эти слова нельзя воспринимать буквально, как, скажем, и те места, где говорится, что Бог разозлился или сожалел. Орем последовал примеру Фомы Аквинского, который прокомментировал отрывок из Книги Бытия, где Бог провозгласил: «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды»{159}. Фома объяснил, что Моисей просто приспособил свою речь к способностям своих слушателей и его нельзя понимать буквально. Буквальное восприятие библейских текстов могло стать огромным препятствием на пути науки, если бы внутри Церкви не было таких ученых, как Фома Аквинский и Николай Орем, обладающих широкими взглядами.
Несмотря на все свои аргументы, Орем в конце концов возвращается к распространенной идее о неподвижной Земле и пишет следующее:
«Впоследствии было продемонстрировано, что движение неба невозможно достоверно доказать с помощью аргументов… Тем не менее каждый, и, думаю, я в том числе, отстаивает точку зрения о том, что небо движется, а Земля – нет, ибо Господь провозгласил, что мир не должен двигаться, несмотря на противные утверждения, которые не являются окончательно убедительными. Тем не менее, осмыслив все вышесказанное, кто-нибудь может поверить, что движется Земля, а не небеса, поскольку противоположное не самоочевидно. Тем не менее на первый взгляд это выглядит противоречащим как естественному ходу вещей в природе, так и множеству положений нашей веры. Все, что я говорил в целях развлечения или упражнения для ума, таким образом может послужить ценным средством опровержения и проверки тех, кто хотел бы подвергнуть под сомнение нашу веру в споре»{160}.
Мы не знаем, действительно ли Орем не пожелал сделать последний шаг и признать, что Земля вращается, или он сыграл на руку религиозным ортодоксам.
Орем также предвосхитил одну из сторон теории всемирного тяготения Ньютона. Он писал, что тяжелые тела не обязательно будут падать в направлении к центру Земли, если окажутся около какого-либо другого мира. Мысль о том, что могут существовать другие миры, более или менее напоминающие Землю, была вызывающей с точки зрения теологии. Создал ли Бог людей в этих других мирах? Приходил ли в них Христос, чтобы спасти там людей? Вопросы были бесконечными и провокационными.
В отличие от Буридана, Орем был математиком. Его основным вкладом стало уточнение работ, которые ранее были сделаны в Оксфорде, поэтому сейчас мы должны переместиться из Франции в Англию и немного вернуться назад во времени, чтобы потом снова обратиться к Орему.
К XII в. Оксфорд, расположенный в верхнем течении Темзы, стал процветающим торговым городом и привлекательным местом для педагогов и студентов. Неформальное объединение школ в Оксфорде стало называться университетом в начале XIII в. В Оксфорде список выпускников, ставших канцлерами университета, начался в 1224 г. с Роберта Гроссетеста, который позже стал епископом Линкольна и положил начало в средневековом Оксфорде интересу к натурфилософии. Гроссетест читал Аристотеля по-гречески и занимался оптикой и созданием календарей, а также писал об Аристотеле. На него часто ссылались ученые – его преемники в Оксфорде.
В книге «Роберт Гроссетест и происхождение экспериментальной науки»{161} А. Кромби пошел дальше, отдав Гроссетесту ведущую роль в развитии экспериментальных методов, которые привели к возникновению современной науки. Это выглядит как преувеличение важности роли Гроссетеста. Как становится ясно из работы Кромби, для Гроссетеста эксперимент был только пассивным наблюдением природы, что не слишком отличается от метода Аристотеля. Ни Гроссетест, ни его средневековые последователи не пытались изучать основные закономерности с помощью эксперимента, который в современном понимании заключается в активном воздействии на природное явление. У Кромби теории Гроссетеста вызывают восхищение{162}, однако в работах последнего не было ничего, что могло бы сравниться с успешно применимыми для расчетов теориями света Герона, Птолемея и аль-Хайсама или с теориями планетного движения Гиппарха, Птолемея и аль-Бируни.
Гроссетест оказал огромное влияние на Роджера Бэкона, чья умственная энергия и научная невинность делали его настоящим выразителем духа того времени. Получив образование в Оксфорде, Бэкон читал лекции об Аристотеле в Париже в 1240-х гг., часто бывал в Оксфорде и стал францисканцем примерно в 1257 г. Как и Платон, он восхищался математикой, но не мог извлечь из нее особой пользы. Бэкон писал много работ по оптике и географии, но не сделал никаких важных дополнений к работам греков или арабов. В необычной для своего времени манере Бэкон также оптимистично смотрел на перспективы техники:
«Также могут быть созданы повозки, которые двигались бы без тягловых животных с невообразимой стремительностью, каковы, как мы представляем, были вооруженные серпами боевые колесницы, на которых сражались древние. Также могут быть созданы инструменты для полета: чтобы в середине инструмента сидел человек, вращая некое изобретение, с помощью которого [двигались бы], ударяя по воздуху, искусственно созданные крылья, на манер летящей птицы»{163}.
Не случайно Бэкон стал известен как «удивительный доктор».
В 1264 г. первый колледж Оксфорда был основан Уолтером де Мертоном, некоторое время бывшим канцлером Англии и позже ставшим епископом Рочестера. Именно в Мертон-колледже в XIV в. начались серьезные математические работы. Ключевыми фигурами в них были четверо выпускников колледжа: Томас Брадвардин (1295–1349), Уильям Хейтсбери (ок. 1335 г.), Ричард Суайнсхед (1340–1355 гг.) и Джон Дамблтон (1338–1348 гг.)[13]. Их самое значительное достижение – Мертонская теорема о среднем градусе скорости, которая впервые в истории дала описание неравномерного движения, то есть движения, при котором меняется скорость.
Самое раннее сохранившееся доказательство этой теоремы принадлежит Уильяму Хейтсбери (канцлеру Оксфордского университета в 1371 г.), описанное в труде «Правила для разрешения софизмов» (Regulae solvendi sophismata). Он определяет скорость в любой момент неравномерного движения как отношение пройденного расстояния ко времени, затраченному на преодоление этого расстояния, при равномерном движении с этой скоростью. Так, как это определение сформулировано, оно содержит тавтологию (логическое зацикливание) и практически бесполезно. Более современное определение, возможно, отражающее то, что Хейтсбери имел в виду, гласит, что скорость в любой момент неравномерного движения равна отношению пройденного расстояния ко времени, затраченному на преодоление этого расстояния, считая, что промежуток времени (и соответственно пройденный за это время путь) настолько мал, что изменением скорости можно было пренебречь. Далее Хейтсбери определил равномерно ускоренное движение как неравномерное движение, при котором за любую равную часть времени оно приобретает равное приращение скорости. Затем он приступил к доказательству теоремы:
«…когда любое движущееся тело равномерно ускоряется от не-градуса до некоторого градуса [скорости], то в первую половину времени будет пройдена точно треть того, что будет пройдено во вторую половину. И, если, напротив, равномерно производится ослабление того же градуса или от какого-либо другого до не-градуса, то в первую половину времени будет пройдено точно в три раза большее расстояние, чем то, что будет пройдено во вторую половину времени. Такое движение в целом соответствует среднему градусу этого приращения скорости, которая равна точно половине этого градуса скорости, которая является конечной скоростью»{164}.
Это означает, что расстояние, пройденное за интервал времени, в который тело равномерно ускоряется, – это расстояние, которое оно прошло бы при равномерном движении в этот интервал времени, если бы его скорость была равна среднему арифметическому от реальной скорости. Если что-то равномерно ускоряется от состояния покоя до какой-то конечной скорости, тогда его средняя скорость в этот интервал времени равна половине конечной скорости, таким образом, пройденное расстояние составляет половину конечной скорости, умноженной на затраченное время.
Различные доказательства этой теоремы были предложены Хейтсбери, Джоном Дамблтоном и, наконец, Николаем Оремом. Доказательство Орема более интересно, поскольку он впервые использовал способ представления алгебраических соотношений в графическом виде. Таким образом, он смог свести задачу вычисления расстояния, пройденного телом при равноускоренном движении от нуля до некой конечной скорости, к задаче вычисления площади прямоугольного треугольника, катеты которого соответствуют затраченному времени и конечной скорости (см. техническое замечание 17). Таким образом, теорема о среднем градусе скорости сводится к элементарной геометрической задаче о том, что площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения длин его катетов.
Ни профессора Мертон-колледжа, ни Николай Орем, кажется, не попытались приложить теорему о среднем градусе скорости к самому важному случаю, к которому она имеет отношение, – к движению свободно падающих тел. Для них теорема была просто упражнением для ума, доказывающая, что они способны с помощью математики справиться с неравномерным движением. Если теорема о среднем градусе скорости и демонстрирует возросшие возможности математики, то она же и показывает, какими непростыми все еще оставались взаимоотношения между математикой и естественными науками.
Несмотря на то, что вполне очевидно (как продемонстрировал еще Стратон), что падающие тела ускоряются, совершенно неочевидно, что скорость падающих тел возрастает пропорционально времени, что характерно для равноускоренного движения, а не к пройденному падающим телом расстоянию. Если бы темп изменения расстояния при падении (иначе говоря, скорость) был пропорционален расстоянию, то расстояние после начала падения росло бы по экспоненте со временем{165}, точно так же как банковский счет, проценты на котором растут пропорционально количеству денег по экспоненте со временем (хотя, если процент низок, понадобится много времени, чтобы это увидеть). Первым человеком, который предположил, что возрастание скорости падающих тел пропорционально времени падения, вероятно, был доминиканец Доминго де Сото{166}, живший спустя два столетия после Орема, в XVI в.
С середины XIV в. до середины XV в. Европа была охвачена бедствием. Столетняя война между Англией и Францией иссушила Англию и опустошила Францию. Церковь переживала раскол: один папа правил в Риме, другой – в Авиньоне. Черная смерть – чума – выкосила большую часть населения.
Возможно, именно из-за Столетней войны центры научной мысли в этот период переместились к востоку, из Франции и Англии – в Германию и Италию. В этих двух странах жил и работал ученый Николай Кузанский. Он родился в 1401 г. в местечке Куза на реке Мозель в Германии, а умер примерно в 1464 г. в умбрийской провинции в Италии. Николай учился в Гейдельберге и в Падуе, стал юристом по каноническому праву, дипломатом, а в 1448 г. – кардиналом. По его работам видно, что средневековая проблема отделения естественных наук от теологии и философии по-прежнему оставалась актуальной. Николай туманно писал о движущейся Земле и бесконечном мире, но не использовал математику. Хотя позднее на него ссылались Кеплер и Декарт, трудно понять, как они смогли узнать что-то новое из его трудов.
В позднем Средневековье сохраняется появившееся у арабов разделение на астрономов-математиков, которые пользовались системой Птолемея, и врачей-философов, последователей Аристотеля. Среди астрономов XV в., в основном немецких, следует отметить Георга Пурбаха и его ученика Йоганна Мюллера фон Кенигсберга (также известного как Региомонтан), которые вместе продолжали работать над теорией эпициклов Птолемея{167} и внесли в нее дополнения. Позже Коперник почерпнул много полезных сведений из краткого изложения «Альмагеста», сделанного Региомонтаном. Среди врачей-философов были Алессандро Акиллини (1463–1512) из Болоньи и Джироламо Фракасторо (1478–1553) из Вероны. Оба получили образование в Падуе в то время, когда там царило засилье аристотелевских идей.
Фракасторо своеобразно объяснял причины конфликта:
«Вы хорошо знаете, что те, чьей профессией является астрономия, всегда испытывали трудности в связи с описанием движения планет. Из-за этого существует два способа их расчета: первый, с использованием всех этих сфер, называется концентрическим, другой – с помощью так называемых эксцентрических сфер [эпициклов]. У каждого из этих методов есть свои опасности и камни преткновения. Те, кто использует гомоцентрические сферы, никогда не способны дать объяснение явлений. Те, кто использует гомоцентрические сферы, могут более адекватно объяснить явление, это правда, но их концепция этих божественных тел ошибочна, можно сказать, что почти нечестивая, ибо они приписывают небесным телам такие формы и расположения, которые не подходят для Неба. Мы знаем, что среди древних с такими трудностями много раз сталкивались Евдокс и Калипп. Гиппарх был среди первых, кто предпочел принять эксцентрические сферы вместо того, чтобы искать лучшее объяснение явления. Птолемей последовал за ним, и вскоре почти все астрономы были побеждены Птолемеем. Но протесты продолжались. Что я имею в виду? Философию? Нет, природа и небесные тела сами неустанно протестуют. До сих пор так и не нашелся философ, который бы позволил этим ужасным сферам существовать среди божественных совершенных тел»{168}.
Справедливости ради следует отметить, что наблюдения не всегда соответствовали только теории Птолемея и не подтверждали Аристотеля. Одной из ошибок системы гомоцентрических сфер Аристотеля, которая, как мы уже говорили, была обнаружена примерно в 200 г. Сосигеном, было расположение всех планет на одинаковом расстоянии от Земли. Это противоречило тому факту, что яркость планет то возрастает, то уменьшается, когда они якобы совершают свой оборот вокруг Земли. Но теория Птолемея, кажется, зашла слишком далеко. Например, в соответствии с ней максимальное расстояние от Земли до Венеры в 6,5 раз больше минимального расстояния между ними. Следовательно, если Венера светит своим собственным светом, то, поскольку видимая яркость обратно пропорциональна квадрату расстояния, для Венеры она должна составить величину, в 6,5² = 42 раза превышающую ее минимальную яркость, чего, разумеется, на самом деле нет. На основании этого в Венском университете теорию Птолемея критиковал Генрих Гессенский (1325–1397). Решение проблемы заключается, конечно же, в том, что планеты не светят своим собственным светом, а отражают свет Солнца, поэтому их видимая яркость зависит не только от расстояния до Земли, но, как и яркость Луны, от их фазы. Когда Венера дальше всего от Земли, она находится по другую сторону от Солнца по отношению к Земле, поэтому ее диск полностью освещен. Когда же Венера ближе всего к Земле, она оказывается между Землей и Солнцем и мы видим ее темную сторону. Вследствие этого для Венеры эффекты фазы и расстояния частично взаимно компенсируются, уменьшая изменения ее яркости. Никто не понимал сути этого явления, пока Галилей не открыл фазы Венеры.
Вскоре противоречия между астрономией Птолемея и Аристотеля ушли в прошлое под натиском нового, более серьезного конфликта между теми, кто вслед за Птолемеем и Аристотелем считал, что небеса вращаются вокруг неподвижной Земли, и сторонниками вновь возродившейся идеи Аристарха о том, что Земля обращается вокруг неподвижного Солнца.
Часть IV Научная революция
Ранее историки всегда принимали как должное то, что физики и астрономы были инициаторами революционных изменений в науке XVI и XVII вв., после которых физика и астрономия приняли практически современную форму, обеспечив парадигму для будущего развития остальных наук. Важность этой революции кажется самоочевидной. Тем не менее историк Герберт Баттерфилд{169} заявлял, что научная революция «затмила все события с тех пор, как началась эра христианства, и снизила значение Возрождения и Реформации всего лишь до эпизодов, каких-то внутренних смещений в средневековой христианской системе»{170}.
В этой распространенной точке зрения есть нечто, что всегда привлекало скептическое внимание позднейшего поколения историков. В последние несколько десятилетий некоторые из них выражали сомнения относительно важности и даже самого факта существования научной революции{171}. Например, Стивен Шейпин начал свою книгу с известной фразы: «Такого явления, как научная революция, не существовало, и моя книга рассказывает об этом»{172}.
Критика научной революции имеет два противоположных течения. С одной стороны, некоторые историки утверждают, что открытия XVI и XVII вв. были всего лишь естественным продолжением научного прогресса, который уже начался в Европе и/или исламском мире в Средние века. В частности, такой точки зрения придерживался Пьер Дюэм{173}. Другие историки указывают на пережитки донаучного мышления, которые продолжали существовать и после предполагаемой научной революции: например, Коперник и Кеплер местами пишут почти как Платон, Галилей составлял гороскопы, даже когда за них никто не платил, а Ньютон считал Солнечную систему и Библию двумя ключами к пониманию Бога.
И в том и в другом мнении есть доля истины. Тем не менее я убежден, что научная революция была настоящим прорывом в интеллектуальной истории человечества. Я сужу об этом с точки зрения современного ученого. За исключением нескольких очень ярких греческих ученых, вся наука до XVI в. кажется мне совершенно непохожей на то, с чем я ежедневно сталкиваюсь в своей работе или с тем, что я вижу в работах своих коллег. До научной революции наука была насыщена религией и тем, что мы сейчас называем философией; кроме того, все еще не был выработан математический аппарат. После XVII в. в физике и астрономии я чувствую себя как дома. Я узнаю многие черты науки моего времени: поиск объективных законов, выраженных математически, которые позволяют предсказывать широкий спектр явлений и подтверждены сравнением этих предсказаний с наблюдением и экспериментом. Научная революция все-таки была, и вся оставшаяся часть книги рассказывает о ней.
11. Решение вопроса о Солнечной системе
Независимо от того, была научная революция революцией или нет, но началась она с Коперника. Николай Коперник родился в 1473 г. в Польше в прусской семье, предыдущее поколение которой эмигрировало из Силезии. В возрасте десяти лет Николай потерял отца, но, к счастью, его поддерживал дядя, который разбогател, служа в церкви, и несколько лет спустя стал епископом Вармии (Эрмланд) в северо-восточной Польше. Закончив университет в Кракове, где он, возможно, прослушал курс астрономии, Коперник в 1496 г. стал студентом канонического права в университете Болоньи и начал вести астрономические наблюдения как помощник астронома Доменико Мария Наваро, который был учеником Региомонтана. В Болонье Коперник узнал, что при участии своего дяди он был утвержден в качестве одного из шестнадцати каноников кафедрального епископства во Фромборке в Вармии. С этого поста он до конца жизни получал хороший доход, исполняя весьма необременительные церковные обязанности. Коперник так и не стал священником. Изучив азы медицины в университете Падуи, в 1503 г. Коперник получил степень доктора юриспруденции в университете Феррары и вскоре вернулся в Польшу. В 1510 г. он поселился во Фромборке, построил небольшую обсерваторию и прожил в городе до самой своей смерти в 1543 г.
После своего возвращения во Фромборк Коперник анонимно написал небольшую работу, позже получившую наименование «Малый комментарий о гипотезах, относящихся к небесным движениям» (De hypothesibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus), которую часто называют «Комментарий» или «Малый комментарий»{174}. «Комментарий» был опубликован только после смерти автора и не оказал особого влияния на развитие науки, в отличие от его дальнейших сочинений, но дает хорошее представление об идеях, которые в будущем оказывали влияние на работу Коперника.
В «Комментарии» после краткого критического обзора более ранних теорий движения планет Коперник заявляет семь принципов своей новой теории. Далее я привожу цитаты с некоторыми комментариями:
1. «Не существует одного центра для всех небесных орбит или сфер»{175}. (Среди историков есть разногласие по поводу того, считал ли Коперник эти тела заключенными в материальные сферы, как полагал Аристотель.)
2. «Центр Земли не является центром мира, но только центром тяготения и центром лунной орбиты».
3. «Все сферы движутся вокруг Солнца, расположенного как бы в середине всего, так что около Солнца находится центр мира». (Но, как мы будем говорить далее, Коперник сделал центром орбит Земли и других планет не само Солнце, а точку рядом с Солнцем.)
4. «Отношение, которое расстояние между Солнцем и Землей имеет к высоте небесной тверди, меньше отношения радиуса Земли к ее расстоянию от Солнца, так что по сравнению с высотой тверди оно будет даже неощутимым». (Вероятно, Коперник сделал это допущение, чтобы объяснить, почему мы не наблюдаем годичный параллакс – видимое годовое движение звезд, вызванное обращением Земли вокруг Солнца. Но проблема параллакса в «Комментарии» нигде не упоминается.)
5. «Все движения, замечающиеся у небесной тверди, принадлежат не ей самой, но Земле. Именно Земля с ближайшими к ней стихиями вся вращается в суточном движении вокруг неизменных своих полюсов, причем твердь и самое высшее небо остаются все время неподвижными».
6. «Все замечаемые нами у Солнца движения не свойственны ему, но принадлежат Земле и нашей сфере, вместе с которой мы вращаемся вокруг Солнца, как и всякая другая планета; таким образом, Земля имеет несколько движений».
7. «Кажущиеся прямые и попятные движения планет принадлежат не им, но Земле. Таким образом, одно это ее движение достаточно для объяснения большого числа видимых в небе неравномерностей».
В «Комментарии» Коперник не мог заявить, что его схема лучше соответствует наблюдениям, чем система Птолемея. Во-первых, это было не так. В самом деле, как это могло быть, когда по большей части Коперник строил свою теорию на информации, полученной из «Альмагеста» Птолемея, а не на своих собственных наблюдениях?{176} Вместо того чтобы заняться новыми наблюдениями, на которые он мог бы сослаться, Коперник выделил ряд эстетических преимуществ своей теории.
Одним из преимуществ было то, что движение Земли объясняло множество видимых перемещений Солнца, звезд и планет. Таким образом Коперник избавился от подгонки, предполагаемой в теории Птолемея, согласно которой центр эпициклов Меркурия и Венеры всегда должен был находиться на линии между Землей и Солнцем, а линии между Марсом, Юпитером и Сатурном и соответственно центры их эпициклов должны были всегда оставаться параллельными линии между Землей и Солнцем. Вследствие этого движение центра эпицикла каждой внутренней планеты вокруг Земли и, в свою очередь, обращение каждой внешней планеты по своему эпициклу должно было подгоняться так, чтобы завершаться точно за один год. Коперник увидел, что все эти неестественные требования просто отражают тот факт, что мы смотрим на Солнечную систему с площадки, обращающейся вокруг Солнца.
Другим эстетическим преимуществом теории Коперника должна была быть большая точность, касающаяся размеров орбит планет. Вспомним, что видимое движение планет в астрономии Птолемея зависело не от значений их эпициклов и деферентов, а только от соотношения радиусов эпицикла и деферента для каждой планеты. Если хочется, то можно взять деферент для Меркурия больше, чем деферент для Сатурна, главное – подобрать правильное значение эпицикла для Меркурия. Вслед за Птолемеем в «Планетных гипотезах» стало традиционным определять размеры орбит, опираясь на предположение, что максимальное расстояние от одной планеты до Земли равно минимальному расстоянию от Земли до следующей в порядке счета вовне планеты. Это закрепляло относительные размеры орбит для любого выбранного порядка планет, идущих от Земли, но выбор можно было делать весьма произвольно. В любом случае предположение, сделанное Птолемеем в «Планетных гипотезах», не было основано на наблюдениях и не подтверждалось ими.
Напротив, для того, чтобы согласовать схему Коперника с наблюдениями, радиус орбиты для каждой планеты должен был иметь определенное соотношение с радиусом орбиты Земли{177}.
Точнее говоря, из-за того, что Птолемей по-разному представил эпициклы для внутренних и внешних планет (не будем говорить о последующих усложнениях, связанных с эллиптической формой орбиты), отношение между радиусами эпициклов и деферентов должно равняться отношению между расстояниями от Солнца до Земли и до планеты для внутренних планет и тому же отношению, но обратному – для внешних планет (см. техническое замечание 13). Коперник представил результаты другим способом, в виде сложной «схемы триангуляции», которая создавала ложное впечатление, что он разработал новую модель для предсказаний движения небесных тел, которую подтверждали наблюдения. Однако Коперник действительно нашел правильные радиусы орбит планет. Он открыл, что по отношению к Солнцу планеты расположены в следующем порядке: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн. Это точно совпадает с периодами их обращения, которые Коперник оценил соответственно в три месяца, девять месяцев, год, два с половиной года, двенадцать лет и тридцать лет. Хотя еще не существовало теории, объясняющей скорость движения планет по их орбитам, должно быть, Коперник понял космическую закономерность: чем больше орбита планеты, тем медленнее она обращается вокруг Солнца{178}.
Схема Коперника является классическим примером того, как теория может быть выбрана по эстетическим критериям, без всякого экспериментального доказательства, которое могло бы дать ей преимущество перед другими теориями. В случае с теорией Коперника, изложенной в «Комментарии», достоинство ее было в том, что очень многие характерные особенности теории Птолемея объяснялись одним махом с помощью вращения Земли и ее обращения вокруг Солнца, а также теория Коперника по сравнению с теорией Птолемея правильно утверждала порядок планет и размер их орбит. Коперник признавал, что идея вращения Земли была предложена очень давно, еще пифагорейцами, но также (совершенно справедливо!) отметил, что они «необоснованно отстаивали» ее, не приводя никаких аргументов, которые он мог бы развить.
В теории Птолемея, кроме подгонки и неуверенности по поводу размеров и порядка расположения планет, было кое-что еще, что не нравилось Копернику. Согласившись с указаниями Платона о том, что планеты должны двигаться с постоянной скоростью по круговым орбитам, Коперник отказался от используемых Птолемеем понятий типа экванта, которые нужны были для объяснения реально существующих отклонений от кругового движения с постоянной скоростью. Как это уже делал аш-Шатир, Коперник увеличил количество эпициклов: шесть для Меркурия, три для Луны и по четыре для Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Здесь он не добился никаких улучшений по сравнению с «Альмагестом».
Эта работа Коперника является иллюстрацией того, что неоднократно повторялось в истории физики, когда простая и красивая теория, которая достаточно хорошо согласуется с наблюдением, оказывается ближе к истине, чем теория, которая лучше нее согласуется с наблюдением, но ужасно сложна. Самую простую версию идей Коперника в общем можно свести к тому, что все планеты, в том числе и Земля, обращаются по круговым орбитам с постоянной скоростью вокруг Солнца, которое находится точно в центре этих орбит, и нигде нет никаких эпициклов. Эта теория согласуется с простейшей версией астрономической теории Птолемея, в которой для каждой планеты существует только один эпицикл, у Солнца и Луны эпициклов нет, а также нет никаких эксцентров и эквантов. Эти теории не очень точно согласуются с наблюдением, поскольку планеты обращаются не по круговым орбитам, а по почти круглым эллиптическим, их скорость только приблизительно постоянная, а Солнце находится не в центре их орбит, а в точке, которая слегка смещена от центра и называется фокусом (см. техническое замечание 18). Коперник мог бы пойти еще дальше, введя по примеру Птолемея эксцентр и эквант для орбиты каждой планеты, включая Землю. Тогда отличие наблюдений от теоретических предсказаний стало бы столь мало, что не могло быть измерено астрономами того времени.
В развитии квантовой механики есть эпизод, который показывает, что не надо слишком заострять внимание на небольших расхождениях с наблюдениями. В 1925 г. Эрвин Шрёдингер разработал метод расчета энергий состояний простейшего атома – водорода. Его результаты хорошо согласовывались с общей картиной этих энергий, но в тонких деталях, где он стремился учесть расхождения между Специальной теорией относительности и классической механикой Ньютона, они не совпадали с точными результатами измерений. Шрёдингер некоторое время скрывал свои результаты, но потом мудро рассудил, что получить грубую схему уровней энергии – это уже значительное достижение, вполне достойное публикации, а точный учет релятивистских эффектов может подождать (его сделал несколько лет спустя Поль Дирак).
Вдобавок к многочисленным эпициклам Коперник добавил еще одно усложнение, очень похожее на эксцентр в астрономии Птолемея. Центром земной орбиты было взято не Солнце, а некая точка на относительно небольшом расстоянии от Солнца. Эти усложнения были нужны для того, чтобы попытаться объяснить разные явления, такие как неравенство в длительности времен года, открытое Евктемоном. Эти явления действительно связаны с тем, что Солнце находится в фокусе, а не в центре эллиптической орбиты Земли, и скорость движения Земли по орбите не является постоянной.
Другое усложнение Коперник ввел только из-за неверно понятого явления. Кажется, он считал, что обращение Земли вокруг Солнца дает поворот земной оси на 360° в год вокруг направления, перпендикулярного к плоскости орбиты Земли, – так же как палец на вытянутой руке танцора, выполняющего пируэт, каждый раз за один его оборот поворачивается на 360° вокруг вертикали (возможно, здесь на Коперника оказала влияние древняя идея о том, что планеты двигаются, прикрепленные к твердым прозрачным сферам). Конечно, направление земной оси в течение года ощутимо не меняется, поэтому Копернику пришлось придать Земле еще один, третий вид движения вдобавок к ее обращению вокруг Солнца и вращению вокруг своей оси. Оно должно было компенсировать эффект от мнимого разворота земной оси. Коперник предполагал, что эта взаимная компенсация не должна быть идеальной, так как земная ось поворачивается в течение очень многих лет, что дает медленную прецессию равноденствий, которая была открыта Гиппархом. После появления работ Ньютона стало ясно, что на самом деле обращение Земли вокруг Солнца не оказывает никакого влияния на направление земной оси, если не считать слабых эффектов, связанных с действием силы тяготения Солнца и Луны на экваториальное расширение Земли. Таким образом, как доказал Кеплер, никакая предложенная Коперником взаимная компенсация этих движений не была нужна.
Но даже со всеми этими усложнениями теория Коперника все равно была несколько проще теории Птолемея, но кардинально не отличалась. Хотя сам ученый этого не понимал, теория Коперника была бы намного ближе к реальной картине, если бы он не озаботился эпициклами, а оставил в своей теории маленькие неточности, с которыми справились бы в будущем.
В «Комментарии» содержится не слишком много технических деталей. Их гораздо больше в главном труде Коперника «О вращении небесных сфер»{179}, который обычно называют «О вращении». Этот труд был закончен в 1543 г., когда ученый уже был при смерти. Книга начинается с посвящения Алессандру Фарнезе, папе римскому Павлу III. В нем Коперник напоминает о старом споре между теорией гомоцентрических сфер Аристотеля и теорией эксцентров и эпициклов Птолемея, указывая, что первая не опирается на наблюдения, а вторая «противоречит основным принципам равномерности движения». В поддержку своей дерзкой идеи о вращении Земли Коперник цитирует высказывание Плутарха:
«Другие считают Землю неподвижной, но пифагореец Филолай считал, что она обращается около центрального огня по косому кругу совершенно так же, как Солнце и Луна. Гераклид Понтийский и пифагореец Экфант тоже заставляют Землю двигаться, но не поступательно, а как бы привязанной вроде колеса, с запада на восток вокруг собственного ее центра».
В стандартном издании «О вращении» Коперник не упоминает Аристарха, но его имя появлялось в рукописи, а потом было вычеркнуто. Далее Коперник объясняет, что, поскольку другие ученые размышляли о движении Земли, то ему тоже необходимо позволить проверить эту идею. Затем он описывает свое заключение:
«Предположив существование тех движений, которые, как будет показано ниже в самом произведении, приписаны мною Земле, я, наконец, после многочисленных и продолжительных наблюдений обнаружил, что если с круговым движением Земли сравнить движения и остальных блуждающих светил и вычислить эти движения для периода обращения каждого светила, то получатся наблюдаемые у этих светил явления. Кроме того, последовательность и величины светил, все сферы и даже само небо окажутся так связанными, что ничего нельзя будет переставить ни в какой части, не произведя путаницы ни в каких частях и в самой Вселенной».
Как и в «Комментарии», Коперник ссылался на тот факт, что его теория лучше предсказывала явления, чем теория Птолемея; она определяла уникальный порядок планет и размеры их орбит, которые совпадали с наблюдением, тогда как теория Птолемея оставляла эти вопросы нерешенными. Конечно, у Коперника не было никаких способов, чтобы подтвердить правильность радиусов орбит, не приняв свою теорию за истину. Эту задачу решил Галилей, наблюдая за фазами планет.
Труд Коперника «О вращении» полон технических деталей. В нем автор развивает общие идеи, заявленные в «Комментарии». Особого упоминания достоин тот факт, что Коперник в Книге 1 априорно постулирует положение о том, что любое движение планет должно являться комбинацией круговых движений. Так, Книга 1 начинается словами:
«Прежде всего, мы должны заметить, что мир является шарообразным или потому, что эта форма совершеннейшая из всех и не нуждается ни в каких скрепах и вся представляет цельность [здесь Коперник очень напоминает Платона], или потому, что эта форма среди всех других обладает наибольшей вместимостью, что более всего приличествует тому, что должно охватить и сохранить все [так и есть – максимальный объем имеют шарообразные тела]; или же потому, что такую форму, как мы замечаем, имеют и самостоятельные части мира, именно Солнце, Луна и звезды [как он мог судить о форме звезд?]; или потому, что такой формой стремятся ограничить себя все предметы, как можно видеть у водяных капель и других жидких тел, когда они хотят быть ограниченными своей свободной поверхностью [это эффект поверхностного натяжения, который не имеет никакого отношения к форме планет]. Поэтому никто и не усомнится, что такая форма придана и божественным телам».
Коперник продолжает объяснения в главе 4, где пишет, что вследствие вышеизложенного движение небесных тел является «равномерным, вечным и круговым или составленным из нескольких круговых».
Далее в Книге 1 Коперник указывает на одну из самых красивых сторон гелиоцентрической системы, которая показывает, почему Меркурий и Венера никогда не видны на небе далеко от Солнца. Например, тот факт, что Венеру никогда не видно далее чем примерно в 45° от Солнца, объясняется тем, что размер орбиты Венеры составляет около 70 % орбиты Земли (см. техническое замечание 19). Как мы уже видели в главе 11, в теории Птолемея для объяснения этого факта требовалось подогнать движение Меркурия и Венеры так, чтобы центры эпициклов всегда находились на линии между Землей и Солнцем. Система Коперника делает ненужной и птолемеевскую подгонку движения внешних планет, которая требовала, чтобы линия между планетой и центром ее эпицикла была параллельна линии между Землей и Солнцем.
Система Коперника была встречена протестами со стороны религиозных деятелей, которые начали возмущаться еще до публикации трактата «О вращении». Этот конфликт отражен в знаменитой дискуссии XIX в. «Борьба религии с наукой»{180}, написанной первым президентом Корнелльского университета Эндрю Диксоном Уайтом, который приписывает ряд недостоверных высказываний Лютеру, Меланхтону, Кальвину и Уэсли. Но такой конфликт существовал на самом деле. Сохранилась запись бесед Мартина Лютера с его учениками в Виттенберге, которая называется «Застольные беседы»{181} (Tischreden). Запись от 4 июня 1539 г. гласит:
«Упоминался один новый астролог, который хотел доказать, что вращается Земля, а не небеса, Солнце и Земля… [Лютер отмечает] «Что поделаешь. Тот, кто хочет быть умным, не должен соглашаться ни с чем, что ценят другие. Он должен добиваться всего сам. Так делает дурак, который желает перевернуть всю астрономию с ног на голову. Даже если все старые убеждения будут смяты и отброшены, я буду верить в Священное Писание. Ибо Иисус [Навин] остановил Солнце, а не Землю»{182}.
Через несколько лет после публикации трактата «О вращении» коллега Лютера Филипп Меланхтон (1497–1560) присоединился к нападкам на Коперника, теперь цитируя Екклезиаст 1:5: «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит».
Противоречия с тем, что говорилось в Библии, естественно, составляли серьезную проблему для протестантов, которые заменили авторитет папы Святым Писанием. Кроме того, новая теория являлась потенциальной проблемой для всех религий: ведь дом человечества, Земля, оказалась всего лишь еще одной планетой в ряду из пяти других.
Возникли даже сложности с публикацией «О вращении». Коперник послал свою рукопись издателю в Нюрнберг. Издатель пригласил в качестве редактора лютеранского священника Андреаса Озиандера, который увлекался астрономией. Возможно, пытаясь выразить свои собственные взгляды, Озиандер добавил предисловие, которое считали написанным Коперником до тех пор, пока век спустя подмена не была раскрыта Кеплером. В этом предисловии Озиандер «заставил» Коперника отказаться от намерения раскрыть истинную природу орбит планет{183}:
«Ибо это обязанность астронома – сопоставить историю [видимого] небесного движения через внимательное и грамотное изучение. Затем он должен постичь и продумать случаи этого движения или гипотезы по поводу их. Поскольку в любом случае он не может понять реальное положение дел, он будет принимать любые предположения, которые могут верно рассчитать движение тел, исходя из принципов геометрии как в прошлом, так и в будущем».
Предисловие Озиандера заканчивалось следующими словами:
«Поскольку рассматриваются только гипотезы, никто не ожидает, что что-то будет с полной определенностью сказано об астрономии, которая не обеспечивает такой определенности, во избежание того, чтобы не принять за истину идеи, измысленные с другой целью, и отделить от знания большую глупость, когда наткнется на нее».
Это напоминает рассуждения Гемина, жившего примерно в 70 г. до н. э. (я цитировал его в главе 8), но эти слова противоречат явному намерению Коперника – описать в «Комментарии» и в «О вращении» реальное состояние того, что теперь называется Солнечной системой.
Несмотря на мнение некоторых церковных лидеров по поводу гелиоцентрической теории, в общем протестантская церковь не совершала попыток запретить труды Коперника. До начала XVII в. не было возражений и у католиков. Знаменитая казнь Джордано Бруно в 1600 г. римской инквизицией произошла не из-за того, что он поддерживал Коперника, а из-за его еретических измышлений, в которых (по стандартам того времени) он был, разумеется, виновен. Но, как мы увидим далее, в XVII в. католическая церковь начала очень серьезное преследование идей Коперника.
Для будущего науки было очень важно принятие мыслей Коперника его коллегами-астрономами. Первым, кого Коперник сумел убедить, был его единственный ученик Георг Иоахим Ретик, который в 1540 г. опубликовал изложение теории Коперника, а в 1543 г. передал трактат «О вращении» в руки нюрнбергского издателя. Первоначально Ретик собирался написать предисловие к «О вращении», но когда он вынужден был уехать, чтобы получить место в Лейпциге, эта задача, к сожалению, досталась Озиандеру. Ранее Ретик помогал Меланхтону сделать Виттенбергский университет центром изучения математики и астрономии.
В 1551 г. теория Коперника завоевала престиж благодаря тому, что под покровительством Альбрехта, герцога Прусского, ее использовал Эразм Рейнгольд при составлении новых астрономических таблиц. Созданные им «Прусские таблицы» позволяли вычислять положение планет в зодиаке в любой произвольно взятый день. Таблицы эти были значительно улучшены по сравнению с существовавшими до того «Альфонсовыми таблицами», созданными в Кастилии в 1275 г. при дворе короля Альфонсо Х. На самом деле улучшения были связаны не с превосходством теории Коперника, а с тем, что за столетия (с 1275 по 1551 г.) было накоплено множество результатов наблюдений, а также, возможно, с тем, что простота гелиоцентрической системы делала расчеты проще. Конечно, приверженцы концепции о неподвижной Земле могли возразить, что основная идея трактата «О вращении» просто обеспечивает удобную схему для расчетов, а не отражает реальную картину мира. В самом деле, «Прусские таблицы» использовались астрономом и математиком, иезуитом Христофором Клавием при проведении реформы календаря в 1582 г. во время правления папы Григория XIII. Эта реформа дала нам современный григорианский календарь, но Клавий так и не отказался от своей веры в неподвижность Земли.
Один математик пытался примирить эту веру с теорией Коперника. В 1568 г. Каспар Пейцер, зять Меланхтона и профессор математики в Виттенбергском университете, в своем труде «Гипотезы о небесных сферах» (Hypotyposes orbium coelestium) писал, что с помощью математической трансформации возможно переписать теорию Коперника так, что Земля, а не Солнце, окажется неподвижной. Именно этого результата удалось позже достигнуть одному из учеников Пейцера – Тихо Браге.
Тихо Браге был лучшим астрономом-наблюдателем до изобретения телескопа и автором самой правдоподобной системы мира, альтернативной теории Коперника. Он родился в 1546 г. в провинции Сконе, которая находится в южной части Швеции, но в те времена принадлежала Дании. Тихо был сыном датского дворянина. Он учился в университете Копенгагена, где в 1560 г. на него произвело большое впечатление успешное предсказание частного солнечного затмения. Браге учился в нескольких университетах Германии и Швейцарии: в Лейпциге, Виттенберге, Ростоке, Базеле и Аугсбурге. За эти годы он изучил «Прусские таблицы», и его ошеломил тот факт, что эти таблицы успешно предсказали дату сближения Юпитера и Сатурна в 1563 г. с точностью до нескольких дней, тогда как старые «Альфонсовы таблицы» ошиблись на несколько месяцев.
Вернувшись в Данию, Браге некоторое время жил в доме своего дяди в Херреваде в Сконе. Там в 1572 г. он наблюдал в созвездии Кассиопеи явление, которое назвал «новой звездой». Теперь известно, что это был термоядерный взрыв ранее существовавшей звезды, сверхновой типа Ia. Остатки этого взрыва были обнаружены радиоастрономами в 1952 г. на расстоянии примерно в 9000 световых лет – слишком далеко, чтобы до взрыва можно было увидеть эту звезду невооруженным глазом. Тихо наблюдал «новую звезду» в течение нескольких месяцев, используя секстант своей собственной конструкции, и выяснил, что она не демонстрирует суточного параллакса – ежедневного смещения положения небесных тел относительно звезд, которое, как предполагали тогда ученые, связано с вращением Земли (или с ежедневным вращением сферы неподвижных звезд), – который наблюдался бы, если бы эта звезда находилась от Земли на том же расстоянии, что и Луна, или ближе (см. техническое замечание 20). Он пришел к выводу, что «эта новая звезда не располагается ни в верхних слоях воздуха прямо под лунной орбитой, ни в каком-либо другом месте вблизи Земли, а далеко за сферой Луны, на самом небе»{184}. Это полностью противоречило принципу Аристотеля, гласившему, что небеса над орбитой Луны не могут испытывать никаких изменений, и сделало Тихо знаменитым.
В 1576 г. датский король Фредерик II пожаловал Тихо маленький остров Вен, расположенный в проливе между Сконе и большим датским островом Зеландия, а также выделил средства на постройку и содержание дома и научной лаборатории. Тихо построил поместье Ураниборг, где была обсерватория, библиотека, химическая лаборатория и печатный станок. Помещения были украшены портретами великих астрономов прошлого – Гиппарха, Птолемея, аль-Баттани, Коперника – и покровителя науки Вильгельма IV, ландграфа Гессен-Касселя. На Вене Тихо подготовил своих ассистентов и немедленно начал наблюдения.
Уже в 1577 г. Тихо наблюдал комету, у которой тоже не обнаружил никакого суточного параллакса. Это явление шло вразрез не только с положением Аристотеля, утверждающим, что небеса над орбитой Луны не могут меняться. Теперь Тихо также пришел к заключению, что путь кометы пролегал прямо через предполагаемые гомоцентрические сферы Аристотеля или через сферы Птолемея. Конечно, это было невозможным, только если считать сферы твердыми материальными объектами. Именно это положение из учения Аристотеля, как мы видели в главе 8, перенесли в теорию Птолемея астрономы эллинистической эпохи Адраст и Теон. Идея о существовании твердых сфер получила новую жизнь в начале Нового времени{185}, незадолго до того, как Тихо доказал, что это невозможно. Кометы появляются чаще, чем сверхновые, поэтому в последующие годы у Тихо был шанс повторить свои наблюдения за другими кометами.
С 1583 г. Тихо работал над новой теорией планет, основанной на том, что Земля находится в состоянии покоя, Солнце и Луна обращаются вокруг нее, а пять известных в то время планет обращаются вокруг Солнца. Эта теория была опубликована в 1588 г. в восьмой главе книги Тихо о комете 1577 г. По этой теории не предполагалось, что Земля вращается или движется, поэтому вдобавок к своему медленному движению Солнце, Луна, планеты и звезды совершали один оборот в сутки вокруг Земли в направлении с востока на запад. Некоторые астрономы приняли вместо этой теории Тихо еще более компромиссную теорию, где планеты обращались вокруг Солнца, Солнце обращалось вокруг Земли, но Земля вращалась, а звезды оставались неподвижными. Первым, кто предложил такую систему, был Николас Реймерс Бэр, который обвинил Браге в том, что тот украл свою гео-гелиоцентрическую систему у него{186}.
Как уже несколько раз упоминалось выше, гео-гелиоцентрическая теория Тихо идентична одной из версий теории Птолемея (которую Птолемей никогда не рассматривал), где берутся такие деференты внутренних планет, которые совпадают с орбитой Солнца вокруг Земли, а эпициклы внешних планет имеют тот же радиус, что и орбита Солнца. Поскольку рассматриваются лишь относительные расстояния и скорости небесных тел, теория Тихо также эквивалентна теории Коперника, отличаясь только позицией наблюдателя: неподвижное Солнце – у Коперника и неподвижная Земля – у Тихо. Что касается наблюдений, теория Браге имеет одно преимущество – она автоматически предсказывает отсутствие годичного параллакса звезд, не нуждаясь в предположении о том, что звезды находятся от Земли гораздо дальше, чем Солнце, Луна и планеты (но мы-то, конечно, знаем, что так оно и есть). Она также делает ненужным ответ Орема на классическую проблему, которая сбивала с толку и Птолемея, и Буридана, о том, что тела, брошенные вверх, должны отставать от движения Земли из-за ее вращения, а этого не наблюдается.
Для будущего астрономии самым важным вкладом Браге стала не его теория, а невиданная ранее точность наблюдений. Когда в 1970-е годы я побывал на острове Вен, я не нашел никаких следов построек Тихо, но в земле все еще были массивные каменные основания, на которых Браге крепил свои инструменты (со времени моего визита на острове появился музей и были разбиты сады). С помощью этих инструментов Тихо мог определить положение объектов на небе с погрешностью всего лишь в 1/15°. Кроме того, на месте Ураниборга стоит огромная гранитная статуя, которую в 1936 г. изготовил Ивар Йонссон. Эта скульптура изображает Тихо в положении, приличествующем астроному, – с лицом, обращенным к небу.
Покровитель Тихо Фредерик II умер в 1588 г. Его сменил Кристиан IV, которого ныне живущие датчане считают одним из самых великих королей. Но, к сожалению, Кристиан был совершенно равнодушен к астрономии. Последние наблюдения на Вене Тихо провел в 1597 г., после чего отправился в путешествие, которое привело его в Гамбург, Дрезден, Виттенберг и, наконец, в Прагу. Там он стал придворным математиком Рудольфа II, императора Священной Римской империи, и начал работать над новыми астрономическими таблицами – «Рудольфовыми». После смерти Тихо в 1601 г. эта работа была продолжена Кеплером.
Иоганн Кеплер был первым, кто понял суть несоответствия наблюдаемого движения планет теоретическому движению по кругу с постоянной скоростью, что озадачивало астрономов со времен Платона. Еще пятилетним ребенком, в 1577 г., он был потрясен, увидев комету, ту самую, которую Тихо изучал в своей обсерватории на Вене. Кеплер поступил в университет в Тюбингене, который под руководством Меланхтона специализировался в теологии и математике. В Тюбингене Кеплер изучал оба эти предмета, но больше заинтересовался математикой. Он узнал о теории Коперника от профессора математики из Тюбингена Михаэля Местлина и поверил в ее правильность.
В 1594 г. Кеплер стал учителем математики в лютеранской школе в Граце, в южной Австрии. Именно здесь вышла в свет его первая книга «Тайна мироздания» (Mysterium Cosmographicum). Как мы уже видели, одним из достижений теории Коперника было то, что она позволила с помощью астрономических наблюдений определить уникальный порядок расположения планет и размеры их орбит. Как было принято в те времена, в своей первой работе Кеплер считал эти орбиты окружностями, описываемыми при движении планет, прикрепленных к прозрачным сферам, которые вращались, в соответствии с теорией Коперника, вокруг Солнца. Эти сферы не были строго двумерными, но представляли собой тонкие оболочки, внутренние и внешние радиусы которых он принимал равными минимальному и максимальному расстоянию от планеты до Солнца. Кеплер предположил, что радиусы этих сфер ограничиваются априорным условием – каждая сфера (кроме внешней сферы Сатурна) вплотную вписывается в один из пяти правильных многогранников, и каждая же сфера (кроме самой внутренней, принадлежащей Меркурию) вплотную описывается вокруг другого из того же ряда многогранников. В частности, если идти от Солнца, Кеплер вначале разместил сферу Меркурия, затем – октаэдр, сферу Венеры, икосаэдр, сферу Земли, додекаэдр, сферу Марса, тетраэдр, сферу Юпитера, куб и, наконец, сферу Сатурна. Все это было плотно подогнано друг к другу.
Эта схема задает относительные размеры орбит планет, не оставляя никакой свободы для подгонки результатов, кроме как свободы выбрать порядок пяти правильных многогранников, которые занимают пространство между планетами. Существует 30 различных способов разместить правильные многогранники в определенном порядке{187}, но ничего удивительного, что Кеплер выбрал тот способ, при котором предсказанные размеры орбит планет приблизительно соответствовали результатам, полученным Коперником.
На самом деле исходная схема Кеплера плохо работала для Меркурия, что заставило его подгонять ее под ответ, и лишь приблизительно подходила для остальных планет{188}. Но, как и на многих других ученых эпохи Возрождения, на Кеплера оказали большое влияние труды Платона, и, как и Платона, его заинтриговала теорема о том, что существует только пять видов правильных многогранников, оставляя, таким образом, место только для шести планет, включая Землю. Он с гордостью заявлял: «Теперь у нас есть причина, которая может объяснить количество планет!»
Сегодня никто не стал бы принимать схему, похожую на ту, которую предлагал Кеплер, всерьез, даже если бы она работала лучше. Это не потому, что нас не захватывают эмоции Платона, который был потрясен краткостью списков возможных в математике объектов, наподобие последовательности правильных многогранников. Есть и другие короткие списки, которые по-прежнему интригуют физиков. Например, известно, что существует всего четыре «вида» чисел, для которых возможны арифметические действия, в том числе деление: вещественные числа, комплексные числа (в том числе квадратный корень из –1) и более экзотические виды чисел – кватернионы и октонионы. Некоторые физики потратили много усилий, чтобы включить кватернионы и октонионы наряду с вещественными и комплексными числами в фундаментальные законы физики. Схему Кеплера делает такой чуждой для нас не то, что он пытается придать какой-то физический смысл правильным многогранникам, а то, что он пытается объяснить размеры орбит планет, которые являются исторически случайными величинами. Какими бы ни были фундаментальные законы природы, сейчас мы можем быть полностью уверены, что они не соотносятся с радиусами орбит планет.
Но это не было просто глупостью со стороны Кеплера. В его времена никто не знал (и Кеплер не верил), что звезды являются «солнцами» для других планетных систем, они представлялись просто огнями на сфере, расположенной где-то за сферой Сатурна. Солнечная система обычно считалась всей вселенной, существовавшей с начала времен. Поэтому было совершенно естественно полагать, что детальная структура Солнечной системы так же непреложна, как и все остальное в природе.
В современной теоретической физике мы вполне можем находиться в таком же положении. Обычно предполагается, что то, что мы называем расширяющейся Вселенной, все это огромное облако галактик, которое, как мы наблюдаем, разлетается во всех направлениях, и является всей Вселенной. Мы думаем, что физические константы, которые мы измерили, такие как, например, массы различных элементарных частиц, рано или поздно будут выведены из каких-то фундаментальных законов природы, которые пока нам не известны. Но вполне возможно, что то, что мы называем расширяющейся Вселенной, – это только маленькая часть огромного мультиверса, содержащего множество таких же расширяющихся вселенных, как та, которую мы наблюдаем, и что в разных частях этого мультиверса физические константы могут иметь разные значения. В таком случае эти константы являются параметрами среды, которые невозможно вывести из фундаментальных принципов, как и расстояние от планет до Солнца. Лучшее, на что мы можем надеяться, – это оценка исходя из антропного принципа. Среди миллиардов планет в нашей галактике только очень небольшое их число имеет подходящую температуру и химический состав для возникновения жизни, но очевидно, что когда жизнь все-таки возникнет и достигнет в своем развитии «стадии астрономов», то они обнаружат, что находятся на планете, принадлежащей именно к такому меньшинству. Поэтому нет ничего удивительного в том, что планета, на которой мы живем, находится не в два раза дальше от Солнца или ближе к нему. Точно так же кажется, что только очень небольшое число вселенных, составляющих мультиверса, будут иметь физические константы, которые позволяют жизни эволюционировать, но, конечно же, любой ученый обнаружит себя во вселенной, принадлежащей к этому меньшинству. Это предлагалось в качестве объяснения порядка величины темной энергии, о которой упоминалось в главе 8, до того, как темная энергия была открыта{189}. Конечно, в данном случае это явное абстрактное теоретизирование, но оно служит напоминанием о том, что, пытаясь понять законы природы, мы можем столкнуться с таким же точно разочарованием, с каким столкнулся Кеплер, пытаясь определить размеры Солнечной системы.
Некоторые известные физики отвергают идею мультиверса, потому что не могут принять мысль о том, что в природе существуют константы, которые, возможно, никогда не будут получены расчетным путем. Очень может быть, что вся идея мультиверса окажется неправильной, и поэтому, конечно, преждевременно отказываться от попыток рассчитать все физические константы, о которых мы знаем. Но контраргументом к идее мультиверса никак не может являться наше огорчение от того, что мы не можем выполнить эти расчеты. Какими бы в конце концов ни оказались законы природы, нет никаких причин полагать, что они созданы для того, чтобы сделать физиков счастливее.
В Граце Кеплер начал переписываться с Тихо Браге, который прочитал «Тайну мироздания». Тихо пригласил Кеплера приехать к нему в Ураниборг, но Кеплер решил, что это было бы слишком далекое путешествие. Позже, в феврале 1600 г., Кеплер принял предложение Браге и приехал к нему в Прагу, которая с 1583 г. стала столицей Священной Римской империи. Там Кеплер начал изучать собранную Тихо информацию, особенно касающуюся движения Марса, и нашел расхождение в 0,13° с расчетами, построенными на теории Птолемея{190}.
Кеплер и Браге не слишком хорошо ладили, и Кеплер вернулся в Грац. Как раз в это время протестанты были изгнаны из Граца, и в августе 1600 г. Кеплер и его семья были вынуждены уехать. Вернувшись в Прагу, Кеплер начал сотрудничать с Тихо в работе над «Рудольфовыми таблицами», новыми астрономическими таблицами, которые должны были заменить «Прусские таблицы» Рейнгольда. После смерти Браге в 1601 г. карьерные проблемы Кеплера были на какое-то время решены, поскольку он стал преемником Тихо на посту придворного математика императора Рудольфа II.
Император очень интересовался астрологией, поэтому в обязанности Кеплера как придворного математика входило составление гороскопов. Эта была работа, в которой он преуспел, еще будучи студентом в Тюбингене, несмотря на свое скептическое отношение к астрологическим предсказаниям. К счастью, у Кеплера оставалось время и для того, чтобы заниматься настоящей наукой. В 1604 г. он наблюдал сверхновую в созвездии Змееносца. Подобного явления в нашей Галактике или около нее после не случалось до 1987 г. В том же году он опубликовал труд «Оптическая часть астрономии» (Astronomiae Pars Optica), посвященный теории оптики и ее приложению к астрономии, включая влияние эффекта рефракции в атмосфере во время наблюдения за движением планет.
Кеплер продолжил работу над теорией движения планет, безуспешно раз за разом пытаясь примирить схему Коперника с точной информацией Браге, добавляя эксцентры, эпициклы и экванты. Он закончил эту работу к 1605 г., но ее публикация была задержана из-за трений с наследниками Тихо. В конце концов в 1609 г. Кеплер опубликовал свои результаты в книге «Новая астрономия, причинно обоснованная, или Небесная физика, основанная на комментариях к движениям звезды Марс».
Часть III «Новой астрономии» вносит существенное уточнение в теорию Коперника – там вводится эквант и эксцентр для Земли. Таким образом, появляется точка, находящаяся с противоположной стороны от центра Земли относительно ее орбиты. Относительно этой точки Земля обращается с постоянной угловой скоростью. Благодаря этому Кеплер избавился от большинства неточностей, которыми изобиловали теории планетного движения со времен Птолемея. Но информация, собранная Браге, была настолько точна, что Кеплер мог видеть: расхождения между теорией и наблюдением по-прежнему остаются.
В какой-то момент Кеплер начал подозревать, что эта задача не имеет решения и что ему следует отказаться от общего для Платона, Аристотеля, Птолемея, Коперника и Браге предположения о том, что планеты движутся по круговым орбитам. Вместо этого он пришел к выводу, что орбиты имеют овальную форму. В конце концов в главе 58 (всего их было 70) «Новой астрономии» Кеплер вывел точное решение. В положении, которое позже стало известно как Первый закон Кеплера, он заключает, что планеты (в том числе и Земля) обращаются по эллиптическим орбитам, при этом Солнце находится в одном из фокусов, а не в центре. Так же как круг может быть полностью определен одной величиной (если не говорить о его положении) – своим радиусом, так и эллипс может быть определен (если не говорить о его положении и ориентации) двумя величинами – длиной малой и большой осей или длиной большой оси и числом, которое называется эксцентриситет, указывающим, насколько различаются большая и малая оси (см. техническое замечание 18). Два фокуса эллипса – это точки на большой оси, равноудаленные от центра и отстоящие друг от друга на расстояние, равное эксцентриситету эллипса, умноженному на длину большой оси. При нулевом эксцентриситете обе оси имеют равную длину, два фокуса сходятся в одной точке и эллипс превращается в окружность.
В действительности орбиты всех планет, известных Кеплеру, имели маленький эксцентриситет, как показано в следующей таблице, где приведены современные (к началу XX в.) значения:
Именно поэтому простейшие версии теорий Коперника и Птолемея (без эпициклов в теории Коперника и только с одним эпициклом для каждой из пяти планет в теории Птолемея) работали достаточно хорошо{191}.
Замена круговых орбит эллипсами повлекла серьезные последствия еще по одной причине. Окружности порождаются движением точек на поверхности сферы, но не существует ни одного твердого тела, в результате вращения которого может получиться эллипс. Это вместе с выводами Браге по поводу кометы 1577 г. привело к краху древней идеи о том, что планеты крепятся к вращающимся сферам, идеи, которую сам Кеплер еще допускал в своей «Тайне мироздания». Вместо этого теперь Кеплер и его последователи считали, что планеты двигаются по орбитам, свободно пролегающим в пустоте космоса.
Вычисления, описанные в «Новой астрономии», также использовались для доказательства положения, которое стало позже известно как Второй закон Кеплера, хотя он не был четко сформулирован до выхода в 1621 г. его «Краткого изложения коперниканской астрономии». Второй закон Кеплера объясняет, как скорость планеты меняется по мере ее движения по орбите. Он гласит, что при движении каждой планеты за равные промежутки времени радиус-вектор, то есть линия, соединяющая Солнце и планету, покрывает равные площади. Когда планета находится близко к Солнцу, она должна двигаться быстрее, чтобы покрыть ту же площадь, за равный промежуток времени, оказавшись далеко от Солнца. Таким образом, следствием из Второго закона Кеплера является то, что планеты ускоряются, приближаясь к Солнцу. Если не считать мелких поправок, пропорциональных квадрату эксцентриситета, то Второй закон Кеплера означает, что радиус-вектор от планеты до другого фокуса ее орбиты (того, в котором нет Солнца) вращается с постоянной угловой скоростью – то есть она поворачивается на один и тот же угол каждую секунду (см. техническое замечание 21). Таким образом, с хорошей точностью закон Кеплера дает те же планетные скорости, что и древняя идея экванта – точки, расположенной на противоположной стороне от центра окружности относительно Солнца (или, по Птолемею, относительно Земли) и находящейся на том же расстоянии от центра, вокруг которой линия, ведущая к планете, вращается с постоянной угловой скоростью. Следовательно, эквант оказывается ничем иным как пустым фокусом эллипса. Только великолепная коллекция наблюдений Браге за положением Марса позволила Кеплеру прийти к выводу, что эксцентра и экванта недостаточно и что круговые орбиты должны быть заменены эллиптическими{192}.
У Второго закона было также весьма глубокое следствие, по крайней мере для Кеплера. В «Тайне мироздания» Кеплер считал, что планеты движутся из-за «ведущего духа». Но теперь, когда стало понятно, что скорость планеты уменьшается, когда она отдаляется от Солнца, Кеплер пришел к выводу, что планеты приводятся в движение какого-то рода силой, исходящей от Солнца:
«Если заменить слово “дух” (anima) на слово “сила” (vis), то мы получим тот самый принцип, на котором основана небесная физика в “Комментарии к движениям звезды Марс” (Новой астрономии). Некогда я был полностью уверен, что причиной, вызывающей движение планет, является дух – этой мыслью пропитано учение Ж. С. Скалигера{193} о движущих стремлениях. Но поняв, что эта движущая причина ослабевает, когда расстояние до Солнца возрастает, точно так же, как тускнеет солнечный свет, я пришел к выводу, что эта сила должна быть вещественной»{194}.
Конечно, планеты двигаются не из-за силы, исходящей от Солнца, а, скорее, потому, что нет ничего, что могло бы лишить их импульса, который они изначально имеют. Но они остаются на своих орбитах, а не улетают в межзвездное пространство благодаря силе, исходящей от Солнца, – силе тяготения, поэтому Кеплер был не так уж не прав. Идея о силе, действующей на расстоянии, была популярна в то время, частично из-за работы по магнетизму Уильяма Гилберта, президента Королевского медицинского колледжа и придворного врача Елизаветы I, на которого Кеплер ссылался. Если Кеплер под «душой» имел в виду одно из обычных значений этого слова, то переход от «физики», основанной на душах, к физике, основанной на действии, был решающим шагом, покончившим с древним засильем религии в естественных науках.
«Новая астрономия» была написана не для того, чтобы избежать разногласий. Использовав в полном заглавии слово «физика», Кеплер бросал вызов старой идее, популярной среди сторонников Аристотеля, о том, что астрономия должна служить только для математического описания явлений, а для настоящего понимания их сути нужно обратиться к физике, а именно к физике Аристотеля. Кеплер поставил на кон утверждение о том, что именно астрономы, как и он сам, занимаются настоящей физикой. На самом деле большая часть рассуждений Кеплера была порождена ошибочной физической идеей о том, что Солнце двигает планеты по их орбитам с помощью некой силы, напоминающей магнетизм.
Кеплер также бросал вызов всем оппонентам учения Коперника. В предисловии к «Новой астрономии» есть следующие слова:
«Совет для идиотов. Но любому, кто слишком глуп, чтобы понять астрономическую науку, или слишком слаб, чтобы поверить Копернику и не оскорбить своей веры, я бы посоветовал прекратить астрономические изыскания и заняться любыми философскими трудами, которые удовлетворят его. Таким образом он займется своим собственным делом и будет сидеть дома и копаться в своем собственном огороде…»{195}
В двух первых законах Кеплера ничего не говорилось о сравнении орбит различных планет. Этот пробел был заполнен в 1619 г. в «Гармонии мира» (Harmonices mundi) положением{196}, которое стало в будущем известно как Третий закон Кеплера: «Квадраты периодов обращения любых двух планет относятся между собой как кубы их средних расстояний от Солнца»{197}. Это означает, что квадрат сидерического периода каждой планеты (время, которое ей требуется, чтобы совершить полный оборот по своей орбите) пропорционален кубу длинной оси эллипса. Так, если Т – это сидерический период в годах, а a – половина длины большой оси эллипса в астрономических единицах (а. е.), причем за одну а. е. принимается половина длины большой оси земной орбиты, тогда Третий закон Кеплера гласит, что соотношение T²/a³ будет одинаково для всех планет. Поскольку для Земли Т по определению равен одному году, а a – одной астрономической единице, то T²/a³ =1, соответственно, по Третьему закону Кеплера, для всех планет T²/a³ =1. Точные современные значения подтверждают это правило, что видно в таблице, приведенной ниже:
Отклонения от точного равенства соотношения T²/a³ для различных планет вызваны незначительным эффектом, который оказывают друг на друга гравитационные поля самих планет.
Так и не избавившись полностью от восхищения Платоном, Кеплер попытался придать смысл этим размерам орбит, вернувшись к использованию правильных многогранников в «Тайне мироздания». Он также развлекался с пифагорейской идеей о том, что различные планетные периоды формируют что-то вроде музыкальной шкалы. Как и другие ученые своего времени, Кеплер только частично принадлежал к новому миру науки, который лишь зарождался, а частично – к старинной философской и поэтической традиции.
«Рудольфовы таблицы» были закончены только в 1627 г. Основанные на первых двух законах Кеплера, они демонстрировали гораздо более высокую точность по сравнению с предшествующими «Прусскими таблицами». Новые таблицы предсказывали прохождение Меркурия по диску Солнца в 1631 г., которое Кеплеру увидеть не довелось. После того как его как протестанта заставили покинуть католическую Австрию, Кеплер умер в Регенсбурге в 1630 г.
Работы Коперника и Кеплера создали доказательную базу для гелиоцентрической теории, основанной на математической простоте и непротиворечивости, а не только на лучшей согласованности с наблюдением. Как мы уже видели, простейшие версии теорий Коперника и Птолемея дают те же самые предсказания видимого движения Солнца и планет и достаточно хорошо согласуются с наблюдением, и уточнения, внесенные Кеплером в теорию Коперника, могли бы подойти и теории Птолемея, если бы он использовал эквант и эксцентр как для планет, так и для Солнца, и добавил еще несколько эпициклов. Первое решающее подтверждение гелиоцентрической теории наблюдением было сделано Галилео Галилеем.
Галилей был одним из величайших ученых в истории, и достоин стоять в одном ряду с Ньютоном, Дарвином и Эйнштейном. Он произвел революцию в наблюдательной астрономии, создав и использовав телескоп. Его работы по изучению движения создали исследовательскую парадигму для современной экспериментальной физики. Более того (в какой-то степени это уникальный случай), его научная деятельность сопровождалась высокой драмой, о которой здесь мы можем рассказать только очень кратко.
Галилей происходил из благородной, хотя и небогатой тосканской семьи. Он родился в Пизе в 1564 г. в семье теоретика музыки Винченцо Галилея. Поучившись некоторое время в школе при одном тосканском монастыре, он поступил в университет Пизы, чтобы изучать медицину. В этот период жизни он считал себя последователем Аристотеля, что неудивительно для студента-медика. Постепенно интересы Галилея переключились с медицины на математику, и некоторое время он даже давал уроки математики во Флоренции, столице Тосканы. В 1589 г. Галилея пригласили вернуться в Пизу, чтобы занять должность профессора математики.
В университете Пизы Галилей начал свою работу по изучению падающих тел. Часть этой работы описана в трактате «О движении» (De Motu), который он так и не опубликовал. В отличие от Аристотеля Галилей пришел к выводу, что скорость тяжелого падающего тела незначительно зависит от его веса. Очень интересна история о том, как он проводил эксперименты, бросая предметы разного веса с Пизанской башни, но трудно сказать, правдива ли она. Находясь в Пизе, Галилей не публиковал своих работ по падению тел.
В 1591 г. Галилей уехал в Падую, чтобы стать профессором математики в местном университете, который позже под именем Университет Венецианской республики стал одним из выдающихся университетов в Европе. С 1597 г. Галилей дополнял свое университетское жалованье доходом от продажи изготовляемых им математических приборов, которые использовались для производственных и военных целей.
В 1597 г. Галилей получил два экземпляра «Тайны мироздания» Кеплера. Галилео написал Кеплеру, признав в письме, что, как и Кеплер, является сторонником учения Коперника, хотя ранее не высказывал своих взглядов публично. «Вступись, о, Галилео!{198}» – воскликнул Кеплер в ответном письме, имея в виду, что Галилей должен встать на сторону Коперника.
Вскоре Галилей начал конфликтовать с аристотелианцами, которые господствовали среди преподавателей философии в Падуе, впрочем, как и во всей Италии. В 1604 г. он читал лекции о «новой звезде», которую в том же году наблюдал Кеплер. Как Браге и Кеплер, Галилей пришел к выводу, что в небесах, над орбитой Луны, действительно происходят изменения. За это он подвергался нападкам человека, которого считал своим другом, – Чезаре Кремонини, профессора философии в Падуе. На эти нападки Галилей ответил, написав на грубом падуанском диалекте диалог между двумя крестьянами. Крестьянин Кремонини утверждал, что обычные правила измерения неприменимы к небесам, а крестьянин Галилей отвечал, что философы ничего не знают об измерениях; и лучше довериться математикам, идет ли речь об измерениях небес или поленты[14].
Революция в астрономии началась в 1609 г., когда Галилей впервые услышал о новом голландском приборе, который назывался «зрительная труба». То, что стекло приобретает способность увеличивать предметы, если стеклянную сферу наполнить водой, было известно еще в античности и упоминалось, к примеру, в трудах римского государственного деятеля и философа Сенеки. Увеличение изучал аль-Хайсам, а в 1267 г. Роджер Бэкон писал об увеличительных стеклах в «Большом сочинении». После усовершенствования производства стекла в XIV в. получили распространение очки для чтения. Но для того, чтобы увеличить изображение далеких объектов, нужна комбинация пары линз: одна – для того, чтобы сфокусировать параллельные лучи света от любой точки объекта так, чтобы они сходились в одной точке, и другая – чтобы собрать эти лучи света вместе. Это можно сделать с помощью либо вогнутой линзы, поместив ее перед точкой схождения лучей после первой линзы, либо с помощью выпуклой линзы, если поставить ее там, где лучи начинают снова расходиться; в любом случае вторая линза посылает лучи в глаз наблюдателя параллельным пучком (в расслабленном состоянии хрусталик глаза фокусирует параллельные лучи света на одной точке сетчатки, местоположение которой зависит от направления параллельных лучей). Зрительные трубы, линзы в которых были сконструированы подобным образом, производились в Нидерландах в начале XVII в., а в 1608 г. несколько голландских производителей обратились за патентами на свои зрительные трубы. Их заявки были отклонены на основании того, что это приспособление уже было широко распространено. Вскоре зрительные трубы появились во Франции и Италии, но они могли увеличивать только в три или четыре раза. Это означает, что если при наблюдении невооруженным глазом две отдаленные точки находятся друг от друга на угловом расстоянии, составляющем определенный небольшой угол, то через зрительную трубу этот угол будет казаться в три или четыре раза больше.
Примерно в 1609 г. Галилей узнал о зрительной трубе и вскоре сделал ее улучшенную версию, где первая линза была с выпуклой передней стороной, плоской тыльной и с большим фокусным расстоянием{199}. Другая линза была вогнутой стороной направлена на первую линзу, вторая сторона была плоской, а фокусное расстояние маленьким. С этими изменениями, чтобы параллельными лучами послать свет точечного источника, расположенного на очень большом расстоянии, в глаз наблюдателя, расстояние между линзами должно было браться как разница между их фокусными расстояниями, а увеличение составляло фокусное расстояние первой линзы, деленное на фокусное расстояние второй (см. техническое замечание 23). Вскоре Галилей смог добиться увеличения в восемь-девять раз. 23 августа 1609 г. он показывал свое изобретение дожу[15] и венецианской аристократии и продемонстрировал, что с помощью этого прибора корабли в море можно заметить на два часа раньше того, как они становятся видны невооруженным глазом. Ценность такого прибора для морской державы, какой была Венеция в то время, была неоспорима. После того как Галилей пожертвовал свой телескоп Венецианской республике, его жалованье было утроено, а постоянная работа в университете гарантирована. К ноябрю Галилей добился увеличения в 20 раз и начал использовать зрительную трубу для астрономических наблюдений.
С помощью своей зрительной трубы, которая позже получила название «телескоп», Галилей сделал шесть астрономических открытий исторической важности. Первые четыре он описал в «Звездном вестнике» (Siderius Nuncius), вышедшем в Венеции в марте 1610 г.:
1. 20 ноября 1609 г. Галилей впервые направил телескоп на полумесяц Луны. На яркой стороне он заметил, что ее поверхность неровная:
«С помощью часто повторяемых наблюдений [лунных пятен] мы пришли к заключению, что поверхность Луны никак не является гладкой и отполированной, как думало множество философов об этом и других небесных телах, но, напротив, неровной и шершавой, а также что на ней, как и на земной поверхности, существуют громадные возвышения, глубокие впадины и пропасти»{200}.
На темной стороне, около терминатора (границы дня и ночи) Галилей смог заметить пятнышки света, которые он интерпретировал как вершины гор, освещенные солнцем, когда оно уже готово было взойти над лунным горизонтом. По расстоянию этих ярких пятнышек от терминатора он смог оценить, что некоторые из этих гор достигают по меньшей мере 6 км в высоту (см. техническое замечание 24). Галилей также интерпретировал пепельное свечение затененной части Луны. Он отверг различные предположения Эразма Рейнгольда и Тихо Браге о том, что свет исходит от самой Луны, от Венеры или от звезд, и совершенно верно объяснил, что это «пепельное свечение» связано с освещением лунной поверхности солнечным светом, отраженным от Земли, а Земля ночью точно так же освещается тусклым светом, который является отражением солнечного света от Луны. Таким образом, небесное тело Луна, как оказалось, не так уж сильно отличается от Земли.
2. Зрительная труба позволила Галилею наблюдать «почти немыслимое количество» звезд, намного тусклее шестой звездной величины, то есть слишком тусклых для того, чтобы заметить их невооруженным глазом. Оказалось, что шесть видимых звезд Плеяд окружены более чем 40 другими звездами, а в созвездии Орион Галилей смог разглядеть более 500 звезд, которые никто не видел ранее. Направив телескоп на Млечный Путь, Галилей увидел, что он состоит из множества звезд, как и предполагал Альберт Великий.
3. Галилей сообщил, что в телескоп планеты «представляют свои шарики совершенно круглыми и точно очерченными, как маленькие Луны», но он не смог увидеть подобных изображений у звезд. Вместо этого он узнал, что, хотя звезды, рассматриваемые в телескоп, выглядят более яркими, они не кажутся значительно больше. Его объяснение этого явления было путаным. Галилей не знал, что кажущийся видимый размер звезд вызван преломлением в различных направлениях лучей света в атмосфере Земли, а не чем-либо, присущим самой звезде или ее окружению. Именно из-за этих атмосферных флюктуаций звезды выглядят мерцающими{201}. Галилей решил, что, поскольку невозможно получить изображения звезд с помощью телескопа, они находятся гораздо дальше, чем планеты. Как он отметил позднее, это помогло ему объяснить, почему мы не наблюдаем годичный звездный параллакс, если Земля обращается вокруг Солнца.
4. Самое впечатляющее и важное открытие, описанное в «Звездном вестнике», было сделано 7 января 1610 г. Наведя телескоп на Юпитер, Галилей увидел, что «Юпитеру сопутствуют три звездочки, хотя и небольшие, но очень яркие». Вначале он подумал, что это еще три неподвижные звезды, слишком тусклые, чтобы заметить их раньше, хотя и удивился тому, что они были расположены точно по прямой линии, параллельной эклиптике: две к востоку от Юпитера и одна – к западу. Но следующей ночью все три «звезды» оказались к западу от Юпитера, а 10 января были видны только две, обе на востоке. В конце концов 13 января Галилей увидел четыре такие «звезды», причем все они были расположены более или менее вдоль эклиптики. Он пришел к выводу, что у Юпитера имеется четыре спутника, наподобие земной Луны, которые, как и она, обращаются примерно в плоскости орбиты планеты, которая близка к плоскости эклиптики. Сейчас эти (самые большие) спутники Юпитера известны как Ганимед, Ио, Каллисто и Европа. Они были названы по именам возлюбленных Юпитера{202}.
Это открытие стало важным подтверждением теории Коперника. С одной стороны, система Юпитера и его спутников в миниатюре демонстрировала, как, по представлению Коперника, должны выглядеть Солнце и окружающие его планеты. Небесные тела обращались вокруг небесного тела, которое не являлось Землей. Кроме того, существование спутников у Юпитера полностью разрешило вопрос, который задавали противники теории Коперника: если Земля находится в движении, то как Луна не улетает от нее? Все соглашались с тем, что Юпитер двигается, но его спутники явно оставались при нем.
Хотя эти результаты были получены слишком поздно, чтобы включить их в «Звездный вестник», Галилей к концу 1611 г. измерил периоды обращения четырех открытых им спутников Юпитера и в 1612 г. опубликовал их на первой странице труда, посвященного другим вопросам{203}. Сравнение результатов, полученных Галилеем, с современными значениями (в днях, часах и минутах) приводятся в таблице ниже.
Такая точность измерений была достигнута Галилеем путем тщательных наблюдений и точного хронометража{204}.
Галилей посвятил свой «Звездный вестник» Козимо II Медичи, бывшему своему ученику, ставшему впоследствии Великим герцогом Тосканы, и назвал четыре спутники Юпитера «Медицейскими звездами». Это был хорошо рассчитанный комплимент. В Падуе у Галилея было неплохое жалованье, но ему сказали, что оно никогда не будет повышено. Кроме того, за это жалованье Галилео должен был преподавать, отнимая время от своих научных изысканий. Он был готов заключить соглашение с Козимо, который называл его придворным математиком и философом, к тому же профессорская должность в Пизе не предполагала обязанностей преподавать. Галилей настаивал на титуле придворного философа, поскольку, несмотря на достижения, которых добились в астрономии такие математики, как Кеплер, и на аргументы таких профессоров, как Клавий, статус математиков был гораздо ниже, чем тот, который имели философы. Также Галилей хотел, чтобы его работы принимали серьезно, как то, что философы называли «физикой», то есть как объяснение природы Солнца, Луны и планет, а не как математическое описание явлений.
Летом 1610 г. Галилей уехал из Падуи во Флоренцию. Это решение, как выяснилось впоследствии, оказалось для него катастрофическим. Падуя находилась на территории Венецианской республики, которая в то время была под меньшим влиянием Ватикана, чем любая другая область Италии, и счастливо избежала папских запретов за несколько лет до отъезда Галилея. Переезд во Флоренцию сделал Галилея гораздо более беззащитным перед контролем Церкви. Современный университетский декан может сказать, что такой поворот событий был просто наказанием за бегство Галилея от преподавательских обязанностей. Но на какое-то время наказание было отсрочено.
5. В сентябре 1610 г. Галилей сделал пятое из своих великих астрономических открытий. Он направил телескоп на Венеру и выяснил, что у нее есть фазы, как у Луны. Галилео послал Кеплеру зашифрованное сообщение: «Мать любви [Венера] принимает формы Цинтии [Луны]». Существование фаз предполагалось и теорией Птолемея, и теорией Коперника, но фазы должны были быть разными. По теории Птолемея Венера всегда находится, более или менее, между Землей и Солнцем, поэтому она не может быть в фазе больше половины. С другой стороны, по теории Коперника Венера оказывается полностью освещенной, когда находится по другую сторону Солнца относительно Земли.
Это было первое прямое доказательство того, что теория Птолемея неверна. Вспомним, что теория Птолемея дает ту же картину солнечного и планетного движения, видимого с Земли, что и теория Коперника, какой бы размер деферента мы ни выбрали. Но она не дает ту же картину солнечного и планетного движения, как и теория Коперника, если смотреть с планет. Конечно, Галилей не мог отправиться на другую планету, чтобы увидеть, как движение Солнца и планет выглядит оттуда. Но фазы Венеры указали ему направление на Солнце с Венеры: ее яркая сторона – это та сторона, которая обращена к Солнцу. Только один частный случай теории Птолемея мог верно описать это явление – тот случай, когда деференты для Венеры и Меркурия совпадают с орбитой Солнца, что, как мы уже заметили, соответствует теории Тихо Браге. Эту версию теории никогда не принимали ни Птолемей, ни его последователи.
6. Через некоторое время после приезда во Флоренцию Галилей нашел гениальный способ изучить поверхность Солнца, спроецировав его изображение через телескоп на экран. С помощью этого метода он сделал шестое открытие: на поверхности Солнца были видны темные пятна. Результаты этих исследований он опубликовал в 1613 г. в работе «Письма о солнечных пятнах», о которой мы поговорим немного позднее.
В истории бывают моменты, когда новые технологии открывают большие перспективы для чистой науки. Усовершенствование вакуумных насосов в XIX в. сделало возможными эксперименты с электрическими разрядами в катодной вакуумной трубке, что привело к открытию электрона. Усовершенствование корпорацией Ilford фотографических эмульсий позволило открыть целую группу элементарных частиц за десятилетие, последовавшее после Второй мировой войны. Развитие микроволновых радаров во время войны позволило использовать микроволновое излучение для изучения атомов, обеспечив принципиально важное обоснование законов квантовой электродинамики в 1947 г. И не стоит забывать о гномоне. Но ни одна из этих новых технологий не позволила достичь таких впечатляющих результатов, как телескоп в руках Галилея.
Реакция на открытия Галилея колебалась от осторожной предусмотрительности до энтузиазма. Давний противник Галилея в Падуе Чезаре Кремонини отказался даже посмотреть через телескоп, как и профессор философии в Пизе Джулио Либри. С другой стороны, Галилей был избран членом «Академии деи Линчеи» – первой научной академии в Европе, основанной несколькими годами ранее. Кеплер использовал телескоп Галилея[16] и подтвердил его открытия. (Кеплер разработал теорию телескопа и вскоре изобрел собственный вариант инструмента с двумя двояковыпуклыми линзами.)
Вначале деятельность Галилея не вызывала вопросов у Церкви, возможно, потому, что его поддержка учения Коперника еще не была выражена явно. Коперник был упомянут только один раз в «Звездном вестнике», ближе к концу, в связи с вопросом, почему, если Земля движется, Луна остается рядом с ней. В то время не у Галилея, а у последователей Аристотеля вроде Кремонини были проблемы с римской инквизицией, по большей части из-за того же, что привело к запрету различных трудов Аристотеля в 1277 г. Но Галилей умудрился поссориться как с аристотелианцами, так и с иезуитами, что в будущем не принесло ему ничего хорошего.
В июле 1611 г., вскоре после того, как он занял свое новое место во Флоренции, Галилей вступил в полемику с философами, которые, следуя тому, что они считали доктриной Аристотеля, доказывали, что твердый лед имеет бо́льшую плотность (отношение веса к объему), чем жидкая вода. Иезуит кардинал Роберто Беллармино, который был среди римских инквизиторов, приговоривших Джордано Бруно к смерти, принял сторону Галилея, возразив, что поскольку лед плавает, то должен иметь меньшую плотность, чем вода. В 1612 г. Галилей опубликовал свои выводы о плавающих телах в «Рассуждении о телах, пребывающих в воде»{205}.
В 1613 г. Галилей восстановил против себя иезуитов, в том числе Кристофа Шейнера, в споре о частном астрономическом вопросе: являются ли солнечные пятна связанными с самим Солнцем наподобие облаков, проплывающих над его поверхностью, как считал Галилей (и это, как и горы на Луне, в очередной раз доказывало несовершенство небесных тел), или они являются маленькими планетами, обращающимися вокруг Солнца ближе, чем Меркурий? Если бы было заявлено, что это облака, тогда те, кто считал, что Солнце обращается вокруг Земли, не могли бы утверждать, что облака на Земле отставали бы от нее, если бы она обращалась вокруг Солнца. В 1613 г. в «Письмах о солнечных пятнах» Галилей доказывал, что эти пятна выглядят сужающимися, когда приближаются к краю солнечного диска, а, оказавшись около него, видятся под углом, следовательно, они двигаются вместе с поверхностью Солнца, когда оно вращается. Также существовал спор о том, кто первый открыл солнечные пятна. Это был только один эпизод в набирающем силу конфликте с иезуитами, в котором обе стороны были не всегда правы{206}. Для будущего гораздо более важным оказалось то, что в «Письмах о солнечных пятнах» Галилей впервые наконец открыто высказывал свою поддержку учения Коперника.
Конфликт Галилея с иезуитами обострился в 1623 г. после публикации «Пробирных дел мастера»{207}. В этой работе Галилей нападал на математика-иезуита Орацио Грасси, пришедшего к совершенно верному заключению, совпадающему с мнением Браге, что отсутствие суточного параллакса есть свидетельство того, что кометы находятся за орбитой Луны. Вместо этого Галилей предложил экстравагантную теорию о том, что кометы – это отражение солнечного света от вытянутых возмущений в атмосфере, которые не имеют суточного параллакса, потому что эти атмосферные возмущения вращаются вместе с Землей. Возможно, настоящим противником Галилея был не Орацио Грасси, а Тихо Браге, представивший геоцентрическую теорию планет, которую наблюдения тогда еще не могли опровергнуть.
В те годы все еще было возможно терпимое отношение Церкви к системе Коперника как к чисто математическому построению для расчета видимого движения планет, но только не как к теории, отражающей истинную природу планет и их движения. Например, в 1615 г. Беллармино писал неаполитанскому монаху Паоло Антонио Фоскарини, успокаивая Фоскарини и одновременно предупреждая его о последствиях защиты системы Коперника:
«Во-первых, мне кажется, что Ваше священство и господин Галилео мудро поступают, довольствуясь тем, что говорят предположительно, а не абсолютно; я всегда полагал, что так говорил и Коперник. [Не был ли Беллармино введен в заблуждение предисловием Озиандера? Галилей, разумеется, нет.] Потому что, если сказать, что предположение о движении Земли и неподвижности Солнца позволяет представить все явления лучше, чем принятие эксцентров и эпициклов, то это будет сказано прекрасно и не влечет за собой никакой опасности. [Беллармино, очевидно, не понимал, что Коперник, как и Птолемей, использовал эпициклы, только не в таком количестве.] Для математика этого вполне достаточно. Но желать утверждать, что Солнце в действительности является центром мира и вращается только вокруг себя, не передвигаясь с востока на запад, что Земля стоит на третьем небе и с огромной быстротой вращается вокруг Солнца, – утверждать это очень опасно не только потому, что это значит возбудить всех философов и теологов-схоластов; это значило бы нанести вред святой вере, представляя положения Святого Писания ложными»{208}.
Чувствуя, что над учением Коперника сгущаются тучи, в 1615 г. Галилей написал получившее известность письмо Кристине Лотарингской, Великой герцогине Тосканы, на чьей свадьбе со скончавшимся к этому времени Великим герцогом Фердинандо I Галилей присутствовал{209}. Как и Коперник в своем трактате «О вращении», Галилей упомянул отрицание сферической формы Земли Лактанцием в качестве ужасающего примера использования Священного Писания в противовес научным открытиям. Также он возражал против буквальной интерпретации текста «Книги Иисуса Навина», которую Лютер ранее использовал против Коперника, чтобы доказать движение Солнца. Галилей убеждал читателя в том, что Библия едва ли задумывалась как текст по астрономии, поскольку из пяти планет там всего несколько раз упоминается только Венера. Самые известные строки из письма к герцогине Кристине гласят: «Здесь я бы хотел упомянуть слова, которые услышал от одного духовного лица: “Намерением Святого Духа было научить нас, как двигаться по направлению к небу, а не тому, как небеса двигаются”» (сделанная Галилеем пометка на полях указывает, что упомянутым духовным лицом был кардинал Чезаре Бароний, глава Ватиканской библиотеки). Галилей также предложил свою интерпретацию библейских слов о том, что Солнце остановилось: речь шла о вращении Солнца вокруг своей оси, которое Галилей установил, наблюдая за солнечными пятнами. В свою очередь, из-за этого прекратилось движение планет по орбитам и вращение Земли и других планет, чтобы, как это описано в Библии, продлить день битвы. Непонятно, действительно ли Галилей верил в эту бессмыслицу или просто искал политического прикрытия.
Не послушав друзей, в 1615 г. Галилей отправился в Рим возражать против давления на учение Коперника. Папа Павел V страстно желал покончить со спорными вопросами и по совету Беллармино решил подвергнуть теорию Коперника суду группой теологов, которые вынесли вердикт о том, что система Коперника – «[учение] глупое и абсурдное с философской и формальной точки зрения, поскольку оно явно еретическое, противоречит Священному Писанию…»[17]{210}.
В феврале 1616 г. Галилея вызвали в инквизицию, где он получил два не подлежащих разглашению предписания. Подписанный документ приказывал Галилею не придерживаться и не защищать идеи Коперника. Неподписанный документ шел дальше, запрещая придерживаться, защищать и в какой-либо форме преподавать коперниканство. В марте 1616 г. инквизиция опубликовала формальный указ, в котором Галилей не упоминался, но запрещалась книга Фоскарини и содержался призыв подвергнуть сочинения Коперника цензуре. Трактат «О вращении» был внесен в список запрещенных для католиков книг. Вместо того чтобы вернуться к Птолемею или Аристотелю, некоторые астрономы-католики, такие как иезуит Джованни Баттиста Риччоли в своем сочинении «Новый Альмагест», вышедшем в 1651 г., выступали за систему Тихо Браге, которая в то время не могла быть опровергнута наблюдением. «О вращении» оставляли в списке запрещенных книг до 1835 г., затрудняя обучение науке в некоторых католических странах, например, в Испании.
Галилей надеялся на лучшее, когда в 1624 г. Маффео Барберини стал папой Урбаном VIII. Барберини был флорентийцем и восхищался Галилеем. Он тепло встретил Галилео в Риме и дал ему полдюжины аудиенций. В разговорах Галилей объяснял ему свою теорию приливов и отливов, над которой он работал с 1616 г.
В теории Галилея принципиальным моментом являлось вращение Земли. В сущности, идея состояла в том, что воды в океане накатываются и откатываются, так как Земля вращается вокруг своей оси и одновременно обращается вокруг Солнца. При этом фактическая скорость точки на поверхности Земли вдоль направления движения Земли по ее орбите то возрастает, то уменьшается. Это вызывает регулярные волны в океане с периодичностью в одни сутки. Как и при любых других колебаниях, тут возможны обертоны – периоды могут составлять половину суток, треть суток и т. д. Таким образом, влияние Луны оставалось в стороне, хотя еще с античности было известно, что самые высокие приливы бывают в полнолуние и новолуние, а самые низкие – в первой и последней четвертях Луны. Галилей попытался объяснить влияние Луны, предположив, что по неким причинам орбитальная скорость Земли возрастает в новолуние, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем, и снижается в полнолуние, когда Луна оказывается по другую сторону Земли от Солнца.
Это была не лучшая работа Галилея. Не так важно, что его теория была неправильной. Без теории всемирного тяготения у него не было способа правильно понять причины приливов и отливов. Но Галилео должен был осознавать, что частная теория приливов, у которой нет явного эмпирического подтверждения, не может рассматриваться как доказательство движения Земли.
Папа сказал, что разрешит публикацию этой теории приливов, если Галилей будет представлять теорию движения Земли как математическую гипотезу, а не как факт, который существует на самом деле. Урбан объяснил, что не одобряет публичный указ инквизиции от 1616 г., но не готов отменить его. В своих разговорах с папой Галилей не упоминал конфиденциальные предписания, которые инквизиция вручила ему лично.
В 1632 г. Галилей был готов опубликовать свою теорию приливов, которая выросла во всестороннюю защиту учения Коперника. Как и раньше, Церковь не критиковала Галилея открыто, поэтому, когда он обратился к местному епископу за разрешением на публикацию новой книги, оно было получено. Это был «Диалог» (полностью – «Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой»).
Заглавие книги Галилея очень примечательно. В то время существовало не две, а четыре главные системы мира: не только системы Птолемея и Коперника, но и система Аристотеля, основанная на гомоцентрических сферах, вращающихся вокруг Земли, а также система Тихо Браге, в которой Солнце и Луна обращались вокруг неподвижной Земли, но все остальные планеты – вокруг Солнца. Почему Галилей не упомянул системы Аристотеля и Браге?
По поводу системы Аристотеля можно было бы сказать, что она не согласовывается с наблюдением, но она не согласовывалась с наблюдением вот уже 2000 лет и при этом не растеряла своих поклонников. Просто вспомним аргумент Фракасторо, приведенный им в начале XVI в. и процитированный в главе 10 этой книги. Век спустя после Фракасторо Галилей явно считал, что на такие аргументы не стоит даже отвечать.
С другой стороны, система Браге работала слишком хорошо, чтобы можно было просто не обращать на нее внимания. Галилей, конечно, знал о системе Тихо. Возможно, Галилео считал, что его теория приливов показывает, что Земля действительно вращается, хотя на самом деле никаких весомых доказательств у него не было. Или, может быть, Галилей не хотел втягивать Коперника в состязание с несокрушимым Браге.
«Диалог» написан в форме беседы трех персонажей: Сальвиати, который выступает в роли Галилея и назван по имени его друга – флорентийского аристократа Филиппо Сальвиати; Симпличио, аристотелианца, возможно, получившего свое имя вслед за римским философом Симпликием (который, возможно, должен был представлять простака), и Сагредо, названного по имени венецианского друга Галилея математика Джованни Франческо Сагредо, который должен был мудро рассудить двух первых персонажей. Первые три дня этих бесед Сальвиати громит доводы Симпличио, и только на четвертый день появляется теория приливов. Это, разумеется, нарушало негласное предписание инквизиции Галилею и также почти нарушало менее строгое фактическое предписание (не придерживаться и не защищать учение Коперника). Еще ухудшало ситуацию то, что «Диалог» был написан на итальянском, а не на латыни, поэтому его мог прочитать каждый грамотный итальянец, а не только ученые.
Тем временем папе Урбану показали предписание инквизиции Галилею от 1616 г. Возможно, это сделали враги Галилея, которых он нажил в более ранних спорах о солнечных пятнах и кометах. Гнев Урбана, возможно, еще усилился от того, что он подозревал, что послужил прообразом Симпличио. Положение не облегчало и то, что некоторые речи папы, которые он произносил, будучи кардиналом Барберини, были вложены в уста Симпличио. Инквизиция приказала запретить продажу «Диалога», но поздно: тираж уже был распродан.
Галилей предстал перед судом в апреле 1633 г. Дело против него было возбуждено по обвинению в нарушении предписания инквизиции от 1616 г. Галилею продемонстрировали пыточные инструменты и предложили заключить сделку о признании вины, заставив признать, что личное тщеславие завело его слишком далеко. Тем не менее он оставался «сугубо заподозренным в ереси», был приговорен к пожизненному заключению и принужден отказаться от своей точки зрения о том, что Земля вращается вокруг Солнца (существует ничем не подтвержденная теория о том, что, выходя из зала суда, он пробормотал себе под нос: Eppur si muove[18]).
К счастью, с Галилеем обошлись не так жестоко, как могли бы. Ему позволили отбывать заключение в качестве гостя архиепископа Сиены, а затем – на его собственной вилле в Арчетри, неподалеку от Флоренции и рядом с монастырем, где находились его дочери, сестры Мария-Челеста и Арканджела{211}. Как мы увидим в главе 12, Галилей в этот период вернулся к своей работе над проблемой движения, начатой полвека назад в Пизе.
Галилей умер в 1642 г., все еще находясь под домашним арестом в Арчетри. До 1835 г. его книги, поддерживающие учение Коперника, оставались в списке запрещенной католической церковью литературы, хотя задолго до этого времени астрономия Коперника широко распространилась как в протестантских, так и в католических странах. Галилей был реабилитирован Церковью только в XX в.{212} В 1979 г. папа Иоанн Павел II сослался на письмо Галилея к Кристине Лотарингской как на «формулирующее важные понятия гносеологического характера, которые совершенно необходимы, чтобы примирить Священное Писание и науку»{213}. Была собрана комиссия для рассмотрения дела Галилея, которая пришла к выводу, что по отношению к Галилею Церковь совершила ошибку. Папа прокомментировал это так: «Это была ошибка теологов тех времен, когда верили в то, что Земля является центром Вселенной, заставляющая думать, что наши представления о физической структуре мира в какой-то мере были вызваны буквальным пониманием текстов Священного Писания»{214}.
Лично я считаю это не совсем адекватным решением. Церкви, конечно, некуда деваться от знания, теперь разделяемого всеми, и она вынуждена признавать, что была не права по поводу движения Земли. Но допустим, что Церковь была бы на самом деле права, а Галилей ошибался. Церковь и тогда была бы не права, приговаривая Галилея к заключению и отказывая ему в праве публиковать свои работы, как была не права, приговорив Джордано Бруно к сожжению, будь он хоть трижды еретик{215}. К счастью, хотя я не знаю, ясно ли это понимают религиозные деятели, сегодня там и не мечтают о такой свободе действий. За исключением некоторых исламских стран, где наказывают за святотатство или отступничество, мир в целом выучил урок о том, что ни государственные, ни церковные власти не должны выносить приговоры из-за религиозных мнений, ложны они или правдивы.
Из расчетов и наблюдений Коперника, Браге, Кеплера и Галилея родилось правильное описание Солнечной системы, зашифрованное в трех законах Кеплера. Объяснение, почему планеты подчиняются этим трем законам, родилось только поколение спустя, с открытиями Ньютона.
12. Эксперименты начались
Производить какие-либо манипуляции с небесными телами невозможно, поэтому великие достижения в астрономии, описанные в главе 11, основывались лишь на пассивных наблюдениях. К счастью, движение планет в Солнечной системе является достаточно простым, чтобы после сотен лет наблюдений с помощью все более совершенных инструментов можно было, наконец, правильно его описать. Для решения других задач требовалось перейти от наблюдений и измерений к экспериментам, искусственно создавая физические явления, позволяющие проверить или модернизировать общую теорию.
В каком-то смысле люди всегда экспериментируют, идя путем проб и ошибок, чтобы научиться делать что-то правильно, начиная от выплавки руд и кончая выпеканием пирогов. Но здесь, говоря о начале экспериментов, я имею в виду только те, которые проводились, чтобы открыть или проверить истинность теорий, связанных с законами природы.
В этом смысле невозможно точно определить, когда начались эксперименты{216}. Возможно, еще Архимед проверял свою гидростатическую теорию экспериментально, но его трактат «О плавающих телах» написан исключительно в дедуктивном стиле математики и не содержит никаких намеков на проведение экспериментов. Герон и Птолемей ставили эксперименты, чтобы проверить свои теории отражения и преломления, но их примеру никто не следовал в течение многих веков.
В XVII в. появились работы, в которых авторы старались показать пользу экспериментальных результатов для подтверждения верности физических теорий. Это стремление родилось еще в начале века в работах по гидростатике – например, в трактате Галилея 1612 г. «Рассуждение о телах, погруженных в воду». Более важным был количественный анализ движения падающих тел, ставший необходимой основой для будущих трудов Ньютона. Работа по этой проблеме, а также сочинение о природе давления воздуха положили начало современной экспериментальной физики.
Как и многое другое, экспериментальное изучение механики движения началось с Галилея. Его выводы о движении появились в труде «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых наук», законченном в 1635 г., когда Галилей находился под домашним арестом на своей вилле в Арчетри. Получить официальное разрешение на публикацию книги было бы невозможно, поэтому рукопись была тайно вывезена из Италии и в 1638 г. напечатана в протестантском университетском городе Лейдене издательством Людвика Элзевира. Персонажами «Бесед о двух новых науках» оставались все те же Сальвиати, Симпличио и Сагредо, которые исполняли прежние роли.
Среди многих других положений первый день (глава) «Бесед о двух новых науках» содержит мысль о том, что и тяжелые, и легкие тела падают одинаково, что противоречит доктрине Аристотеля о том, что тяжелые тела падают быстрее легких. Конечно, из-за сопротивления воздуха легкие тела падают немного медленнее тяжелых. В связи с этим вопросом Галилей демонстрирует свое понимание того, что ученому приходится мириться с приближенными значениями, уходя от стремления древних греков к точности, основанной на математической строгости. Сальвиати так объясняет это Симпличио:
«Аристотель говорит: “Железный шар, весом в сто фунтов, падая с высоты ста локтей, упадет на землю, в то время как другой, весом в один фунт, пройдет пространство в один локоть”. Я утверждаю, что оба упадут одновременно. Проделав опыт, вы найдете, что больший опередит меньший на два пальца, так что когда больший упадет на землю, то меньший будет от нее на расстоянии толщины двух пальцев. Этими двумя пальцами вы хотите закрыть девяносто девять локтей Аристотеля и, говоря о моей небольшой ошибке, умалчиваете о громадной ошибке другого»{217}.
Галилей также доказывает, что воздух имеет положительный вес; оценивает его плотность; обсуждает движение сквозь среду, обладающую сопротивлением; объясняет музыкальную гармонию и сообщает о том, что маятнику требуется одно и то же время для каждого колебания, независимо от размаха колебаний{218}. Десятилетия спустя этот принцип приведет к изобретению часов с маятником и точному измерению ускорения падающих тел.
Второй день содержит рассказ о прочности тел разной формы. На третий день Галилей возвращается к проблеме движения и делает самые интересные заключения. Этот день начинается с перечисления некоторых банальных свойств движения с постоянной скоростью. Затем автор переходит к определению постоянного ускорения, очень близкого тому, которое в XIV в. дали ученые из Мертон-колледжа: скорость возрастает на одни и те же значения за равные промежутки времени. Также Галилей приводит доказательство теоремы о среднем градусе скорости, очень близкое к тому, что дал Орем. При этом Галилео не ссылается ни на Орема, ни на ученых из Мертона. В отличие от своих средневековых предшественников, Галилей не просто рассматривает эти теоремы как описывающие чисто математическую абстракцию, а приходит к заключению, что свободно падающие тела подвергаются постоянному ускорению, однако он не изучает причину этого ускорения.
Как уже было упомянуто в главе 10, в то время была широко распространена альтернативная теория о том, что тела падают с неравномерным ускорением. Согласно этой теории скорость, которую падающие тела приобретают в любой интервал времени, пропорциональна расстоянию, которое эти тела проходят за этот интервал, а не времени{219}. Галилей приводит различные аргументы против этой точки зрения{220}, но окончательный вердикт этим двум различным теориям ускорения падающих тел мог быть вынесен только после экспериментов.
Если, согласно теореме о среднем градусе скорости, что-то равномерно ускоряется от нуля до определенной скорости, пройденное расстояние равно половине его конечной скорости, умноженной на затраченное время, а эта конечная скорость пропорциональна затраченному времени, то расстояние, пройденное при свободном падении, должно быть пропорционально квадрату времени (см. техническое замечание 25). Именно это положение решил проверить Галилей.
Свободно падающие тела двигаются слишком быстро, чтобы Галилей мог проверить свое заключение, проследив, как быстро тела падают в определенный интервал времени, поэтому он решил замедлить падение, изучая шары, катящиеся по наклонной плоскости. Чтобы доказать применимость опыта к теории, он должен был показать, как движение шаров, катящихся по наклонной плоскости, соотносится с движением тел в свободном падении. Галилей сделал это, отметив, что скорость, которую шар приобретает, скатившись с наклонной плоскости, зависит только от расстояния по вертикали, которое прошел этот шар, а не от угла с плоскостью{221}. Свободно падающий шар можно рассматривать как шар, который катится по плоскости, поставленной вертикально, поэтому, если скорость катящегося по наклонной плоскости шара пропорциональна затраченному времени, то же самое будет верно и для свободно падающего шара. Для плоскости, наклоненной под небольшим углом, скорость, конечно, оказывается намного меньше, чем при свободном падении (поэтому и был смысл использовать наклонную плоскость), но эти две скорости пропорциональны, поэтому расстояние, пройденное по плоскости, пропорционально тому расстоянию, которое свободно падающий шар преодолел бы за то же время.
В «Беседах о двух новых науках» Галилей сообщает, что расстояние, пройденное катящимся шаром, пропорционально квадрату времени. Он проводил эти эксперименты в Падуе в 1603 г. с плоскостью, имеющей наклон к горизонтали менее 2°, разметив ее линиями с интервалами примерно в 1 мм{222}. О равенстве промежутков времени в движении шара Галилей тогда судил, замеряя время по интервалу между звуками, которые издавал шар, пересекая отметки на своем пути. Расстояния отметок от точки старта находились в следующих отношениях: 1²=1:2²=4:3²=9 и т. д. В экспериментах, описанных в «Беседах о двух новых науках», он определял относительные временные интервалы с помощью водяных часов. Современная реконструкция этого эксперимента показывает, что Галилей сумел добиться той точности, о которой заявлял{223}.
Галилей уже размышлял об ускорении падающих тел в своей работе, о которой мы говорили в главе 11, – «Диалоге о двух главных системах мира». Во второй день этого более раннего диалога Сальвиати заявляет, что расстояние, пройденное падающим телом, пропорционально квадрату времени, но дает достаточно расплывчатое объяснение. Он также упоминает, что пушечное ядро, брошенное с высоты в сто локтей, достигнет земли за пять секунд. Совершенно ясно, что Галилей в действительности не замерял это время{224}, но просто привел иллюстративный пример. Если локоть равен 54 см, то, зная известное сейчас значение ускорения свободного падения, время падения тяжелого тела с высоты 100 локтей должно было составить не 5 секунд, а 3,3 секунды. Но Галилей явно никогда не пытался провести какие-либо серьезные измерения ускорения под действием силы тяжести.
Четвертый день «Диалога о двух системах мира» посвящен движению тел, брошенных под углом к горизонту. Идеи Галилея в основном ясны уже из эксперимента{225}, проведенного в 1608 г., который подробно обсуждается в техническом замечании 26. Шар скатывался по наклонной плоскости с разной высоты, затем катился по горизонтальной столешнице, где кончалась наклонная плоскость, и, наконец, срывался с края стола. Когда шар достигал пола, Галилей измерял пройденное расстояние и наблюдал за движением шара в воздухе, после чего сделал выводы, что его траекторией является парабола. Галилей не описывает этот эксперимент в «Беседах о двух новых науках», но приводит теоретическое обоснование того, почему тело движется именно по параболе. Самый важный момент, который стал сущностью механики Ньютона, – это мысль о том, что каждая из компонента движения тела, брошенного под углом к горизонту, определяется соответствующей компонентой силе, независимо от прочих влияний на составные части его движения независимо друг от друга. Когда шар падает с края стола или выстреливается из пушки, ничего, кроме сопротивления воздуха, не влияет на его горизонтальное движение, поэтому пройденное горизонтальное расстояние почти пропорционально времени. С другой стороны, в то же самое время, как и любое свободно падающее тело, движение тела по вертикали происходит с ускорением, поэтому вертикальное расстояние растет пропорционально квадрату затраченного времени. Из этого следует, что увеличение вертикального расстояния пропорционально квадрату пройденного горизонтального расстояния. Какого рода кривую даст это соотношение? Галилей показывает, что траекторией метаемого тела является парабола, используя определение Аполлония, в котором говорится, что парабола является сечением конуса плоскостью, параллельной поверхности конуса (см. техническое замечание 26).
Эксперименты, описанные в «Беседах о двух новых науках», стали исторической точкой разрыва с прошлой научной традицией. Вместо того чтобы ограничиться теоретическим изучением свободного падения, которое Аристотель считал естественным движением, Галилей перешел к искусственно смоделированному движению шаров, катящихся по наклонной плоскости, или метаемых объектов. В этом смысле наклонная плоскость Галилея стала далеким предшественником сегодняшних ускорителей частиц, с помощью которых мы искусственно создаем частицы, которые невозможно обнаружить в природе.
Работы Галилея по механике продолжил Христиан Гюйгенс – возможно, самый значительный ученый в блистательном поколении в период между Галилеем и Ньютоном. Гюйгенс родился в 1629 г. в семье высокопоставленного государственного чиновника, который работал в правительстве Нидерландской республики во времена правления принцев Оранских. С 1645 по 1647 г. Христиан изучал юриспруденцию и медицину в Лейденском университете, но потом полностью посвятил себя математике и, в конечном счете, естественным наукам. Как Декарт, Паскаль и Бойль, Гюйгенс был человеком энциклопедических знаний и работал над целым рядом вопросов в математике, астрономии, статике, гидростатике, динамике и оптике.
Самой важной работой Гюйгенса в астрономии было изучение планеты Сатурн при помощи телескопа. В 1655 г. Христиан открыл самый большой его спутник – Титан, доказав, что не только у Земли и Юпитера есть спутники. Также он объяснил странную, не круглую видимую форму Сатурна, замеченную еще Галилеем, тем, что планета окружена кольцами.
В 1656–1657 гг. Гюйгенс изобрел часы с маятником, принцип действия которых основывался на выводе Галилея о том, что время, за которое маятник совершает каждое колебание, не зависит от амплитуды колебаний. Гюйгенс выяснил, что это заключение верно только для очень небольших колебаний, и нашел гениальный способ сохранить независимость амплитуды от времени даже для колебаний со значительной амплитудой. В то время как несовершенные механические часы отставали или спешили примерно на пять минут в день, часы с маятником Гюйгенса отставали или спешили не больше чем на десять секунд в день, а в одном случае – всего на полсекунды в день{226}.
Посвятив некоторое время работе над часами с маятником, на следующий год Гюйгенс сумел оценить значение ускорения свободного падения около поверхности Земли. В труде «Маятниковые часы» (Horologium oscillatorium), опубликованном позднее, в 1673 г., Гюйгенс сумел доказать, что «время колебания маятника находится в определенном отношении к длительности свободного падения на половину длины маятника, а именно в отношении окружности круга к диаметру его»{227}. Это значит, что время, необходимое для одиночного колебания маятника под маленьким углом, равно увеличенному в π раз времени, которое требуется падающему телу, чтобы пройти расстояние, равное половине длины маятника (не очень просто получить этот результат, не используя методов дифференциального исчисления, как Гюйгенс). Опираясь на это положение и на измерение периодов маятников различной длины, Гюйгенс сумел рассчитать ускорение свободного падения, то есть сделал то, чего не смог добиться Галилей с инструментами, имевшимися у него под рукой. Как отмечает Гюйгенс, свободно падающее тело пролетает 151/12 «парижских футов» за первую секунду. Отношение парижского фута к современному английскому футу, по разным оценкам, составляет примерно от 1,06 до 1,08. Если мы примем английский фут равным 1,07 парижского фута, то по результатам Гюйгенса получится, что свободно падающее тело пролетает 4,91 м за первую секунду. Это дает ускорение свободного падения 9,82 м/с², что очень близко к современному значению в 9,81 м/с² (как хороший экспериментатор Гюйгенс убедился, что ускорение свободного падения совпадает со значением ускорения, которое он получил, наблюдая за движением маятника. При этом Гюйгенс учитывал погрешности эксперимента). Как мы увидим далее, эти измерения, позже повторенные Ньютоном, были очень важны в связи с работой над изучением земной силы тяготения, той самой, которая удерживает Луну около Земли.
Ускорение свободного падения можно было вывести и из результатов более ранних измерений Риччоли, который проводил опыты с падающими с разной высоты телами{228}. Чтобы точно измерить время, Риччоли пользовался маятником, тщательно откалиброванным с помощью отсчета его колебаний на протяжении солнечных или звездных суток. К удивлению Риччоли, его измерения подтвердили заключение Галилея о том, что пройденное телом в падении расстояние пропорционально квадрату времени. Из его измерений, опубликованных в 1651 г., можно было высчитать (хотя Риччоли этого и не сделал), что ускорение свободного падения составляет 30 римских футов в секунду. К счастью, Риччоли записал, что высота башни Асинелли в Болонье, с которой он бросал большинство тел, составляет 312 римских футов. Башня все еще стоит, и известно, что ее высота равна 97,2 м, поэтому римский фут Ричолли должен быть равен 32 см, а 30 римских футов в секунду составляют 9,45 м/с², что достаточно хорошо согласуется с современным значением. На самом деле, если бы Ричолли знал выведенное Гюйгенсом соотношение между периодом колебаний маятника и временем, требующимся для того, чтобы тело прошло половину его длины, он мог бы использовать калибровку своего маятника, чтобы высчитать ускорение свободного падения, ничего не бросая с башен в Болонье.
В 1664 г. Гюйгенс был избран членом недавно созданной Королевской академии наук во Франции. Ему предложили жалованье, поэтому на следующие два десятилетия он перебрался в Париж и там начал работать над волновой теорией света. Написанный им в 1678 г. «Трактат о свете» был опубликован только в 1690 г., возможно, потому, что Гюйгенс долгое время надеялся перевести работу с французского на латынь, но у него так и не нашлось на это времени. Гюйгенс умер в 1695 г. Мы вернемся к его волновой теории света в главе 14.
В статье, опубликованной в Journal des Sçavans в 1669 г., Гюйгенс дал правильные формулировки законов столкновения твердых тел (которые Декарт понял неправильно): они сводились к тому, что сегодня называется законами сохранения импульса и кинетической энергии{229}. Гюйгенс заявлял, что он подтвердил свои результаты экспериментально, возможно, изучая столкновение соударяющихся грузов маятника, для которых начальные и конечные скорости можно было рассчитать точно. И, как мы увидим в главе 14, Гюйгенс в «Маятниковых часах» рассчитал ускорение движения по кривой – этот результат имел огромную важность для Ньютона.
Пример Гюйгенса показывает, как далеко ушла наука от имитации математики, от упования на дедукцию и стремления к абсолютной точности, характерной для математики. В предисловии к «Трактату о свете» Гюйгенс объясняет:
«Доказательства, приводимые в этом трактате, отнюдь не обладают той же достоверностью, как геометрические доказательства, и даже весьма сильно от них отличаются, так как в то время, как геометры доказывают свои предположения с помощью достоверных и неоспоримых принципов, в данном случае принципы подтверждаются при помощи получаемых из них выводов; природа изучаемого вопроса не допускает, чтобы это происходило иначе»{230}.
Практически это и есть наиболее исчерпывающее описание методов современной физики.
В работах Гюйгенса и Галилея по механике движения эксперименты проводились для того, чтобы доказать несостоятельность физики Аристотеля. То же самое можно сказать и об изучении давления воздуха в то время. Невозможность существования вакуума была одной из доктрин Аристотеля, которую подвергли сомнению в XVII в. Со временем ученые поняли, что такие явления, как всасывание, которые, как казалось раньше, имеют причиной то, что природа не принимает вакуума, в действительности происходят из-за давления воздуха. В этом открытии ключевую роль сыграли три фигуры в Италии, во Франции и в Англии.
Копатели колодцев во Флоренции знали, что отсасывающие насосы не могут поднимать воду на высоту, большую чем 18 локтей, или 9,7 м (реальное значение на уровне моря ближе к 10,2 м). Галилей и другие ученые считали, что это демонстрирует существование предела, после которого природа перестает бояться пустоты. Другое объяснение предложил Эванджелиста Торричелли, флорентиец, который занимался геометрией, движением брошенных тел, гидравликой, оптикой и зачатками математического анализа. Торричелли доказывал, что это ограничение отсасывающих насосов имеет место из-за того, что вес воздуха, давящий на воду в колодце, может поддерживать столб воды высотой не более 18 локтей. Этот вес распределен по всему объему воздуха, и любая поверхность, соприкасающаяся с воздухом, горизонтальна она или нет, испытывает с его стороны действие силы, пропорциональной площади этой поверхности. Сила, действующая на единицу площади (или давление), прилагаемая воздухом в состоянии покоя, равна весу вертикального столба воздуха, достигающего верхних слоев атмосферы, деленному на площадь сечения этого столба. Точно так же давление действует и на поверхность воды и суммируется с давлением воды, поэтому, когда давление воздуха в верхней части вертикальной трубы, погруженной в воду, уменьшается с помощью насоса, вода в трубе поднимается, но только до предела, ограниченного конечным давлением воздуха.
В 1640-х гг. Торричелли поставил ряд экспериментов, чтобы доказать эту мысль. Он полагал, что, поскольку вес определенного объема ртути в 13,6 раз больше веса того же объема воды, максимальная высота столбика ртути в вертикальной стеклянной трубке, закрытой сверху, которую можно поддерживать воздухом, независимо от того, давит ли он на поверхность лужицы ртути, в которую погружен конец трубки, или на открытый конец трубки, должна составлять 18 локтей, деленные на 13,6. Или, если использовать более точные современные значения, 33,5 фута/13,6 = 760 мм.
В 1643 г. Торричелли обнаружил, что если взять более длинную вертикальную стеклянную трубку, закрытую с верхнего конца, и заполнить ее ртутью, то некоторое количество ртути вытечет из трубки, пока ее уровень не составит примерно 760 мм. Таким образом, сверху остается пустота, которая позже стала называться «торричеллиевой пустотой». Такая трубка может служить барометром, показывая изменение давления воздуха в окружающей среде; чем выше давление воздуха, тем выше столбик ртути, который оно может поддерживать.
Французский энциклопедист Блез Паскаль больше всего известен благодаря своей работе по христианской теологии «Мысли о религии и других предметах» и защите секты янсенитов от иезуитского ордена. Но, кроме этого, он внес вклад в геометрию, теорию вероятностей и исследовал пневматические явления, которые изучал Торричелли. Паскаль утверждал, что если столбик ртути в стеклянной трубке, открытой снизу, поддерживается давлением воздуха, то высота столбика должна уменьшиться, если подняться высоко в горы, где воздух более разреженный и, следовательно, давление ниже. Когда это предположение подтвердилось в ходе ряда экспедиций в период с 1648 по 1651 г., Паскаль пришел к заключению, что «все явления, приписываемые ранее [“боязни пустоты”], на самом деле следствия давления воздуха, которое является единственной настоящей их причиной»{231}.
В честь Паскаля и Торричелли были названы современные единицы давления. Один паскаль равен давлению, вызываемому силой, равной одному ньютону (сила, изменяющая за одну секунду скорость тела массой один килограмм на один метр в секунду), равномерно распределенной по поверхности площадью один квадратный метр. Один торр – это давление, которое поддерживает столбик ртути высотой в один миллиметр. Нормальное атмосферное давление – 760 торров[19], что составляет чуть больше 100 000 паскалей.
Работы Торричелли и Паскаля были продолжены англичанином Робертом Бойлем. Бойль был сыном графа Корка и, таким образом, отсутствующим земельным собственником протестантского «господства» – высшего класса, который в то время правил Ирландией. Он получил образование в Итоне, совершил длительную поездку по Европе и сражался на стороне парламента в гражданской войне, бушевавшей в Англии в 1640-х гг. Хотя это и необычно для человека его положения, Бойль увлекся наукой. Он познакомился с новыми идеями, перевернувшими астрономию, в 1642 г., прочитав работу Галилея о двух главных системах мира. Бойль выступал за натуралистическое объяснение природных явлений, заявляя: «Нет никого, кто желал бы больше [чем я сам], признавать и преклоняться перед всемогуществом Господа, [но] наш спор не о том, что сделал Господь, а о том, что могло быть сделано его природными посредниками, не поднявшимися выше сферы природы»{232}. При этом, как и многие до появления работ Дарвина и даже некоторые после, он считал, что чудесные особенности животных и людей доказывают, что они должны были быть созданы высшим благосклонным творцом.
Работа Бойля по давлению воздуха была описана в 1660 г. в книге «Новые физико-механические эксперименты относительно веса воздуха и его проявления». В своих экспериментах он использовал усовершенствованный воздушный насос, изобретенный его учеником Робертом Гуком, о котором мы поговорим подробнее в главе 14. Выкачивая воздух из сосудов, Бойль сумел определить, что воздух необходим для проведения звука, для горения и для поддержания жизни. Он определил, что ртутный столбик в барометре опускается, если откачать воздух из окружающего его пространства, добавив важный аргумент в пользу заключения Торричелли о том, что то, что раньше принимали за неприятие природой пустоты, объясняется давлением воздуха. Используя столбик ртути, чтобы изменять давление и объем воздуха в стеклянной трубке, не позволяя воздуху входить и выходить из нее и поддерживая постоянную температуру, Бойль сумел установить соотношение между давлением и объемом. Во втором издании «Новых экспериментов», опубликованном в 1662 г., он сформулировал, что давление соотносится с объемом так, чтобы его произведение на объем оставалось постоянным, – правило, которое сейчас называется законом Бойля – Мариотта.
Даже эксперименты Галилея с наклонной плоскостью не были так показательны для нового энергичного стиля экспериментальной физики, как эти эксперименты с давлением воздуха. Физика перестала быть царством натурфилософов, выводящих законы природы из случайных наблюдений. Теперь к матери-природе относились как к хитрому неприятелю, чьи секреты должны быть раскрыты с помощью специально созданных искусственных обстоятельств.
13. Переосмысление метода
К концу XVI в. аристотелевой модели научного исследования был брошен решительный вызов. Стало естественным искать новые пути к методу сбора достоверных знаний о природе. Среди ученых, пытавшихся сформулировать новый научный подход, особенно известны две фигуры: Фрэнсис Бэкон и Рене дю Перрон Декарт. По моему мнению, важность этих двух людей для научной революции сильно переоценена.
Фрэнсис Бэкон родился в 1561 г. Его отцом был Николас Бэкон, лорд-хранитель печати Великобритании. Получив образование в Тринити-колледже в Кембридже, Фрэнсис получил право адвокатской практики в суде, где начал работать, затем продолжил свою карьеру в юриспруденции, дипломатии и политике. В 1618 г. он стал бароном Веруламским и лорд-канцлером Великобритании, а позже – виконтом Сент-Олбанским. Но в 1621 г. Бэкона признали виновным в коррупции, и указом парламента ему было запрещено состоять на государственной службе.
Репутация Бэкона в истории науки во многом основана на его книге «Новый органон» («Новый инструмент, или Истинные указания для истолкования природы»), опубликованной в 1620 г. В этой книге Бэкон, который не был ни ученым, ни математиком, пишет о крайне эмпирической точке зрения на науку, отвергая не только Аристотеля, но также Птолемея и Коперника. Открытия должны делаться непосредственно путем тщательного беспристрастного наблюдения за природой, а не выводиться дедуктивным путем из основополагающих принципов. Также Бэкон отвергает любые исследования, если они не приносят немедленной практической пользы. В «Новой Атлантиде» он придумывает коллективный исследовательский институт под названием «Дом Соломона», работники которого посвятили бы себя сбору полезных фактов о природе. Предполагалось, что таким образом человечество достигнет господства над природой, утраченного после изгнания из рая. Бэкон умер в 1626 г. Существует история о том, что он умудрился и тут остаться верным эмпирическому методу познания природы – он заработал пневмонию, экспериментально изучая способы заморозки мяса.
Бэкон придерживался точки зрения, диаметрально противоположной Платону. Конечно, обе крайности ошибочны. Прогресс зависит и от наблюдения, и от эксперимента, которые служат основой для размышлений об общих принципах и дедуктивных выводов из этих принципов, которые могут быть проверены через новые наблюдения и эксперименты. Поиск знания с практической целью может служить ограничением для неконтролируемых домыслов, но понимание мира имеет свою ценность и само по себе, вне зависимости от того, ведет ли оно к непосредственной пользе. Ученые XVII и XVIII вв. апеллировали к Бэкону в противовес Платону и Аристотелю, в чем-то примерно так же, как американский политик может апеллировать к Томасу Джефферсону при том, что на него никак не повлияло что-либо из того, что Джефферсон сказал или сделал. Я не вижу ни одного ученого, чья работа в действительности изменилась к лучшему благодаря сочинениям Бэкона. Галилею был не нужен Бэкон, чтобы сказать, что необходимо начать проводить эксперименты, и, я думаю, точно так же он был не нужен Бойлю и Ньютону. За сто лет до Галилея другой флорентиец Леонардо да Винчи (1452–1519) ставил опыты с падающими телами, текущими жидкостями и многие другие{233}. Мы знаем об этой работе только по нескольким сочинениям в области живописи и движения жидкостей, которые были скомпилированы после смерти да Винчи, а также по его записным книжкам, которые время от времени обнаруживаются. Но если эксперименты Леонардо никак и не повлияли на прогресс науки, то по крайней мере они демонстрируют, что сама идея об опытах носилась в воздухе задолго до Бэкона.
Рене Декарт был во всех отношениях более значительной фигурой, чем Бэкон. Он родился в 1596 г. в семье французского аристократа-судьи, так называемого «дворянина мантии»[20]. Рене получил образование в коллегии иезуитов города Ла-Флеш, изучал юриспруденцию в Университете Пуатье и служил в армии Морица Нассауского, принца Оранского, во время войны за независимость в Голландии. В 1619 г. Декарт решил посвятить себя философии и математике и начал работать всерьез после 1628 г., когда поселился в Голландии.
Декарт изложил свои взгляды на механику в книге «Мир» (Le Monde), написанной в 1630-х гг., но опубликованной только в 1664 г., после его смерти. В 1637 г. он опубликовал свое философское сочинение «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках» (Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences). Идеи, изложенные в этой работе, были развиты в самой длинной книге Декарта «Первоначала философии», опубликованной на латыни в 1644 г., а в переводе на французский – в 1647 г. В этих работах он высказывает скептическое отношение к знанию, полученному от авторитетов или чувственным путем. Для Декарта единственное достоверное доказательство того, что он существует, проистекало из наблюдения за тем, что он думает об этом. Далее он приходит к выводу о том, что мир существует, поскольку он сам может воспринимать его без какого-либо усилия воли. Декарт отвергает телеологию Аристотеля – вещи являются тем, что они есть, независимо от целей, которым они служат. Он приводит несколько доказательств существования Бога (все неубедительные), но отвергает власть какой-либо организованной религии. Также Декарт отвергает действие сверхъестественных сил на расстоянии – вещи взаимодействуют друг с другом путем непосредственных толчков и тяги.
Декарт очень много сделал для внедрения математики в физику, но, как и Платон, он был слишком увлечен достоверностью математических доказательств. В части I «Первоначал философии», озаглавленной «Об основах человеческого познания», Декарт описывает, как фундаментальные научные принципы могут быть с достоверностью выведены из чистой мысли. Мы можем доверять «естественному свету относительно тех атрибутов Бога, известное познание которых он пожелал нам дать», потому что «полностью немыслимо, чтобы он вводил нас в заблуждение»{234}. Странно, что Декарт думал, что Бог, который позволил случаться землетрясениям и эпидемиям чумы, не решился бы обмануть философа.
Декарт принимал мысль о том, что приложение фундаментальных физических принципов к отдельным системам может оказаться недостоверным и потребовать проведение экспериментов, если ученому неизвестны все детали, из которых состоит система. В своих дискуссиях по астрономии в части III «Первоначал философии» он рассматривает различные гипотезы строения планетной системы и приводит замечания Галилея по наблюдению фаз Венеры как причину предпочесть гипотезы Коперника и Браге гипотезе Птолемея.
Это краткое изложение показывает взгляды Декарта только в самых общих чертах. Его философией всегда восхищались и восхищаются сейчас, особенно специалисты-философы и французы. Меня это ставит в тупик. Просто поразительно, как часто для человека, заявляющего, что он нашел самый лучший метод получения достоверных знаний, Декарт был не прав, говоря о различных явлениях природы. Он был не прав, говоря, что Земля имеет продолговатую форму (то есть расстояние вдоль линии, соединяющей полюсы, больше длины экватора). Он, как и Аристотель, ошибался, утверждая, что вакуум не существует. Он был не прав, доказывая, что свет передается мгновенно{235}. Он ошибался по поводу того, что космос наполнен материальными вихрями, которые передвигают планеты вдоль их траекторий. Он был не прав по поводу шишковидной железы, которая является вместилищем души и отвечает за человеческую совесть. Он ошибался насчет того, что́ именно сохраняется при соударениях предметов. Он был не прав насчет того, что скорость свободного падения пропорциональна пройденному расстоянию. И, в конце концов, основываясь на наблюдении за поведением нескольких любимых домашних котов, я убежден, что Декарт ошибался и насчет того, что животные – это машины, которые не имеют души. У Вольтера были точно такие же сомнения по поводу Декарта:
«Он ошибался по поводу природы души, по поводу доказательств существования Бога, по поводу материи и законов движения, а также относительно природы света; он допускает врожденные идеи, открывает новые элементы, творит мир, преобразует человека на свой собственный лад, и потому справедливо говорят, что человек Декарта на самом деле и есть всего лишь его человек, весьма далекий от человека подлинного»{236}.
Научные заблуждения Декарта не имели бы особого значения, если бы речь шла о работах по этической или политической философии или даже метафизике, но для человека, который писал о «методе, позволяющем направлять свой разум и отыскивать истину в науках», постоянные ошибки не могут не бросать тень на философское суждение. Дедукция просто не может вынести тот груз, который Декарт взвалил на нее.
Даже самые великие ученые ошибаются. Мы уже видели, как Галилей ошибался насчет приливов и комет, и мы увидим, как Ньютон ошибся по поводу дифракции. Но, несмотря на все свои ошибки, Декарт, в отличие от Бэкона, внес значительный вклад в науку. Он содержится в трех приложениях к «Рассуждению о методе» под заголовками «Геометрия», «Оптика» и «Метеорология»{237}. С моей точки зрения, именно эти труды, а не его философские сочинения, являются вкладом Декарта в науку.
Самым большим достижением Декарта было изобретение нового математического метода, который теперь называется аналитической геометрией, где кривые и плоскости представлены в виде уравнений, которым удовлетворяют координаты точек, принадлежащих кривой или плоскости. «Координатами», в общем, могут быть любые числа, которые определяют местоположение точки, – например, долгота, широта, высота над уровнем моря, – но обычно используют декартовы координаты, определяемые расстоянием от точки до некоторого центра и измеряемые вдоль каких-либо взаимно перпендикулярных направлений. Например, в аналитической геометрии круг радиусом R – это кривая, на которой координаты х и у находятся на определенном расстоянии от центра, совпадающего с пересечением двух перпендикулярных прямых, и удовлетворяют равенству x² + y² = R² (в техническом замечании 18 дается подробное описание эллипса). Это очень важное использование букв алфавита, чтобы обозначить неизвестное расстояние или неизвестную величину, берет свое начало в работах французского математика, придворного и специалиста по шифрам XVI в. Франсуа Виета, но Виет еще записывал равенства словами. Современной формой алгебры и ее приложению к аналитической геометрии мы обязаны Декарту.
Используя аналитическую геометрию, мы можем найти координаты точки, где две кривые пересекаются, или получить уравнение кривой, образующейся на пересечении двух поверхностей. Для этого мы должны решить пару уравнений, которые определяют кривые или поверхности. Сегодня большинство физиков решают геометрические задачи именно таким образом, используя аналитическую геометрию, а не классические методы Евклида.
В физике Декарт внес значительный вклад в изучение света. Вначале в «Диоптрике» он описал соотношение между углами падения и преломления света на границе среды А и среды В (например, воздуха и воды): если угол между падающим лучом и перпендикуляром к поверхности среды обозначить как i, а угол между преломленным лучом и этим перпендикуляром – как r, то синус угла{238} i, деленный на синус угла r, равен независимой от значения величин углов постоянной n:
sin i/sin r = n.
В общем случае, где средой А является воздух (или, строго говоря, пустота), n – это постоянная, которая называется показателем преломления для среды B. Например, если А – это воздух, а В – вода, то n – это показатель преломления воды, который равен примерно 1,33. В любом подобном случае, когда n больше единицы, угол преломления r меньше угла падения i, и луч света, входя в более плотную среду, преломляется, приближаясь к направлению перпендикуляра к поверхности.
Декарт не знал, что то же самое соотношение было в 1621 г. выведено эмпирическим путем голландцем Виллебрордом Снеллиусом, а еще раньше – англичанином Томасом Хэрриотом, а в рукописи Х в. арабского физика ибн Сахля предполагается, что об этом законе уже известно, но Декарт был первым, кто опубликовал это открытие. Сегодня это соотношение во всем мире называют законом Снеллиуса (кроме Франции, где его авторство принято приписывать Декарту).
За доказательством закона преломления Декарта проследить очень трудно, отчасти потому, что он ни в своем описании доказательства, ни в изложении результата не пользовался тригонометрическими понятиями вроде синуса угла, а писал чисто в геометрических терминах, хотя, как мы уже видели ранее, аль-Баттани, чьи работы были хорошо известны в средневековой Европе, заимствовал синус у индийских математиков еще за семь столетий до Декарта. Вывод закона преломления у Декарта основывается на придуманной им аналогии с теннисным мячиком, который разрывает тонкую ткань. Мячик теряет часть своей скорости, но ткань не оказывает никакого эффекта на ту составную часть общей скорости, которая направлена параллельно ткани. Как показано в техническом замечании 27, это допущение привело к результату, о котором мы говорили выше: отношение синусов углов между прямыми, по которым мячик движется к экрану и от него, и перпендикуляра к этому экрану составляет не зависящую от величин углов постоянную n. Хотя в описании Декарта результат увидеть очень трудно, должно быть, он понимал, что у него все верно получилось, потому что, подобрав соответствующие значения для n, дал более-менее правильные численные ответы в теории о радуге, о которой мы поговорим ниже.
В выводе закона преломления Декарт совершенно точно ошибался в двух вещах. Очевидно, что свет – это не теннисный мячик, а поверхность, разделяющая воздух и воду или стекло, – не тонкая ткань, так что очень сомнительно, что эта аналогия уместна, особенно для Декарта, который считал, что свет, в отличие от теннисного мячика, движется с бесконечной скоростью{239}. К тому же аналогия Декарта ведет к неправильной оценке величины n. Как показано в техническом замечании 27, для теннисных мячиков его допущение предполагает, что n равно отношению скорости мяча vB в среде B (после того, как он пройдет сквозь экран) к скорости vA в среде A (до того, как он ударит по экрану). Конечно, проходя сквозь экран, мяч замедлится, поэтому скорость vB будет меньше скорости vA и их отношение n будет меньше единицы. Если это приложить к свету, то получится, что угол между преломленным лучом и перпендикуляром будет больше, чем угол между падающим лучом и перпендикуляром. Декарт знал об этом и даже снабдил объяснение диаграммой, показывающей, как движение теннисного мячика отклоняется от перпендикуляра в сторону большего угла. Декарт также знал, что для света это неверно, поскольку еще со времен Птолемея наблюдали, что луч света, проходящий из воздуха в водную среду, преломляется по направлению к перпендикуляру к поверхности воды, поэтому синус i больше, чем синус r, и, следовательно, n больше единицы. В чрезвычайно запутанном объяснении, которого я не понимаю, Декарт каким-то образом доказывает, что свет легче проходит через воду, чем через воздух, поэтому для света n больше единицы. Для задачи Декарта невозможность объяснить, откуда он берет значение n, на самом деле не имела значения, потому что он мог получить – и на самом деле получил – значения n из экспериментов (возможно, из данных, которые были в «Оптике» Птолемея), и эти значения, конечно, были больше единицы.
Более убедительное доказательство закона преломления дал математик Пьер де Ферма (1601–1665). Он сделал его по образцу доказательства правила равенства углов падения и отражения Герона Александрийского, но основывался на предположении о том, что лучи света проходят свой путь за наименьшее время, а не проходят наименьшее расстояние. Как показано в техническом замечании 28, это предположение приводит к правильной формуле, где n – это отношение скорости света в среде А к его скорости в среде В и, таким образом, больше единицы, если А – это воздух, а В – вода или стекло. Декарт никогда не смог бы вывести такую формулу для n, поскольку для него свет двигался мгновенно (как мы увидим в главе 14, другое доказательство с правильным результатом было дано Христианом Гюйгенсом. Оно было основано на теории Гюйгенса о том, что свет – это движущееся волновое возмущение среды, и не нуждается в априорном предположении Ферма о том, что свет проходит свой путь за наименьшее возможное время).
Декарт сделал великолепное дополнение к закону преломления: в своей «Метеорологии» он использовал соотношение между углами падения и преломления, чтобы объяснить появление радуги. Это было величайшее достижение Декарта как ученого. Аристотель доказывал, что цвета радуги получаются, когда свет отражается от капель воды, рассеянных в воздухе{240}. Так же, как мы уже видели в главах 9 и 10, в Средние века и аль-Фариси, и Дитрих из Фрайбурга считали, что радуга получается, когда свет преломляется, проходя через капли воды, взвешенные в воздухе. Но до Декарта никто не представлял детально численного описания того, как это происходит.
Вначале Декарт провел эксперимент, используя стеклянный сосуд сферической формы с тонкими стенками, наполненный водой, в качестве модели капли дождя. Он заметил, что, когда лучи света проходят сквозь шар в разных направлениях, свет, который выходит обратно под углом примерно 42° к углу падения, становится «полностью красным и несравнимо более ярким, чем остальные лучи». Он пришел к заключению, что радуга (или, по крайней мере, ее красный цвет) образует в небе арку, когда угол между направлением на радугу и направлением от нее на солнце равен примерно 42°. Декарт предположил, что лучи света преломляются, попадая в каплю воды, отражаются от ее внутренней поверхности и затем снова преломляются, когда попадают из капли в воздух. Но как объяснить свойство радуги посылать лучи из капель именно под углом в 42° к направлению их падения?
Чтобы ответить на этот вопрос, Декарт предполагает, что лучи света попадают в сферическую каплю по десяти различным параллельным направлениям. Он присвоил каждому из этих лучей то, что сегодня называют прицельным параметром b – величина кратчайшего расстояния до центра капли, на котором луч прошел бы, если бы проходил сквозь каплю прямо, не преломляясь. Первый луч был выбран так, что если бы он не преломлялся, то прошел бы на расстоянии от центра капли, равном 10 % радиуса R капли (то есть b = 0,1R). При этом десятый луч был выбран так, чтобы задеть поверхность капли по касательной (b = R). Все остальные лучи были равномерно распределены между ними. Декарт описал путь каждого луча, как он преломился, войдя внутрь капли, отразился от ее внутренней поверхности и снова преломился, покидая каплю, используя закон равенства углов отражения Евклида и Герона и свой собственный закон преломления, приняв показатель преломления воды n за 4/3. В таблице приводятся значения, полученные Декартом для угла φ между выходящим из капли лучом и направлением его падения для каждого луча, и результаты моих собственных расчетов, при которых я использовал тот же самый показатель преломления:
Неточность некоторых результатов Декарта может быть связана с ограниченностью математических средств в то время. Я не знаю, была ли у него возможность пользоваться таблицей синусов, но у него точно не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающего современный микрокалькулятор. Тем не менее эти результаты выглядели бы лучше, если бы Декарт округлил их до ближайшего целого градуса, а не до 10 минут угла.
Как заметил Декарт, угол φ близок к 40° для достаточно широкого диапазона прицельных расстояний b. Далее он повторил расчеты для восемнадцати еще более близко расположенных лучей, значения b для которых отличались от 80 до 100 % радиуса капли, при этом угол φ был равен примерно 40°. Декарт выяснил, что для четырнадцати из этих восемнадцати лучей угол φ находился в промежутке от 40° до максимальной величины 41° 30´. Таким образом, эти теоретические расчеты подтвердили его экспериментальные данные, упомянутые ранее, где угол наиболее яркого луча был округленно равен 42°.
В техническом замечании 29 приводится современный вариант расчетов Декарта. Вместо того чтобы высчитывать численное значение угла φ между входящим и исходящим лучом для каждого луча в совокупности лучей, как делал Декарт, выводится простая формула, по которой рассчитывается φ для любого угла, при любом прицельном расстоянии b и при любом значении n отношения между скоростью света в воздухе и скоростью света в воде. Затем эта формула используется для определения значения φ, при котором выходящие из капли лучи наиболее интенсивны{241}. Для n, равного 4/3, оптимальное значение φ оказывается 42°, при котором преломленный свет собирается, как это и определил Декарт. Декарт даже рассчитал соответствующий угол для вторичной радуги, которая производится светом, дважды отражающимся внутри капли до того, как покидает ее.
Декарт видел связь между разделением цветов, характерным для радуги, и цветами, получающимися при преломлении света через призму, но он не смог рассчитать количественные показатели этого явления, потому что не знал, что белый солнечный свет состоит из всех цветов и что показатель преломления света немного меняется в зависимости от его цвета. В действительности, тогда как Декарт брал показатель преломления для воды, равный 4/3 = 1,3333…, на самом деле для типичной длины волны красного цвета он равен скорее 1,330, а для синего – 1,343. Используя общую формулу, описанную в замечании 29, можно найти максимальное значение для угла φ между углом падения и преломления, которое будет равно 42,8° для красного цвета и 40,7° для синего. Именно поэтому Декарт и видел ярко-красный цвет, когда смотрел на сосуд с водой под углом в 42° к направлению солнечных лучей. Это значение угла φ немного выше максимального значения 40,7° для синего цвета, поэтому Декарт не мог увидеть лучей из синей части спектра, но немного ниже максимального значения φ 42,8° для красного цвета, поэтому и мог получиться достаточно яркий оттенок красного.
Работа Декарта по оптике приближается к методу современной физики. Декарт сделал ни на чем не основанное предположение о том, что свет преодолевает границу между двумя средами так же, как теннисный мячик, прорывающий тонкий экран, и использовал его, чтобы вывести соотношение между углами падения и преломления, которое (при правильном выборе показателя преломления n) согласуется с наблюдениями. Далее, используя сосуд, наполненный водой, в качестве модели капли дождя, Декарт провел наблюдения, подтвердившие возможное происхождение радуги. Затем он показал математически, что эти наблюдения следуют из его закона преломления. Он не понимал, почему у радуги возникают разные цвета, поэтому обошел этот вопрос и опубликовал то, что понимал. Это как раз то самое, что делают физики сегодня. Но если отвлечься от приложения математических расчетов к физической задаче, то какое отношение это исследование имеет к «Рассуждению о методе» Декарта? Я не вижу, чтобы он выполнял свои собственные предписания «четко следовать пути рассуждений и искать истину в науке».
Я должен добавить, что в «Первоначалах философии» Декарт предлагал значительное качественное улучшение понятия «импетус Буридана»{242}. Он доказывал, что «любое движение само по себе происходит вдоль прямых линий», поэтому (в противовес и Аристотелю, и Галилею) требуется сила, которая заставляет небесные тела двигаться по искривленным орбитам. Но Декарт не сделал никакой попытки рассчитать эту силу. Как мы увидим в главе 14, Гюйгенсу удалось найти формулу для силы, которая требуется, чтобы тело двигалось с заданной скоростью по кругу заданного радиуса, а Ньютон объяснил, что эта сила является силой тяготения.
В 1649 г. Декарт поехал в Стокгольм, чтобы стать учителем правящей королевы Кристины. Возможно, из-за холодной шведской погоды Декарт в следующем году, как и Бэкон, умер от пневмонии. Четырнадцать лет спустя его работы были добавлены к книгам Коперника и Галилея в список литературы, запрещенной Римской католической церковью.
Сочинения Декарта по научному методу всегда привлекали внимание философов, но я не думаю, что они оказали большое влияние на практику научного исследования (и даже, как уже говорилось выше, на самую успешную научную работу самого Декарта). Его работы имели один негативный эффект – физика Ньютона была принята во Франции несколько позже. Алгоритм выведения научных принципов из чистых размышлений, описанный в «Рассуждении о методе», никогда не работал и не мог работать. Гюйгенс в молодости считал себя последователем Декарта, но позже пришел к пониманию того, что научные принципы – это только гипотезы, которые должны быть проверены сравнением их следствий с наблюдениями{243}.
С другой стороны, работа Декарта по оптике показывает, что он сам понимал, что научные гипотезы такого рода иногда необходимы. Лоренс Лаудан нашел подтверждение этого понимания в беседах Декарта по химии в «Первоначалах философии»{244}. Поэтому возникает вопрос, был ли в действительности хоть один ученый, который перенял от Декарта практику проверять придуманные гипотезы экспериментально, как думал Лаудан о Бойле. Я лично думаю, что эта практика была широко распространена и до Декарта. Как еще можно описать то, что делал Галилей, используя гипотезу о том, что падающие тела ускоряются равномерно, чтобы вывести из нее следствие о том, что брошенные тела летят по параболической траектории, а затем проверить ее экспериментально?
Согласно биографии Декарта, написанной Ричардом Уотсоном, «без картезианского метода разложения материальных вещей на первичные элементы мы никогда бы не изобрели атомную бомбу. Рост современной науки в семнадцатом веке, ее расцвет в восемнадцатом, промышленная революция в девятнадцатом, ваш персональный компьютер в двадцатом и расшифровка работы мозга в двадцать первом – все это картезианство»{245}. Декарт, безусловно, внес огромный вклад в развитие математики, но утверждать, что его сочинения по научному методу привели ко всем этим замечательным достижениям, абсурдно.
Декарт и Бэкон – это только два философа среди очень многих, которые на протяжении веков пытались определить правила научного поиска. Это никогда не срабатывает. Мы узнали, как вести научные исследования, не придумывая правила, как заниматься наукой, а исходя из опыта занятий наукой, руководствуясь ощущением удовлетворения, которое мы испытываем, когда наши методы позволяют нам что-то объяснить.
14. Обобщения Ньютона
С Ньютоном мы подходим к кульминации научной революции. Но что за странный тип сыграл такую важную роль в истории науки! Ньютон никогда не покидал маленький район Англии, в который входили Лондон, Кембридж и его родная деревня в Линкольншире. Он даже никогда не видел моря, приливы и отливы которого так его интересовали. Достигнув средних лет, Ньютон не имел близких отношений ни с одной женщиной, и даже с матерью его отношения были прохладными{246}. Его очень волновали вопросы, не имеющие никакого отношения к науке, в том числе хронология Книги пророка Даниила. Каталог рукописей Ньютона, выставленный на продажу на аукционе «Сотби» в 1936 г., насчитывал 650 000 слов в текстах по алхимии и 1,3 млн слов в текстах по религии. С теми, кто казался ему соперником, Ньютон мог быть коварным и отвратительным. Тем не менее этот человек связал воедино физику, астрономию и математику, что не удавалось сделать философам со времен Платона.
Некоторые авторы настаивают, что Ньютон не был современным ученым. Среди этих заявлений хорошо известно высказывание Джона Мейнарда Кейнса, купившего на аукционе «Сотби» в 1936 г. некоторые бумаги Ньютона: «Ньютон не был первым человеком века разума. Он был последним из волшебников, вавилонян и шумеров, последним из великих умов, смотревших на внешний и внутренний мир теми же глазами, как и те, кто начал создавать наше научное наследие чуть ли не 10 000 лет тому назад»{247}. Но Ньютон не был просто талантливым пережитком магического прошлого. Не будучи ни волшебником, ни в полном смысле слова современным ученым, он пересек границу между натурфилософией прошлого и тем, что стало современной наукой. Достижения Ньютона, несмотря на все его недостатки, обеспечили парадигму, которой в дальнейшем следовали все ученые и благодаря которой наука стала современной.
Исаак Ньютон родился в рождественский день 1642 г. на семейной ферме в имении Вулсторп в Линкольншире. Его отец, неграмотный йомен (мелкий землевладелец), умер вскоре после рождения сына. У матери было более высокое положение в обществе, она была джентри (мелкопоместная дворянка), а ее брат закончил Кембриджский университет и стал священником. Когда Ньютону было три года, его мать снова вышла замуж и уехала из Вулсторпа, оставив сына на попечение бабушки. С десяти лет Ньютон посещал королевскую школу, занимавшую одну комнату в городке Грэнтем, в двенадцати километрах от Вулсторпа. Там он жил в доме местного аптекаря. В Грэнтеме он изучал латынь и теологию, арифметику и геометрию, немного греческий и древнееврейский.
В возрасте семнадцати лет Ньютона вернули домой, чтобы он занялся фермерством, но выяснилось, что для этого занятия он совершенно не подходит. Через два года его отправили в Тринити-колледж Кембриджского университета, где он стал студентом-сайзером, то есть с него не брали плату за обучение, проживание и питание, но он должен был выполнять различные работы в колледже и прислуживать тем студентам, которые имели возможность оплачивать свои счета. Как и Галилей в Пизе, Ньютон начал свое образование с изучения трудов Аристотеля, но вскоре углубился в собственные разработки. На втором курсе он стал вести серию заметок под названием «Вопросник» (Questiones quandam philosophicae) в тетради, в которой ранее делал заметки о работах Аристотеля и которая, к счастью, сохранилась до наших дней.
В декабре 1663 г. Кембриджский университет получил пожертвование от Генри Лукаса, члена английского парламента, учредившего именную профессуру – должность Лукасовского профессора математики – со стипендией £100 в год. Начиная с 1664 г. эту должность занимал Исаак Барроу, первый профессор математики в Кембридже, который был на двенадцать лет старше Ньютона. Примерно в это время Ньютон начал изучать математику под началом Барроу и самостоятельно, а также получил степень бакалавра искусств. В 1665 г. чума поразила Кембридж, университет был практически закрыт, и Ньютон уехал домой в Вулсторп. В эти годы, начиная с 1664 г., он начал свои научные исследования, о которых мы поговорим ниже.
Вернувшись в 1667 г. в Кембридж, Ньютон был избран в братство Тринити-колледжа, что давало ему £2 в год и право свободно пользоваться библиотекой колледжа. Он много работал с Барроу, помогая ему записывать лекции. Затем, в 1669 г. Барроу освободил должность Лукасовского профессора математики, чтобы полностью посвятить себя теологии. По предложению Барроу должность перешла к Ньютону, который, получив финансовую поддержку от матери, начал жить на широкую ногу, покупая новую одежду, мебель и даже немного увлекшись азартными играми{248}.
А незадолго до этого, сразу же после реставрации монархии Стюартов в 1660 г., несколько лондонцев, в том числе Бойль, Гук, а также астроном и архитектор Кристофер Рен, создали научное общество, где собирались, чтобы обсуждать вопросы натурфилософии и наблюдать за демонстрацией экспериментов. Вначале в нем был только один иностранец – Христиан Гюйгенс. В 1662 г. общество получило королевскую грамоту и стало называться Лондонским королевским обществом. Оно сохранилось до наших дней как Британская национальная академия наук. В 1672 г. Ньютон был избран членом Лондонского королевского общества, а позже стал его президентом.
В 1675 г. Ньютон столкнулся с кризисной ситуацией. После восьми лет членства в братстве Тринити-колледжа он, как и все другие братья в колледже Кембриджа, должен был принять духовный сан в англиканской церкви. Для этого требовалось поклясться в вере в Святую Троицу, но для Ньютона, который отверг решение Никейского собора о том, что Бог-отец и Бог-сын являются единым целым, это было невозможно. К счастью, документ, по которому была учреждена должность Лукасовского профессора математики, включал оговорку о том, что человек, ее занимающий, не обязан каким-либо образом заниматься делами церкви. На этом основании король Карл II выпустил указ о том, что от занимающего должность Лукасовского профессора математики впредь не должны требовать вступления в духовный сан. Таким образом, Ньютон и дальше мог оставаться в Кембридже.
А теперь перейдем к той огромной работе, которую в 1664 г. Ньютон начал в Кембридже. Эти исследования включали в себя оптику, математику и то, что позже было названо динамикой. Работы Ньютона в каждой из названных областей характеризуют его как одного из величайших ученых в истории.
Главные экспериментальные достижения Ньютона касались оптики{249}. Студенческий «Вопросник» (Questiones quandam philosophicae) характеризует своего автора как ученого, заинтересовавшегося природой света. В отличие от Декарта, Ньютон пришел к заключению, что свет не оказывает никакого давления на глаза, поскольку, если бы это было так, небо казалось бы нам более ярким, когда мы бежим. В 1665 г. в Вулсторпе он внес свой величайший вклад в оптику – создал теорию цвета. Еще со времен античности известно, что, когда свет проходит через искривленное стекло, появляются различные цвета, но считалось, что эти цвета каким-то образом производятся самим стеклом. Ньютон предположил, что белый свет состоит из всех цветов одновременно, а угол преломления луча в стекле или воде зависит от его цвета. Например, для красного цвета он немного меньше, чем для синего, поэтому лучи разного цвета разделяются, когда свет проходит через призму или каплю воды{250}. Это объясняло то, чего не понимал Декарт, – появление цветов радуги. Чтобы проверить эту идею, Ньютон провел два важных эксперимента. Во-первых, использовав призму, чтобы выделить лучи синего или красного цвета, Ньютон попытался еще раз пропустить их через другие призмы и увидел, что дальнейшего разложения на новые цвета не происходит. Затем, расставив призмы определенным образом, он сумел соединить обратно все цвета, которые получаются при преломлении белого цвета, и увидел, что при этом снова получается белый цвет.
Зависимость угла преломления от цвета имела одно неприятное свойство: стеклянные линзы телескопов, которые были у Галилея, Кеплера и Гюйгенса, фокусировали различные цвета белого по-разному, искажая изображения далеких объектов. Чтобы избежать этой хроматической аберрации, Ньютон в 1669 г. изобрел телескоп, где свет первоначально фокусировался с помощью вогнутого зеркала, а не с помощью линзы (затем плоское зеркало направляло лучи из трубы телескопа в окуляр, состоящий из линзы, из-за чего не от всей хроматической аберрации удалось избавиться). С помощью телескопа-рефлектора длиной всего 15 см Ньютону удалось добиться увеличения в 40 раз. Все основные современные астрономические оптические телескопы – это телескопы-рефлекторы, потомки того, который изобрел Ньютон. Когда я побывал в сегодняшней штаб-квартире Лондонского королевского общества в Карлтон-Хаус-Террас, в качестве поощрения меня провели в подвальный этаж, чтобы взглянуть на маленький телескоп Ньютона, второй из тех, что он сделал.
В 1671 г. Генри Олденбург, секретарь и духовный лидер Королевского общества, предложил Ньютону опубликовать описание своего телескопа. Ньютон поместил письмо с этим описанием и свою работу о цвете в «Философские записки королевского общества» в начале 1672 г. После этого разгорелась полемика по поводу значимости и оригинальности работы Ньютона, в которой особое участие принимал Гук, бывший с 1662 г. куратором экспериментов при Королевском обществе и с 1664 г. читавший лекции по механике, профинансированные сэром Джоном Кутлером (так называемые «кутлеровские лекции»). Гук не был слабым оппонентом. Он сам внес значительный вклад в развитие астрономии, микроскопии, часового механизма, механики и градостроительства. Гук заявлял, что сам проводил такие же эксперименты со светом, как и Ньютон, и что они не доказывают ничего – призма просто добавляет цвета́ к белому свету.
В 1675 г. в Лондоне Ньютон прочитал лекцию по своей теории света. Он предполагал, что свет, как и любое вещество, состоит из множества маленьких частиц, что противоречило точке зрения, которой в то время придерживались Гук и Гюйгенс (о том, что свет – это волна). Это был один из тех случаев, когда научное чутье Ньютона подводило его. Существовало множество наблюдений, доказывающих волновую природу света. Действительно, в современной квантовой механике свет описывается как совокупность не имеющих массы частиц, которые называются фотонами, но в свете, с которым мы сталкиваемся в повседневной жизни, количество фотонов огромно, и вследствие этого свет ведет себя как волна.
В своей работе «Трактат о свете», вышедшей в 1678 г., Гюйгенс описал свет как волну возмущений в среде, эфире, состоящем из огромного количества мельчайших материальных частиц, располагающихся в тесном соседстве. Как и волна в океане в области больших глубин не перемещает воду вдоль поверхности океана, а лишь вызывает ее вертикальные колебания, так и свет, по теории Гюйгенса, – это волна возмущений среди частиц эфира, которая движется вдоль луча света, но сами частицы при этом вдоль луча не перемещаются. Каждая затронутая частица становится новым источником возмущения, что создает общую амплитуду волны. Конечно, после работ Джеймса Клерка Максвелла в XIX в. мы знаем (даже если отвлечься от квантовых эффектов), что Гюйгенс был прав только наполовину: свет – это действительно волна, но волна возмущений в электрическом и магнитном поле, а не волна возмущений материальных частиц.
Используя волновую теорию света, Гюйгенс сумел вывести, что свет в однородной среде (или в пустоте) ведет себя так, как будто двигается по прямым линиям, то есть волновое возмущение частиц как будто слагается из колебаний частиц только вдоль этих линий. Он по-новому объяснил правило равенства углов падения и отражения и закон преломления Снеллиуса, не используя априорное предположение Ферма о том, что свет совершает свой путь за наикратчайшее время (см. техническое замечание 30). По теории преломления Гюйгенса луч света преломляется, проходя под непрямым углом границу между двумя средами, скорость света в которых отличается, примерно так же, как и отряд солдат изменяет направление своего движения вслед за передовым флангом строя, переходя с хорошей дороги на болотистую местность, где его скорость снижается.
Немного отклоняясь от темы, скажу, что по волновой теории Гюйгенса, в отличие от Декарта, свет движется с конечной скоростью. Гюйгенс утверждал, что эффекты, вызванные этой конечной скоростью, просто трудно заметить, потому что свет движется очень быстро. Если бы, к примеру, свету был необходим час, чтобы преодолеть расстояние от Земли до Луны, то во время лунного затмения Луна располагалась бы не непосредственно напротив Солнца, а отставала бы от него примерно на 33°. Поскольку такого отставания мы не наблюдаем, Гюйгенс сделал вывод, что скорость света должна быть, по крайней мере, в 100 000 раз быстрее скорости звука. Это предположение недалеко от истины – на самом деле соотношение этих скоростей составляет примерно миллион раз.
Также Гюйгенс описал недавние наблюдения спутников Юпитера датским астрономом Оле Рёмером. Эти наблюдения показывали, что период обращения Ио кажется короче, когда Земля и Юпитер приближаются друг к другу, и длиннее, когда они расходятся (на Ио обратили особое внимание, поскольку у него самый короткий орбитальный период из всех галилеевских спутников Юпитера – всего 1,77 суток). Гюйгенс интерпретировал это как явление, которое позже стало называться эффектом Доплера: когда Юпитер и Земля сближаются или расходятся, расстояние между ними при каждом последующем окончании периода обращения Ио соответственно уменьшается или увеличивается. Поэтому, если свет движется с конечной скоростью, временной интервал между наблюдениями каждого полного периода обращения Ио будет, соответственно, меньше или больше, чем если бы Земля и Юпитер находились в состоянии покоя. Точнее говоря, долевой сдвиг в наблюдаемом периоде обращения Ио должен быть равен отношению относительной лучевой скорости Земли и Юпитера к скорости света. При этом относительная лучевая скорость может принимать как положительные, так и отрицательные значения в зависимости от того, отдаляются Земля и Юпитер или сближаются (см. техническое замечание 31). Измерив видимые изменения периода Ио и зная относительную скорость Земли и Юпитера, можно высчитать скорость света. Поскольку Земля движется быстрее Юпитера, именно вклад Земли в относительную скорость наибольший. В те времена размеры Солнечной системы были известны не очень хорошо, так же как и численное значение относительной скорости расхождения Земли и Юпитера, но, опираясь на данные Рёмера, Гюйгенс сумел высчитать, что свету требуется 11 минут, чтобы преодолеть расстояние, равное радиусу земной орбиты. Этот результат не зависел от конкретного значения радиуса. Иначе говоря, поскольку астрономическая единица определяется именно как радиус земной орбиты, то Гюйгенс определил, что свет проходит астрономическую единицу за 11 минут. Современное значение скорости света составляет одну астрономическую единицу за 8,32 минуты.
И Гюйгенсу, и Ньютону были доступны экспериментальные свидетельства того, что свет имеет волновую природу: открытие дифракции иезуитом из Болоньи Франческо Мария Гримальди, учеником Риччоли, опубликованное после его смерти в 1665 г. Гримальди обнаружил, что тень от тонкого прутика в солнечном свете выглядит не идеально четкой, но окаймленной тонкими полосками. Это явление связано с тем фактом, что длина волны света не является ничтожно малой по сравнению с толщиной прутика, но Ньютон считал, что это проявление некоторого рода рефракции, возникающей на поверхности прутика. Вопрос о корпускулярной или волновой природе света перешел в разряд решенных для большинства физиков к началу XIX в., когда Томас Юнг открыл интерференцию – узор, получающийся из-за усиления или угасания световых волн, которые проходят в одну точку разными путями. Как уже было упомянуто, в XX в. стало понятно, что обе эти теории не являются взаимоисключающими. В 1905 г. Эйнштейн понял, что, хотя свет в большинстве случаев ведет себя как волна, энергия в нем передается в маленьких пакетах, которые позже получили названия фотонов. Каждый из них обладает крошечной энергией и импульсом, пропорциональными частоте света.
Ньютон в конце концов представил свою работу по свету в книге «Оптика», написанной на английском в начале 1690-х гг. Она была опубликована в 1704 г., после того, как Ньютон уже стал знаменит.
Ньютон был не только великим физиком, но и выдающимся математиком. Начиная с 1664 г. он изучал работы по математике, в том числе «Начала» Евклида и «Геометрию» Декарта. Вскоре Ньютон смог разрабатывать собственные решения различных задач, многие из которых были связаны с бесконечностью. Например, он рассматривал бесконечные ряды типа x – x²/2 + x³/3 – x4/4+… и показал, что сумма такого ряда сходится в логарифм{251} 1 + х.
В 1665 г. Ньютон начал размышлять о бесконечно малых величинах. Он задумался над задачей: предположим, что нам известно расстояние D (t), пройденное за время t. Каким образом можно найти скорость в любой момент времени? Ньютон рассуждал, что при неравномерном движении скорость в любой момент времени составляет отношение пройденного расстояния к затраченному времени в любой бесконечно малый интервал времени. Введя символ о для обозначения бесконечно малого интервала времени, он определил скорость за время t как отношение к o расстояния, пройденного в интервал времени между t и t + o, то есть скорость равна [D (t + o) – D (t)]/o. Например, если D (t) = t³, тогда D (t + o) = t³ + 3t²o + 3to² + o³. Поскольку о стремится к нулю, мы можем не учитывать слагаемые, пропорциональные o² и o³, и принять равенство D (t + o) = t³ + 3t²o. Таким образом, D (t + o) – D (t) = 3t²o и скорость равна просто 3t². Ньютон назвал это флюксией D (t), но позже это стало называться производной, одним из основных инструментов современного дифференциального исчисления{252}.
Далее Ньютон заинтересовался проблемой нахождения площадей фигур, ограниченных кривыми. Его ответ представляет собой фундаментальную теорему математического анализа. Пусть надо найти такую функцию, флюксией которой является функция, представленная в виде кривой. Например, как мы уже видели ранее, y = 3x² – это флюксия функции y = x³, поэтому площадь под параболой y = 3x² между х = 0 и любым другим х равна x³. Ньютон назвал это «обратным методом флюксий», в современной математике это называется интегрированием.
Ньютон изобрел дифференциальное и интегральное исчисления, но долгое время эти работы не были широко известны. Только в 1671 г. он решил их опубликовать вместе со своей работой по оптике, но, очевидно, в Лондоне не нашлось книгоиздателя, который согласился бы на эту публикацию без солидной платы{253}.
В 1669 г. Барроу передал рукопись Ньютона «Анализ с помощью уравнений с бесконечным числом членов» (De analysi per aequationes numero terminorum infinitas) математику Джону Коллинзу. Ее копию увидел во время своего посещения Лондона в 1676 г. философ и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц, бывший ученик Гюйгенса, который был на несколько лет младше Ньютона и независимо от него открыл основную суть математического анализа годом ранее. В 1676 г. Ньютон описал некоторые из своих результатов в письмах, рассчитывая, что Лейбниц увидит эти письма. В 1684 и 1685 гг. Лейбниц опубликовал свою работу по математическому анализу в статьях, не ссылаясь на Ньютона. В этих публикациях Лейбниц ввел термин «математический анализ» и его современные обозначения, в том числе знак интеграла.
Чтобы обозначить свои права на математический анализ, Ньютон описал свои собственные методы на двух листах, включенных в издание «Оптики» 1704 г. В январе 1705 г. в анонимном отзыве на «Оптику» было отмечено, что эти методы были заимствованы у Лейбница. Ньютон предполагал, что этот отзыв написал сам Лейбниц. Затем в 1709 г. в «Философских записках Королевского общества» вышла статья Джона Кейла, защищавшего приоритет Ньютона на это открытие. В 1711 г. Лейбниц ответил злобной отповедью в адрес Королевского общества. В 1712 г. Королевское общество собрало анонимный комитет для разрешения противоречия по этому вопросу. Два века спустя список членов этого комитета был рассекречен, и выяснилось, что он состоял практически целиком из сторонников Ньютона. В 1715 г. комитет пришел к решению, что математический анализ является заслугой Ньютона. План доклада по этому вопросу набросал для комитета сам Ньютон. Его заключения подкреплялись анонимным отзывом на доклад, автором которого также был он сам.
Современные ученые считают{254}, что Ньютон и Лейбниц открыли математический анализ независимо. Ньютон сделал это на десятилетие раньше Лейбница, но Лейбниц получил всю славу, опубликовав свою работу. Ньютон, напротив, единственный раз, в 1671 г. попытавшись найти издателя для своих заметок по математическому анализу, похоронил свою работу до тех пор, пока не был вынужден извлечь ее наружу, начав противостояние с Лейбницем. Чаще всего решение выйти на публику становится критическим моментом в процессе научного открытия{255}. Оно свидетельствует о том, что автор считает, что его работа верна и может быть использована другими учеными. Именно по этой причине сегодня заслуги за научное открытие достаются тому, кто первый его опубликует. Но, несмотря на то что Лейбниц был первым, кто опубликовал работы по математическому анализу, как мы увидим далее, именно Ньютон, а не Лейбниц, сумел приложить математический анализ к научным задачам. Хотя, как и Декарт, Лейбниц был великим математиком, чьи философские труды вызывают огромное восхищение, он не внес особого вклада в развитие естественных наук.
Именно теории движения и притяжения Ньютона вызвали величайший, исторический переворот. Идея о том, что сила тяжести, которая заставляет предметы падать на землю, ослабевает при увеличении расстояния от Земли, зародилась еще в древности. Именно это предполагал еще в IX в. много путешествовавший ирландский монах Дунс Скот (Иоанн Скот Эригена), который, правда, никак не связывал эту силу с движением планет. Предположение о том, что сила, удерживающая планеты на их орбитах, ослабевает пропорционально квадрату расстояния от Солнца, возможно, впервые было сделано в 1645 г. французским священником Исмаэлем Буйо, который позднее был избран в Лондонское королевское общество и на которого ссылался Ньютон. Но именно Ньютон это доказал и связал силу с притяжением.
Пятьдесят лет спустя Ньютон описал, как он начал изучать притяжение. Хотя его заявления нуждаются в большом количестве разъяснений, я чувствую, что не могу не процитировать их, потому что именно в этих заявлениях Ньютон своими собственными словами описывает то, что стало поворотным моментов в истории цивилизации. Согласно Ньютону, это произошло в 1666 г., когда:
«…Я начал размышлять о притяжении, простирающемся до орбиты Луны и дальше (обнаружив, как оценить силу, с которой шар вращается внутри сферы и оказывает давление на поверхность сферы). Из закона Кеплера, согласно которому периоды обращения планет вокруг Солнца находятся в пропорции 3:2 с расстоянием от центров их орбит, я вывел, что сила, удерживающая планеты на их орбитах, должна аналогично соотноситься с квадратами расстояний от центра, вокруг которого они вращаются, с помощью этого сравнил Луну на ее орбите с силой притяжения на поверхности Земли и нашел, что они подходят очень хорошо. Все это [в том числе его работы по бесконечно малым числам и математическому анализу] было сделано за два “чумных” года, 1665 и 1666 гг. В те дни я был в расцвете моей эры изобретений и размышлял о математике и философии более чем когда-либо…»{256}
Как я уже сказал, эти высказывания требуют некоторых разъяснений.
Во-первых, слова, которые Ньютон взял в скобки: «обнаружив, как оценить силу, с которой шар вращается внутри сферы и оказывает давление на поверхность сферы», относятся к расчету центробежной силы, который к тому времени уже был проведен Гюйгенсом – примерно в 1659 г. (возможно, Ньютон об этом не знал). Для Гюйгенса и Ньютона (как и для нас) ускорение имело более широкое определение, чем просто число, выражающее изменение скорости за прошедшее время; это имеющее направление количество, показывающее как изменение скорости за прошедшее время в определенном направлении, так и модуль скорости. При движении по окружности ускорение присутствует даже при постоянной скорости – это центростремительное ускорение, которое складывается из постоянного поворота в сторону центра окружности. Гюйгенс и Ньютон пришли к заключению, что тело, движущееся с постоянной скоростью v по окружности радиусом r, обладает ускорением v²/r в сторону центра окружности, поэтому сила, необходимая для того, чтобы оно удерживалось на этой окружности и не улетало по прямой в окружающее пространство, должна быть пропорциональна v²/r (см. техническое замечание 32). Сопротивление центростремительному ускорению Гюйгенс назвал «центробежной силой», которую тело испытывает, когда его раскручивают на конце веревки по кругу. Для этого тела сопротивление обеспечивается центробежной силой, которая проявляется в натяжении веревки. Но планеты не привязаны веревками к Солнцу. Что же тогда противостоит центробежной силе, испытываемой планетами при практически круговом движении вокруг Солнца? Как мы увидим далее, ответ на этот вопрос привел Ньютона к открытию обратной пропорции квадратов в законе тяготения.
Далее, в словах «из закона Кеплера, согласно которому периоды обращения планет вокруг Солнца соотносятся в пропорции 3:2 с расстоянием до центра их орбит» Ньютон говорит о Третьем законе Кеплера (как мы его сегодня называем) – квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы средних радиусов их орбит, или, другими словами, о том, что периоды пропорциональны степени 3/2 («пропорция 3:2») средних радиусов орбит{257}. Период вращения тела со скоростью v по окружности радиусом r равен длине окружности 2πr, деленной на скорость v, поэтому для круговых орбит Третий закон Кеплера гласит, что отношение r² / v² пропорционально r³, следовательно, их обратное отношение v²/r² пропорционально 1/r³. Из этого следует, что сила, удерживающая планеты на их орбитах, пропорциональная v²/r, должна быть пропорциональна 1/r². Это и есть закон обратной пропорции квадратов в законе тяготения.
Само по себе это можно рассматривать просто как способ переформулировать Третий закон Кеплера. В рассуждениях Ньютона о планетах ничто не указывало на связь между силой, удерживающей планеты на их орбитах, и общеизвестными явлениями, связанными с силой тяготения на поверхности Земли. Эта связь появляется после того, как Ньютон начинает рассуждать о Луне. Утверждение Ньютона о том, что он «сравнил Луну на ее орбите с силой притяжения на поверхности Земли и нашел, что они подходят очень хорошо», указывает на то, что он рассчитал центростремительное ускорение Луны и нашел, что оно меньше ускорения свободного падения тел вблизи поверхности Земли в том самом соотношении, которого можно ожидать, если оба эти ускорения обратно пропорциональны квадрату расстояния от центра Земли.
Если быть точнее, Ньютон взял радиус орбиты Луны (хорошо известный по измерению суточного параллакса Луны), равный 60 земным радиусам; в действительности он составляет около 60,2 земных радиуса. Он использовал грубое округление значения радиуса Земли{258}, в результате чего получилось весьма приблизительное значение радиуса орбиты Луны, и, зная, что сидерический период обращения Луны вокруг Земли составляет примерно 27,3 суток, он смог оценить скорость Луны и из нее вывести центростремительное ускорение. Это ускорение оказалось меньше ускорения свободного падения у поверхности Земли на показатель, приближенно (очень приближенно) равный 1/(60)², чего и можно было ожидать, если считать силу, удерживающую Луну на ее орбите, той же, что притягивает тела к земной поверхности, лишь уменьшенной в соответствии с законом обратных квадратов (см. техническое замечание 33). Именно это Ньютон имел в виду, когда говорил о двух силах, что «нашел, что они подходят очень хорошо».
Это был кульминационный шаг в объединении земного и небесного в науке. Коперник поместил Землю среди других планет, тогда как Тихо Браге показал, что в небесах происходят изменения, а Галилей увидел, что поверхность Луны неровная, как и поверхность Земли, но ни одно из этих нововведений не связывало движение планет с силами, которые можно наблюдать на Земле. Декарт пытался понять движение тел в Солнечной системе как результат взаимодействия вихрей в эфире, сравнивая их с вихрями в луже воды на Земле, но его теория не имела успеха. Теперь же Ньютон показал, что сила, которая удерживает Луну на орбите вокруг Земли и планеты на их орбитах вокруг Солнца, – это та же самая сила притяжения, которая заставляет яблоко падать на землю Линкольншира и имеет те же самые количественные характеристики. После этого открытия о разграничении между небесным и земным, которое начиная со времен Аристотеля сдерживало развитие физики, пришлось навсегда забыть. Но от этого открытия все еще было далеко до Закона всемирного тяготения, который гласит, что любое тело во Вселенной, а не только Земля и Солнце, притягивает любое другое тело с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.
В аргументах Ньютона все еще зияли четыре огромные прорехи:
1. Сравнивая центростремительное ускорение Луны с ускорением свободного падения тел у поверхности Земли, Ньютон предполагал, что сила, производящая это ускорение, ослабевает обратно пропорционально квадрату расстояния но расстояния от чего? Это не имело большого значения для Луны, которая находится от Земли так далеко, что Земля может быть принята за точку, когда речь идет о движении Луны. Но для яблока, падающего на землю Линкольншира, Земля простирается непосредственно под деревом, от места, расположенного всего в нескольких метрах, до места на противоположной стороне Земли, отдаленного на 12 742 км. Ньютон предполагал, что расстояние, которое соотносится с любым падающим телом у поверхности Земли, – это расстояние до центра Земли, но это не было очевидно.
2. Ньютоновское объяснение Третьего закона Кеплера не принимало во внимание совершенно очевидную разницу между планетами. Каким-то образом не придавалось никакого значения тому, что Юпитер намного больше Меркурия; разница между их центростремительными ускорениями зависела только от расстояния до Солнца. Еще более значительным было то, что ньютоновское сравнение центростремительного ускорения Луны и ускорения свободного падения у поверхности Земли полностью игнорировало разницу между Луной и любым падающим телом, например, яблоком. Почему эта разница не имеет никакого значения?
3. В работе, датированной им 1665–1666 гг., Ньютон интерпретировал Третий закон Кеплера как положение о том, что для любых разных планет произведение центростремительного ускорения на квадраты их расстояний от Солнца будет одинаковым. Но общее значение этого произведения совсем не равно произведению центростремительного ускорения Луны на квадрат ее расстояния до Земли; оно намного больше. Что влияет на эту разницу?
4. Наконец, в своей работе Ньютон считал, что орбиты планет и Луны являются круговыми и небесные тела движутся по ним с постоянной скоростью, хотя Кеплер доказал, что орбиты являются не окружностями, а эллипсами, Солнце и Земля находятся не в центре эллипса, а скорости планет и Луны только приближаются к постоянным.
Начиная с 1666 г. Ньютон пытался разобраться с этими неувязками. Тем временем другие ученые приходили к тем же выводам, что и Ньютон. В 1679 г. старый соперник Ньютона Гук опубликовал свои «кутлеровские лекции», в которых содержались некоторые предположения по поводу движения и притяжения, хотя и без математических доказательств:
«Все любые небесные тела имеют притяжательную или тяготительную силу, направленную к их центрам, вследствие чего они притягивают не только свои собственные части и удерживают их так, чтобы они не разлетались, что мы можем наблюдать на самой Земле, но что они также притягивают и все небесные тела, которые находятся в сфере действия их активности… Вторым предположением является следующее: все любые тела, которые принуждены к прямолинейному и простому движению, будут продолжать свое движение вперед по прямой линии, пока они не будут отклонены некоторыми иными действующими силами и перейдут в движение, описывающее круг, эллипс или другую несоставную кривую линию. Третье предположение утверждает, что эти притягательные силы тем более мощны в своем действии, чем ближе к их центрам окажется тело, на которое оказывается действие»{259}.
Гук написал Ньютону об этих размышлениях, в том числе о законе обратных квадратов. Ньютон отмахнулся, ответив, что не слышал о работе Гука и что «метод бесконечно малого»{260} (имеется в виду математический анализ) необходим для понимания движения планет.
Затем, в августе 1684 г. произошел судьбоносный визит астронома Эдмунда Галлея в Кембридж к Ньютону. Как Ньютон и Гук, а также и Рен, Галлей видел связь между законом обратных квадратов и Третьим законом Кеплера для круговых орбит. Галлей задал Ньютону вопрос о том, какой в действительности будет форма орбиты тела, двигающегося под влиянием силы, которая убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. Ньютон ответил, что орбита получится в форме эллипса, и пообещал выслать доказательство. Позже в том же году Ньютон написал десять страниц под заглавием «Движение тел по орбите», где были описаны основные принципы движения тел под воздействием силы, распространяющейся от центрального тела.
Три года спустя Королевское общество опубликовало «Математические начала натуральной философии» (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica) Ньютона, несомненно, величайшую книгу в истории физики.
Перелистывая «Математические начала», современный физик может удивиться, увидев, как мало они напоминают современные сочинения по физике. В книге много геометрических чертежей, но мало уравнений. Создается даже ощущение, что Ньютон забыл обо всех своих достижениях в области математического анализа. Но не совсем. Во многих его чертежах можно увидеть некоторые черты, которые предполагаются как бесконечно малые величины или бесконечные ряды. Например, показывая, как работает закон равных площадей Кеплера для любой силы, исходящей из центра, Ньютон представил, что планета получает из центра бесконечное количество импульсов притяжения к центру, каждый из которых отделяется от другого бесконечно малым промежутком времени. Это просто метод расчета, не только корректный, но быстрый и легкий, проводимый с помощью общих формул математического анализа, хотя нигде в «Математических началах» эти формулы так и не появляются. Ньютоновская математика в этой книге не слишком отличается от математики, которую использовал Архимед для того, чтобы высчитать площадь окружности, или Кеплер – для расчета объема бочек с вином.
Стиль «Математических начал» напоминает читателю стиль «Начал» Евклида. Книга начинается с определений{261}:
Определение I
«Количество материи есть мера таковой, устанавливаемая пропорционально плотности и объему ее».
То, что в переводе называется «количеством материи», на латинском у Ньютона называлось massa и сегодня также называется «массой». Здесь Ньютон определяет ее как произведение плотности и объема. Хотя он не дает определение плотности, его определение массы остается полезным, потому что читатели могут принять как само собой разумеющееся, что тела из одного вещества, например, железа при данной температуре, будут иметь одинаковую плотность. Как показал Архимед, измерения удельного веса дают значения плотности по отношению к воде. Ньютон отмечает, что мы выводим массу тела из его веса, но не смешивает понятия веса и массы.
Определение II
«Количество движения есть мера такового, устанавливаемая пропорционально скорости и массе».
То, что Ньютон называет «количеством движения», сегодня называется «импульсом». Ньютон определяет его как произведение скорости и массы.
Определение III
«Врожденная сила материи есть присущая ей способность сопротивления, по которой всякое отдельное тело, поскольку оно предоставлено самому себе, удерживает свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения».
Далее Ньютон объясняет, что эта сила пропорциональна массе тела и «если отличается от инерции массы, то разве только воззрением на нее». Иногда мы характеризуем массу по ее роли как то качество, которое сопротивляется изменению движения, и называем ее «инертной массой».
Определение IV
«Приложенная сила есть действие, производимое над телом, чтобы изменить его состояние покоя или равномерного прямолинейного движения».
Здесь определяется общая концепция силы, но еще не дается никакого численного значения, которое мы должны приписать данной силе.
В определениях V–VIII определяется центростремительное ускорение и его свойства.
После определений идет «Поучение» (или пояснение), в котором Ньютон отказывается давать определения пространства и времени, но предлагает их описание:
«I. Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно и иначе называется длительностью…
II. Абсолютное пространство по самой своей сущности, безотносительно к чему-либо внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным».
И Лейбниц, и епископ Джордж Беркли критиковали это определение времени и пространства на основании того, что только относительное положение во времени и пространстве имеет смысл. В «Поучении» Ньютон объясняет, что обычно мы имеем дело с относительными положениями и скоростями, но теперь он получил новый ключ к понятию абсолютного пространства: в ньютоновской механике ускорение (в отличие от положения и скорости) имеет абсолютное значение. Как может быть иначе? Из повседневного опыта известно, что ускорение оказывает свое влияние, и нет никакой необходимости спрашивать: ускорение относительно чего? Из того, что сила отбросила нас на спинки сидений, мы понимаем, что ускоряемся, если находимся в машине, которая резко набирает скорость, независимо от того, смотрим ли мы в этот момент в окно. Как мы увидим далее, в XX в. точки зрения Ньютона и Лейбница на пространство и время были объединены в Общей теории относительности.
Затем Ньютон переходит к трем знаменитым законам движения:
Первый закон
«Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние».
Это уже было известно Гассенди и Гюйгенсу. Не совсем понятно, почему Ньютон решил выделить это положение в отдельный закон, так как Первый закон является тривиальным (хотя и важным) следствием из Второго.
Второй закон
«Изменение количества движения пропорционально приложенной силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует».
Здесь под «изменением количества движения» Ньютон имеет в виду изменение импульса[21], который он называет «количеством движения» в определении II. В действительности скорость изменения импульса пропорциональна этой силе. Традиционно мы определяем единицы, в которых измеряется сила, так, что скорость изменения импульса фактически равна силе. Поскольку импульс – это масса, умноженная на скорость, скорость его изменения – это масса, умноженная на ускорение. Таким образом, Второй закон Ньютона определяет, что масса, умноженная на ускорение, равна силе, деленной на ускорение. Но знаменитое равенство F = ma в «Математических началах» так и не появляется; таким образом Второй закон был сформулирован европейскими математиками в XVIII в.
Третий закон
«Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны».
В истинно геометрическом стиле Ньютон приводит серию следствий, выведенных из этих законов. Самое значимое среди них – следствие III, где формулируется закон сохранения импульса (см. техническое замечание 34).
Закончив с определениями, законами и следствиями, Ньютон в Книге I начинает делать из них выводы. Он доказывает, что только центральные силы (силы, направленные к одной точке в центре) заставляют тело двигаться так, чтобы за равные промежутки времени отсекать равные площади; что центральные силы обратно пропорциональны квадрату расстояния и только такие центральные силы производят движение по коническому сечению, то есть по кругу, эллипсу, параболе или гиперболе; что при движении по эллипсу такая сила создает периоды, пропорциональные 3/2 длины большей оси эллипса (которая, как было упомянуто в главе 11, является усредненным по всей протяженности ее пути расстоянием от планеты до Солнца). Таким образом, центральная сила, обратно пропорциональная квадрату расстояния, отвечает за все три закона Кеплера. Также Ньютон заполняет пробелы в своем сравнении центростремительного ускорения Луны и ускорения свободного падения, доказывая в отделе XII части I книги, что сферическое тело, состоящее из частиц, каждая из которых производит силу, обратно пропорциональную квадрату расстояния, производит общую силу, обратно пропорциональную квадрату расстояния до центра сферы.
В конце отдела I Книги I содержится примечательное «Поучение», в котором Ньютон отмечает, что он больше не полагается на понятие бесконечно малых величин (исчезающих количеств). Он объясняет, что «флюксии», такие как скорости, не являются отношениями бесконечно малых величин, как он ранее описывал их, но вместо этого: «Предельные отношения исчезающих количеств не суть отношения пределов этих количеств, а суть те пределы, к которым при бесконечном убывании количеств приближаются отношения их и к которым эти отношения могут подойти ближе, чем на любую наперед заданную разность»{262}. Это, в сущности, современная идея предела, на которой сегодня основывается математический анализ. Единственное, что несовременно в «Математических началах», так это мысль Ньютона о том, что пределы должны изучаться методами геометрии.
Книга II представляет собой длинное описание движения тел в жидкости, главная цель которого – определение законов, управляющих силами сопротивления для таких тел{263}. В этой книге Ньютон развенчивает теорию вихрей Декарта. Затем он переходит к расчету скорости звуковых волн. Его результат в Предложении 49 (о том, что скорость является квадратным корнем из отношения давления и плотности) верен только по порядку величины, поскольку в то время никто не знал, как учитывать изменения температуры во время расширения и сжатия. Но вместе с расчетами скорости океанских волн это было вызывающим интерес достижением – впервые в истории кто-то воспользовался законами физики, чтобы обеспечить более или менее реалистичный расчет скорости волн какого-либо вида.
Наконец, Ньютон переходит к доказательствам из астрономии в Книге III, которая называется «Система мира». В то время, когда вышло первое издание «Математических начал», существовало всеобщее согласие по поводу правильности Первого закона Кеплера, то есть эллиптической формы орбит планет, но все еще оставались некоторые сомнения по поводу Второго и Третьего законов о том, что радиус-вектор от Солнца до планеты описывает равные площади за равные промежутки времени, и о том, что квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей их орбит. Кажется, Ньютон зацепился за законы Кеплера не потому, что они были хорошо сформулированы, а потому что подходили к его собственной теории. В Книге III он отмечает, что спутники Юпитера и Сатурна ведут себя соответственно Второму и Третьему законам Кеплера, что наблюдаемые фазы пяти планет (кроме Земли) доказывают, что они обращаются вокруг Солнца, что все шесть планет подчиняются законам Кеплера и что Луна удовлетворяет Второму закону Кеплера{264}. Его собственные тщательные наблюдения кометы 1680 г. показывают, что она тоже движется по коническому сечению: по эллипсу или гиперболе, в любом случае – очень близко к параболе. Из всего этого (и своих более ранних сравнений центростремительного ускорения Луны и ускорения свободного падения тел около поверхности Земли) Ньютон заключил, что существует центральная сила, подчиняющаяся закону обратных квадратов, которая притягивает спутники Юпитера, Сатурна и Земли к планетам, а также все планеты и кометы – к Солнцу. Из того факта, что ускорение производится силой тяжести независимо от природы тела, которое ускоряется, будь это планета, спутник или яблоко, и зависит только от природы тела, производящего силу, и расстояния между ними, а также учитывая тот факт, что ускорение, производимое любой силой, обратно пропорционально массе тела, на которое оно воздействует, Ньютон пришел к выводу, что сила тяготения, действующая на любое тело, должна быть пропорциональна массе тела, что отменяет зависимость от массы тела при расчетах ускорения. Это создает четкое различие между силой тяготения и магнетизмом, который по-разному действует на тела с разным составом, даже когда они имеют одинаковую массу.
Далее в Предложении 7 Ньютон использовал свой Третий закон движения, чтобы определить, как сила притяжения зависит от природы тела, ее производящего. Рассматривая два тела, 1 и 2, с массами m1 и m2, Ньютон показал, что сила притяжения, оказывающая влияние со стороны тела 1 на тело 2, пропорциональна m2, а сила, оказывающая влияние со стороны тела 2 на тело 1, пропорциональна m1. Но в соответствии с Третьим законом эти силы равны по модулю, поэтому каждая из них должна быть пропорциональна m1 и m2.. Ньютон мог проверить Третий закон в случаях столкновения тел, но не при гравитационных взаимодействиях. Как подчеркивал Джордж Смит, только много лет спустя стало возможно подтвердить пропорциональность силы притяжения инертной массе как притягивающего, так и притягиваемого тела. Тем не менее Ньютон пришел к заключению, что «тяготение существует во всех телах повсеместно, и оно пропорционально количеству материи в каждом из них». Именно поэтому произведения центростремительного ускорения различных планет на квадрат их расстояния до Солнца намного больше, чем произведение центростремительного ускорения Луны на квадрат ее расстояния до Земли: все дело в том, что Солнце, которое притягивает планеты, намного массивнее, чем Земля.
Эти результаты Ньютона обычно представляют в виде формулы для силы притяжения F между двумя телами с массами m1 и m2, разделенными расстоянием r:
F = G ∙ m1 ∙ m2 / r²,
где G – это универсальная постоянная, сегодня известная как постоянная Ньютона, или гравитационная постоянная. Ни эта формула, ни постоянная G не появляются в «Математических началах». Даже если бы Ньютон ввел эту постоянную, он не смог бы определить ее значение, потому что не знал массу Солнца и Земли. В расчетах движения Луны или планет G появляется только как множитель для массы, соответственно, Земли или Солнца.
Даже не зная значения G, Ньютон смог использовать свою теорию притяжения, чтобы рассчитать соотношения масс различных тел в Солнечной системе (см. техническое замечание 35). Например, зная отношения расстояний от Юпитера и Сатурна до их спутников и до Солнца и зная отношения орбитальных периодов Юпитера и Сатурна и их спутников, он смог высчитать отношения центростремительных ускорений для спутников Юпитера и Сатурна в направлении их центральных планет к центростремительным ускорениям самих этих планет в направлении к Солнцу. Из этого Ньютон смог вывести соотношение масс Юпитера, Сатурна и Солнца. Поскольку у Земли также есть спутник, ту же самую технику можно в принципе использовать, чтобы высчитать соотношение масс Земли и Солнца. К сожалению, несмотря на то что расстояние между Землей и Луной было хорошо известно благодаря суточному параллаксу Луны, суточный параллакс Солнца был слишком мал, чтобы его измерить, таким образом соотношение расстояний между Землей и Солнцем и Землей и Луной не было известно (как мы уже видели в главе 7, информация, полученная Аристархом, и расстояния, которые он высчитал, пользуясь ею, были безнадежно неточны). Тем не менее Ньютон пошел дальше и рассчитал соотношения масс, используя значение расстояния от Земли до Солнца, которое было, скорее, нижней границей этой величины и составляло примерно половину настоящего значения. В таблице приводятся вычисленные Ньютоном соотношения масс, приведенные в качестве следствия из Теоремы VIII Книги III «Математических начал», в сравнении с современными значениями{265}.
Как видно из этой таблицы, полученный Ньютоном результат для Юпитера совпадает с истинным значением очень хорошо, для Сатурна – неплохо, но для Земли – очень отличается, потому что расстояние от Земли до Солнца не было известно. Ньютон был вполне осведомлен о проблемах, которые возникают по причине неточности в наблюдениях, но, как и большинство ученых до начала XX в., был достаточно небрежен по поводу точности в результатах своих расчетов. К тому же Ньютон, как и его предшественники Аристарх и аль-Бируни, приводил эти результаты с гораздо большим количеством значащих цифр, чем это позволяла точность данных, на которых были основаны расчеты.
Кстати, первая серьезная оценка размеров Солнечной системы была проведена в 1672 г. Жаном Рише и Джованни Доменико Кассини. Они измерили расстояние до Марса, наблюдая разницу в направлении на Марс из Парижа и Кайенны. Поскольку соотношения расстояний от планет до Солнца уже были известны из теории Коперника, таким образом, они получили и расстояние от Земли до Солнца. В современных единицах их результат составлял 140 млн км, что достаточно близко к современному значению в 149 598 500 млн км для среднего расстояния. Более точные измерения были проведены позже путем сравнения наблюдений из различных точек Земли прохождений Венеры по диску Солнца в 1761 и 1769 гг., что дало расстояние между Землей и Солнцем в 153 млн км{266}.
В 1797–1798 гг. Генри Кавендиш наконец сумел измерить силу притяжения между двумя телами в лабораторных условиях, из чего стало возможным вывести значение G. Но Кавендиш вместо этого, используя хорошо известное значение ускорения свободного падения в гравитационном поле Земли у ее поверхности (9,8 м/с²) и известное значение объема Земли, высчитал, что средняя плотность Земли в 5,48 раз превышает плотность воды.
Это соответствовало исторически сложившейся в физике практике – оформлять полученные результаты как отношения или пропорции, а не определенные величины. Например, как мы уже видели, Галилей доказал, что расстояние, пройденное свободно падающими на поверхность Земли телами, пропорционально квадрату времени, но он никогда не говорил, что постоянный множитель при квадрате времени, который дает пройденное расстояние, равен 9,8 м/с за каждую секунду. Как минимум это было связано с тем, что не существовало универсальных единиц измерения длины. Галилей мог получить отношение ускорения к силе тяжести в столько-то локтей в секунду, но что бы это говорило англичанину или даже итальянцу, живущему за пределами Тосканы? Международная стандартизация единиц длины и массы{267} началась в 1742 г., когда Лондонское королевское общество послало во французскую Академию наук две линейки, размеченные стандартными английскими дюймами. Французы разметили эти линейки своими единицами длины и отослали обратно в Лондон. Но общепринятая система единиц измерения появилась только в 1799 г., когда международную метрическую систему начали постепенно принимать в разных странах. Сегодня мы говорим, что G составляет 66,74 триллионных м³/с² на килограмм. Это означает, что небольшое тело массой один килограмм на расстоянии одного метра производит гравитационное ускорение в 66,74 триллионных метра в секунду за каждую секунду.
После изложения теорий движения и притяжения Ньютон в «Математических началах» переходит к разработке некоторых следствий, которые выходят далеко за рамки трех законов Кеплера. Например, в Предложении 14 он объясняет прецессию перигелия орбит планет (для Земли), измеренную аз-Заркали, хотя сам Ньютон не пытается провести количественные вычисления.
В Предложении 19 Ньютон замечает, что все планеты должны быть сплющены у полюсов, поскольку их вращение производит центробежную силу, которая сильнее всего у экватора и уменьшается к полюсам. Например, вращение Земли создает центростремительное ускорение, на экваторе равное 0,034 м/с за секунду. Сравним эту величину с ускорением свободного падения – 9,8 м/с за секунду: центробежная сила, создаваемая вращением Земли, намного слабее силы притяжения, но полностью пренебречь ею нельзя, а Земля действительно имеет почти шаровидную форму, но слегка сплющена у полюсов. Наблюдения в 1740-х гг. в конце концов доказали, что один и тот же маятник раскачивается на экваторе медленнее, чем на более высоких широтах, в точности, как и ожидалось, поскольку на экваторе маятник находится немного дальше от центра Земли, сплющенной у полюсов.
В Предложении 39 Ньютон доказывает, что воздействие силы тяготения на сплющенную у полюсов Землю вызывает прецессию ее оси вращения, ту самую «прецессию равноденствий», которую впервые заметил Гиппарх (у Ньютона был свой особый интерес к этой прецессии: соотнося ее значения с древними наблюдениями звезд, он пытался установить даты предполагаемых исторических событий, например, путешествия Ясона и аргонавтов){268}. В первом издании «Математических начал» Ньютон приводит свои расчеты, которые показали, что доля Солнца в годичной прецессии составляет 6,82° дуги, а воздействие со стороны Луны больше в 6,3 раза, что дает общие точки равноденствия в 50" дуги за год, и это идеально согласуется с годовой прецессией в 50", измеренной к тому времени и близкой к современному значению в 50,375". Это был впечатляющий результат, но позднее Ньютон понял, что найденная им величина прецессии под влиянием Солнца, а значит, и ее вклад в общую прецессию был в 1,6 раза занижен. Во втором издании он скорректировал величину воздействия со стороны Солнца, а также соотношение вкладов Солнца и Луны в общий эффект прецессии, так что их сумма опять же оказалась близкой к 50" и осталась в согласии с наблюдательными данными{269}. Ньютон получил верное качественное объяснение прецессии равноденствий, и его расчет дал ему величину правильного порядка для этого явления, но чтобы добиться необходимого согласия с наблюдениями, ему пришлось прибегнуть ко многим ухищрениям.
Это только один пример того, как Ньютон подгонял свои расчеты, чтобы получать результаты, хорошо согласующиеся с наблюдениями. Наряду с этим примером Р. Вестфол{270} приводит другие, в том числе расчеты Ньютоном скорости звука и его сравнение центростремительного ускорения Луны с ускорением свободного падения у поверхности Земли. Возможно, Ньютон чувствовал, что его настоящие или воображаемые соперники никогда не будут удовлетворены никакими выводами, кроме тех, которые идеально совпадают с наблюдениями.
В Предложении 24 Ньютон излагает свою теорию приливов. Грамм за граммом Луна притягивает океанские воды сильнее, чем твердую Землю, центр которой находится дальше. В то же время Луна притягивает твердую Землю сильнее, чем океанскую воду на противоположной Луне стороне Земли. Таким образом, в океане появляется приливный горб, образующий волну как со стороны, обращенной к Луне, так и с противоположной, где сила притяжения Луны вытягивает Землю из воды. Этим объясняется, почему в некоторых местах высокие приливы отделяются промежутком примерно в 12 часов, а не в 24. Но это явление слишком сложно для теории приливов, которую можно было доказать опытом во времена Ньютона. Он знал, что Солнце, как и Луна, играет роль в образовании приливов. Приливы с максимально высоким уровнем и отливы с минимальным уровнем, известные как сизигийные приливы, возникают в новолуние или полнолуние, то есть когда Солнце, Луна и Земля оказываются на одной линии, взаимно усиливая воздействие силы притяжения. Но самая большая сложность проистекает из того факта, что все гравитационные воздействия в океане тесно связаны с формой континентов и топографией океанского дна, которые Ньютон не мог принимать в расчет.
Подобная ситуация часто возникала в истории физики. Теория тяготения Ньютона успешно объяснила простые явления, такие как движение планет, но не смогла дать количественно оцениваемых характеристик для более сложных явлений, например, приливов. Сегодня мы оказались в той же ситуации с теорией сильного поля, которое сдерживает кварки в протонах и нейтронах внутри атомных ядер, теорией, которая известна как квантовая хромодинамика. Она вполне успешно объясняет определенные процессы при высоких энергиях, такие как образование различных сильно взаимодействующих частиц при аннигиляции быстрых электронов и их античастиц. Это убеждает нас, что теория правильна. Но мы не можем использовать ее, чтобы высчитать точные значения, которые хотели бы объяснить, например, массы протонов и нейтронов, потому что расчеты слишком сложны. Здесь, как и в ситуации с ньютоновской теорией приливов, лучше всего набраться терпения. Физические теории проходят проверку, когда они дают нам возможность надежно рассчитывать достаточное количество простых параметров, даже если мы не можем рассчитать все, что нам захочется.
Книга III «Математических начал» представляет расчеты того, что уже было измерено, и дает прогнозы относительно еще не измеренных параметров, но даже в последнем, третьем издании «Математических начал» Ньютон не смог указать на свои прогнозы, которые были бы подтверждены за сорок лет со времени выхода первого издания. Тем не менее, подводя итоги, можно сказать, что фактическая доказанность теорий движения и притяжения Ньютона перевешивала все. Ньютону не было нужды следовать примеру Аристотеля и объяснять, почему притяжение существует, и он не пытался это сделать. В своем «Общем поучении» Ньютон заключает:
«До сих пор я изъяснил небесные явления и приливы наших морей на основании силы тяготения, но я не указывал причины самого тяготения. Эта сила происходит от некоторой причины, которая проникает до центра Солнца и планет без уменьшения своей способности и которая действует не пропорционально величине поверхности частиц, на которые она действует (как это обыкновенно имеет место для механических причин), но пропорционально количеству твердого вещества, причем ее действие распространяется повсюду на огромные расстояния, убывая пропорционально квадратам расстояний… Причину же этих свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю»{271}.
Книга Ньютона начинается с подобающей оды авторства Галлея. Вот ее последние строки:
Вы, кто питаться при жизни божественным нектаром рады, Ньютона славьте, ковчег нам открывшего истины скрытой, Ньютона, Музам Парнаса любезного, в чьей груди чистой Феб пребывает, сознанье ему божеством наполняя. Смертному больше, чем это, к богам не дано приближаться.«Начала» описывают законы движения и принципы закона всемирного тяготения, но это не исчерпывает их важность. Ньютон дал будущей науке модель того, какой должна быть физическая теория: набор простых математических принципов, которые точно удовлетворяют широкому спектру различных явлений. Хотя Ньютон точно знал, что притяжение является не только физической силой, именно поэтому его теория была всеобщей – каждая частица во Вселенной притягивает любую другую частицу с силой, пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. «Начала» не только вывели законы движения планет Кеплера как точное решение упрощенной задачи – движения точечного источника массы в ответ на притяжение единственной массивной сферы, – они объяснили (хотя в некоторых случаях только качественно) огромное количество других явлений: прецессию равноденствий, прецессию перигелия, траектории движения комет, приливы и отливы, падение яблок{272}. По сравнению с этим все предыдущие физические теории не были столь всеобъемлющими.
После публикации «Начал» в 1686–1687 гг. Ньютон стал знаменитым. Его выбрали членом парламента от Кембриджского университета в 1689 г. и – еще раз – в 1701 г. В 1694 г. он стал смотрителем Монетного двора, где провел реформу Монетной системы Англии. При этом Ньютон сохранил свою должность Лукасовского профессора математики. Когда царь Петр Великий приезжал в Англию в 1698 г., он собирался посетить Монетный двор, чтобы встретиться с Ньютоном, но я не нашел никаких свидетельств того, состоялась ли эта встреча. С 1699 г. Ньютон занял должность управляющего Монетным двором, которая гораздо лучше оплачивалась. Он разбогател и отказался от своего профессорства. В 1703 г., после смерти его старого врага Гука, Ньютон стал президентом Лондонского королевского общества. В 1705 г. Ньютон был возведен в рыцарское достоинство. Когда в 1727 г. он умер от мочекаменной болезни, его удостоили государственных похорон[22], несмотря на то что он отказался принять Святые Дары англиканской церкви. Вольтер писал, что Ньютон «был погребен, как король, облагодетельствовавший своих подданных»{273}.
Теория Ньютона не была принята повсеместно{274}. Несмотря на то что он сам принадлежал к унитарианской церкви, некоторые англичане, такие как теолог Джон Хатчинсон и епископ Беркли, критиковали обезличенный натурализм его теории. Это было несправедливо по отношению к набожному Ньютону. Он даже доказывал, что только божественное вмешательство может объяснить, почему взаимное гравитационное притяжение планет не нарушает гармонию Солнечной системы{275} и почему некоторые тела, такие как Солнце и звезды, светят своим собственным светом, в то время как другие – планеты и их спутники – сами по себе темные. Сегодня мы, конечно, понимаем, что свет Солнца и звезд имеет естественное происхождение – они сияют, потому что разогреты ядерными реакциями их недр.
Хотя это и было несправедливо по отношению к Ньютону, доля истины была в критике Хатчинсона и Беркли. Следуя примеру работ Ньютона, а не его личному мнению, к концу XVIII в. физика полностью рассталась с религией.
Другим препятствием к восприятию работы Ньютона было застарелое искусственное противостояние между математиками и физиками, которое мы видели в комментарии Гемина Родосского в главе 8. Ньютон не говорил, подобно Аристотелю, языком сущностей и качеств и не пытался объяснить причину тяготения. Священник Николя Мальбранш (1638–1715) в своем отзыве на «Начала» говорил, что это работа геометра, а не физика. Мальбранш явно думал о физике аристотелевского образца. Он не понимал того, что Ньютон изменил само определение физики.
Особенно сильно теорию притяжения Ньютона критиковал Христиан Гюйгенс{276}. Он во многом восхищался «Началами» и не сомневался, что движение планет управляется силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния, но Гюйгенс возражал по поводу того, действительно ли каждая частица вещества притягивает любую другую частицу с силой, пропорциональной произведению их масс. В этом вопросе Гюйгенс, возможно, был введен в заблуждение неточностями в измерениях скоростей маятников на разных широтах, которые, казалось, доказали, что замедление маятников около экватора может быть полностью объяснено воздействием центробежной силы, возникающей из-за вращения Земли. Если это было так, то подразумевалось, что Земля не сплющена у полюсов, как это было бы, если бы частицы земли притягивались друг к другу так, как это описал Ньютон.
Еще при жизни Ньютона его теория была встречена в штыки во Франции и Германии последователями Декарта и старого соперника Ньютона Лейбница. Они возражали против нее на основании того, что притяжение, действующее через миллионы километров, является загадочным элементом натурфилософии, и продолжали настаивать, что действию притяжения должно быть найдено рациональное объяснение, а принимать его как данность нельзя.
В этом европейские натурфилософы придерживались древнего идеала науки, восходящего к эллинистической эпохе, о том, что научные теории должны обязательно быть основаны исключительно на рациональных объяснениях. Мы научились тому, что от этого надо иной раз отказаться. Даже несмотря на то, что наша очень успешно работающая теория электронов и света может быть выведена из современной Стандартной модели элементарных частиц, которая может (как мы надеемся), в свою очередь, быть выведена из более глубокой теории, тем не менее, как бы глубоко мы ни копали, мы никогда не найдем теорию, основанную только на чистой логике. Как и я, большинство физиков сегодня смирились с неизбежным фактом, что мы всегда будем удивляться тому, что наши самые глубокие теории именно таковы, какие они есть.
Несогласие с учением Ньютона проявилось в знаменитом обмене письмами, продолжавшемся в 1715 и 1716 гг., между Лейбницем и учеником Ньютона преподобным Сэмьюэлем Кларком, который перевел «Оптику» Ньютона на латынь. Больше всего они спорили о природе Бога: вмешивается ли Он в управление миром, как считал Ньютон, или с самого начала установил определенный порядок, который далее развивается сам?{277} Это противостояние кажется мне слишком несерьезным. Даже если бы его предмет существовал на самом деле, ни Лейбниц, ни Кларк все равно не могли узнать точный ответ на этот вопрос.
В конце концов мнение критиков перестало что-либо значить, поскольку последователи Ньютона добились успехов. Галлей свел воедино результаты наблюдений комет в 1531, 1607 и 1682 гг. в параметры одной почти параболической эллиптической орбиты, доказав, что это были регулярные появления одной и той же кометы. Используя теорию Ньютона, чтобы учесть гравитационные возмущения, связанные с воздействиями масс Юпитера и Сатурна, в ноябре 1758 г. французский математик Алекси Клеро и его соратники предсказали, что эта комета вернется в перигелий в середине апреля 1759 г. Комету заметили в Рождество 1758 г., через 15 лет после смерти Галлея, а перигелия она достигла 13 марта 1759 г. В середине XVIII в. теория Ньютона продвигалась Клеро и Эмили дю Шателе, которые перевели «Начала» на французский язык, а также благодаря протекции любовника дю Шателе Вольтера. Еще один француз Жан Д’Аламбер (1717–1783) в 1749 г. опубликовал первые правильные и точные расчеты прецессии равноденствий, основываясь на работах Ньютона. Было очевидно, что учение Ньютона торжествует во всех областях.
Это происходило не потому, что теория Ньютона удовлетворяла неким ранее существовавшим метафизическим критериям научной теории. Это было не так. Она не отвечала на вопрос о цели, который был краеугольным в физике Аристотеля. Но эта теория объясняла универсальные принципы, которые позволили успешно решить множество задач, которые ранее казались неразрешимыми. Таким образом, она обеспечила неоспоримый образец того, какой может и должна быть физическая теория.
Подобную роль сыграла в истории науки и теория естественного отбора Дарвина. Мы чувствуем глубокое удовлетворение, когда удается что-либо успешно объяснить, как удалось Ньютону объяснить законы движения планет Кеплера, а также многое другое. Сохраняются только те научные теории и методы, которые обеспечивают удовлетворение такого рода, независимо от того, соответствуют ли они какому-то ранее существующему образцу того, как должна делаться наука.
Отказ от теорий Ньютона последователей Декарта и Лейбница заставляет думать о морали в истории науки: опасно отвергать теорию, с помощью которой удалось добиться столь многих впечатляющих результатов, соответствующих наблюдениям, сколько сумел получить Ньютон. Успешные теории могут работать по причинам, которых не понимают сами их творцы, а потом всегда становятся основанием для новых теорий, но никогда не бывают просто ошибочны.
В XX в. не всегда следовали этой морали. В 1920-е гг. началось развитие квантовой механики, совершенно нового раздела в физической теории. На место расчета траекторий планет или частиц пришли расчеты эволюции волн вероятности, интенсивность которых в любом месте и времени говорит нам о возможности обнаружить определенную планету или частицу. Многие основатели квантовой механики, в том числе Макс Планк, Эрвин Шрёдингер, Луи де Бройль и Альберт Эйнштейн, настолько не могли примириться с необходимостью отбросить принципы детерминизма, что они больше не работали над теориями квантовой механики, а лишь указывали на недопустимые последствия этих теорий. Часть критики квантовой механики, высказанная Шрёдингером и Эйнштейном, была обоснована и волнует нас до сих пор, но к концу 1920-х гг. квантовая механика уже была столь успешна в изучении особенностей атомов, молекул и фотонов, что ее начали воспринимать серьезно. Отрицание теорий квантовой физики вышеупомянутыми учеными означало, что они не смогли принять участие в развитии физики твердого тела, атомных ядер и элементарных частиц в 1930-х и 1940-х гг.
Как и квантовая механика, ньютоновская теория Солнечной системы стала подобием того, что позже стало называться Стандартной моделью. Я ввел этот термин в 1971 г., чтобы описать существующую на то время теорию структуры и эволюции расширяющейся Вселенной, объяснив:
«Конечно, вполне возможно, что эталонная[23] модель частично или полностью неверна. Однако ее ценность заключается не в ее непоколебимой справедливости, а в том, что она служит основой для обсуждения огромного разнообразия наблюдаемых данных. Обсуждение этих данных в контексте эталонной космологической модели может привести к уяснению их значения для космологии независимо от того, какая модель окажется правильной в конечном счете»{278}.
Немного позже я и другие физики начали использовать термин «стандартная модель» по отношению к разрабатываемой нами теории элементарных частиц и их различных взаимодействий. Конечно, последователи Ньютона не пользовались этим термином, когда говорили о ньютоновской теории Солнечной системы, но, возможно, им стоило бы это сделать. Ньютоновская теория, конечно, обеспечила единую основу для астрономов, пытающихся объяснить наблюдения, не укладывающиеся в элементарные законы Кеплера.
В конце XVIII и начале XIX вв. методы приложения теории Ньютона для решения задач, где задействовано более двух тел, разрабатывались многими учеными. Одно новшество, имеющее огромную значимость для будущего науки, было введено в начале XIX в. Пьером-Симоном Лапласом. Вместо того чтобы суммировать силу притяжения, исходящую от каждого тела в такой совокупности, как Солнечная система, можно высчитать поле – состояние пространства, которое в каждой точке дает величину и направление ускорения, производимого всеми массами вместе. Чтобы рассчитать поле, необходимо решить несколько дифференциальных уравнений, которым оно подчиняется (эти уравнения задают условия изменения поля, когда точка, в которой оно измеряется, смещается по одному из трех перпендикулярных направлений). Этот подход дает почти тривиальное доказательство теоремы Ньютона о том, что сила притяжения, производимая массой сферической формы, обратно пропорциональна квадрату расстояния до центра сферы. Еще более важным, как мы увидим в главе 15, оказалось то, что концепция поля сыграла принципиально важную роль в понимании природы электричества, магнетизма и света.
Эти математические инструменты особенно впечатляюще были использованы в 1846 г., когда с их помощью удалось предсказать существование и расположение планеты Нептун из отклонений положений планеты Уран от ранее рассчитанной орбиты. Это было сделано независимо Джоном Кучем Адамсом и Жаном Жозефом Леверье. Нептун был обнаружен вскоре после этого в указанном месте.
Некоторые расхождения между теорией и наблюдениями по-прежнему оставались в движении Луны, в движении комет Галлея и Энке и в прецессии перигелия орбиты Меркурия, которая, по наблюдениям, была на 43" за столетие больше, чем можно было ожидать, если принимать во внимание силы притяжения других планет. Для расхождений в движении Луны и комет были в конце концов найдены причины, не связанные с силами притяжения, но случай с прецессией Меркурия не был объяснен до создания в 1915 г. Общей теории относительности Альбертом Эйнштейном.
По теории Ньютона сила притяжения в заданной точке и в заданное время зависит от расположения всех масс, поэтому неожиданное изменение любого из этих положений (например, вспышка на поверхности Солнца) создает мгновенное изменение сил притяжения повсюду. Это противоречило принципу Специальной теории относительности Эйнштейна (созданной в 1905 г.) о том, что ни одно воздействие не может распространяться быстрее света. Такой конфликт указывал на то, что существует необходимость в пересмотре теории тяготения. В Общей теории относительности Эйнштейна неожиданное изменение в расположении масс производит изменение в гравитационном поле лишь в непосредственной близости от этих масс. Затем это изменение со скоростью света распространяется на большие расстояния.
Общая теория относительности отвергла положение Ньютона об абсолютном времени и пространстве. Лежащие в его основе уравнения остаются одинаковыми во всех системах отсчета, независимо от того, движутся ли эти системы отсчета ускоренно или вращаются. Так что Лейбниц был бы этим доволен, но на самом деле Общая теория относительности подтверждает механику Ньютона. Ее математическое описание опирается на общее с теорией Ньютона положение о том, что все тела в заданной точке приобретают одно и то же ускорение, вызванное силой притяжения. Это означает, что можно избавиться от воздействия сил тяготения в любой точке, использовав систему отсчета, известную как инерциальная, которая испытывает то же самое ускорение. Например, мы не почувствуем воздействие земного притяжения в свободно падающем лифте. В этих инерциальных системах отсчета законы Ньютона справедливы по крайней мере для тел, скорость которых не приближается к скорости света.
Успех ньютоновской трактовки движения планет и комет показывает, что инерциальными системами отсчета для Солнечной системы являются те, в которых Солнце, а не Земля, находится в состоянии покоя (или движется с постоянной скоростью). Именно в этой системе координат, в соответствии с Общей теорией относительности, далекие галактики не вращаются вокруг Солнечной системы. В этом смысле теория Ньютона составила прочное основание для того, чтобы предпочесть теорию Коперника теории Тихо Браге. Но Общая теория относительности позволяет нам использовать любую систему отсчета, которая нам нравится, а не только инерциальные системы отсчета. Если мы используем систему отсчета, как у Тихо, где Земля находится в состоянии покоя, тогда будет казаться, что галактики описывают вокруг Земли круги с периодичностью раз в год, и в рамках Общей теории относительности это грандиозное движение создало бы силы сродни притяжению, которые действовали бы на Солнце и планеты и заставили бы их двигаться именно так, как предполагал в своей теории Браге. Кажется, Ньютон размышлял и об этом. В неопубликованном Предложении 43, которое не вошло в «Начала», Ньютон отмечает, что теория Тихо могла бы быть верной, если бы какие-то другие силы, кроме обычной силы тяготения, воздействовали на Солнце и планеты{279}.
Когда в 1919 г. теория Эйнштейна была подтверждена наблюдением предсказанного ею искривления лучей света под воздействием гравитационного поля Солнца, лондонская Times заявила, что Ньютон не прав. Но это заявление было ошибочным. Теорию Ньютона можно рассматривать как упрощенный вариант теории Эйнштейна; она сохраняет точность, когда речь идет об объектах, двигающихся со скоростью намного ниже скорости света. Теория Эйнштейна не только не опровергает теорию Ньютона, она объясняет, почему теория Ньютона работает в тех случаях, когда она работает. Сама Общая теория относительности, без сомнений, является упрощенной версией какой-то всеобъемлющей теории.
В Общей теории относительности гравитационное поле может быть полностью описано определением для каждой точки в пространстве и времени инерциальной системы отсчета, в которой воздействие притяжения отсутствует. Математически это похоже на то, как если бы мы составляли карту небольшого района любого участка неплоской поверхности, которая выглядит плоской, – например, карту города на поверхности Земли. Искривление поверхности может быть описано путем составления атласа наложенных друг на друга местных карт. На самом деле это математическое сходство позволяет нам описать любое гравитационное поле как изгиб пространства и времени.
Таким образом, понятийная основа Общей теории относительности отличается от теории Ньютона. Во многих случаях в общей относительности понятие гравитационного поля замещается концепцией искривленного пространства-времени. Некоторым людям было трудно это воспринять. В 1730 г. Александр Поуп написал памятную эпитафию Ньютону:
Был этот мир глубокой мглой окутан, «Да будет свет!» – И вот явился Ньютон.В XX в. английский поэт-сатирик Дж. С. Сквайр добавил еще две строчки:
Но сатана недолго ждал реванша. Пришел Эйнштейн – и стало все, как раньше{280}.Не верьте этому. Общая теория относительности во многом соответствует духу теорий движения и притяжения Ньютона: она основана на общих принципах, которые могут быть выражены уравнениями, следствия которых выводятся математически, применимы к широкому спектру явлений и подтверждаются наблюдениями. Разница между теориями Эйнштейна и Ньютона намного меньше, чем разница между теорией Ньютона и тем, что было сделано до него.
Остается один вопрос: почему научная революция XVI и XVII вв. произошла именно в то время и в том месте? Объяснений этому предостаточно. В XV в. в Европе произошло множество изменений, которые подготовили основание для научной революции. Появились централизованные государства: во Франции – при правлении Карла VII и Людовика XI, в Англии – при Генрихе VII. Падение Константинополя в 1453 г. заставило греческих ученых искать пристанище на западе – в Италии и дальше. Возрождение повысило интерес к изучению мира природы, что привело к появлению высоких требований к точности древних текстов и их переводов. Изобретение печатного станка с наборным шрифтом сделало общение ученых более простым и дешевым. Открытие и изучение Америки укрепили уверенность в том, что древние многого не знали. К тому же в соответствии с исследованиями Мертона протестантская Реформация начала XVI в. подготовила почву для великих научных прорывов в Англии XVII в. Социолог Роберт Мертон предполагал, что протестантизм создал социальные отношения, благоприятные для науки, а также своеобразную смесь рационализма с эмпиризмом и верой в законы природы, которые поддаются пониманию, – он сумел вычленить эти качества в работе ученых-протестантов{281}.
Трудно судить, насколько важным оказалось влияние внешних факторов на научную революцию. Но, хотя я не могу сказать, почему в Англии конца XVII в. Исаак Ньютон открыл классические законы механики и притяжения, я думаю, что знаю, почему эти законы приобрели ту форму, какую они имеют. Это весьма просто – с очень хорошим приближением мир следует законам Ньютона.
Завершив обзор истории физической науки от Фалеса до Ньютона, я бы хотел поделиться некоторыми осторожными мыслями о том, что привело нас к современной концепции науки, которую представляют достижения Ньютона и его последователей. В древние времена или Средневековье никто даже не думал о том, что построение чего-то напоминающего современную науку может быть целью. На самом деле, если бы наши предки могли только представить, какой будет наука в наши дни, возможно, это им совсем бы не понравилось. Современная наука обезличена, в ней нет места сверхъестественному вмешательству и (не считая бихевиористики) человеческим ценностям. В ней нет никакого понятия цели и смысла, и она не оставляет никакой надежды на определенность. Так как же мы пришли к этому?
Сталкиваясь со ставящими в тупик явлениями окружающего мира, в любой культуре люди пытались найти им объяснение. Даже когда они отказывались от мифологии, большая часть попыток что-либо объяснить не приводила ни к чему мало-мальски убедительному. Фалес пытался понять, что такое материя, предположив, что она является водой, но что он мог сделать с этой идеей? Какую новую информацию она ему дала? Никто в Милете или где-либо еще не мог вывести что-либо из мысли о том, что все вокруг – вода.
Но время от времени кому-нибудь удавалось найти способ объяснить какое-либо явление. Найденное им объяснение так хорошо подходило к этому явлению и проясняло так много, что награждало нашедшего чувством глубокого удовлетворения, особенно когда понимание можно было выразить количественно и наблюдения хорошо подтверждали его. Представьте себе, что должен был почувствовать Птолемей, когда, добавив эквант к эпициклам и эксцентрикам Аполлония и Гиппарха, он получил теорию движения планет, которая позволила предсказать с достаточной точностью, где на небе можно будет найти планету в любой момент. Мы можем понять охватившую его радость из строк, которые я уже цитировал ранее: «…когда я в мыслях неустанно и жадно прослеживаю пути светил, тогда я не касаюсь ногами земли: на пиру Зевса наслаждаюсь амброзией – пищей богов»{282}.
Но радость была с изъяном – как всегда. Не нужно быть последователем Аристотеля, чтобы озадачиться странными петлеобразными движениями планет по эпициклам в теории Птолемея. Также в ней имела место чудовищная подгонка данных: требовался ровно один год для одного оборота центров эпициклов Меркурия и Венеры вокруг Земли, а Марсу, Юпитеру и Сатурну – для одного оборота вокруг своих эпициклов. Более тысячи лет философы спорили о том, какова же на самом деле была роль таких астрономов, как Птолемей: действительно ли он понял небесное движение или просто подогнал данные?
Какое удовлетворение должен был почувствовать Коперник, когда смог объяснить, что вся подгонка и петлеобразные орбиты в схеме Птолемея появились из-за того, что мы смотрим на Солнечную систему с движущейся Земли. Все еще с изъяном, теория Коперника не полностью совпадала с данными наблюдений без введения чудовищных усложнений. Как же должен был наслаждаться математически одаренный Кеплер, заменив беспорядок Коперника движением по эллипсам, которое объясняли его три закона!
Таким образом, мир обучал нас, подкрепляя наши хорошие идеи моментами удовлетворения. Спустя века мы поняли, как можем исследовать окружающий мир. Мы научились не волноваться о цели мироздания, потому что стремление к его пониманию никогда не приводило к той радости, которая нам была нужна. Мы научились отказываться от полной определенности, потому что объяснения, которые делали нас счастливыми, никогда не были окончательными и определенными. Мы научились проводить эксперименты, не беспокоясь об искусственности наших построений. Мы развили эстетическое чувство, позволяющее предугадывать, какие теории могут работать, и оно добавляет нам удовлетворения, когда наши теории начинают работать. Элементы нашего понимания суммируются. Это процесс, который нельзя запланировать или предсказать, но его результат – надежные знания и, попутно, радость открытий, которой мы наслаждаемся.
15. Эпилог. Великое упрощение
Великие открытия Ньютона оставили массу загадок. Природа материи, свойства других сил, которые вместе с силой притяжения воздействуют на материю, удивительные свойства живой природы все еще были окутаны тайной. В эпоху после Ньютона удалось добиться огромного прогресса{283}, для описания которого мало будет одной книги, не говоря уж о главе. Цель этого эпилога – подчеркнуть только одну мысль: с прогрессом, достигнутым в науке после Ньютона, начала вырисовываться примечательная картина – выяснилось, что мир управляется законами природы, гораздо более простыми и унифицированными, чем это можно было представить во времена Ньютона.
Сам Ньютон в Книге III «Оптики» упоминает теорию материи, которая могла бы по крайней мере сосредоточить в себе и оптику, и химию.
«Мельчайшие частицы материи могут сцепляться посредством сильнейших притяжений, составляя большие частицы, но более слабые; многие из них могут также сцепляться и составлять еще большие частицы с еще более слабой силой – и так в ряде последовательностей, пока прогрессия не закончится самыми большими частицами, от которых зависят химические действия и цвета природных тел; при сцеплении таких частиц составляются тела заметной величины»{284}.
Также он обращает внимание на силы, действующие в этих частицах:
«Ибо мы должны изучить по явлениям природы, какие тела притягиваются и каковы законы и свойства притяжения, прежде чем исследовать причину, благодаря которой притяжение происходит. Притяжения тяготения, магнетизма и электричества простираются на весьма заметные расстояния и таким образом наблюдались просто глазами, но могут существовать и другие притяжения, простирающиеся на столь малые расстояния, которые до сих пор ускользают от наблюдения…»{285}
По этому замечанию видно, что Ньютон вполне осознавал, что в природе помимо тяготения существуют другие силы. О статическом электричестве знали уже давно. Платон упоминает в «Тимее», что если потереть кусок янтаря (по др. – гр. ἤλεκτρον – электрон), то он приобретает способность притягивать легкие предметы. Магнетизм был известен благодаря особенностям магнитного железняка естественного происхождения, который китайцы использовали для геомантии[24]. Их детально изучил придворный врач королевы Елизаветы Уильям Гилберт. Ньютон в своей книге оставляет подсказки, говорящие о существовании сил, о которых еще не было известно из-за их ничтожной величины. Это было предвосхищение слабых и сильных атомных взаимодействий, открытых в XX в.
В начале XIX в. изобретение Алессандро Вольтой электрической батареи позволило провести детальные количественные эксперименты с электричеством и магнетизмом, и вскоре стало известно, что между этими явлениями существует связь. Сначала в 1820 г. в Копенгагене Ханс Христиан Эрстед выяснил, что магнит и провод, по которому идет электрический ток, воздействуют друг на друга. Услышав об этом, Андре Мари Ампер в Париже открыл, что провода, через которые пропускают электрический ток, также воздействуют друг на друга. Ампер догадался, что два этих разных явления схожи между собой: силы, действующие внутри и снаружи кусочков намагниченного железа, зависят от электрических токов, циркулирующих в них.
Как это уже случилось с гравитацией, понятие действующих сил магнетизма и электричества было заменено идеей поля, в данном случае магнитного поля. Каждый магнит и каждый находящийся под током провод вносит вклад в полное магнитное поле в любой точке в своих окрестностях, и магнитное поле действует своей силой на любой магнит или источник электричества в этой точке. Майкл Фарадей связал магнитные силы, производимые электрическим током, с линиями магнитного поля, окружающего провод. Также он описал электрические силы, появляющиеся, если потереть кусочек янтаря, как связанные с электрическим полем, которое можно изобразить как линии, радиально распространяющиеся от заряженного электричеством янтаря. Что еще важнее, в 1830-х гг. Фарадей показал связь между электрическим и магнитным полями: переменное магнитное поле, например, производимое вращающейся катушкой из провода, по которой проходит ток, генерирует электрическое поле, которое может вызывать электрический ток в другом проводе. Именно это явление используется для получения электричества на современных электростанциях.
Окончательно объединил электричество и магнетизм несколько десятилетий спустя Джеймс Клерк Максвелл. Он считал электрическое и магнитное поля напряжением, распространенным в среде, эфире, и выразил все, что было известно об электричестве и магнетизме, в уравнениях, связывающих поля и интенсивность их взаимодействий. Новой идеей Максвелла была мысль о том, что как при изменении магнитного поля возникает электрическое поле, так и при изменении электрического поля возникает магнитное. Как часто случается в физике, термины понятийной основы уравнений Максвелла, такие как эфир, до наших дней не дошли, но уравнения остались. Их можно увидеть даже на футболках, которые носят студенты-физики{286}.
Теория Максвелла дала впечатляющие результаты. Поскольку колеблющееся электрическое поле производит колеблющееся магнитное поле, а колеблющееся магнитное поле – колеблющееся электрическое, в эфире, или, как бы мы сказали сегодня, в пустоте возможно существование самоподдерживающихся колебаний и электрического, и магнитного полей. Примерно в 1862 г. Максвелл выяснил, что это электромагнитное колебание распространяется, согласно его уравнениям, со скоростью, имеющей примерно то же самое численное значение, что и измеренная скорость света. Для Максвелла было вполне естественно прийти к заключению о том, что свет – это не что иное, как взаимное самоподдерживающееся колебание магнитного и электрического полей. Видимый свет имеет частоту очень далекую от той, которую имеет ток в обычной электрической розетке, но в 1880-х гг. Генрих Герц сумел создать волны, соответствующие уравнениям Максвелла, – радиоволны, которые отличаются от видимого света гораздо более низкой частотой. Таким образом, электричество и магнетизм объединились не только друг с другом, но и с оптикой.
Как и в электричестве и магнетизме, прогресс в изучении природы вещества начался с количественных измерений, в данном случае – с измерения веса веществ, участвующих в химических реакциях. Ключевой фигурой в этой химической революции был богатый француз Антуан Лавуазье. В конце XVIII в. он выделил кислород и водород как отдельные элементы, доказал, что вода является их соединением, что воздух состоит из смеси элементов и что огонь возникает при соединении других элементов с кислородом. Также на основе этих измерений немного позже Джон Дальтон обнаружил, что вес, при котором элементы вступают в химические реакции, можно определить, приняв гипотезу о том, что чистые химические компоненты, такие как вода и соль, состоят из огромного числа частиц (позже названных молекулами), которые, в свою очередь, состоят из определенного числа атомов чистых элементов. Например, молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. В следующие два десятилетия химики выделили множество элементов, некоторые из которых были хорошо знакомы, – углерод, сера, недрагоценные металлы; о других (хлор, кальций, натрий) узнали только тогда. Земля, огонь, воздух и вода не вошли в этот список. В первой половине XIX в. были разработаны правильные формулы для молекул таких веществ, как соль и вода, что позволило вычислить соотношение масс атомов различных элементов из измерений веса веществ, участвующих в химической реакции.
Атомистическая теория вещества приобрела большой успех, когда Максвелл и Людвиг Больцман доказали, что тепло можно понимать как энергию, распределенную среди огромного количества атомов и молекул. Этот шаг к обобщению встретил сопротивление среди физиков, в том числе и Пьера Дюэма, который сомневался в существовании атомов и считал, что термодинамика является не менее фундаментальным разделом науки, чем механика Ньютона и электродинамика Максвелла. Но вскоре после начала XX в. несколько экспериментов убедили практически всех в том, что атомы действительно существуют. Одна серия экспериментов, проведенных Дж. Томсоном, Робертом Милликеном и другими, показала, что электрический заряд приобретается и теряется как величина, кратная элементарному заряду, то есть заряду электрона, частицы, которая была открыта Томсоном в 1897 г. В 1905 г. Альберт Эйнштейн интерпретировал хаотичное броуновское движение мелких частиц в жидкости как столкновения этих частиц с отдельными молекулами жидкости. Эту интерпретацию подтвердили эксперименты Жана Перрена. В ответ на эксперименты Томсона и Перрена химик Вильгельм Оствальд, который ранее был скептически настроен относительно атомов, в 1908 г. выразил свое изменившееся мнение в заявлении, своими корнями уходящем еще в учения Демокрита и Левкиппа: «Теперь я убежден, что недавно мы стали свидетелями экспериментального доказательства того, что природа вещества имеет дискретный или зернистый характер, чего атомистическая гипотеза пыталась добиться впустую сотни и даже тысячи лет»{287}.
Но что такое атомы? Великим шагом к ответу на этот вопрос стали эксперименты Эрнеста Резерфорда в лаборатории Манчестерского университета, которые в 1911 г. доказали, что вся масса атома золота сконцентрирована в маленьком тяжелом положительно заряженном ядре атома, вокруг которого обращаются более легкие отрицательно заряженные электроны. Электроны ответственны за процессы, происходящие в рамках обычной химии, в то время как изменения в ядре вызывают выделение большого количества энергии, связанной с явлением радиоактивности.
Это вызвало новый вопрос: что удерживает обращающиеся по орбитам внутри атома электроны от потери энергии через излучение и мешает им упасть по спиралям на свои ядра? По идее, не только не должно было существовать стабильных атомов; частоты излучения этих маленьких атомных катастроф сформировали бы непрерывный спектр, что противоречит наблюдениям, в соответствии с которыми атомы могут выделять и поглощать излучение только на определенных дискретных частотах, которые можно увидеть как яркие или темные линии в спектрах газов. Что определяет эти особые частоты?
Ответы были найдены в первые три десятилетия XX в. с развитием квантовой механики – самого радикального направления теоретической физики после работ Ньютона. Как предполагает ее название, квантовая механика требует квантования (что означает – дискретности, нарезки элементарными кусочками) энергий различных физических систем. В 1913 г. Нильс Бор предположил, что атом может существовать только в состоянии определенных энергий, и вывел правила расчета этих энергий для простейших атомов. Еще в 1905 г., использовав более раннюю работу Макса Планка, Эйнштейн уже предполагал, что энергия света передается квантами – частицами, которые позже были названы фотонами. Каждый фотон обладает энергией, пропорциональной частоте света. Как объяснил Бор, когда атом теряет энергию, испуская единичный фотон, энергия данного фотона должна быть равна разности энергий между первоначальным и окончательным состояниями атома – требование, благодаря которому частота этого фотона становится фиксированной. Всегда существует атомное состояние наиболее низкой энергии, при котором атом не может излучать и, следовательно, стабилен.
Вслед за этими первыми шагами в 1920-е гг. стали развиваться общие правила квантовой механики, которые могут быть приложимы к любой физической системе. В основном этой работой занимались Луи де Бройль, Вернер Гейзенберг, Вольфганг Паули, Паскуаль Йордан, Эрвин Шрёдингер, Поль Дирак и Макс Борн. Энергии разрешенных атомных состояний можно рассчитать, решив уравнение Шрёдингера. Это уравнение того общего математического типа, который уже появлялся при изучении звуковых и световых волн. Так же как струна музыкального инструмента может производить только те тона, для которых длина струны кратна целому числу половинок длин волны, так и Шрёдингер нашел, что доступные энергетические уровни атома исчерпываются теми, для которых волна, вычисляемая в уравнении Шрёдингера, целиком укладывается вокруг атома без разрывов непрерывности. Но, как это первым определил Бор, речь не идет о волнах давления или электромагнитных полях, а о волнах вероятности – частица, скорее всего, будет находиться около точки, где волновая функция наиболее велика.
Квантовая механика не только решила проблему стабильности атомов и природы спектральных линий, она также ввела химию в общий строй физики. Если знать электрические силы, действующие между электронами и ядрами атомов, то можно применить уравнение Шрёдингера к молекулам точно так же, как к атомам, и вычислить энергии их различных состояний. Таким образом, стало возможно определить, какие молекулы стабильны и какие химические реакции в принципе возможны с точки зрения энергии. В 1929 г. Дирак с ликованием заявлял: «Основные физические законы, необходимые для математических теорий большей части физики и всей химии, теперь полностью известны…»{288}
Это не означает, что химики скинули свои задачи на физиков и отправились на отдых. Как хорошо понимал Дирак, решение уравнения Шрёдингера для всех молекул, кроме самых маленьких, слишком сложно, поэтому особый инструментарий и специальные правила, используемые химиками, остаются совершенно необходимыми. Но начиная с 1920-х гг. пришло понимание того, что основные принципы химии, такие как правила о том, что металлы формируют стабильные соединения с галогенами, например, с хлором, таковы, какие они есть, из-за квантовой механики электронов и ядер атомов, связанных с помощью электромагнитных сил.
Несмотря на свою великую разъясняющую силу, это основание само по себе было далеко от того, чтобы стать унифицированным. Существовали частицы – электроны, а также протоны, нейтроны, из которых состоят ядра атомов. И существовали поля: электромагнитное поле и еще какие-то тогда неизвестные поля малого радиуса действия, которые предположительно отвечали за сильные взаимодействия, держащие части атомного ядра вместе, и слабые взаимодействия, которые превращают протоны в нейтроны и нейтроны в протоны в процессе радиоактивности. Это разделение между частицами и полями исчезло в 1930-е гг., после введения квантовой теории поля. Точно так же как существует электромагнитное поле, чья энергия и импульс объединяются в частицах, известных как фотоны, существует и поле электронов, чья энергия и импульс объединяются в электронах; также имеются и поля для других типов элементарных частиц.
Это было далеко не очевидно. Мы можем непосредственно наблюдать влияние гравитационного или электромагнитного поля, потому что кванты этих полей имеют нулевую массу и являются частицами того типа (известными как бозоны), которые в больших количествах могут иметь одно и то же состояние. Эти особенности позволяют огромному количеству фотонов накапливаться, чтобы сформировать то, что мы наблюдаем как электрические и магнитные поля, которые, как кажется, подчиняются законам классической (то есть не квантовой) физики. Электроны, напротив, имеют массу и являются частицами другого типа (известными как фермионы), в котором две одинаковые частицы не могут иметь одно и то же состояние – таким образом, поля электронов невозможно обнаружить при макроскопических наблюдениях.
В конце 1940-х гг. квантовая электродинамика, квантовая теория поля фотонов, электронов и антиэлектронов достигли потрясающих успехов – была вычислена сила магнитного поля электрона, причем вычисления совпадали с наблюдениями с точностью многих знаков после запятой{289}. Вслед за этим достижением было вполне естественно попытаться развить квантовую теорию поля, которая сосредоточила бы в себе не только фотоны, электроны и антиэлектроны, но и другие частицы, открытые в космических лучах и ускорителях, а также слабые и сильные силы, воздействующие на них.
Теперь у нас есть такая квантовая теория поля, известная как Стандартная модель. Стандартная модель – это расширенная версия квантовой электродинамики. Наряду с полем электронов существуют поля нейтрино, квантами которых являются фермионы – такие же частицы, как электроны, но с нулевым электрическим зарядом и почти с нулевой массой. Существует пара кварковых полей, кванты которых являются составляющими протонов и нейтронов, которые образуют атомные ядра. По причинам, которых никто не понимает, этот набор повторяется еще раз, с более тяжелыми кварками и более тяжелыми частицами, напоминающими электрон и их партнеров-нейтрино. Электромагнитное поле вновь появляется в унифицированном электрослабом взаимодействии наряду с другими полями, отвечающими за слабое ядерное взаимодействие, которое позволяет протонам и нейтронам превращаться друг в друга в процессах радиоактивного распада. Кванты этих полей – тяжелые бозоны. Ими могут быть электрически заряженные W+ и W– или электрически нейтральный Z0. Также существует восемь похожих с точки зрения математики «глюоновых» полей, ответственных за сильные ядерные взаимодействия, которые удерживают кварки вместе внутри протонов и нейтронов. В 2012 г. был открыт последний недостающий элемент Стандартной модели – тяжелый электрически нейтральный бозон, который был предсказан в рамках электрослабой части Стандартной модели.
Но Стандартной моделью история не кончается. За ее пределами остается гравитация; Стандартная модель не объясняет наличие темной материи, которая, по словам астрономов, составляет 5/6 массы Вселенной; кроме того, Стандартная модель включает слишком много необъясненных численных величин, таких как соотношения масс различных кварков и частиц, подобных электронам. Но даже при этом Стандартная модель представляет достаточно унифицированную точку зрения на все типы вещества и сил (кроме силы тяготения), с которыми мы встречаемся в наших лабораториях, и может быть описана в виде набора уравнений, умещающихся на одном листе бумаги. Мы можем быть уверены, что Стандартная модель станет, по крайней мере, приблизительным вариантом будущей лучшей теории.
Стандартная модель показалась бы неудовлетворительной многим натурфилософам от Фалеса до Ньютона. Она обезличена, в ней нет никакой связи с такими человеческими чертами, как любовь или справедливость. Стандартная модель не сделает того, кто ее изучает, лучше, как сулил Платон изучающим астрономию. Также, вопреки тому, чего Аристотель ожидал от физической теории, в ней нет элемента конечной цели. Разумеется, мы живем во Вселенной, которая управляется Стандартной моделью, и можем представить, что электроны и два легких кварка являются тем, что они есть, для того, чтобы наше существование стало возможным. Но что тогда делать с их более тяжелыми эквивалентами, которые не имеют никакого отношения к нашим жизням?
Стандартная модель выражается в уравнениях, описывающих различные поля, но ее нельзя вывести только математически, кроме того, она не следует непосредственно из наблюдения природы. В самом деле, кварки и глюоны притягивают друг друга силами, которые возрастают с расстоянием, поэтому эти частицы никогда не удается наблюдать отдельно. Стандартную теорию невозможно вывести и из философских первоначал. Она, скорее, является продуктом умозаключений, ведомых эстетическим суждением и подкрепленных множеством успешных предсказаний. Хотя в Стандартной модели есть много неразрешенных вопросов, мы рассчитываем, что по крайней мере некоторые из них будут объяснены в любой более проработанной теории, которая ее сменит.
Старинная тесная связь между физиками и астрономами сохраняется и по сей день. Теперь мы понимаем ядерные реакции так хорошо, что можем не только высчитать, как Солнце и другие звезды светят и эволюционируют, но и понять, как в первые несколько минут расширяющейся Вселенной образовались легчайшие элементы. И, как и в прошлом, астрономы сегодня бросают физикам интеллектуальный вызов: расширение Вселенной ускоряется, что, как предполагают, связано с темной энергией, которая содержится не в массах частиц и их движении, а в самом космосе.
Существует одна сторона исследования окружающего мира, которую, на первый взгляд, затруднительно воспринимать с помощью любой физической теории, не имеющей цели, вроде Стандартной модели. Мы не можем избежать телеологии, когда речь идет о живых существах: мы описываем сердце и легкие, корни и цветы в зависимости от цели, которой они служат. Эта тенденция только набирала силу, когда во времена после Ньютона поток информации о живой природе возрастал благодаря таким натуралистам, как Карл Линней и Жорж Кювье. Не только теологи, но и ученые, такие как Роберт Бойль и Исаак Ньютон, видели в чудесных особенностях растений и животных волю всемогущего Творца. Даже если мы избежим сверхъестественного объяснения особенностей живой природы, понимание жизни, кажется, еще долго будет базироваться на телеологических принципах, отличающихся от принципов физических теорий, таких как Стандартная модель.
Объединение биологии с остальными науками впервые стало возможно в середине XIX в., после того, как Чарльз Дарвин и Альфред Рассел Уоллес независимо предложили теорию эволюции, основанную на естественном отборе. Эволюция к тому времени была уже знакомой идеей, ключ к которой содержался в палеонтологических летописях. Многие ученые, принимавшие реальность эволюции, объясняли ее как результат фундаментального принципа биологии – свойственного всем живым существам стремления к совершенству, – принципа, который не допускал никакого объединения биологии с физикой. Дарвин и Уоллес вместо этого предположили, что эволюция действует через появление наследственных изменений; при этом благоприятные изменения ничем не отличаются по вероятности от неблагоприятных, но неизбежно распространяются только те изменения, которые повышают шансы на выживание и размножение{290}.
Потребовалось много времени для того, чтобы естественный отбор был принят как механизм эволюции. Во времена Дарвина никто не знал о механизмах наследования или о проявлении наследуемых изменений, поэтому у биологов оставалась возможность надеяться на более осмысленную теорию, в которой будет присутствовать цель. Особенно неприятно было представлять себе, что люди являются результатом естественного отбора, длящегося миллионы лет и управляемого случайными наследственными изменениями. В конечном счете в XX в. открытие законов генетики и частотности мутаций привело к «неодарвиновской синтетической теории», которая укрепила дарвиновскую теорию эволюции на более устойчивых основаниях. В конце концов эта теория оказалась связана с химией и через нее с физикой, когда выяснилось, что генетическая информация переносится в двойных спиралях молекул ДНК.
Таким образом, биология присоединилась к химии в обобщенном взгляде на природу, основанном на физике. Но важно признавать и границы этого обобщения. Никто не собирается замещать язык и методы биологии описанием живых существ так, как описывают отдельные молекулы, не говоря уж о кварках и электронах. С одной стороны, живые существа слишком сложны для такого описания, гораздо сложнее огромных молекул в органической химии. Что более важно, даже если бы мы могли проследить движение каждого атома в животном или растении, то при таком исследовании мы утратили бы огромное количество информации, которая нас интересует. Было бы неясно, что перед нами: лев, охотящийся на антилопу, или цветок, привлекающий к себе пчел.
В отличие от химии, в биологии, как и в геологии, существует другая проблема. Живые существа стали тем, что они есть, не только благодаря законам физики, но также благодаря огромному количеству случайных исторических событий, начиная с падения метеорита, который врезался в Землю 65 млн лет назад, с мощью, достаточной, чтобы уничтожить динозавров, и заканчивая тем, что Земля оказалась на определенном расстоянии от Солнца и изначально имела определенный химический состав. Мы можем изучать некоторые из этих событий статистическими методами, но только в комплексе. Кеплер был не прав: никто никогда не мог бы вычислить расстояние от Земли до Солнца, используя только лишь законы физики. То, что мы называем объединением биологии с остальными науками, значит только то, что законы биологии не могут существовать обособленно, так же как и в еще большей мере законы геологии. Любой общий принцип биологии стал таким, каков он есть, благодаря действию фундаментальных законов физики в совокупности с фактором случайных событий прошлого, которые по определению не могут быть объяснены.
Точку зрению, описанную здесь, называют (часто с неодобрением) редукционизмом, или упрощенчеством. Даже среди физиков существует оппозиция редукционизму. Физики, которые изучают жидкости или твердые тела, очень часто ссылаются на эмерджентность, то есть случаи появления в описании макроскопического явления таких концепций, как теплота или фазовый переход, которым нет соответствия в физике элементарных частиц и которые не зависят от особенностей элементарных частиц. Например, термодинамика, наука о теплоте, имеет приложение ко многим системам (не только к тем, о которых говорили Максвелл и Больцман, – состоящим из огромного количества молекул, но и к поверхностям гигантских черных дыр. Но она не приложима ко всему, и, когда мы спрашиваем, можно ли применить ее к данной системе и, если да, то почему, мы должны обращаться к более глубоким, в действительности фундаментальным принципам физики. Редукционизм в этом смысле – не программа по реформированию научной практики. Это точка зрения на то, почему мир является таким, каков он есть.
Мы не знаем, как долго наука будет двигаться по этому редукционному пути. Мы можем дойти до точки, где дальнейший прогресс станет невозможным для нашего вида. В настоящий момент представляется, что может существовать масса примерно в миллион триллионов раз больше, чем масса атома водорода, в котором гравитация и другие силы, в том числе и еще не изученные, сливаются воедино силами, представленными в Стандартной модели (эта единица называется планковской массой; это масса, которой должны были бы обладать частицы, чтобы их взаимное гравитационное притяжение было таким же, как электрическое отталкивание между двумя электронами на тех же расстояниях). Даже если бы все экономические ресурсы человеческой цивилизации были бы полностью в распоряжении физиков, мы сейчас не можем и мечтать о том, чтобы каким-то образом создать частицы с такой огромной массой в наших лабораториях.
В другом случае у нас могут исчерпаться интеллектуальные ресурсы – человечество может оказаться недостаточно умным, чтобы понять в действительности фундаментальные законы физики. Или мы можем наткнуться на явление, которое в принципе не может быть включено в унифицированную общую структуру всех наук. Например, хотя мы, возможно, придем к пониманию процессов в головном мозге, отвечающих за работу сознания, едва ли когда-нибудь мы сможем описать мысли и чувства в физических терминах.
Как бы то ни было, мы прошли длинный путь по этой дороге и все еще не добрались до ее конца{291}. Прошлое хранит память и великие истории о том, как небесная и земная физика были объединены Ньютоном, как единая теория электричества и магнетизма поднялась в развитии до объяснения природы света, как квантовая теория электромагнетизма расширилась до того, что включила в себя слабые и сильные взаимодействия внутри атомного ядра и как химия и даже биология были включены в обобщенную, хотя и неполную картину мира, основанную на физике. Теперь дело за более фундаментальной физической теорией, которая упростит огромное количество научных принципов, которые мы уже открыли и открываем сейчас.
Благодарности
Я был счастлив принять помощь от нескольких именитых ученых: классициста Джима Хэнкинсона и историков Брюса Ханта и Джорджа Смита. Они прочли почти всю книгу, и я сделал исправления, основываясь на их замечаниях. Я глубоко признателен за эту помощь. Также я в неоплатном долгу перед Луизой Вайнберг за бесценные критические комментарии и предложенные ею строки Джона Донна, которые теперь украшают обложку и титульный лист этой книги. Также благодарю Питера Дира, Оуэна Гингерига, Альберто Мартинеса, Сэма Швебера и Пола Вудрафа за советы по отдельным темам. В конце концов хочу принести горячую благодарность за моральную поддержку и хороший совет моему мудрому агенту Мортону Дженклоу и моим прекрасным редакторам в издательстве Harper Collins – Тиму Даггану и Эмили Каннингем.
Технические замечания
Приведенные ниже замечания объясняют научную и математическую основу многих исторических открытий, которые обсуждались в книге. Читатели, которые изучали алгебру и геометрию в старших классах школы и не полностью их забыли, не должны испытывать затруднений при чтении технических замечаний. Но я попытался организовать книгу таким образом, чтобы читатели, которые не интересуются техническими деталями, могли бы пропустить эти замечания и тем не менее понимать основной текст.
Хочу предупредить, что математический аппарат, используемый в замечаниях, не обязательно соответствует своему времени. От Фалеса до Ньютона стиль математики, применяющейся к решению физических задач, был куда более геометрическим и менее алгебраическим, чем это принято сегодня. Проанализировать эти задачи в таком геометрическом стиле было бы трудно для меня и утомительно для читателя. В этих замечаниях я покажу, как результаты, полученные натурфилософами прошлого, были дополнены (или, в некоторых случаях, не были) наблюдениями и предположениями, на которые они опираются, но я не буду пытаться достоверно воспроизвести детали всех рассуждений.
1. Теорема Фалеса
2. Платоновы тела
3. Гармония
4. Теорема Пифагора
5. Иррациональные числа
6. Установившаяся скорость падения
7. Падение капель
8. Отражение
9. Плавающие и погруженные в жидкость тела
10. Площадь круга
11. Размеры Солнца и Луны и расстояния до них
12. Размер Земли
13. Эпициклы внутренних и внешних планет
14. Параллакс Луны
15. Синусы и хорды углов
16. Горизонт
17. Геометрическое доказательство теоремы о средней скорости
18. Эллипсы
19. Элонгации и орбиты внутренних планет
20. Суточный параллакс
21. Правило равных площадей и эквант
22. Фокусное расстояние линзы
23. Телескоп
24. Лунные горы
25. Ускорение под действием силы тяжести
26. Параболические траектории
27. Вывод закона преломления света по аналогии с теннисным мячиком
28. Вывод закона преломления света на основе принципа наименьшего времени
29. Теория радуги
30. Вывод закона преломления света на основе волнового принципа
31. Измерение скорости света
32. Центростремительное ускорение
33. Сравнение Луны с падающим телом
34. Закон сохранения импульса
35. Массы планет
1. Теорема Фалеса[25]
Теорема Фалеса – хороший пример того, как, рассуждая в понятиях геометрии, можно прийти к неочевидному выводу о свойствах окружностей и треугольников. Фалес или кто-либо другой был первым, кто доказал эту теорему, для нас она представляет интерес, так как демонстрирует, что древние греки знали о геометрии до Евклида.
Рассмотрим любую окружность. Пусть прямая пересекает ее по диаметру. Точки пересечения этой прямой с окружностью обозначим A и B. Выберем в любом месте окружности точку P, не совпадающую ни с A, ни с B, и соединим точки A и B с точкой P отрезками. Диаметр AB и отрезки AP и BP образуют треугольник ABP. Теорема Фалеса гласит, что такой треугольник всегда является прямоугольным, то есть его угол при вершине P всегда равен 90°.
Хитрость в доказательстве этой теоремы заключается в том, что необходимо из центра C окружности провести в точку P радиус CP. При этом треугольник ABP окажется разделен на два треугольника: ACP и BCP (см. рис. 1). Оба эти треугольника являются равнобедренными, то есть такими, у которых две стороны равны. В треугольнике ACP стороны CA и CP являются радиусами окружности и, по определению окружности, равны (будем обозначать стороны треугольника по точкам, которые они соединяют). Аналогично в треугольнике BCP равны стороны CB и CP. В равнобедренном треугольнике углы, противолежащие равным сторонам, равны между собой, поэтому угол α (альфа) между сторонами AP и AC равен углу между сторонами AP и CP, а угол β (бета) между сторонами BP и BC равен углу между сторонами BP и CP. Сумма углов любого треугольника равна удвоенному прямому углу[26], или, как сейчас принято говорить, 180°, поэтому если в треугольнике ACP третий угол между сторонами AC и CP обозначить α′ и точно так же обозначить β′ угол между сторонами BC и CP в треугольнике BCP, то будут верны равенства:
2α +α' = 180°; 2β+β' = 180°
Сложив оба равенства и переставив слагаемые местами, получим:
2(α + β)+ (α' + β') = 360°.
Учтем, что α′ + β′ – это развернутый угол между сторонами AC и BC, то есть такой угол, лучи которого образуют отрезок прямой линии. Его величина составляет 180°, поэтому:
2(α + β) = 360° − 180° = 180°.
Следовательно, α + β = 90°. Но если посмотреть на рисунок 1, то легко увидеть, что угол α + β – это угол между сторонами AP и BP в исходном треугольнике ABP, значит, он является прямоугольным треугольником, что и требовалось доказать.
Рис. 1. Доказательство теоремы Фалеса. Теорема утверждает, что для любой взятой на окружности точки P угол между отрезками, проведенными из этой точки к концам произвольного диаметра AB, будет прямым.
2. Платоновы тела
В рассуждениях Платона о природе вещества центральное место занимает класс геометрических тел, известных как правильные многогранники, которые также известны как платоновы многогранники. Правильные многогранники можно рассматривать как трехмерную аналогию правильных многоугольников в планиметрии, и в определенном смысле они строятся из правильных многоугольников. Правильный многоугольник – это плоская фигура, ограниченная n одинаковыми отрезками, имеющая n вершин, причем углы, образуемые соседними сторонами при каждой вершине, равны. Например, правильными многоугольниками являются равносторонний треугольник (треугольник, все стороны которого равны) и квадрат. Правильный многогранник – это объемное тело, ограниченное одинаковыми правильными многоугольниками, причем все его вершины представляют собой равные телесные углы, стороны которых образованы N равными многоугольниками-гранями.
Самый привычный пример правильного многогранника – это куб. Куб образуют шесть одинаковых граней-квадратов, в каждой из его восьми вершин смыкаются три квадратные грани. Есть еще более простой правильный многогранник, тетраэдр: это треугольная пирамида, образованная четырьмя одинаковыми равносторонними треугольниками, у него четыре вершины, в каждой их которых смыкаются три треугольные грани. (Мы рассматриваем только выпуклые многогранники, у которых каждая вершина направлена наружу – к ним относятся и куб, и тетраэдр.) Из текста «Тимея» понятно, что Платон откуда-то знал о том, что может быть лишь пять различных видов таких правильных многогранников, и он посчитал, что атомы различных форм материи имеют форму именно этих многогранников. Пять правильных многогранников включают тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр с 4, 6, 8, 12 и 20 гранями соответственно.
Сохранившееся со времен античности свидетельство о самой ранней попытке доказать, что существует лишь пять правильных многогранников, имеется в финальной, кульминационной части «Начал» Евклида. В предложениях 13–17 книги XIII Евклид описывает геометрическое строение тетраэдра, октаэдра, куба, икосаэдра и додекаэдра. Затем он пишет: «Вот я утверждаю, что, кроме упомянутых пяти тел, нельзя построить другого тела, заключенного между равносторонними и равноугольными равными друг другу <многоугольниками>»[27]. На самом деле после этого утверждения Евклид доказывает более узкую теорему о том, что в правильном многограннике существует только пять возможных комбинаций количества сторон n у каждой многоугольной грани и количества N смежных в каждой вершине многоугольников. Ниже приведено доказательство, аналогичное евклидову, но с использованием современной терминологии.
На первом шаге необходимо рассчитать внутренний угол θ (тета) каждой из n вершин n-стороннего правильного многоугольника. Проведем лучи из центра многоугольника к каждой из его вершин. В результате многоугольник окажется разделен на n треугольников. Поскольку сумма углов треугольника равна 180° и в каждом из этих треугольников есть по два угла, равных θ/2, то угол при третьей вершине, совпадающей с центром многоугольника, равняется 180° – θ. Так как n таких углов должны составлять полный угол 360°, то n (180° – θ) = 360°. Решая это уравнение, получаем:
К примеру, для равностороннего треугольника имеем: n = 3, поэтому θ = 180° – 120° = 60°, тогда как для квадрата n = 4, и θ = 180° – 90° = 90°.
На втором шаге представим себе, что мы отрезали от нашего многогранника все грани, ребра и вершины, кроме тех, которые примыкают к какой-то одной выбранной вершине. Теперь то, что получилось, мысленно поставим на плоскость и «раздавим», нажав на эту вершину. Теперь N многоугольников, которые смыкались (были смежными) в этой вершине, окажутся лежащими на плоскости, но между ними должно остаться пустое место – в противном случае, если бы они покрывали полный угол, N многоугольников формировали бы слитную плоскую фигуру. Поэтому очевидно, что справедливо неравенство: Nθ < 360°. Подставив вместо θ приведенную выше формулу и поделив обе части неравенства на 360°, получаем:
или, что то же самое (если обе части разделить на N):
Учтем, что должно выполняться условие n ≥ 3, поскольку это минимальное количество вершин для многоугольника, и также должно выполняться неравенство N ≥ 3, так как иначе в многограннике не оставалось бы места между смежными при вершине многоугольными гранями (например, для куба n = 4, потому что грани квадратные, а N = 3). Поэтому вышеприведенное неравенство не позволяет ни отношению 1/n, ни отношению 1/N быть слишком малым, например, 1/2 – 1/3 = 1/6. Соответственно, ни n, ни N не могут быть равными или больше 6. Зная это, легко проверить все возможные комбинации целых чисел в диапазонах 5 ≥ N ≥ 3 и 5 ≥ n ≥ 3 на соответствие неравенству и обнаружить, что есть только пять таких комбинаций:
(В случаях, когда n равняется 3, 4 и 5, мы имеем стороны правильного многогранника, которые являются равносторонними треугольниками, квадратами и пятиугольниками соответственно.) Именно эти значения N и n присутствуют в тетраэдре, октаэдре, икосаэдре, кубе и додекаэдре.
Вот и все, что доказал Евклид. Но он не доказал, что существует лишь по одному правильному многограннику для каждой возможной пары n и N. Теперь мы пойдем дальше Евклида и покажем, что для каждой пары значений n и N мы получим по единственной комбинации других свойств многогранника: F – количества граней, E – количества ребер, и V – количества вершин. Как мы видим, есть три неизвестные величины, и значит, чтобы их найти, нам потребуется три уравнения. Чтобы вывести первое, отметим, что общее количество сторон всех многоугольников, образующих поверхность многогранника, равняется nF, но при этом каждая из Е граней является общей границей двух соседних многоугольников, поэтому:
2E = nF.
Также учтем, что N граней пересекаются в каждой из V вершин, и притом каждое из E ребер соединяет две вершины, так что:
2E = NV.
И наконец, есть и еще одно, менее явное, соотношение между величинами F, E и V. Чтобы его вывести, нужно принять дополнительное допущение – пусть наш многогранник является односвязным, то есть любой путь, который можно проложить между двумя различными точками его поверхности, можно непрерывно преобразовать в любой другой путь между теми же самыми точками. Это условие выполняется, например, для куба и тетраэдра, но не для многогранника (неважно, правильного или нет), который получили, разместив его вершины и грани вдоль поверхности тора. Существует сложная теорема, которая доказывает, что любой односвязный многогранник можно получить, если последовательно добавлять новые ребра, грани и/или вершины к тетраэдру, а потом сжать получившуюся фигуру до нужной формы. Зная об этом, мы покажем, что любой односвязный многогранник (правильный или неправильный) удовлетворяет равенству:
F – E + V = 2.
Легко проверить, что равенство удовлетворено для тетраэдра, в случае которого F = 4, E = 6 и V = 4, поэтому в левой части уравнения имеем: 4–6 + 4 =2. Если теперь мы добавим к любому многограннику ребро, секущее какую-либо из его граней от одного ребра до другого, то у нас добавится одна дополнительная грань и две дополнительные вершины, а значит, величины F и V увеличатся на единицу и двойку, соответственно. Но оба из прежних ребер, в которые упирается новое ребро, при этом еще окажутся разбиты на два, и поэтому E увеличится на 1 + 2 =3, и выходит, что соотношение F – E+ V останется неизменным. Точно так же, если мы добавим новое ребро, которое пролегает между какой-либо вершиной и точкой, принадлежащей одному из имеющихся ребер, то мы увеличим F и V на единицу, а E при этом на 2, и значит, формула F – E+ V все равно даст тот же результат. Поскольку любой односвязный многогранник может быть построен произвольной комбинацией этих действий, все получающиеся многогранники должны сохранять то же самое соотношение, то есть для них выражение F – E+ V = 2 будет так же справедливо, как и для тетраэдра (это простой пример того, чем занимается отрасль математики под названием «топология»; в топологии число, выражаемое формулой F – E+ V, называется эйлеровой характеристикой полиэдра, или многогранника).
Теперь мы можем совместно решить все три уравнения для E, F и V. Проще всего использовать первые два уравнения, чтобы заменить F и V в третьем на выражения, соответственно, 2E/n и 2E/N, и, таким образом, третье уравнение выражается в форме 2E/N – E +2E/N =2, что дает
Далее из двух других уравнений получаем:
И теперь для пяти вышеперечисленных случаев количество граней, вершин и ребер будет равно:
Это и есть платоновы тела.
3. Гармония
Пифагорейцы открыли, что две струны щипкового музыкального инструмента одной и той же толщины, сделанные из одинакового материала и одинаково сильно натянутые, когда их щипают одновременно, производят приятный слуху звук, если отношение длин двух таких струн выражается как дробь с небольшим целым числителем и знаменателем – например, 1/2, 2/3, 1/4, 3/4 и т. д. Чтобы понять, почему так происходит, сперва нам нужно выяснить, как связаны друг с другом частота, длина и скорость распространения для любого вида волн.
Любая волна – это процесс распространения колебаний. В случае акустической (звуковой) волны в воздухе распространяются колебания давления воздуха, в случае волны на поверхности моря распространяются колебания толщины воды, в случае световой волны определенной поляризации колеблется вектор напряженности электрического поля, а в случае волны, бегущей вдоль струны, распространяются колебания частиц струны, отклоняющихся от положения равновесия в направлении, перпендикулярном самой струне. Максимальное абсолютное отклонение колеблющейся величины от равновесного значения называется амплитудой волны.
Самая простая волна имеет синусоидальную форму. Если мы сделаем мгновенный снимок такой волны, то увидим, что у нее отклонение колеблющейся величины от среднего значения обращается в ноль в некоторых точках на пути ее распространения. Если, начав с одной из них, мы будем двигаться от нее вперед в направлении распространения волны, то увидим, как отклонение от среднего плавно увеличивается, пока не сравняется с амплитудой волны, и затем плавно опускается до нуля. Если мы последуем дальше, то увидим, что отклонение падает до отрицательного значения амплитуды и вновь возвращается к нулю, а затем весь цикл повторяется снова и снова по мере того, как мы двигаемся дальше в прежнем направлении. Расстояние между двумя соседними точками в начале и в конце полного цикла называется длиной волны и обычно обозначается символом λ (лямбда). Для восприятия дальнейшего объяснения важно понять, что, поскольку мгновенный уровень возвращается к нулю не только в начале и конце цикла, но еще и в середине, расстояние между двумя соседними нулевыми точками равняется половине длины волны, λ/2. Это значит, что любые две мгновенные точки с нулевым уровнем волны должны быть отделены друг от друга целым количеством отрезков с длиной, равной половине длины волны.
В математике есть фундаментальная теорема (впервые сформулированная только в первой половине XIX в.), которая доказывает, что практически любое возмущение (точнее, любое возмущение, достаточно гладко изменяющееся вдоль линии распространения волны) можно представить как результат сложения синусоидальных волн с разными длинами (это называется гармоническим анализом, или «фурье-анализом»).
Каждая синусоидальная волна предполагает не только изменение некой величины в пространстве, но и ее колебания. Если волна распространяется со скоростью v, то за время t она проходит расстояние vt. Тогда мимо фиксированной точки за время t проследует vt/λ интервалов, равных длине волны. Это значит, что в любой точке за одну секунду количество циклов, в течение каждого из которых и сама колеблющаяся величина, и скорость ее изменения вновь возвращаются к исходным значениям, равно v/λ. Эта величина называется частотой колебаний, и ее принято обозначать греческой буквой ν (ню), то есть ν = v/λ. Скорость распространения возмущения колеблющейся струны равна постоянной величине, если масса и натяжение струны практически не зависит от длины волны, и амплитуда колебаний определяется только массой струны и силой ее натяжения. Поэтому для таких волн (так же как и для световых волн) частота просто обратно пропорциональна длине волны.
Теперь рассмотрим струну какого-нибудь музыкального инструмента. Пусть ее длина равна L. Амплитуда колебаний должна равняться нулю на обоих концах струны, в точках ее крепления. Это условие ограничивает возможные длины волн синусоидальных составляющих, на которые раскладывается любое частное колебания струны. Как мы отметили, расстояние между любыми точками синусоидальной волны, где амплитуда колебания равна нулю, должно быть кратно половине длины волны. Значит, зафиксированная на обоих концах струна должна содержать целое число N таких интервалов в половину длины волны, то есть L = Nλ/2. Это означает, что в струне возможны только волны, длины которых выражаются формулой λ = 2L/N, где N = 1, 2, 3, и т. д. Соответственно, все возможные частоты можно найти по формуле[28]:
Самая низкая частота для случая, когда N = 1, равна v/2L. Все прочие частоты, соответствующие N = 2, 3, 4 и т. д., называются обертонами. Например, самая низкая частота для струны ноты до первой октавы («среднее до») – 261,63 колебаний в секунду, но еще она же вибрирует с частотой 523,26 колебаний в секунду, 784,89 колебаний в секунду и т. д. Интенсивность различных обертонов определяет качество звучания разных музыкальных инструментов.
Теперь допустим, что вибрировать заставили две струны с длинами L1 и L2, которые в остальном абсолютно одинаковы – в частности, скорость v распространения возмущения в обеих одинакова. За время t форма колебаний первой и второй струн на самых низких частотах для обеих пройдет через n1 = ν1t = vt/2L1 и n2 = ν2t = vt/2L2 циклов или частичных циклов, соответственно. Их соотношение равняется:
Таким образом, для того, чтобы частоты самого низкого из возможных для каждой из струн звуков относились как целые числа, величина L2/L1 должна выражаться простой целочисленной дробью, то есть рациональным числом (в этом случае и для каждого обертона частоты будут удовлетворять тому же условию). Звуки обеих струн в этом случае сольются, как если бы щипнули одну струну, а не две. По всей видимости, именно поэтому мы воспринимаем получившееся созвучие как консонанс.
Например, если L2/L1 = 1/2, то на каждое колебание первой струны придется два полных цикла второй. В этом случае говорят, что звуки, издаваемые первой и второй струнами, образуют интервал октаву. Все клавиши ноты до на клавиатуре фортепиано производят музыкальные звуки, каждый из которых отделен от соседнего интервалом в одну октаву. Если отношение L2/L1 = 2/3, то получающийся интервал называется квинтой. Например, это справедливо в случае, когда первая струна звучит на ноте до первой октавы с главной частотой 261,63 колебаний в секунду, а вторая струна, длина которой 2/3 от первой, звучит на ноте соль первой октавы с частотой 3/2 × 261,63 = 392,45 колебаний в секунду[29]. Если соотношение L2/L1 = 3/4, получившийся интервал называется терцией.
Другая причина того, что эти сочетания нот благозвучны, заключается в обертонах. Чтобы N1-й обертон струны 1 имел ровно ту же частоту, что и N2-й обертон струны 2, должно выполняться равенство vN1/2L1 = vN2/2L2, и таким образом:
И вновь отношение длин двух струн выражается рациональным числом, хотя и по иной причине. Но если это отношение окажется равно какому-либо нерациональному числу, например, π или квадратному корню из 2, то обертоны двух струн никогда не совпадут точно, хотя частоты более высоких обертонов могут сходиться как угодно близко. Звук, который при этом получается, ужасен.
4. Теорема Пифагора
Так называемая теорема Пифагора – самая знаменитая во всей планиметрии. Хотя ее доказательство приписывают ученикам и последователям Пифагора, например, Архиту Тарентскому, в точности история ее создания неизвестна. Здесь я приведу простейшее доказательство, основанное на понятии пропорциональности, широко применявшемся древнегреческими математиками.
Рассмотрим треугольник с вершинами A, B и P, у которого угол при вершине P является прямым. Теорема утверждает, что площадь квадрата, сторона которого равна AB (гипотенуза треугольника), равняется сумме площадей квадратов, стороны которых равны двум другим сторонам того же треугольника, катетам AP и BP. Говоря языком современной алгебры, рассматривая AB, AP и BP как численные величины, равные длинам указанных сторон, должно быть справедливо равенство:
AB² = AP² + BP².
Чтобы доказать теорему, следует провести перпендикуляр к гипотенузе AB из вершины P. Обозначим точку его пересечения с гипотенузой C (см. рис. 2). Таким образом мы поделим исходный треугольник ABP на два меньших прямоугольных треугольника APC и BPC. Легко видеть, что оба меньших треугольника подобны исходному прямоугольному треугольнику, то есть все углы в них те же самые, что и в большом. Если мы обозначим углы при вершинах A и B α (альфа) и β (бета), то у треугольника ABP будут углы α, β и 90°, и значит, α + β + 90° = 180°. В треугольнике APC два угла равны α и 90°, значит, третий угол равняется β. Аналогично в треугольнике BPC два угла равны β и 90°, следовательно, третий угол равен α.
Так как все три треугольника взаимно подобны, их соответствующие стороны пропорциональны. Это означает, что длина катета AC относится к длине гипотенузы AP треугольника ACP так же, как длина катета AP к длине гипотенузы AB в исходном треугольнике ABP. Соответственно, BC относится к BP в той же пропорции, что и BP к AB. Мы можем выразить это в более привычной алгебраической форме, связав длины сторон пропорцией:
Отсюда очевидно следует, что AP² = AC × AB, а BP² = BC × AB. Складывая два этих уравнения вместе, получаем:
AP² + BP² = (AC + BC) × AB.
Но AC + BC = AB, что и требовалось доказать.
Рис. 2. Доказательство теоремы Пифагора. Согласно теореме, сумма площадей квадратов, стороны которых равны катетам AP и BP, равняется площади квадрата, стороной которого является гипотенуза AB. Для доказательства теоремы из точки P в точку C проводится перпендикуляр к гипотенузе AB.
5. Иррациональные числа
Математикам Древней Греции были известны лишь рациональные числа. К ним относятся все целые числа, например, 1, 2, 3 и т. д. или целочисленные дроби – 1/2, 2/3 и т. п. Если отношение длин двух отрезков выражалось целочисленной дробью, древнегреческий математик считал, что они «соизмеримы». К примеру, если они находятся в отношении 3/5, это означает, что если один из этих отрезков отложить три раза, а другой пять раз, то получится два отрезка одинаковой длины. Представьте себе потрясение античных математиков, выяснивших, что не все отрезки являются соизмеримыми. Например, в прямоугольном равнобедренном треугольнике гипотенуза несоизмерима ни с одним из двух одинаковых катетов. В понятиях современной математики, поскольку, согласно теореме Пифагора квадрат гипотенузы такого треугольника равен удвоенному квадрату длины любого из катетов, длина гипотенузы равняется произведению длины любого из катетов на квадратный корень из 2. Это означает, что квадратный корень из 2 не является рациональным числом. Доказательство этого факта Евклидом в книге X «Элементов» базируется на первоначальном предположении обратного, что существует рациональное число, квадрат которого равен 2, после чего Евклид опровергает это предположение.
Допустим, что есть рациональное число, выраженное дробью p/q (где p и q – целые числа), чей квадрат равен 2:
В таком случае будет бесконечное количество таких пар чисел, которые можно получить, умножая p и q на любой натуральный множитель, но предположим, что целые числа p и q – наименьшие целые, для которых верно выражение (p/q) 2 = 2. Из уравнения выше следует, что
p² = 2q².
Отсюда очевидно, что p² – четное число, но так как произведение двух любых нечетных чисел есть нечетное число, то p должно быть только четным. То есть мы можем записать равенство p = 2p', где p' – целое число. Но тогда
q² = 2p'²
и, повторяя предыдущую цепь рассуждений, находим, что число q также четное и может быть выражено равенством q = 2q', где q' – целое число. Но тогда p/q = p'/q', и значит,
где p' и q' – целые числа, которые в два раза меньше p и q соответственно. А это противоречит исходному предположению, что p и q – наименьшие целые числа, для которых равенство (p/q)² = 2 справедливо. Мы имеем противоречие, и, следовательно, такие числа не могут существовать.
Теорема явным образом обобщается: любое число, например, 3, 5, 6 и т. д., которое само не является квадратом целого числа, не может быть квадратом рационального числа. Например, если 3 = (p/q)², где p и q – наименьшие целые числа, для которых это равенство справедливо, то p² = 3q², но это невозможно, если только нет такого целого p', для которого p = 3p', но тогда q² = 3p'², и q = 3q' для некоего целочисленного q', и, значит, 3 =(p'/q')², что противоречит предположению о том, что не существует целых чисел меньше p и q, для которых p2 = 3q2. Поэтому квадратные корни чисел 3, 5, 6, … иррациональны все.
Современная математика признает существование иррациональных чисел, таких как число, обозначаемое √2, квадрат которого равен 2. Если это число представить в виде десятичной дроби, то последовательность знаков такого числа продолжается до бесконечности, не повторяясь. Например, √2 = 1,414213562… И во множестве рациональных, и во множестве иррациональных чисел их количество бесконечно, но в каком-то смысле иррациональных чисел намного больше, чем рациональных, поскольку рациональные числа можно представить как бесконечную последовательность, включающую все рациональные числа:
1, 2, 1/2, 3, 1/3, 2/3, 3/2, 4, 1/4, 3/4, 4/3, …
тогда как перечислить все иррациональные числа никаким способом нельзя.
6. Установившаяся скорость падения
Чтобы понять, как наблюдения за падающими телами привели Аристотеля к его теории падения тел, мы можем воспользоваться физическим принципом, Аристотелю неизвестным, – Вторым законом Ньютона. Он говорит нам, что ускорение a тела (темп возрастания его скорости) равно частному от деления полной силы F, действующей на тело, на его массу m:
На тело, падающее в воздухе, действуют две основные силы. Одна из них – сила тяготения, пропорциональная массе падающего тела:
Fт = mg.
Здесь g – постоянная величина, не зависящая от того, какое именно тело падает. Оно обозначает ускорение свободного падения тела в вакууме и вблизи земной поверхности, приблизительно равное 9,8 м/с за секунду. Вторая сила – сопротивление воздуха. Она выражается функцией f (v), значение которой пропорционально плотности воздуха, увеличивается с ростом скорости и зависит от формы и размера тела, но не зависит от его массы:
Fв = −f(v) = kv.
В этой формуле знак минуса для силы сопротивления воздуха подставлен, потому что мы рассматриваем ускорение, направленное вертикально вниз, а для вертикально падающего тела сила сопротивления воздуха направлена вверх. Например, для тела, падающего сквозь среду значительной вязкости, ее сопротивление пропорционально скорости тела:
f(v) = kv.
В этой формуле k – положительная константа, которая зависит от размера и формы тела. В то же время, если мы рассмотрим, например, метеороид или ракету, входящую в разреженные верхние слои атмосферы, то будет работать другая формула:
f(v) = Kv²,
где K – другая положительная константа.
Подставив в формулу для полной силы, действующей на падающее тело, F = Fт + Fв выражения для сил тяготения и сопротивления и заменив затем полученной суммой множитель силы во Втором законе Ньютона, получаем:
Когда тело только-только отпустили и оно лишь начало падать, его скорость еще ничтожно мала, поэтому сила сопротивления воздуха не действует, и оно просто летит вниз с ускорением, равным g. По мере падения его скорость растет и сопротивление воздуха начинает уменьшать ускорение падения. В конце концов скорость становится такой, что слагаемое – f (v)/m сравнивается по модулю со слагаемым g в формуле выше и ускорение падает до близкой к нулю величины. Эта скорость называется установившейся скоростью падения и определяется как корень уравнения
f (vуст) = gm.
Аристотель нигде не упоминал установившуюся скорость падения, но та скорость, которую можно определить по этой формуле, характеризуется теми же свойствами, которые он приписывал скоростям падающих тел. Поскольку f (v) – монотонно возрастающая функция от v, то установившаяся скорость возрастает с ростом массы m. В особом случае, когда f(v) = kv, установившаяся скорость падения прямо пропорциональна массе и обратно пропорциональна коэффициенту сопротивления:
Но в общем случае зависимость скорости падающих тел от времени может быть иной. Так или иначе, тяжелые тела приобретают присущую им установившуюся скорость только после продолжительного падения.
7. Падение капель
Стратон пронаблюдал, что падающие одна за другой капли одной струи отдаляются друг от друга все больше и больше по мере падения. Из этого факта он заключил, что капли падают ускоренно. Если одна капля в какой-то момент падения оказалась ниже другой, это значит, что первая из них прошла большее расстояние. К тому же, раз капли по мере падения отдаляются, то та из них, которая падает дольше, падает быстрее, демонстрируя ускоренное падение. Хотя Стратон не знал этого, ускорение в этом случае постоянно, и, как мы увидим, результатом является то, что разрывы между каплями в цепочке капель, в которую превращается струя, возрастают пропорционально времени падения.
Как упоминалось в техническом замечании 6, если сопротивлением воздуха можно пренебречь, то ускорение падающего тела равно g, ускорению свободного падения, которое вблизи поверхности Земли равно 9,8 м/с за секунду. Если в начальный момент падения тело находилось в покое, то по истечении интервала времени τ (тау) его скорость будет равна gτ. Таким образом, если две одинаковые капли 1 и 2 срываются со среза одного и того же сливного лотка в различные моменты времени t1 и t2, то в какой-то более поздний момент времени они приобретут скорости v1 = g (t – t1) и v2 = g (t – t2) соответственно. Разность их скоростей, таким образом, составит:
Несмотря на то что и v1, и v2 растут со временем, их разность не зависит от конкретного момента t, поэтому расстояние s между двумя каплями просто увеличивается прямо пропорционально времени:
Например, если вторая капля срывается со среза сливного лотка на одну десятую долю секунды позже первой, то половину секунды спустя две капли окажутся на расстоянии 9,8 × 1/2 × 1/10 = 0,49 м одна от другой.
8. Отражение
Открытие закона отражения световых лучей Героном Александрийским явилось одним из самых ранних примеров того, как закон физики выводится средствами математики из другого, более общего принципа. Допустим, наблюдатель в точке A видит отражение в зеркале объекта в точке B. Если наблюдатель видит изображение в точке P на зеркале, то световой луч в таком случае проделал путь из точки B в точку P, а затем в точку A (Герон, вероятно, сказал бы, что луч прошел от наблюдателя из точки A к зеркалу, а затем к объекту в точке B, как если бы глаз таким образом дотронулся до объекта, но на ход наших рассуждений это не повлияет). Задача заключается в следующем: где именно на зеркале находится точка P?
Чтобы ответить на этот вопрос, Герон предположил, что свет всегда следует кратчайшим путем. В случае отражения это означает, что точка P должна быть расположена так, чтобы общая длина пути из B в P, а затем в A была бы наименьшей среди всех возможных путей из двух прямолинейных отрезков между точкой B, зеркалом и точкой A. Отсюда он заключил, что угол θп (тетап) между зеркалом и падающим на него лучом света (отрезком между точкой B и зеркалом) равен углу θо между зеркалом и отраженным лучом (отрезком между зеркалом и точкой A).
Доказательство правила о равных углах падения и отражения таково. Начертим прямую, перпендикулярную поверхности зеркала, проходящую через точку B и точку B′, которая находится на таком же расстоянии позади зеркала, как B перед ним (см. рис. 3). Допустим, что эта прямая пересекает зеркало в точке C. Катеты B′C и CP прямоугольного треугольника B′CP имеют ту же длину, что и катеты BC и CP в треугольнике BCP, поэтому гипотенузы B′P и BP этих двух прямоугольных треугольников также должны быть равны. Значит, полное расстояние, которое луч света проходит из B в P, а потом в A, такое же, как если бы он проходил из B′ в P, а затем в A. Кратчайшее расстояние между точками B′ и A – это отрезок прямой, а значит, кратчайший путь между реальным объектом и наблюдателем – такой, при котором точка P лежит на отрезке B′A. В случае пересечения двух прямых линий противолежащие по отношению к точке пересечения углы равны, поэтому угол θ между отрезком B′P и зеркалом равен углу θо между отраженным лучом и зеркалом. Но поскольку у прямоугольных треугольников B′CP и BCP все стороны одинаковы, угол θ должен быть также равен углу θп между падающим лучом и зеркалом. Таким образом, поскольку и θо, и θп равны θ, они взаимно равны. Это фундаментальное правило равенства углов падения и отражения определяет положение точки P, которая соответствует изображению объекта в зеркале.
Рис. 3. Доказательство теоремы Герона. Теорема доказывает, что кратчайший путь из объекта B до поверхности зеркала и затем к наблюдателю в точке A таков, что углы θп и θо равны. Начерченные сплошной линией отрезки помечены стрелками, показывающими направление движения луча света. Штриховая линия – перпендикуляр к поверхности зеркала между точкам B и B’, находящимися на одинаковом расстоянии от зеркала, но по разные стороны от него.
9. Плавающие и погруженные в жидкость тела
В своем великом труде «О плавающих телах» Архимед предположил, что если различные тела плавают или иным образом удерживаются в воде так, что одинаковые сечения на одинаковых глубинах прижимаются вниз различным весом, то и вода, и тела придут в движение и успокоятся тогда, когда все сечения на всех глубинах окажутся придавлены одинаковым весом. Исходя из этого предположения, он сделал несколько общих выводов о поведении плавающих и погруженных тел, некоторые из них даже имели важное практическое значение.
Для начала рассмотрим тело наподобие судна, вес которого меньше веса такого же объема воды. Оно будет плавать на поверхности, вытесняя некоторое количество воды. Если мы выделим в толще воды на какой-то глубине прямо под килем судна горизонтальное пятно такого же размера и формы, как фигура, образуемая ватерлинией судна (где корпус пересекается с поверхностью воды), то вес, приходящийся на площадь этой фигуры, будет равен сумме веса судна и всего объема воды выше этого пятна, за исключением веса воды, вытесненной судном, потому что эта вода больше не находится поверх пятна. Мы можем сравнить этот суммарный вес с тем весом, который действует на такую же площадь, расположенную на той же глубине, но где-либо в стороне от плавающего тела. Разумеется, это значение не будет включать вес плавающего тела, но зато на него будет давить полный вес водяного столба от глубины этого сечения до поверхности, без каких-либо вытесненных частей. Чтобы оба этих сечения испытывали одинаковое давление, вес вытесненной плавающим телом воды должен равняться весу самого плавающего тела. Именно поэтому вес судна называется водоизмещением.
Теперь рассмотрим тело, вес которого больше, чем вес воды такого же объема. Оно не будет плавать, но его можно подвесить в толще воды при помощи веревки или троса. Если конец троса прикрепить к плечу весов, то таким способом мы можем измерить кажущийся вес Wкаж тела, погруженного в воду. Если мы точно так же, как и в предыдущем случае, выделим в глубине воды прямо под телом равное ему по площади пятно воды, то действующий на него вес будет составлен из двух слагаемых. Первое равно разности истинного веса Wист подвешенного тела и его кажущегося веса Wкаж, который полностью компенсируется натяжением троса. Второе слагаемое – это вес воды выше пятна, за исключением воды, вытесненной телом. Можно сравнить значение этой суммы с тем весом, который давит на такую же площадь, расположенную на такой же глубине, но в стороне: этот вес не будет включать слагаемые Wист и −Wкаж, но будет равняться весу столба воды от выделенного сечения до поверхности, без учета какой-либо вытесненной воды. Чтобы на оба сечения действовало одинаковое давление, необходимо выполнение равенства:
где Wвыт – вес воды, вытесненной подвешенным в воде телом. Взвешивая таким образом тело в воде и вне воды, можно найти Wист и Wкаж, а отсюда Wвыт. Если объем тела равен V, то
Здесь ρводы (ро) обозначается плотность (отношение веса к объему) воды, это значение приблизительно равняется 1 г/см³. (Конечно, для тела простой формы, например куба, его объем можно определить простым обмером, но это трудно сделать для тела неправильной формы вроде короны.) Кроме того,
где ρтела – плотность тела. Если взять отношение Wист к Wвыт, то объем V сократится в дроби, и, таким образом, измеряя Wкаж и Wист, мы можем определить отношение плотностей тела и воды:
Полученная величина называется относительной плотностью материала, из которого изготовлено тело. Например, если в воде тело весит в воде на 20 % меньше, чем в воздухе, то Wист − Wкаж = 0,20 × Wист, то есть его плотность должна быть в 1/0,2 = 5 раз больше плотности воды. Иными словами, его относительная плотность по отношению к воде равняется 5.
В этом анализе вода не играет какую-либо определяющую роль. Если то же самое тело подвешивать в какой-нибудь другой жидкости, то соотношение истинного веса и уменьшения веса тела в этой жидкости будет также равняться соотношению плотностей самого тела и этой жидкости. Часто этот принцип используется так: тело известного веса и объема погружают в различные жидкости для того, чтобы измерить плотности этих жидкостей.
10. Площадь круга
Чтобы рассчитать площадь круга, Архимед представлял себе многоугольник с большим количеством сторон, описанный вокруг круга. Для простоты рассмотрим правильный многоугольник, у которого все стороны и углы равны. Площадь такого многоугольника есть сумма площадей всех прямоугольных треугольников, которые образуются, если провести лучи из центра многоугольника к каждой из его вершин и к середине каждой из его сторон (см. рис. 4, здесь для примера в качестве многоугольника взят правильный восьмиугольник). Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения обоих его катетов, поскольку два таких треугольника можно сложить вместе гипотенузами, и тогда они образуют прямоугольник, площадь которого равна произведению катетов исходного треугольника. В нашем случае это означает, что площадь каждого треугольника равна половине произведения отрезка r от центра до середины каждой из сторон многоугольника (то есть радиусу круга) и отрезка s от точки на середине стороны до вершины, который, конечно, равен половине стороны многоугольника. Просуммировав площади всех этих треугольников, мы обнаружим, что площадь всего многоугольника равна половине произведения r на полный периметр всего многоугольника. Если мы будем увеличивать количество сторон в многоугольнике до бесконечности, то его площадь будет все точнее совпадать с площадью вписанного круга, а его периметр – с длиной окружности круга. Поэтому площадь круга равна половине произведения его радиуса на длину окружности.
Сегодня мы знаем число π = 3,14159… такое, что длина окружности радиусом r будет равняться 2πr. Тогда площадь круга равна
Рис. 4. Вычисление площади круга. Чтобы рассчитать площадь круга, используется описанный многоугольник. На этом рисунке у многоугольника восемь сторон, и его площадь уже приблизительно равна площади круга. Чем больше будет сторон у многоугольника, тем точнее его площадь будет совпадать с площадью круга.
Те же самые выводы справедливы и если мы будем вписывать многоугольник внутрь круга, а не описывать его снаружи, как на рис. 4. Поскольку окружность всегда находится между вписанным и описанным многоугольником, расчет площадей обоих этих многоугольников позволил Архимеду найти верхние и нижние границы для отношения длины окружности к ее радиусу, то есть для величины 2π.
11. Размеры Солнца и Луны и расстояния до них
Аристарх использовал четыре наблюдательных факта, чтобы определить расстояния от Земли до Солнца и Луны, а также диаметры Солнца и Луны. Все полученные результаты он выразил в единицах диаметра Земли. Рассмотрим каждое из выполненных им наблюдений по очереди и посмотрим, что можно узнать, основываясь на них. Далее расстояния между Землей и Солнцем и Землей и Луной будут обозначаться соответственно dс и dл, а диаметры Солнца, Луны и Земли – Dс, Dл и Dз. Предполагая, что диаметры этих тел ничтожно малы по сравнению с расстояниями между ними, примем, что в рассуждениях о расстояниях между Землей, Луной и Солнцем не обязательно брать во внимание расположение на Земле точек, из которых выполняются наблюдения.
Наблюдение 1
Когда Луна в фазе первой или последней четверти, угол между направлениями на Луну и на Солнце составляет 87°.
Если в этот момент смотреть с Луны, угол между направлениями на Солнце и на Землю должен составлять точно 90° (см. рис. 5а), поэтому треугольник, образованный отрезками Луна – Солнце, Луна – Земля и Земля – Солнце, является прямоугольным, в котором отрезок Земля – Солнце есть гипотенуза. Отношение катета, прилежащего к углу θ (тета) в прямоугольном треугольнике, к его гипотенузе – тригонометрическая функция косинус угла θ, которая обозначается cos θ, и ее значение мы можем взять из таблицы или рассчитать на калькуляторе с тригонометрическими функциями. Итак,
и значит, из наблюдения следует, что Солнце в 19,11 раз дальше от Земли, чем Луна. Не зная тригонометрии, Аристарх мог лишь заключить, что это число не меньше 19 и не больше 20. На самом деле этот угол равен не 87°, а 89,853°, и поэтому Солнце в действительности находится в 389,77 раз дальше от Земли, чем Луна.
Рис. 5. Четыре наблюдения, которые Аристарх использовал для расчета размеров Солнца и Луны и расстояний от Земли до них: а) треугольник, образуемый Землей, Солнцем и Луной в момент, когда Луна находится в середине фазы первой или последней четверти; б) диск Луны точно закрывает диск Солнца для земного наблюдателя во время полного солнечного затмения; в) Луна заходит в тень Земли во время полного лунного затмения. Сфера, которая на месте Луны точно перекрывала бы конус тени, имеет диаметр, вдвое больший, чем у Луны, а точка P – крайняя точка конуса тени, отбрасываемой Землей; г) видимый угловой размер Луны по Аристарху составляет 2°; истинное его значение близко к 0,5°.
Наблюдение 2
Луна точно покрывает видимый диск Солнца во время полного солнечного затмения.
Это показывает, что у Луны и Солнца примерно один и тот же видимый угловой размер, в том смысле, что угол между направлениями от земного наблюдателя на противоположные края диска Солнца такой же, как между направлениями на противоположные края диска Луны (см. рис. 5б). Отсюда следует, что треугольники, образуемые этими линиями и поперечными диаметрами Луны и Солнца, являются «подобными», то есть углы при вершинах у них попарно равны. Поскольку соотношения размеров сторон в подобных треугольниках одинаковы для всех сторон, то
Исходя из результатов наблюдения 1, Аристарх получил значение отношения Dс/Dл = 19,11, в то время как настоящее соотношение диаметров двух тел близко к 390.
Наблюдение 3
Тень Земли в месте расположения Луны во время лунного затмения широка настолько, что может точно вместить сферу диаметром в два раза больше Луны.
Обозначим P точку, где находится вершина конуса тени, отбрасываемой Землей. У нас получается три подобных треугольника: треугольник, образованный поперечным диаметром Солнца и линиями между его концами и точкой P; треугольник, образованный поперечным диаметром Земли и линиями между его концами и точкой P; и треугольник, образованный двойным поперечным диаметром Луны и линиями между его концами и точкой P (см. рис. 5в). Следовательно, соотношения подобных сторон во всех этих треугольниках взаимно равны. Предположим, что точка P находится на расстоянии d0 позади Луны. Тогда расстояние между этой точкой и Солнцем составляет dс + + dл + d0, а между ней же и Землей – dл + d0, поэтому
Выполнив несложные алгебраические преобразования, мы можем найти из второго равенства выражение для d0:
Подставляя его в первое равенство и перемножая обе части на DзDс (Dз – 2Dл), получаем:
Слагаемые dлDс × (−2Dл) в левой части и 2DлdлDс в правой части взаимно обращаются в 0. Оставшиеся в правой части слагаемые имеют общий множитель Dз, который сокращается с множителем Dз в левой части. Таким образом, у нас получается формула для Dз:
Зная результат наблюдения 2, то есть выведенное нами равенство dс/dл = Dс/Dл, уравнение выше может быть записано с использованием одних лишь диаметров небесных тел:
Если мы используем полученное ранее численное значение Dс/Dл = 19,1, это даст Dз/Dл = 2,85. Аристарх выразил значение этого отношения как лежащее между 108/43 = 2,51 и 60/19 = 3,16, и число 2,85 замечательно попадает в этот промежуток. Но его настоящее значение равно 3,67. Причина того, что результат Аристарха оказался довольно близок к истинной величине, несмотря на сильную ошибку в оценке отношения Dс/Dл, в том, что результат вычисления малочувствителен к точному значению Dс, если Dс много больше Dл. В самом деле, если мы совсем выкинем из знаменателя слагаемое Dл как ничтожно малое по сравнению с Dс, то Dс в числителе и знаменателе сократятся, и у нас получится просто Dз = 3Dл, что не так уж далеко от истины.
Но значительно более важное историческое значение имел тот факт, что, совмещая значения отношений Dс/Dл = 19,1 и Dз/Dл = 2,85, легко найти, что Dс/Dз = 19,1/2,85 = 6,70. И хотя по-настоящему Dс/Dз = 109,1, уже и такой результат показывал, что Солнце значительно больше Земли. Аристарх усилил эффект, показав сравнение соотношения не диаметров, а объемов двух тел: если соотношение их диаметров равно 6,7, то соотношение их объемов будет равняться 6,73 = 301. Именно это сопоставление, если верить Архимеду, привело Аристарха к мысли, что Земля обращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли.
Уже описанные нами выкладки Аристарха дают значения всех соотношений диаметров Солнца, Луны и Земли, а также значение отношения расстояний до Солнца и Луны. Однако пока мы никак не можем связать соотношением какой-либо диаметр тела с расстоянием между телами. Это становится возможно при учете результата четвертого наблюдения:
Наблюдение 4
Луна имеет угловой размер 2°.
Поскольку угловой размер дуги полной окружности равен 360° (см. рис. 5 г) и длина окружности радиусом dл равна 2πdл, то диаметр Луны равен
По Аристарху, значение отношения Dл/dл лежит в промежутке между 2/45 = 0,044 и 1/30 = 0,033. По неизвестным причинам в сохранившихся трудах Аристарх грубо ошибается в своей оценке видимого углового диаметра Луны. На самом деле он составляет 0,519°, что сводит значение Dл/dл к 0,0090. Как мы отметили в главе 8, Архимед в своем труде «Исчисление песчинок» дает величину для углового диаметра Луны 0,5°, что довольно близко к истинному значению и могло бы дать правильные оценки диаметра Луны и расстояния до нее.
Используя результаты наблюдений 2 и 3, из которых Аристарх получил отношение Dз/Dл диаметров Земли и Луны, и свой результат наблюдения 4, давший ему отношение Dл/dл диаметра Луны к расстоянию до нее, он смог найти отношение расстояния до Луны к диаметру Земли. Например, полагая Dз/Dл = 2,85 и Dл/dл = 0,035, получаем:
(Истинное значение – около 30.) Далее, совмещая эту величину с результатом наблюдения 1, дающим отношение расстояния от Земли до Солнца и до Луны как dс/dл = 19,1, Аристарх нашел, что расстояние от Земли до Солнца в dс/Dз = 19,1 × 10,0 = 191 раз больше диаметра Земли, тогда как в действительности оно в 11 600 раз больше. Осталось измерить Землю, но это уже следующая задача.
12. Размер Земли
Для его расчета Эратосфен воспользовался сведениями о том, что в полдень во время летнего солнцестояния в Александрии направление на Солнце составляет 1/50 часть полной дуги окружности (то есть 360°/5 = 7,2°) от направления в зенит, тогда как в то же время в Сиене – городе, который, как он предполагал, лежит точно к югу от Александрии – в тот же самый полдень солнце было точно в зените. Поскольку Солнце расположено очень далеко, его лучи, падающие на поверхность Земли в Александрии и Сиене, можно считать параллельными. Вертикаль, то есть направление в зенит для любого города на поверхности Земли, – это продолжение луча, проведенного из центра земного шара к точке расположения этого города на его поверхности, поэтому угол между лучами от центра Земли к Сиене и Александрии должен также составлять 7,2°, или 1/50 часть полной дуги (см. рис. 6). А значит, если основываться на предположениях Эратосфена, длина окружности земного шара должна быть в 50 раз длиннее расстояния от Александрии до Сиены.
Рис. 6. Схема наблюдения Эратосфена, которую он использовал для определения размера Земли. Горизонтальные линии со стрелками демонстрируют направление падения солнечных лучей во время летнего солнцестояния. Пунктирные линии представляют собой лучи, проведенные из центра Земли к Александрии и Сиене, и соответствуют перпендикулярам к поверхности Земли.
Сиена находится не на экваторе Земли, как можно подумать, бегло глядя на рисунок, а близко к Северному тропику, или тропику Рака – широте, расположенной на 23,5 к северу от экватора (иначе говоря, угол между направлениями из центра Земли на какую-либо точку на тропике Рака и точку на экваторе точно к югу от нее составляет 23,5°). Во время летнего солнцестояния солнце в полдень стоит в небе прямо над головой на тропике Рака, а не на экваторе, потому что ось вращения Земли не перпендикулярна плоскости ее орбиты, а отклонена от перпендикуляра на угол 23½°.
13. Эпициклы внутренних и внешних планет
В своем «Альмагесте» Птолемей представил теорию движения планет, согласно которой, в ее простейшем виде, каждая планета движется по окружности, называемой эпициклом, вокруг точки в пространстве, которая сама обращается вокруг Земли по окружности, которая называется деферент. Здесь мы ответим на вопрос, почему эта теория работала так хорошо, предсказывая видимые движения планет. Ответ на него оказывается различным для случая внутренних планет (Меркурия и Венеры) и внешних планет (Марса, Юпитера и Сатурна).
Сначала рассмотрим внутренние планеты – Меркурий и Венеру. По современным представлениям, и Земля, и эти планеты обращаются вокруг Солнца на приблизительно постоянном расстоянии от него и примерно с неизменной скоростью. Если мы не станем принимать во внимание законы физики, мы можем считать, что в центре находится Земля. Тогда Солнце будет обращаться вокруг нее, а все остальные планеты будут обращаться вокруг Солнца на постоянных расстояниях и с постоянными скоростями. Это представление соответствует простейшему варианту теории, позднее предложенной Тихо Браге, сторонником которой, возможно, был и Гераклид. Она дает верные предсказания положений планет, не считая небольших поправок, необходимых потому, что планеты на самом деле движутся по эллиптическим орбитам, близким к круговым, а не в точности по окружностям, и Солнце расположено не в центрах этих эллипсов, а на некотором расстоянии от центров, к тому же и скорость планеты слегка изменяется по мере ее движения по орбите. Описанная система является особым случаем планетной теории Птолемея, хотя сам Птолемей такой случай никогда не рассматривал: в нем деферентом является не что иное, как орбита Солнца вокруг Земли, а эпициклом – орбита Меркурия или Венеры вокруг Солнца.
Заботясь лишь о расчете видимых положений Солнца и планет, переменное расстояние любой планеты от Земли можно умножать на произвольную константу, получая тот же самый результат. Так получится, например, если радиус и эпицикла, и деферента планеты помножить на одно и то же число, которое для Меркурия и Венеры может быть произвольно различным. Допустим, мы примем, что радиус деферента Венеры равен половине расстояния от Земли до Солнца, а радиус ее эпицикла – половине радиуса орбиты Венеры вокруг Солнца. Это не скажется на том факте, что центры эпициклов планет все время будут располагаться на прямой, проходящей через Землю и Солнце (см. рис. 7а, на котором схематично, не в истинном масштабе, изображен пример эпицикла и деферента внутренней планеты). Эта трансформация не скажется на видимом движении Венеры и Меркурия по небу до тех пор, пока мы не поменяем соотношение радиусов эпицикла и деферента каждой из планет. Такова упрощенная версия теории, предложенной Птолемеем для описания движений внутренних планет. Согласно ей, один оборот планеты по эпициклу занимает столько же времени, сколько ей в реальности необходимо для оборота вокруг Солнца: 88 суток для Меркурия и 225 суток для Венеры. При этом центр эпицикла, как и Солнце, обращается вокруг Земли, и один его полный оборот занимает промежуток времени, равный земному году.
Предметно говоря, притом что мы не меняем отношения радиусов эпицикла и деферента, должно быть справедливо равенство
Здесь rэпи и rдеф – радиусы эпицикла и деферента в системе Птолемея, а rп и rз – радиусы орбит той же планеты и Земли в системе Коперника (или, что то же самое, радиус орбит планеты вокруг Солнца и Солнца вокруг Земли, соответственно, в теории Тихо Браге). Конечно, Птолемей ничего не знал о системах Тихо Браге или Коперника, и свою теорию он разрабатывал иным путем. Все сказанное по этому поводу выше лишь показывает, почему теория Птолемея работала, а не то, каким образом он вывел ее.
Теперь обратимся к внешним планетам – Марсу, Юпитеру и Сатурну. В простейшей версии теории Коперника (как и у Тихо Браге) каждая из этих планет постоянно находится на одном и том же расстоянии не только от Солнца, но и от точки C’, движущейся в пространстве, сохраняя одно и то же расстояние от Земли. Чтобы найти эту точку, начертим параллелограмм (рис. 7б), первые три вершины которого в порядке против часовой стрелки будут таковы: S – точка расположения Солнца, E – точка расположения Земли, P’ – точка расположения одной из планет. Движущаяся точка C’ находится в четвертом, пустом углу этого параллелограмма.
Рис. 7. Упрощенная версия теории эпициклов, описанной Птолемеем: а) схема, согласно Птолемею, изображающая движение одной из внутренних планет – Меркурия или Венеры; б) схема движения одной из внешних планет – Марса, Юпитера или Сатурна – согласно теории Птолемея. Планета P обращается по эпициклу вокруг точки C за один год, при этом отрезок CP всегда параллелен отрезку, соединяющему Землю и Солнце, в то время как сама точка C обращается вокруг Земли по деференту за более длительное время (штриховые линии отражают особый случай теории Птолемея, в котором она эквивалентна теории Коперника).
Поскольку отрезок ES имеет фиксированную длину, а отрезок P’C’ является противоположной ему стороной параллелограмма, то P’C’ также имеет фиксированную длину, равную длине первого отрезка. Поэтому планета все время остается на одном и том же расстоянии от C’, равном расстоянию от Земли до Солнца. Это особый случай теории Птолемея, не рассмотренный им самим. В нем деферент – не что иное, как орбита точки C’ вокруг Земли, а эпицикл – орбита Марса, Юпитера или Сатурна вокруг точки С’.
И вновь, если думать лишь о расчете видимых положений Солнца и планет, можно умножить переменное расстояние любой планеты от Земли на произвольную константу, не меняя видимую картину, и этого можно достигнуть, перемножая радиусы эпицикла и деферента каждой планеты на одну и ту же постоянную величину, индивидуальную для каждой внешней планеты. И хотя у нас больше не получается параллелограмм, отрезок от планеты до точки C остается параллельным отрезку между Солнцем и Землей. Видимое движение любой из внешних планет по небу не изменится в результате такой трансформации, если неизменным останется соотношение радиусов ее деферента и эпицикла. Такова упрощенная версия теории Птолемея, предложенной им для описания движения внешних планет. Согласно ей, один оборот по эпициклу вокруг точки C планета совершает за год, в то время как точка C обращается по деференту вокруг Земли за то время, которое по-настоящему требуется планете, чтобы совершить оборот по орбите вокруг Солнца: 1,9 земных лет для Марса, 12 лет для Юпитера, 29 лет для Сатурна.
При неизменности отношения радиусов деферента и эпицикла должно быть справедливо равенство
где rэпи и rдеф снова обозначают радиусы эпицикла и деферента в системе Птолемея, а rп и rз – радиусы орбит планеты и Земли, соответственно, в системе Коперника (или, аналогично, радиус орбиты планеты вокруг Солнца и радиус орбиты Солнца вокруг Земли в системе Тихо Браге). Опять же, здесь мы не описали то, каким образом Птолемей пришел к формулировкам своей теории, а лишь пояснили причину того, почему она работала довольно хорошо.
14. Параллакс Луны
Обозначим угол между направлением в зенит и на Луну, видимую из некоторой точки O земной поверхности, как ζ’ (дзета штрих). Луна непрерывно и равномерно движется вокруг центра Земли, поэтому, анализируя серию повторяющихся наблюдений Луны, можно вычислить направление от центра Земли C к центру Луны M. В частности, можно рассчитать угол ζ между лучом, на котором находится отрезок CM, и лучом из центра Земли C, пересекающим поверхность Земли в точке O, который совпадает с направлением в зенит в этой точке. Углы ζ и ζ’ слегка отличаются, потому что радиус Земли rз, хотя и мал по сравнению с расстоянием между центром Земли и Луной d, но не пренебрежимо мал. Именно из разности этих углов Птолемей смог вывести отношение d/rз.
Рис. 8. Использование параллакса для определения расстояния до Луны. Здесь ζ’ – угол между наблюдаемым положением Луны и вертикалью, а ζ – то значение, которое было бы у этого угла, если можно было наблюдать Луну из центра Земли.
Точки C, O и M образуют треугольник, в котором угол при вершине C равен ζ, угол при вершине O равен 180° – ζ’, а при вершине M, поскольку сумма углов любого треугольника равна 180°, угол будет 180° − ζ – (180° − ζ’) = ζ’ − ζ (см. рис. 8). Отношение d/rз из значений этих углов мы можем получить намного проще, чем это делал Птолемей, воспользовавшись теоремой из современной тригонометрии: в любом треугольнике длина каждой стороны пропорциональна синусу противолежащего угла (о том, что такое синус, расскажем в техническом замечании 15). Угол, противолежащий отрезку CO длиной rз, равен ζ’ − ζ, а угол, противолежащий отрезку CM длиной d, равен 180° − ζ, поэтому
1 октября 135 г. Птолемей определил, что зенитный угол при наблюдении из Александрии составляет ζ’ = 50°55’, и его расчеты показали, что в тот же самый момент при наблюдении из центра Земли угол ζ был бы равен 49°48’. Соответствующие синусы этих углов равны
Зная эти числа, Птолемей смог заключить, что расстояние от центра Земли до Луны в единицах радиуса Земли составляет:
Эта величина существенно меньше, чем настоящее значение, в среднем примерно равное 60. Проблема оказалась в том, что Птолемей неточно определил разность углов ζ’ и ζ, но по крайней мере полученный результат давал верное представление о том, какого порядка величина расстояния до Луны.
Так или иначе, Птолемей рассчитал его более точно, чем Аристарх, который на основании своих расчетов отношения диаметров Земли и Луны, а также расстояния до Луны к ее диаметру смог бы указать предельные значения для d/rз, равные 215/9 = 23,9 и 57/4 = 14,3. Однако если бы Аристарх использовал правильное значение 1/2° для углового диаметра лунного диска вместо неверной величины 2°, то соотношение d/rз у него получилось бы в 4 раза больше, в промежутке от 57,2 до 95,6. Такой промежуток включал бы истинную величину.
15. Синусы и хорды углов
Раздел современной математики, который называется тригонометрией, изучаемый сейчас в школах и высших учебных заведениях, мог бы здорово помочь античным математикам и астрономам. Тригонометрия учит, каким образом, зная любой из углов прямоугольного треугольника, кроме прямого, вычислить соотношения всех его сторон. Например, результат деления длины катета, противолежащего данному углу, на длину гипотенузы является значением функции под названием «синус угла». Это число можно найти в математических таблицах или рассчитать на калькуляторе, если ввести значение угла и нажать кнопку «sin». В том же треугольнике отношение прилежащего к тому же углу катета к гипотенузе называется косинусом угла, а противолежащего катета к прилежащему – его же тангенсом, но нам сейчас достаточно поговорить о синусах. Хотя синус ни разу не упоминается в трудах математиков эпохи эллинизма, в «Альмагесте» Птолемея встречается связанная с ним функция, которая называется хордой угла.
Чтобы дать определение хорде угла θ (тета), нарисуем окружность радиусом 1 (в любых удобных для вас единицах измерения длины) и проведем из ее центра два луча, разделенные углом θ. Хордой угла будет в этом случае называться отрезок, соединяющий точки пересечения этих двух радиусов с окружностью (см. рис. 9). В «Алмагесте» приводится таблица хорд[30] в вавилонской шестидесятеричной системе счисления, в которой углы выражены в градусах, в промежутке от 1/2° до 180°. Например, для угла 45° в таблице дано значение хорды 45 55 19, что можно перевести в привычный нам вид таким образом:
В то же время истинное значение равняется 0,7653669…
Хорды естественным образом применяются в астрономии. Если мы представим себе, что звезды расположены на сфере единичного радиуса, центр которой совпадает с центром Земли, то, если две звезды разделены угловым расстоянием θ, воображаемый отрезок, соединяющий эти две звезды на сфере по прямой, будет иметь длину хорды угла θ.
Рис. 9. Хорда угла θ. Начерченная здесь окружность имеет радиус, равный 1. Два изображенных сплошной линией радиуса образуют угол θ. Горизонтальный отрезок проведен между точками пересечения радиусов с окружностью. Его длина равна хорде этого угла.
Чтобы понять, какое отношение хорды имеют к тригонометрии, вернемся к геометрическому определению хорды угла θ и проведем перпендикуляр (штриховая линия на рис. 9) к хорде из центра окружности, который делит хорду точно пополам. Мы получим два прямоугольных треугольника, у каждого из которых угол, прилегающий к центру окружности, равен θ/2, а противолежащий ему катет в два раза короче хорды. Гипотенузы обоих треугольников равны радиусу окружности, который мы принимаем равным 1, поэтому синус угла θ/2 – в математической записи sin θ/2 – есть половина хорды угла θ, или:
chordθ = 2 sin(θ/2).
Поэтому любое вычисление с использованием синусов можно выполнить и при помощи хорд, хотя и с несколько меньшим удобством.
16. Горизонт
Как правило, посмотреть вдаль нам мешают стоящие недалеко от нас деревья, дома или другие предметы. Стоя на вершине холма в ясный день, мы можем видеть намного дальше, но пределом видимости все равно будет линия горизонта, предметы позади которой мы не видим, потому что их от нас закрывает сама Земля. Арабский астроном аль-Бируни описал хитроумный метод, как, используя это хорошо знакомое всем явление, вычислить радиус Земли, измерив лишь одну линейную величину – высоту горы.
Пусть наблюдатель в точке O вершины горы может видеть самую дальнюю точку H на поверхности Земли, в которой луч его зрения касается земного шара (см. рис. 10).
Этот луч зрения расположен под прямым углом к радиусу, соединяющему точку H с центром Земли C, поэтому треугольник OCH является прямоугольным. Луч зрения пролегает ниже горизонтальной плоскости на некоторый угол θ, который мал за счет того, что Земля большая и линия горизонта находится далеко от наблюдателя. Угол между тем же лучом зрения и вертикальным направлением вниз в точке расположения наблюдателя равен 90° – θ, а значит, поскольку сумма углов любого треугольника равна 180°, острый угол треугольника, прилежащий к центру Земли, равняется 180° − 90° − (90° − θ) = θ. Прилежащий ему катет CH имеет длину, равную радиусу Земли r, а длина гипотенузы треугольника CO есть сумма радиуса Земли r и высоты горы h. По определению, косинус угла прямоугольного треугольника есть отношение длины прилежащего катета к длине гипотенузы, поэтому здесь
Рис. 10. Примененный аль-Бируни метод определения радиуса Земли путем измерения горизонта. O – наблюдатель на вершине возвышенности высотой h. H – линия горизонта с его точки зрения. Отрезок OH является касательной к поверхности Земли в точке h и, значит, образует прямой угол с радиусом, проведенным из центра Земли C в точку H.
Чтобы вывести из этого уравнения r, обратим внимание, что, если перевернуть обе части, получается равенство 1 + h/r = 1/cos θ. Если теперь вычесть из левой и правой части единицу и снова их перевернуть, то мы получим:
К примеру, наблюдая горизонт на горе в Индии, аль-Бируни нашел, что θ = 34’. Косинус этого угла cos θ = 0,999951092, а 1/cos θ – 1 = 0,0000489. Значит,
Согласно аль-Бируни, высота этой горы составляла 652,055 локтя (это число дано с точностью, намного превышающей доступную ему точность измерений), что дает результат r = 13,3 млн локтей, хотя он сам приводит число 12,8 млн локтей. В чем именно аль-Бируни ошибся, мне неизвестно.
17. Геометрическое доказательство теоремы о средней скорости
Построим график изменения скорости в зависимости от времени для движения с постоянным ускорением, отложив скорость вдоль вертикальной оси, а время – вдоль горизонтальной. График будет представлять собой прямую линию от нуля до конечной скорости в конечный момент времени. В каждый достаточно малый отрезок времени пройденное расстояние равняется произведению скорости, которое имело тело в этот момент (примем, что изменение скорости пренебрежимо мало в этот промежуток времени, если он сам мал), на длину временно́го отрезка.
Таким образом, пройденное расстояние равно площади узкого прямоугольника, высота которого равна высоте графика скорости в этот момент времени, а ширина отмечает достаточно малый отрезок времени (см. рис. 11а). Такими прямоугольниками можно заполнить всю область под графиком от начального до конечного момента времени, и полное пройденное расстояние в этом случае будет равняться сумме их площадей, то есть площади области под графиком (см. рис. 11б).
Конечно, какими бы узкими мы ни делали эти прямоугольники, можно лишь приближенно говорить, что площадь области под графиком равна сумме их площадей. Но если мы будем делать их все более и более узкими, мы будем получать все более и более близкий к истинному результат. Представляя себе бесконечное количество бесконечно тонких прямоугольников разбиения, мы можем заключить, что пройденное телом расстояние численно равно площади, заключенной под графиком.
Рис. 11. Геометрическое доказательство теоремы о средней скорости. Наклонная линия – это график скорости в зависимости от времени для равномерно ускоряющегося тела, первоначально находившегося в состоянии покоя: а) ширина узкого прямоугольника соответствует малому отрезку времени. Его площадь примерно равна расстоянию, пройденному за этот промежуток времени; б) весь период времени равноускоренного движения разбивается на малые промежутки. По мере увеличения количества промежутков сумма площадей построенных на них прямоугольников все точнее приближается к площади области под наклонным графиком; в) площадь под наклонным графиком скорости равна половине произведения конечной скорости на полное время ускоренного движения.
Суть рассуждения не изменится и в том случае, если ускорение не будет постоянным и график скорости не будет прямолинейным. Оказывается, мы только что вывели основополагающий принцип интегрального исчисления: если взять график изменения во времени некоторой величины, то ее суммарное изменение в пределах какого-то промежутка времени будет равно площади, заключенной под графиком этой кривой, в пределах того же промежутка. Но в случае равномерного изменения величины, как для нашего постоянного ускорения, эту площадь можно найти простейшим геометрическим расчетом по следующей теореме: площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения длин его катетов, то есть двух его сторон, не являющихся гипотенузой. Это очевидно из того факта, что, сложив два одинаковых прямоугольных треугольника вместе, мы получим прямоугольник, площадь которого равна произведению длин двух его сторон (см. рис. 11в). В нашем случае катетами являются конечная скорость и полное время ускоренного движения. Пройденное расстояние равно площади прямоугольного треугольника таких размеров, то есть половине произведения конечной скорости на полное время. Но, поскольку скорость возрастает от нуля в постоянном темпе, ее среднее значение равно половине его конечного значения, поэтому пройденное телом расстояние равно произведению средней скорости на полное время. Это и есть теорема о средней скорости.
18. Эллипсы
Эллипсом называется определенный вид замкнутой кривой на плоскости. Есть как минимум три различных способа дать определения этой кривой.
Определение первое
Эллипс – это множество точек на плоскости, координаты которых удовлетворяют уравнению:
Рис. 12. Элементы эллипса. Две точки, обозначенные внутри эллипса, называются его фокусами; a и b – большая и малая полуоси эллипса; расстояние от любого из фокусов до его центра равно ea. Сумма длин отрезков r+ и r−, соединяющих оба фокуса с произвольной точкой P на линии эллипса, постоянна и равна 2a. У изображенного здесь эллипса эксцентриситет e ≈ 0,8.
где x – расстояние от центра эллипса до любой точки на его линии вдоль одной оси координат, а y – расстояние до той же самой точки вдоль оси, перпендикулярной первой. a и b – положительные коэффициенты, характеризующие размер и форму эллипса, которые принято выбирать так, что a ≥ b. Для ясности можно считать, что x – горизонтальная, а y – вертикальная ось координат, хотя, разумеется, они могут быть расположены вдоль любых двух взаимно перпендикулярных направлений. Из уравнения (1) следует, что расстояние r = √(x² + y²) до любой точки на линии эллипса от его центра, расположенного в координатах x = 0, y = 0, удовлетворяет условиям
поэтому для любой точки эллипса справедливо:
b ≤ r ≤ a. (2)
Обратим внимание, что в точках пересечения горизонтальной оси y = 0, поэтому x² = a², и, значит, x = ±a. Таким образом, уравнение (1) описывает эллипс, наиболее длинный диаметр которого простирается от −a до +a в горизонтальном направлении. Также в точках, где эллипс пересекает вертикальную ось, выполняется x = 0, поэтому y² = b², и, значит, y = ±b, а, следовательно, уравнение (1) описывает эллипс, наиболее короткий диаметр расположен вертикально от −b до +b (см. рис. 12). Параметр a называется большой полуосью эллипса. Принято выражать другой параметр эллипса, его эксцентриситет, как
В общем случае эксцентриситет находится в пределах от 0 до 1. Эллипс с эксцентриситетом e = 0 есть окружность с радиусом a = b. Эллипс с эксцентриситетом e = 1 сплюснут настолько, что является просто отрезком горизонтальной оси с вертикальной координатой y = 0.
Определение второе
Другое классическое определение эллипса таково, что это множество точек на плоскости, для которых сумма расстояний до двух фиксированных точек (фокусов эллипса) постоянна. Для эллипса, описываемого уравнением (1), эти две точки расположены в координатах х = ±ea, y = 0, где e – эксцентриситет, определяемый тождеством (3). Пара расстояний от этих двух точек до произвольной точки на линии эллипса, координаты x и y которой удовлетворяют уравнению (1), выражается таким образом:
Так что их сумма действительно является постоянной величиной:
Это можно рассматривать как обобщение классического определения окружности как множества точек, отстоящих на постоянное расстояние от фиксированной точки.
Поскольку оба фокуса эллипса полностью симметричны, средние расстояния r+ и r− до точек на эллипсе (при равном весе усреднения для любого сегмента заданной длины, взятого на линии эллипса) от двух фокусов должны быть равны: r+ = r−, и значит, из равенства (5) получаем:
Это же число является средним между самым большим и самым малым расстоянием от точек на эллипсе до любого из фокусов:
Определение третье
Данное Аполлонием Пергским исходное определение эллипса таково: это коническое сечение, которое получается, если рассечь конус плоскостью, наклоненной к оси конуса. Выражаясь современным математическим языком, конус с ориентированной вертикально осью – это трехмерное множество точек, удовлетворяющее такому условию: радиусы круговых поперечных сечений конуса пропорциональны расстоянию, отложенному по вертикали:
где u и y – расстояния, отложенные вдоль двух взаимно перпендикулярных горизонтальных направлений, z – расстояние вдоль вертикальной оси, а α – положительный коэффициент, определяющий форму конуса (по какой причине мы обозначили первую горизонтальную координату u, а не x, вы скоро поймете). Вершиной этого конуса является точка, в которой u = y = 0, а также z = 0. Плоскость, которая рассекает конус под углом, можно определить как множество точек, удовлетворяющих следующему равенству:
где β и γ – еще два коэффициента, которые определяют, соответственно, угол наклона и высоту расположения плоскости (координаты мы определяем таким образом, что плоскость оказывается параллельной оси y). Совмещая равенства (8) и (9), получаем:
или, что то же самое,
Можно видеть, что это определение эквивалентно равенству (1), если мы определим входящие в него величины как
Обратите внимание, что отсюда e = αβ, и это значит, что эксцентриситет зависит от формы конуса и от наклона секущей его плоскости, но не от высоты, на которой располагается эта плоскость.
19. Элонгации и орбиты внутренних планет
Одним из выдающихся достижений Коперника было вычисление определенных значений для относительных размеров планетных орбит. Один простой пример – расчет радиусов орбит внутренних планет по величине их максимального видимого удаления от Солнца.
Рис. 13. Расположение Земли и внутренней планеты (Меркурия или Венеры) в момент наибольшего видимого удаления этой планеты от Солнца. Орбиты планеты и Земли изображены в виде двух окружностей.
Рассмотрим орбиту одной из внутренних планет, Меркурия или Венеры, приближенно полагая, что и орбита Земли, и орбита этой планеты – окружности, центр которых совпадает с Солнцем. В момент, который принято называть максимальной элонгацией, планета видна на небе на угловом расстоянии θmax от Солнца. В это время отрезок, соединяющий Землю и планету, есть часть прямой, касательной к ее орбите, поэтому угол между этой прямой и радиусом, проведенным от Солнца к планете, является прямым. Значит, эти два отрезка вместе с отрезком, соединяющим Землю с Солнцем, образуют прямоугольный треугольник (см. рис. 13). Гипотенузой в нем является радиус земной орбиты, поэтому отношение радиуса планетной орбиты rп к расстоянию между Землей и Солнцем rз есть синус угла θmax. Ниже приведена таблица углов максимальной элонгации, их синусов и реальных значений радиусов орбит rп Меркурия и Венеры, выраженных в единицах радиуса земной орбиты rз:
Небольшие различия между значениями синуса θmax и наблюдаемыми отношениями орбитальных радиусов rп/rз для внутренних планет к радиусу орбиты Земли объясняются отличиями в форме реальных орбит от идеальных окружностей с Солнцем в центре, а также тем фактом, что орбиты располагаются не строго в одной плоскости.
20. Суточный параллакс
Представим себе «новую звезду» или иной астрономический объект, который неподвижен относительно звезд или очень незначительно перемещается по отношению к ним в течение суток. Допустим, что он находится гораздо ближе к Земле, чем звезды. Далее можно либо принять точку зрения, что Земля делает один оборот вокруг своей оси с востока на запад, либо что звезды вместе с этим объектом вращаются вокруг неподвижной Земли раз в сутки с запада на восток. В любом случае, поскольку мы видим объект в слегка разных направлениях в различное время ночи, его видимая позиция на фоне звезд будет смещаться. Это явление называется суточным параллаксом объекта. Измерение суточного параллакса позволяет определить расстояние до объекта, а в случае, если он так мал, что его не удается измерить, определяется минимальное расстояние, ближе которого астрономический объект находиться не может.
Для расчета величины этого углового сдвига необходимо для фиксированной наблюдательной площадки на Земле определить видимое расположение объекта среди звезд два раза: первый раз – когда он лишь появляется над горизонтом и второй раз – когда он находится выше всего на небе. Для того чтобы показать примерный расчет, рассмотрим простейший в геометрическом отношении случай: обсерватория расположена на экваторе, и объект находится в одной плоскости с экватором Земли. Конечно, это было не так в том случае, когда Тихо Браге измерял параллакс сверхновой звезды, но так мы тоже можем получить величину того же порядка.
Луч зрения от наблюдателя, направленный в сторону объекта, проходит по касательной к поверхности Земли в тот момент, когда он восходит над горизонтом, поэтому угол между этим лучом и направлением от обсерватории в центр Земли – прямой. Отрезки, соединяющие наблюдателя, центр Земли и объект, таким образом, образуют прямоугольный треугольник (см. рис. 14). Синус угла θ в этом треугольнике равен отношению противолежащего катета, радиуса Земли rз, к гипотенузе, расстоянию d от центра Земли до объекта, которое мы измеряем. Как видно из чертежа, этот же угол равен видимому смещению объекта на фоне удаленных звезд между моментом его появления над горизонтом и кульминацией. Полное смещение за время от восхода объекта до его захода составит 2θ.
Рис. 14. Использование суточного параллакса для определения расстояния d от Земли до астрономического объекта. Здесь показан вид в плане со стороны южного полюса Земли. Для простоты примера наблюдатель расположен на экваторе, а наблюдаемый объект находится в той же самой плоскости, что и экватор. Две прямые, пересекающиеся под углом θ, – это направления от наблюдателя к объекту в моменты его восхода над горизонтом и шесть часов спустя, во время его кульминации прямо в зените для наблюдателя.
Например, если мы предположим, что наблюдаемый объект находится от нас так же далеко, как Луна, то d ≈ 400 000 км, rз ≈ 6400 км, поэтому sin θ ≈ 6,4/400, и, таким образом, θ ≈ 0,9°, а полный суточный параллакс составляет 1,8°. При наблюдении объекта из иной произвольной точки на Земле, такой как остров Вен (например, сверхновой 1572 г.), ожидаемый суточный параллакс должен быть меньше, но все равно того же порядка величины – около 1°. Этого более чем достаточно, чтобы такой опытный астроном, как Браге, измерил бы его и без увеличительных инструментов. Однако Тихо Браге не удалось, наблюдая сверхновую, заметить наличие у нее какого-либо суточного параллакса, из чего он заключил, что звезда находится гораздо дальше Луны. Кроме того, надо отметить, что и параллакс самой Луны был измерен без труда, что стало способом измерения расстояния между Землей и Луной.
21. Правило равных площадей и эквант
Согласно Первому закону Кеплера, все планеты, включая Землю, обращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, причем Солнце находится не в их центрах, а в некоторых смещенных от центра точках, расположенных на больших осях этих эллипсов – в одном из фокусов эллипса каждой из орбит (см. техническое замечание 18). Эксцентриситет эллипса e определяется так, что расстояние от любого его фокуса до центра равно ea, где a – длина большой полуоси эллипса. Также, согласно Второму закону Кеплера, скорость каждой планеты при ее перемещении по орбите не постоянна, а изменяется таким образом, что отрезок (или радиус-вектор), проведенный к ней от Солнца, заметает равные по площади участки плоскости за одинаковые отрезки времени.
Существует другой способ приближенно сформулировать тот же Второй закон, имеющий близкое отношение к старой идее экванта, которую использовал в своей астрономической системе Птолемей. Вместо того чтобы рассматривать отрезок, проведенный к планете от Солнца, рассмотрим отрезок к ней же из другой точки, а именно из пустого фокуса ее эллиптической орбиты. Эксцентриситет e некоторых орбит планет довольно значителен, и им нельзя пренебрегать. Но его квадрат e² очень мал для любой планеты. Например, среди планет самый большой эксцентриситет у орбиты Меркурия, для него e = 0,206, а e² = 0,042; для Земли же e² = 0,00028. Поэтому при вычислении планетных движений достаточно аппроксимировать реальные их законы уравнениями, в которых присутствуют слагаемые, пропорциональные эксцентриситету e, или независимые от него слагаемые, и игнорировать такие их члены, которые пропорциональны квадрату эксцентриситета e² или его степеням высших порядков. В этом приближении Второй закон Кеплера эквивалентен утверждению, что отрезок, проводимый из пустого фокуса планетной орбиты к планете, заметает равные углы за равные промежутки времени. Иначе говоря, эта линия вращается с постоянной угловой скоростью.
На конкретном примере покажем, что если – это скорость, с которой радиус-вектор от Солнца к планете заметает равные площади, а (фи с точкой) – скорость изменения угла между радиус-вектором от пустого фокуса к той же планете и большой осью ее орбиты, то верно равенство
где O (e²) – обозначение всех членов, пропорциональных e² или степеням e еще более высоких порядков, а R – коэффициент, значение которого зависит от применяемых единиц измерения углов. Если мы меряем углы в градусах, то R = 360°/2π = 57,293…°, то есть угол размером в один радиан. Или мы можем измерять углы в радианах, и тогда R = 1. Второй закон Кеплера гласит, что за одинаковые промежутки времени площадь, заметаемая радиус-вектором планеты, одна и та же. Это значит, что – величина постоянная, а, следовательно, что постоянна и с точностью до слагаемых высшего порядка, пропорциональных e². Поэтому с достаточной точностью можно сказать, что за заданный промежуток времени угол, на который изменяется радиус-вектор планеты из пустого фокуса ее орбиты, всегда один и тот же.
Что касается описанной Птолемеем теории, центр эпицикла каждой планеты обращается вокруг Земли по круговой орбите, деференту, но Земля находится не в центре деферента. Орбита является эксцентричной, то есть Земля находится в точке, отделенной от центра деферента небольшим расстоянием. Мало того, скорость, с которой центр эпицикла обращается вокруг Земли, не постоянна, и угловая скорость, с которой луч от Земли к этому центру поворачивается, тоже не постоянна. Чтобы детально учесть все особенности наблюдаемого движения планет, Птолемей изобрел понятие экванта. Это точка по другую сторону от центра деферента по отношению к Земле, которая находится на том же расстоянии от центра, что и Земля. Луч, проводимый к центру эпицикла от этого экванта (а не от Земли), и должен был описывать равные углы в одни и те же промежутки времени.
Внимательный читатель уже заметил, что это очень похоже на картину, описываемую законами Кеплера. Конечно, роли Солнца и Земли в астрономических системах мира Птолемея и Коперника противоположны, но пустой фокус эллипса в теории Кеплера играет ту же самую роль, что и эквант в теории Птолемея, а Второй закон Кеплера объясняет, почему введение экванта помогло улучшить теоретические предсказания видимых положений планет по теории Птолемея.
Теперь докажем равенство (1). Определим θ как угол между большой осью эллипса и отрезком, соединяющим Солнце и планету, и вспомним, что φ определен как угол между той же большой осью и отрезком, соединяющим планету и пустой фокус. Так же, как в техническом замечании 18, обозначим длины этих отрезков r+ и r– то есть расстояния от Солнца до планеты и от планеты до пустого фокуса орбиты соответственно. Как было показано, они равны
где х – горизонтальная координата точки на эллипсе, то есть расстояние между точкой и прямой, секущей эллипс вдоль его малой оси.
Косинус угла определяется в тригонометрии с использованием прямоугольного треугольника, один из углов которого равен данному: косинусом называется отношение длины катета, прилежащего к этому углу, к длине гипотенузы треугольника. Поэтому из рис. 15 мы можем записать:
Рис. 15. Орбитальное движение планеты по эллипсу. Орбита планеты вычерчена здесь как эллипс, имеющий эксцентриситет (как и на рис. 12) около 0,8 – значительно больше, чем у какой-либо планеты Солнечной системы. Отрезки, обозначенные r+ и r−, соединяют планету, соответственно, с Солнцем и с противоположным ему, пустым фокусом эллипса.
Уравнение слева мы можем решить, найдя из него x:
Подставляя результат в формулу для cos φ, выражаем связь между углами θ и φ:
Поскольку равенство справедливо при любых значениях угла θ, изменение в левой части равенства должно быть равно изменению в правой части при любом изменении θ. Допустим, мы производим бесконечно малое его изменение δθ (дельта тета). Чтобы рассчитать, насколько изменится φ, прибегнем к правилу дифференциального исчисления, согласно которому изменение любого угла α (это может быть θ или φ) на величину δα (дельта альфа) приводит к изменению cos α на величину – (δα/R) sin α. Оттуда же при изменении любой функции f, такой, например, как знаменатель в уравнении (5), на ничтожно малую величину δf изменение в отношении 1/f составляет −δf/f2. Приравняв соответствующие изменения с обеих сторон равенства, получаем:
Теперь нам нужна формула, связывающая sin φ и sin θ. Для этого посмотрим на рис. 15 и обратим внимание, что вертикальная координата y точки на линии эллипса выражается как y = r + sin θ, а также y = r − sin φ, и, поделив их, сократив y, получаем:
Совмещая уравнения (7) и (6), имеем:
Итак, какова же площадь, описываемая радиус-вектором планеты, проведенным от Солнца, когда угол θ изменяется на δθ? Измеряя углы в градусах, мы можем сказать, что это площадь равнобедренного треугольника, две равные стороны которого имеют длину r+, а третья – маленькая часть дуги общей длиной 2πr+ окружности радиусом r+, равная 2πr+ × δθ/360°. Она равна
В этой формуле поставлен минус, поскольку мы хотим, чтобы величина δA росла, если увеличивается угол φ; но если вспомнить, как мы определили эти углы, φ будет расти в том случае, если уменьшается θ, поэтому δφ больше нуля, когда δθ меньше нуля. Поэтому уравнение (8) можно переписать в виде:
Принимая, что δA и δφ – описываемая первым радиус-вектором площадь и угол поворота второго радиус-вектора за ничтожно малый промежуток времени δt, и поделив обе части уравнения (10) на δt, найдем соответствие между описываемыми площадями и углами в виде равенства
Нами получено точное равенство. Но теперь посмотрим, как оно себя ведет в том случае, когда e очень мал. Числитель второй дроби в уравнении (11) имеет вид (1 − e cos θ)² = 1 − 2e cos θ + e²cos²θ, так что слагаемые нулевого и первого порядка в числителе и знаменателе дроби одни и те же, и вся разница между числителем и знаменателем заключается в коэффициентах членов, пропорциональных e². И значит, уравнение (11) полностью соответствует искомому нами с самого начала равенству (1). Для большей определенности мы можем оставить в уравнении (11) члены порядка e²:
где O (e³) обозначает члены, пропорциональные e³ или более высоким степеням e.
22. Фокусное расстояние линзы
Рассмотрим поставленную вертикально линзу с выпуклой передней стороной и плоской задней – похожие линзы Галилей и Кеплер использовали для изготовления объективов своих телескопов. Из криволинейных поверхностей легче всего полировать сферические, и мы допустим, что форма передней поверхности линзы – сегмент сферы радиусом r. Также в наших рассуждениях будем считать, что линза тонкая, то есть ее максимальная толщина значительно меньше, чем r.
Пусть луч света горизонтально падает на линзу параллельно ее оси и встречается с поверхностью линзы в точке P. В этом случае отрезок от расположенного позади линзы центра кривизны C сферической поверхности до точки P образует с центральной осью линзы угол θ. Линза преломит луч света таким образом, что после того, как он выйдет из ее толщи через заднюю поверхность, он пересечет ось под другим углом, который мы обозначим φ. Точку его пересечения с осью симметрии линзы обозначим F (см. рис. 16а). Нам требуется рассчитать расстояние f, которое отделяет эту точку от линзы, и доказать, что оно не зависит от θ, за счет чего все параллельные лучи, падающие на линзу горизонтально, пересекают ее центральную ось в точке F. Говорят, что в этом случае лучи фокусируются линзой в точке F, а расстояние f от нее до линзы называется фокусным расстоянием.
Для начала обратим внимание, что длина дуги вдоль передней поверхности линзы от оси линзы до точки P есть доля θ/360° от полной длины окружности, образующей сферы 2πr. С другой стороны, та же самая дуга составляет φ/360° от полной длины окружности радиусом f, которая равна 2πf. Будем считать, что эти две дуги одинаковые, и приравняем их:
Теперь, сокращая в правой и левой частях 360° и 2π, получаем пропорцию:
Значит, чтобы рассчитать фокусное расстояние линзы, нужно найти отношение φ к θ.
Для этого нужно обратить внимание, что именно происходит с лучом света внутри линзы (см. рис. 16б). Отрезок от центра кривизны C до точки P, в которой горизонтальный луч падает на линзу, перпендикулярен выпуклой сферической поверхности линзы в точке P, поэтому угол между этим перпендикуляром и лучом (то есть угол падения луча) равен θ. Как известно еще со времен Клавдия Птолемея, если угол θ достаточно мал (а для тонкой линзы так и есть), то угол α между направлением луча в толще стекла и тем же перпендикуляром (то есть угол преломления луча) пропорционален углу падения:
α = θ/n,
где n > 1 – постоянная величина, называемая коэффициентом преломления, которая зависит от свойств стекла и окружающей среды – чаще всего это воздух (Ферма показал, что n равно скорости света в воздухе, деленной на скорость света в стекле, но нам это знать необязательно). В таком случае угол β между лучом света в толще стекла и осью линзы равняется:
β = θ − α = (1 − 1/n)θ.
Рис. 16. Фокусное расстояние линзы: а) определение фокусного расстояния. Горизонтальная штриховая прямая – оптическая ось линзы. Линии со стрелками обозначают направление лучей света, падающих на линзу параллельно ее оси. Мы рассматриваем один луч, который падает на линзу в точке P, в которой он образует малый угол θ, с перпендикулярной поверхности прямой, проходящей через точку P и центр кривизны C поверхности линзы. Этот луч преломляется линзой, выходя из нее идет под углом φ к оси линзы и пересекает ее в точке F, находящейся на расстоянии f от линзы. Это расстояние и называется фокусным. Поскольку θ пропорционален φ, все горизонтальные лучи собираются линзой в этой точке; б) вычисление фокусного расстояния. Здесь показан маленький фрагмент линзы, где наклонная сплошная линия со штриховкой слева обозначает небольшой сегмент передней выпуклой поверхности линзы. Сплошная линия со стрелкой отмечает путь луча, преломляемого линзой, который входит в ее толщу в точке P под небольшим углом θ к перпендикуляру к поверхности в этой точке. Этот перпендикуляр показан на чертеже как наклонная пунктирная линия – часть прямой, проходящей через точку P и центр C кривизны поверхности линзы, который не показан, потому что находится за границей этого чертежа. Входя внутрь линзы, луч преломляется и образует угол α с этим перпендикуляром, а покидая ее, преломляется снова, образуя угол φ с перпендикуляром к плоской задней поверхности линзы. Этот второй перпендикуляр показан на чертеже как пунктирная прямая, параллельная оптической оси линзы.
Это угол между лучом света и перпендикуляром к плоской задней поверхности линзы, под которым луч достигает этой поверхности. Однако, когда луч выходит сквозь заднюю поверхность, он образует другой угол – φ по отношению к перпендикуляру к этой поверхности. Соотношение между углами φ и β такое же, как в случае, если бы свет шел в противоположную сторону: тогда φ был бы углом падения, а β – углом преломления, то есть β = φ/n, и, следовательно:
φ = nβ = (n − 1)θ.
Отсюда мы видим, что угол φ прямо пропорционален θ, и значит, используя нашу ранее полученную формулу для отношения f/r, получаем:
Это равенство не зависит от θ, так что, как я и обещал, все лучи света, падающие на линзу горизонтально, собираются ею в одну и ту же точку на ее оси симметрии.
Если радиус кривизны r очень большой, кривизна у передней поверхности линзы маленькая, и поэтому линза ведет себя почти как плоский кусок стекла – преломление света на входе в линзу почти компенсируется преломлением на выходе. Также, если коэффициент преломления n близок к 1, линза очень слабо преломляет свет, какой бы формы она ни была. И в том, и в другом случае фокусное расстояние будет очень большим, и тогда мы говорим, что такая линза слабая. Сильная же линза – это линза со средним радиусом кривизны и коэффициентом преломления, существенно отличающимся от 1. Например, для стеклянной линзы n ≈ 1,5.
Похожий результат получается и в том случае, если задняя поверхность линзы не плоская, а представляет собой сегмент сферы радиусом r’. В этом случае фокусное расстояние рассчитывается как:
Результат получается таким же, как раньше, в том случае, если r’ значительно больше r, – тогда задняя поверхность получается практически плоской.
Понятие о фокусном расстоянии можно распространять и на вогнутые линзы, как, например, такую линзу, которую Галилео Галилей использовал в качестве окуляра своего телескопа. Вогнутая линза может превратить сходящийся пучок лучей света в параллельный или даже в расходящийся. Можно определить фокусное расстояние линзы, рассматривая такой сходящийся пучок лучей, который она выпрямляет: тогда фокусным расстоянием будет расстояние от линзы до той точки, где исходные лучи сошлись бы, если бы линзы на их пути не было. И хотя у него иной смысл, фокусное расстояние вогнутой линзы рассчитывается по формуле, аналогичной той, которую мы вывели для выпуклой линзы.
23. Телескоп
Как мы видели в техническом замечании 22, тонкая выпуклая линза будет фокусировать лучи света, которые падают параллельно ее центральной оси, в точке F на этой оси, на расстоянии за линзой, которое называется фокусным расстоянием f для этой линзы. Параллельные лучи света, которые падают под небольшим углом γ к центральной оси, также будут фокусироваться этой линзой, но в точке, которая немного смещена от центральной оси. Чтобы увидеть, как далеко она сместится, мы можем мысленно повернуть путь луча на рис. 16а вокруг линзы на угол γ. Расстояние d от фокуса до центральной оси линзы составит тогда ту же долю длины окружности радиусом f, что и угол γ от 360°:
Следовательно,
Это работает только для тонких линз; иначе d также зависит от угла θ, упомянутого в техническом замечании 22. Если лучи света от какого-либо далекого объекта падают на линзу под углами, попадающими в промежуток Δγ (дельта гамма), то они будут фокусироваться на вертикальном отрезке длиной Δd, значение которого можно выразить как:
Как обычно, эта формула становится проще, если измерять Δγ в радианах, равных 360°/2π, а не в градусах. В таком случае она читается просто как Δd = f Δγ. Этот участок, где фокусируется свет, называется мнимым изображением (см. рис 17а).
Мы не можем увидеть мнимое изображение, просто посмотрев на него, потому что после того, как оно получается, лучи света снова рассеиваются. Чтобы сфокусироваться в точке на сетчатке расслабленного человеческого глаза, лучи света должны войти в него по более или менее параллельным направлениям. В телескопе Кеплера была вторая выпуклая линза, которую называют окуляром, чтобы фокусировать расходящиеся лучи света от мнимого изображения так, чтобы они параллельно выходили из телескопа. Повторив те же рассуждения для лучей света, идущих в противоположном направлении, мы увидим, что для того, чтобы лучи света, расходящиеся от точки, покидали телескоп по параллельным направлениям, окуляр должен находиться на расстоянии f′ от мнимого изображения, где f′ – это фокусное расстояние окуляра (см. рис. 17б). Это означает, что длина телескопа L должна составлять сумму фокусных расстояний:
L = f + f′.
Промежуток Δγ’ направлений лучей света, входящих в глаз от различных точек источника, связан с размером мнимого изображения по формуле:
Рис. 17. Телескопы: а) формирование мнимого изображения. Две сплошные линии со стрелками обозначают лучи света, которые входят в линзу и разделены небольшим углом Δγ. Эти линии (и другие, параллельные им) фокусируются на расстоянии f от линзы на вертикальном отрезке длиной Δd, пропорциональной Δγ; б) линзы в телескопе системы Кеплера. Линии со стрелками обозначают путь лучей света, которые идут к слабой выпуклой линзе от далекого объекта по практически параллельным направлениям; фокусируются с помощью линзы в точке на расстоянии f от линзы; расходятся от этой точки и преломляются сильной выпуклой линзой, чтобы войти в глаз наблюдателя по параллельным направлениям.
Видимый размер объекта пропорционален углу, под которым видны противоположные стороны удаленного объекта, поэтому увеличение телескопа равно отношению угла, под которым лучи света от краев объекта, выходящие из окуляра, входят в глаз наблюдателя, к углу, под которым они входили бы, если бы телескопа не было:
Подставив в это соотношение две формулы, которые мы вывели для определения размера Δd мнимого изображения, мы увидим, что увеличение равно:
Чтобы получить значительное увеличение, нам нужно, чтобы линза в передней части телескопа была намного слабее окуляра, то есть f >>f′.
Это не так уж легко сделать. В соответствии с формулой фокусного расстояния, данной в техническом замечании 22, чтобы получить сильный стеклянный окуляр с коротким фокусным расстоянием f′, его линза должна иметь маленький радиус кривизны, что означает, что она либо должна быть очень маленькой, либо не должна быть тонкой (то есть толщина должна быть намного меньше радиуса кривизны). В обоих этих случаях окуляр не сможет хорошо фокусировать свет. Вместо этого мы можем взять слабую переднюю линзу с большим фокусным расстоянием f, но в таком случае длина телескопа L = f + f′ ≈ f должна быть очень большой. Галилею потребовалось некоторое время, чтобы внести в свой телескоп изменения, давшие ему достаточное увеличение для астрономических целей.
Галилео сделал свой телескоп немного другим – с вогнутым окуляром. Как уже упоминалось в техническом замечании 22, если разместить вогнутую линзу так, чтобы она сводила в одну точку входящие в нее лучи света, они будут выходить по параллельным направлениям. Фокусное расстояние – это расстояние позади линзы, на котором лучи света сходились бы в одной точке, если бы линзы не было. В телескопе Галилея была слабая выпуклая линза впереди с фокусным расстоянием f и сильная вогнутая линза с фокусным расстоянием f′ позади нее, перед тем местом, где должно было находиться мнимое изображение, если бы вогнутой линзы не было. Увеличение этого телескопа, опять же, составляет f/f ′, но его длина равна только f − f′ вместо f + f′.
24. Лунные горы
Темная и светлая стороны Луны разделяются границей дня и ночи, называемой терминатором – в этой области солнечные лучи падают по касательной к лунной поверхности. Когда Галилей начал наблюдать Луну в телескоп, он обратил внимание на яркие точки на темной стороне Луны вблизи терминатора и истолковал их как свет, отраженный вершинами гор достаточно высоких, чтобы на них попадал свет солнца, еще не вышедшего из-за горизонта для наблюдателя у подножия горы. Он смог рассчитать высоту этих гор с помощью геометрического построения, похожего на то, которое использовал аль-Бируни, чтобы измерить размер Земли. Начертим треугольник, вершинами которого будут центр Луны C, вершина горы на ночной стороне Луны M, которой едва лишь коснулся первый луч солнца, а также точка на поверхности T, где тот же самый луч скользит вдоль лунной равнины до того, как осветит гору (см. рис. 18). Это прямоугольный треугольник: отрезок TM – часть прямой, касательной к поверхности Луны в точке T, поэтому он должен быть перпендикулярен отрезку CT. Длина CT равна радиусу Луны r, а TM – расстояние между горой и линией терминатора. При условии, что гора имеет высоту h, длина отрезка CM (гипотенузы треугольника) равна r + h. По теореме Пифагора получаем:
и значит,
Поскольку высота любой горы на Луне значительно меньше размера самой Луны, то членом h² можно пренебречь и учитывать только 2rh. Разделив обе части уравнения на 2r², получаем:
Так, измеряя отношение видимого расстояния вершины горы от терминатора к видимому радиусу Луны, Галилей смог найти отношение высоты горы к радиусу Луны.
Рис. 18. Способ, примененный Галилеем, чтобы определить высоту лунных гор. Сплошная горизонтальная линия со стрелкой отмечает луч солнца, который касается поверхности Луны в точке T, где проходит граница дня и ночи, а затем попадает на вершину горы M; высота горы равна h, и она находится на расстоянии d от терминатора.
Галилей в «Звездном вестнике» писал, что иногда он наблюдал яркие точки на ночной стороне Луны на видимом расстоянии от терминатора, большем, чем 1/20 видимого диаметра Луны: для таких гор d/r > 1/10, и значит, по выведенной выше формуле h/r > (1/10)²/2=1/200. Галилей оценивал радиус Луны в 1000 миль[31], так что эти горы должны быть как минимум 5 миль (около 8 км) высотой. По неясным причинам Галилей написал «4 мили», но поскольку он лишь стремился дать оценку минимально возможной высоты горы, то мог просто поосторожничать. Галилео считал, что это больше, чем самые высокие горы на Земле, но теперь нам известно, что на Земле есть горы почти 9 км высотой, так что наблюдения Галилея показывают, что горы на Луне по высоте не очень отличаются от земных.
25. Ускорение под действием силы тяжести
Галилей показал, что падающее дело движется равноускоренно, то есть его скорость увеличивается на одну и ту же величину за одинаковые промежутки времени. Сейчас мы эту закономерность выражаем так: тело, изначально находившееся в покое, спустя время t от момента начала падения приобретет скорость v, пропорциональную t:
v = gt,
где g – константа, которая характеризует поле силы тяжести на поверхности Земли. Хотя g несколько отличается в различных точках земной поверхности, она нигде не отклоняется значительно от 9,8 м/с за секунду.
Согласно теореме о средней скорости расстояние, которое преодолеет такое падающее тело с момента начала падения до t, будет равняться vсредt, где vсред – среднее арифметическое между величиной gt и нулем, то есть vсред = gt/2. Следовательно, расстояние, проходимое за время падения, равно:
В частности, за первую секунду падения тело пролетает g (1 секунда)²/2 = 4,9 м. Время, которое требуется падающему телу, чтобы пройти заданное расстояние, в общем случае равно:
На полученный результат можно взглянуть с иной, более современной точки зрения. Полная энергия падающего тела равна сумме двух слагаемых: его кинетической и потенциальной энергии. Кинетическая энергия выражается как:
где m – масса тела. Потенциальная энергия – это произведение mg на текущую высоту (измеряемую относительно любого произвольно выбранного уровня). Поэтому если тело сбрасывается с некоторой начальной высоты h0 и проходит в падении расстояние d, то его потенциальная энергия равна:
Значит, учитывая, что d = gt²/2, полная энергия тела – постоянная величина:
Это правило мы можем обратить и вывести соотношение между скоростью и пройденным расстоянием, беря за основу закон сохранения энергии. Если в нулевой момент времени t = 0, когда v = 0 и h = h0, мы считаем полную энергию E равной mgh0, то согласно закону сохранения энергии в любой момент времени справедливо:
из чего следует, что v²/2 = gd. Поскольку v – это мера того, как увеличивается d, то, что мы получаем, – это дифференциальное уравнение, определяющее связь между d и t. Конечно, мы уже знаем решение этого уравнения: d = gt²/2, при этом v = gt. Таким образом, используя закон сохранения энергии, мы можем получить те же самые результаты, не зная заранее, что ускорение падающего тела постоянно.
Мы увидели элементарный пример использования этого закона, который позволяет разнообразно применять понятие об энергии. В частности, закон сохранения энергии доказывает правильность того, что эксперименты Галилея с шариками, скатывающимися по наклонной плоскости, верно моделируют задачу о свободном падении, хотя сам Галилей не приводил его в качестве аргумента. Для шарика массой m, скатывающегося по наклонной плоскости, кинетическая энергия равна mv²/2, причем здесь v – скорость движения шарика вдоль плоскости, а потенциальная энергия равняется mgh, где h – текущая высота шарика. Дополнительным слагаемым тут служит энергия вращения шарика, которая выражается таким образом:
где r – радиус шарика, ν – число полных оборотов катящегося шарика в секунду, а ζ – величина, которая зависит от распределения массы внутри самого шарика и его формы. Применительно к экспериментам Галилея, который, скорее всего, использовал сплошные твердые шары, значение ζ = 2/5 (для пустотелого шара, например, ζ = 2/3). Теперь заметим, что, когда шарик совершает один полный оборот, он проходит расстояние, равное длине его окружности 2πr, поэтому в течение времени t, за которое он совершает νt оборотов, полное пройденное расстояние составляет d = 2πrνt, и значит, его скорость равняется d/t = 2πνr. Подставляя это выражение в формулу энергии вращательного движения, получаем:
Поделив обе части на m и на 1 + ζ, используем закон сохранения энергии и получим уравнение:
Это та же самая зависимость между скоростью и перепадом высоты d = h0 – h, которая справедлива и для свободно падающего тела, с тем лишь отличием, что g заменяется на g/(1 + ζ). Если эту замену не учитывать, зависимость скорости шарика, катящегося вниз по наклонной плоскости, от проходимого перепада высоты та же самая, что и для тела в свободном падении. Это означает, что, изучая скатывание шаров по наклонной плоскости, можно доказать, что и свободно падающие тела движутся равноускоренно. Однако таким образом нельзя рассчитать ускорение, если не учитывать реальное значение коэффициента 1/(1 + ζ).
Путем сложных доказательств Гюйгенс сумел выразить время, которое требуется маятнику длины L, чтобы переместиться с одной стороны на другую с небольшим углом, равенством:
Полученный Гюйгенсом результат означал, что это время в π раз больше, чем то время, которое нужно падающему телу, чтобы пройти расстояние d = L/2.
26. Параболические траектории
Предположим, что пулю или снаряд выстреливают горизонтально со скоростью v. Если не учитывать сопротивление воздуха, пуля будет продолжать лететь горизонтально с одной и той же скоростью и одновременно двигаться равноускоренно вертикально вниз. Поэтому спустя время t после выстрела она пролетит расстояние по горизонтали x = vt и потеряет высоту z, пропорциональную квадрату времени. Принято выражать это формулой z = gt²/2, где g = 9,8 м/с за секунду – эту константу измерил Гюйгенс уже после кончины Галилео Галилея. Поскольку t = x/v, значит:
График значений этого уравнения, в котором одна координата пропорциональна квадрату другой, имеет вид параболы.
Обратите внимание, что если ружье было расположено на высоте h над землей, то пуля пролетит по горизонтали расстояние √(2v²h/g) до того, как упадет на землю в момент, когда вертикальный перепад высоты z сравняется с h. Даже не зная значений v или g, Галилей мог убедиться, что путь, проходимый пулей, представляет собой параболу, измеряя расстояния d для различных начальных высот ствола ружья h и проверяя, что d всегда остается пропорциональным квадратному корню из h. Неизвестно, проделывал ли Галилей такие эксперименты на самом деле, но есть свидетельства, что в 1608 г. он провел близкий по смыслу эксперимент, о котором мы кратко говорили в главе 12. В нем шарик скатывался по наклонной плоскости на стол с различных начальных высот H, затем свободно катился по оставшейся горизонтальной поверхности стола и, наконец, слетал с его края. Как показано в техническом замечании 25, скорость шарика в момент достижения им нижней точки наклонной плоскости равна:
где g – обычное значение 9,8 м/с за секунду, а ζ – отношение энергии вращения шарика к его кинетической энергии, постоянная, зависящая от распределения массы внутри катящегося шарика. Для твердотельного шара равномерной плотности ζ = 2/5. Ту же самую скорость шарик имеет и в тот момент, когда соскакивает с края стола, поэтому горизонтальное расстояние, которое шарик после этого пролетит за то время, которое ему потребуется, чтобы упасть на глубину h, будет равно:
Галилей не упоминал поправку на вращательное движение, выражаемую коэффициентом ζ, но он мог подозревать, что наличие такой поправки уменьшает горизонтальное расстояние, которое преодолевает шар, поскольку он не стал сравнивать это расстояние с величиной d = √(Hh), которую можно было бы ожидать, не учитывая ζ, а лишь проверял тот факт, что для фиксированной высоты стола h пройденное расстояние d было действительно пропорционально √(H) с точностью до нескольких процентов. По каким-то причинам Галилей так ни разу и не опубликовал результаты этого эксперимента.
Для множества задач в астрономии и математике удобно представлять параболу как предельный частный случай эллипса, один фокус которого находится очень далеко от другого. Как демонстрировалось в техническом замечании 18, уравнение эллипса с большой осью 2a и малой осью 2b таково:
В нем мы для удобства выполнения дальнейшего анализа заменили координаты x и у, которые использовали в техническом замечании 18, на z – z0 и x, соответственно, где z0 – произвольно выбираемая константа. Центр этого эллипса находится в точке с координатами z = z0 и x = 0. Как мы видели в замечании 18, фокус эллипса находится в точке z – z0 = −ae, x = 0, где e – эксцентриситет, определяемый как e² ≡ 1 − b²/a², а точка, в которой кривая находится ближе всего к этому фокусу, расположена в z − z0 = −a и x = 0. Удобнее обозначить именно эту точку наибольшего сближения с фокусом координатами z = 0 и x = 0, выбрав значение z0 равным a, и в этом случае ближайший фокус окажется расположен от нее на расстоянии z = z0 – ea = (1 – e) a. Теперь мы хотим сделать a и b бесконечно большими, так что противоположный фокус эллипса удалится в бесконечность и у нашей кривой не будет определенной максимальной координаты x, но при этом нужно, чтобы расстояние между фокусом и точкой наиболее тесного сближения с кривой (1– e) a оставалось бы конечным, так что мы задаем:
где l остается постоянной, в то время как a стремится к бесконечности. Так как e здесь предельно приближается к единице, малая полуось будет выражаться как:
Принимая, что z0 = a, и используя эту формулу для b², приведем уравнение эллипса к следующему виду:
Из левой части вычитаем слагаемое a²/a², а из правой – равную ему единицу. Затем обе части умножаем на a и получаем:
В случае, когда a значительно больше x, y или l, можно опустить первый член, и уравнение приходит к виду:
Это то же самое уравнение, которое мы выше вывели для описания движения горизонтально выстреливаемой пули, если мы примем, что:
так что фокус параболы F находится на расстоянии l = v²/2g ниже начальной позиции пули (см. рис. 19).
Рис. 19. Параболическая траектория пули, которой стреляют горизонтально с возвышенности. Точка F – фокус параболы.
Параболы, как и эллипсы, можно рассматривать как конические сечения, но в случае параболы плоскость, которой рассекается конус, параллельна поверхности конуса. Принимая, что уравнение конуса, центральная ось которого совпадает с осью z, имеет вид √(x² + y²) = α (z − z0), а уравнение плоскости, параллельной данному конусу, просто y = α (z − z0), где z0 – произвольная константа, кривая пересечения конуса и плоскости удовлетворяет равенству:
Сокращая члены α²z² и α²z0², переходим к виду:
что совпадает с уже полученной нами формулой в случае, когда z0 = l/α². Обратите внимание, что парабола любой формы может быть получена сечением любого конуса при любом значении углового коэффициента α, потому что форма параболы (но не ее расположение или ориентация) целиком зависит лишь от аргумента l, выражаемого в единицах длины. Нам не нужен никакой безразмерный параметр наподобие α или эксцентриситета эллипса.
27. Вывод закона преломления света по аналогии с теннисным мячиком
Декарт попытался вывести закон преломления света, основываясь на предположении о том, что луч света преломляется при переходе из одной среды в другую подобно тому, как меняет направление движения теннисный мячик, пробивающий экран из тонкой ткани. Допустим, что такой мячик ударяется о ткань наклонно со скоростью vA. При этом он потеряет часть скорости и после прохождения сквозь ткань будет иметь скорость vB < vA, но мы не ожидаем, что это столкновение приведет к изменению компоненты скорости мячика, направленной вдоль экрана. Можно нарисовать прямоугольный треугольник, катеты которого будут соответствовать перпендикулярной и параллельной компонентам начальной скорости мячика по отношению к экрану, а гипотенуза будет обозначать полную скорость vA. Если исходная траектория расположена под углом i к перпендикуляру к поверхности, тогда компонента скорости параллельно ткани будет равна vA sin i (см. рис. 20). Аналогично, если после пробивания преграды путь мячика идет дальше под углом r к тому же перпендикуляру, то параллельная поверхности компонента скорости составит vB sin r. Вслед за Декартом предполагая, что пробивающий ткань мячик меняет лишь поперечную, а не продольную скорость, получаем:
и, следовательно,
где n является отношением
Рис. 20. Скорости теннисного мячика. Горизонтальная линия обозначает экран из ткани, которую пробивает теннисный мячик с начальной скоростью vA и скоростью после события vB. Прямые линии со стрелками показывают масштаб и направления этих скоростей. На этом чертеже путь мячика претерпевает излом, становясь ближе к перпендикуляру к поверхности, как это происходит в случае, когда луч света попадает в более плотную среду. Это показывает, что пробивание мячиком тканевого экрана явно уменьшает компоненту его скорости, направленную вдоль поверхности, в противоположность тому, что предполагал Декарт.
Уравнение (1) известно как закон Снеллиуса, верно описывающий случай преломления света. К несчастью, аналогия между светом и теннисным мячиком теряет смысл при рассмотрении уравнения (2), дающего нам величину n: дело в том, что для теннисных мячей vB меньше, чем vA, и уравнение (2) дает n < 1, тогда как в случае, когда свет проникает из воздушной среды внутрь стекла или воды, получается n > 1. Плохо и другое: нет оснований полагать, что для теннисного мячика отношение vB/vA действительно не зависит от углов i и r, поэтому пользы от уравнения (1) в таком виде мало.
Как доказал Ферма, когда свет проходит границу между средой, где его скорость равна vA, и другой средой, где скорость равна vB, показатель преломления n в действительности равен отношению vA/vB, а не vB/vA. Декарт не знал, что скорость света конечна, и предложил необоснованное объяснение тому, почему n больше единицы в том случае, когда среда A – воздух, а среда B – вода. Для задач XVII в., таких как декартова теория радуги, это было неважно, так как n считался не зависящим от угла падения, что хоть и не верно для мячиков, верно для света, и к тому же значение показателя бралось из наблюдений, а не выводилось на основе измерений скорости света в различных средах.
28. Вывод закона преломления света на основе принципа наименьшего времени
Герон Александрийский сформулировал закон отражения световых лучей так: угол наклона отраженного луча равен углу наклона падающего. Он исходил из предположения, что путь луча света от объекта к поверхности зеркала и затем к наблюдателю должен быть как можно короче. Точно так же он мог положить в основу и правило о том, что путь луча должен занимать самое короткое время, поскольку время, нужное свету, чтобы преодолеть заданное расстояние, равно частному от деления этого расстояния на скорость света, а в процессе отражения скорость света не изменяется. Однако, когда наблюдается явление преломления, свет проходит сквозь границу двух сред (например, воздуха и стекла), в которых его скорость различна, и приходится рассматривать разницу между понятиями кратчайшего пути и наименьшего времени. Один только факт, что луч света меняет направление на границе сред, говорит о том, что преломленный свет не следует по самому короткому пути в этом случае – прямой линии. Зато, как доказал Ферма, истинный закон преломления света можно вывести, предполагая, что свет стремится затратить как можно меньше времени, чтобы достигнуть цели.
Чтобы получить такой результат, допустим, что свет проходит от точки PA в среде A, где скорость света равна vA, к точке PB в среде B, в которой скорость света равна vB. Для простоты описания задачи предположим, что поверхность границы раздела сред горизонтальна. Обозначим углы между направлениями лучей света в первой и второй средах и вертикалью i и r соответственно. Если точки PA и PB находятся на соответствующих вертикальных расстояниях dA и bB от границы раздела, то горизонтальные промежутки между этими точками и той точкой, где луч пересекает поверхность, равны, соответственно, dA tg i и dB tg r, где символ «tg» обозначает функцию тангенса угла, отношения длины противолежащего катета к длине прилежащего катета в прямоугольном треугольнике (см. рис. 21). Хотя мы не фиксируем заранее эти два расстояния, их сумма нам известна – это горизонтальное расстояние L между точками PA и PB:
Чтобы вычислить время t, которое требуется свету для преодоления пути из PA в PB, обратим внимание, что пройденное им расстояние в средах A и B равняется dA/cos i и dB/cos r, соответственно, где «cos» – обозначение функции косинуса угла, отношения длины прилежащего к углу катета к гипотенузе в прямоугольном треугольнике. Время равно расстоянию, деленному на скорость, поэтому полное время будет таково:
Нам необходимо найти общую зависимость между углами i и r (не включающую параметры L, dA или dB), которая удовлетворяет условиям: угол i таков, что общее время t минимально, а величина r связана с величиной i таким образом, что L остается фиксированным. Для этого введем в рассмотрение δi, ничтожно малое изменение δ (дельта) угла падения луча i. Так как горизонтальное расстояние между PA и PB постоянно, при изменении угла i на δi угол преломления r также должен измениться, допустим, на величину δr, при условии сохранения расстояния L. Также в точке минимума функции времени t в зависимости от угла i график этой функции должен иметь горизонтальный участок, поскольку, если t в какой-то точке увеличивается или уменьшается, значит, его минимальное значение соответствует какому-то другому значению аргумента i, где сама функция t меньше. Это означает, что изменение t, вызванное ничтожно малым изменением угла δi, обращается в ноль, по крайней мере с точностью до первого порядка величины δi.
Рис. 21. Путь луча света, испытывающего преломление. Горизонтальной линией отмечена граница двух прозрачных сред A и B, в которых свет имеет различные скорости vA и vB. Углы i и r измеряются между направлениями светового луча и вертикальной штриховой линией, обозначающей перпендикуляр к границе раздела сред. Сплошная линия со стрелками отмечает путь следования луча из точки PA в среде A до точки P на границе раздела сред и затем до точки PB в толще среды B.
Поэтому, чтобы найти путь, для прохождения которого свету требуется наименьшее время, мы можем ввести условие: при одновременном изменении i и r изменения δL и δt должны оставаться нулевыми с точностью до первого порядка величин δi и δr.
Чтобы удовлетворить ему, нам необходимо взять пару стандартных формул дифференциального исчисления для бесконечно малых изменений значений функций δ tg θ (тета) и δ (1/cos θ), которые получаются, когда мы изменяем угол-аргумент θ на бесконечно малую величину δθ:
где R = 360°/2π = 57,293…° в случае, когда θ измеряется в градусах (это угол размером в один радиан. При измерении углов в радианах R = 1). По этим формулам мы находим изменения L и t в случае, когда мы меняем углы i и r на бесконечно малые величины δi и δr:
Заданное условие δL = 0 говорит нам, что
поэтому:
Полученное выражение приравнивается к нулю, если удовлетворяется равенство
или, иначе говоря,
причем показатель преломления n получается из отношения скоростей, не зависящего от углов:
n = vA / vB.
Это и есть истинный закон преломления света, в котором формула для показателя преломления n верна.
29. Теория радуги
Пусть луч света проникает в сферическую каплю дождя в некоторой точке P на ее поверхности, образуя угол i с нормалью (перпендикуляром) к ее поверхности в этой точке. Если бы преломления света не было, луч продолжал бы идти дальше сквозь каплю по прямой. В этом случае радиус, проведенный из центра капли C к точке Q, лежащей на этой прямой в том месте, где она наиболее близко пролегает к центру капли, образовывал бы с лучом прямой угол, поэтому треугольник PCQ был бы прямоугольным с гипотенузой, равной радиусу капли R, и углом при точке P, равным i (см. рис. 22а). Определим прицельный параметр b как расстояние наибольшего тесного сближения непреломленного луча с центром капли, то есть катетом CQ в этом треугольнике, который по правилам элементарной тригонометрии равен:
b = R sin i.
С точки зрения положения точки входа в каплю отдельные лучи света можно одинаково хорошо охарактеризовать присущим им отношением b/R, как делал Декарт, или же по значению угла падения i.
В силу явления преломления луч на самом деле войдет внутрь капли под углом r к перпендикуляру к поверхности, значение которого определяется законом преломления:
где n ≈ 4/3 – отношение скорости света в воздухе к скорости света в воде. Луч пересечет толщу капли и достигнет поверхности с обратной стороны в точке P’. Поскольку расстояния между центром C и обеими точками P и P’ одинаковы и равны радиусу капли R, треугольник с вершинами C, P и P’ является равнобедренным, поэтому углы между направлением луча и перпендикулярами к поверхности в точках P и P’ должны быть одинаковы, то есть и тот и другой равны r. Часть света отразится в точке P’ от внутренней поверхности капли: по закону отражения угол между отраженным лучом и перпендикуляром к поверхности в ней будет опять же равен r. Затем отраженный луч снова пересечет толщу капли и достигнет ее передней поверхности в точке P’’, снова образуя с поверхностью угол r.
Рис. 22. Путь солнечного луча внутри сферической дождевой капли. Луч обозначен сплошными отрезками с указывающими направление стрелками: он входит внутрь капли в точке P под углом i к перпендикуляру к поверхности: а) путь луча, если бы явления преломления не было: луч в этом случае приближается к центру капли C в точке Q; б) луч преломляется, входя в каплю в точке P, отражается от задней поверхности капли в точке P’ и снова подвергается преломлению в момент выхода из капли в точке P’’. Пунктирные линии проведены из центра капли C к точкам контакта луча с поверхностью капли.
Часть света затем покидает каплю, и по закону преломления угол между выходящим наружу лучом и перпендикуляром к поверхности в точке P’’ будет равен исходному углу падения i (см. рис. 22 – здесь показана схема следования луча в плоскости, проходящей через падающий луч, центр капли и наблюдателя. Только те лучи, которые встречаются с каплей, находясь в этой плоскости, имеют возможность достигнуть наблюдателя).
По мере всей этой серии поворотов луч света отклонится в сторону центра капли на угол i – r дважды – в моменты входа в каплю и выхода из нее, и на угол 180° – 2r при отражении от ее задней поверхности, и значит, полный угол поворота луча составит:
2(i − r) + 180° − 2r = 180° − 4r + 2i.
Если бы луч возвращался из капли в направлении, точно противоположном тому, в котором вошел (это происходит в случае, когда i = r = 0), этот угол составил бы 180°, а начальное и конечное направления луча были бы параллельны, поэтому действительный угол φ между ними равен:
φ = 4r − 2i.
Можно выразить r как функцию от i, вот так:
где для любого аргумента x функция arcsin x – это угол (обычно принимаемый в промежутке от –90° до +90°), синус которого равен x. Численный расчет для показателя n = 4/3, который нам встречается в главе 13, показывает, что φ возрастает от нуля при i = 0 до максимального значения при 42° и затем снижается примерно до 14° при i = 90°. График зависимости φ от i горизонтален в своей точке максимума, поэтому большая часть света выходит из капли, подвергаясь отклонению на полный угол, близкий к 42°.
Если мы посмотрим на облачное небо, повернувшись к солнечным лучам спиной, то увидим свет, приходящий к нам под углом 42° между нашим лучом зрения и световыми лучами от солнца. Совокупность этих направлений формирует дугу, которая для нас обычно поднимается в небо из одной точки горизонта и затем опускается к земле в другой. Поскольку коэффициент преломления n слегка варьируется в зависимости от цвета преломляемого луча, для лучей различного цвета углы отклонения φ тоже слегка отличаются, поэтому мы видим дугу, образованную чередованием полос разного цвета. Это и есть радуга.
Нетрудно вывести аналитическую формулу, дающую максимальное значение φ для любого коэффициента преломления n. Чтобы найти максимум φ, примем во внимание тот факт, что точке максимума соответствует такое значение угла падения i, при котором график зависимости φ от i горизонтален, а это означает, что ничтожно малое изменение δφ угла φ, происходящее вследствие ничтожно малого изменения δi угла i, равняется нулю с точностью до первого порядка величины δi. Чтобы использовать это условие, применим табличную формулу из курса дифференциального исчисления, согласно которой при ничтожно малом изменении δх аргумента x изменение arcsin x равно:
где, если arcsin x измеряется в градусах, R = 360°/2π. Таким образом, когда угол падения изменяется на величину δi, угол отклонения меняется на:
или, поскольку δ sin i = cos i δi/R,
Таким образом, условие максимального значения φ таково, что:
Возведя обе части в квадрат и используя правило cos²i = 1 − sin²i (которое является следствием из теоремы Пифагора), мы можем найти из этого выражения значение для sin i:
При этом значении угла падения угол φ максимален:
При n = 4/3 максимальный угол отклонения φ достигается при значении b/R = sin i = 0,86, для которого i = 59,4°, r = 40,2° и φmax = 42,0°.
30. Вывод закона преломления света на основе волнового принципа
Закон преломления света можно вывести, исходя из предположения о том, что свет движется по пути наименьшего времени, как было описано в техническом замечании 28. Но его также можно вывести и на основе волновой теории света. По мнению Гюйгенса, свет – это колебания какой-то среды, которая может либо быть заполнена прозрачной материей, либо представляться нам пустотой. Фронт возмущения этой среды являет собой прямую линию, которая движется вперед в направлении своего перпендикуляра со скоростью, характерной для среды, в которой он распространяется.
Рис. 23. Преломление световой волны. И снова горизонтальная линия обозначает границу раздела двух прозрачных сред, в которых свет движется с разными скоростями. Отрезки с поперечными штрихами обозначают фронт волны в разные момены времени – когда передний край фронта волны входит в контакт с границей и когда задний край теряет контакт с границей. Прямые линии со стрелками указывают траектории перемещения переднего и заднего края волнового фронта.
Рассмотрим сегмент такого фронта возмущения длиной L в среде 1, который движется по направлению к границе со средой 2. Допустим, что направление его движения, совпадающее с перпендикуляром к фронту волны, образует с нормалью (перпендикуляром) к этой границе угол i. Когда передний край фронта касается границы раздела сред в точке A, задний его край B еще находится на некотором расстоянии (измеряемом вдоль направления движения волны) от границы, равном L tg i (см. рис. 23). Это значит, что теперь задняя граница фронта волны достигнет пограничной точки D через промежуток времени, равный L tg i/v1, где v1 – скорость распространения возмущения в среде 1. В течение того же времени передний край фронта возмущения будет перемещаться в среде 2 под углом r от перпендикуляра к границе раздела сред к точке C, которая расположена на расстоянии v2L tg i/v1, где v2 – скорость распространения возмущения в среде 2. Когда он пройдет этот путь, волновой фронт, расположенный под прямым углом к направлению своего движения в среде 2, протянется между точками C и D, образуя таким образом прямоугольный треугольник с вершинами A, С и D, в котором угол при вершине C прямой.
Катет AC длиной v2L tg i/v1 – противолежащий углу r в этом треугольнике. Его гипотенуза – отрезок AD, имеющий длину L/cos i (см. рис. 23). Отсюда:
Вспомнив, что tg i = sin i/cos i, замечаем, что множители cos i и L сокращаются, оставляя:
Или, если выразить это иначе,
что и является формулой закона преломления света.
То, что волновая теория света, как доказал Гюйгенс, описывает явление преломления так же, как и принцип наименьшего времени следования, описанный Ферма, вовсе не случайно. Можно показать, что даже в том случае, когда волна движется сквозь неоднородную среду, в которой скорость светового луча плавно меняется в различных направлениях, а не резко на границе раздела сред, из волновой теории Гюйгенса следует, что луч между двумя точками всегда будет следовать по пути наименьшего времени.
31. Измерение скорости света
Предположим, что мы наблюдаем какой-либо процесс, происходящий с определенной периодичностью на некотором расстоянии от нас. Для определенности возьмем естественный спутник, обращающийся вокруг далекой планеты, хотя приведенный ниже анализ можно применить и к любому другому периодически повторяющемуся процессу. Предположим, что спутник достигает определенного положения на своей орбите в два следующих друг за другом момента времени t1 и t2. Например, это могут быть моменты времени, когда он появляется из-за планеты. Если орбитальный период этого спутника равен T, то t2 − t1 = T. Это период, который мы наблюдаем при условии, что расстояние между нами и планетой постоянно. Но если это расстояние меняется, то он будет сдвигаться от Т в ту или иную сторону на значение, которое зависит от скорости света.
Предположим, что расстояние между нами и планетой в два следующих один за другим момента времени, когда спутник находится в одинаковом положении на своей орбите, равно d1 и d2. Следовательно, мы наблюдаем эти положения на орбите в моменты времени:
где с – скорость света (здесь мы предполагаем, что расстоянием между спутником и планетой можно пренебречь). Если расстояние между нами и этой планетой изменяется со скоростью v, независимо от того, двигается ли только она или мы вместе с ней, тогда d2 − d1 = vT. Таким образом, наблюдаемый период равен:
Следствие этой формулы зависит от допущения, что v за временной промежуток T меняется очень мало, что в общем случае верно для Солнечной системы, но v может меняться более ощутимо за временные промежутки, характерные для более масштабных явлений. Когда находящаяся на большом расстоянии планета движется к нам или от нас, скорость v будет отрицательной или положительной и видимый период обращения ее спутника тоже будет соответственно уменьшаться или увеличиваться. Мы можем измерить T, наблюдая планету в момент времени, когда v = 0, а затем измерить скорость света, наблюдая за периодом времени, когда v имеет известное не нулевое значение.
Это основа определения скорости света, которую Гюйгенс вывел, опираясь на наблюдения Рёмера, исследующего изменения видимого орбитального периода спутника Юпитера Ио. Но если скорость света известна, то те же самые расчеты могут дать нам относительную скорость v отдаленного объекта. В частности, световые волны определенных линий спектра далекой галактики колеблются с характерным периодом T, связанным с их частотой ν и длинной волны λ в следующем соотношении T = 1/v = λ/c. Эти периоды известны из наблюдений спектров в лабораториях на Земле. Поскольку в начале XX в. было обнаружено, что спектральные линии очень далеких галактик указывают на большие длины волн и, следовательно, на более длинные периоды колебаний, можно сделать вывод, что эти галактики отдаляются от нас.
32. Центростремительное ускорение
Ускорение – это мера изменения скорости, но скорость любого тела характеризуется, с одной стороны, так называемым модулем скорости, то есть ее абсолютной величиной, с другой – направлением. Скорость тела, движущегося по окружности, постоянно меняет свое направление по мере поворота вокруг центра окружности, поэтому даже при постоянном модуле скорости оно движется с ускорением в сторону центра, которое называется центростремительным.
Давайте рассчитаем центростремительное ускорение для тела, которое обращается по окружности радиусом r с постоянной скоростью v. За короткий промежуток времени между моментами t1 и t2 тело переместится вдоль окружности на небольшое расстояние vΔt, где Δt равняется t2 − t1, а радиус-вектор (стрелка, указывающая из центра окружности на тело) повернется на малый угол Δθ. Вектор скорости (стрелка, направленная в ту сторону, куда в данный момент движется тело, с длиной, пропорциональной текущему значению скорости) всегда направлен по касательной к окружности и, значит, перпендикулярно к радиус-вектору, так что если направление радиус-вектора меняется на угол Δθ, то и направление вектора скорости изменится на тот же самый малый угол. Таким образом, мы получаем два треугольника: сторонами первого являются радиус-векторы тела в моменты t1 и t2, а также хорда, соединяющая позиции тела в эти два момента. Стороны второго треугольника – векторы скорости в моменты t1 и t2, а также изменение скорости Δv, произошедшее за этот промежуток времени (см. рис. 24). Для небольших значений углов Δθ можно не учитывать разницу в длине хорды и дуги, соединяющих две последовательные позиции тела в моменты t1 и t2, поэтому можно считать длину хорды равной vΔt.
Рис. 24. Расчет центростремительного ускорения. Вверху: векторы скорости тела, движущегося по окружности, в два различных момента времени, разделенных небольшим интервалом Δt. Внизу: те же два вектора скорости, совмещенные в треугольник, короткая сторона которого равна изменению скорости за тот же отрезок времени.
Мы видим, что эти два треугольника подобны (то есть они отличаются размерами, но не отношением сторон друг к другу), поскольку оба являются равнобедренными (у них по две одинаковые стороны), и между сторонами одинаковой длины один и тот же небольшой угол Δθ. Поэтому отношения короткой и длинной сторон в обоих треугольниках должны быть взаимно равны. То есть
и, значит,
Это – выведенная Гюйгенсом формула центростремительного ускорения.
33. Сравнение Луны с падающим телом
Древние считали, что между явлениями земными и небесными есть принципиальная разница. Ньютон решительно бросил вызов этой точке зрения, сопоставив центростремительное ускорение, которое испытывает Луна при движении по орбите вокруг Земли, с направленным вниз ускорением, которое испытывает тело, падающее вблизи земной поверхности.
Благодаря измерениям суточного параллакса Луны среднее расстояние между Луной и Землей уже было достоверно известно во времена Ньютона – оно составляет 60 радиусов Земли (точное значение равно 60,27). Рассчитывая размер земного радиуса, Ньютон принял, что 1’ (одна минута дуги) на экваторе равна одной миле, или 1024 м, поэтому для полной окружности в 360°, притом что в одном градусе 60’, радиус Земли составил:
На самом деле средний радиус Земли равен 6 371 000 м – это различие стало наиболее значительным источником ошибки в расчете, выполненном Ньютоном. Орбитальный период Луны (сидерический месяц) был известен точно, он равен 27,3 суток, или 2 360 000 секунд. Значит, орбитальная скорость Луны равна:
Отсюда центростремительное ускорение Луны равно:
По закону обратных квадратов это число должно было совпасть со значением ускорения свободного падения тел на поверхности Земли, 9,81 м/с за секунду, деленным на квадрат отношения радиуса орбиты Луны к радиусу земного шара:
Сравнивая «наблюдаемое» значение центростремительного ускорения Луны (0,0022 м/с за секунду) и расчетное значение, которое он получил из закона обратных квадратов (0,0027 м/с за секунду), Ньютон заявил, что «они достаточно хорошо совпадают»[32]. Впрочем, позже он получил лучший результат.
34. Закон сохранения импульса
Пусть два движущихся объекта с массами m1 и m2 сталкиваются лоб в лоб. Если за некоторый короткий промежуток времени δt объект 1 воздействует на объект 2 с силой F, то за этот промежуток времени второй объект подвергнется действию ускорения a2, которое согласно Второму закону механики Ньютона будет удовлетворять равенству m2a2 = F. Его скорость v2 после этого изменится на величину:
Согласно Третьему закону Ньютона второе тело подействует на первое с силой – F, которая равна по величине, но противоположна по направлению (на что указывает знак «минус»), поэтому в тот же промежуток времени скорость первого объекта v1 изменится в направлении, противоположном δv2, на величину:
Тогда суммарное изменение общего импульса m1v1 + m2v2 равно:
Конечно, два объекта могут оставаться в соприкосновении в течение более продолжительного времени, на протяжении которого сила не остается постоянной, но, так как суммарный импульс сохраняется в каждый малый промежуток времени, он сохраняется и все то время, пока длится столкновение.
35. Массы планет
В эпоху Ньютона было известно, что четыре тела Солнечной системы обладают спутниками: у Юпитера, Сатурна и Земли есть свои спутники, а все планеты в то же время сами являются спутниками Солнца. По Закону всемирного тяготения тело массой M оказывает воздействие силой F = GMm/r² на спутник массой m на расстоянии r (где G – мировая гравитационная постоянная), поэтому по Второму закону Ньютона центростремительное ускорение, которое испытывает этот спутник, вычисляется как a = F/m = GM/r². Значение константы G и общие размеры Солнечной системы еще не были известны во времена Ньютона, но эти неизвестные величины не фигурируют в выражениях для отношений масс, рассчитываемых исходя из отношений расстояний и отношений центростремительных ускорений. Если два спутника тел с массами M1 и M2 обнаруживаются на некоторых расстояниях r1 и r2 от своих центральных тел, для которых известно их отношение r1/r2, а также отношение их центростремительных ускорений a1/a2, то отношение масс двух тел можно найти по формуле:
В частности, если спутник движется с постоянной скоростью v по круговой орбите радиусом r, его орбитальный период равен T = 2πr/v, поэтому его центростремительное ускорение v²/r равняется a = 4π²r/T², отношение ускорений двух спутников a1/a2 = (r1/r2)/(T2/T1) 2, а отношение масс, выведенное из орбитальных периодов и отношений расстояний, равно:
К 1687 г. все соотношения расстояний между планетами и Солнцем были хорошо известны, а зная по результатам наблюдений максимальные угловые расстояния между Юпитером и его спутником Каллисто, а также Сатурном и его спутником Титаном (который Ньютон называл «гюйгенсовым спутником»), можно было вывести отношения расстояния от Каллисто до Юпитера к расстоянию от Юпитера до Солнца, а также расстояния от Титана до Сатурна к расстоянию от Сатурна до Солнца. Расстояние от Луны до Земли было точно измерено в единицах земного диаметра, но не в отношении к расстоянию между Землей и Солнцем – тогда это значение еще не было известно. Ньютон использовал грубую прикидку для расстояний между Землей и Луной, а также между Землей и Солнцем, и использованные им значения несли значительную ошибку. Не считая этой конкретной проблемы, отношения скоростей и центростремительных ускорений планет и спутников хорошо выводились его методом из их известных орбитальных периодов обращения (на самом деле Ньютон взял для расчета период обращения Венеры, а не Юпитера или Сатурна, но это не повлияло на результат, поскольку соотношения расстояний от Солнца Венеры, Юпитера и Сатурна были достоверно известны). Как мы говорили в главе 14, полученные Ньютоном отношения масс Юпитера и Сатурна к массе Солнца были достаточно точны, тогда как рассчитанное им отношение массы Земли к массе Солнца было совершенно ошибочным.
Об авторе
Стивен Вайнберг – физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии, награжден Национальной медалью науки США, премией Льюиса Томаса за литературные произведения о науке, а также имеет большое количество других наград и почетных степеней. Он является членом Национальной академии наук США, Лондонского королевского общества, Американского философского общества.
Автор книг «Первые три минуты», «Мечты об окончательной теории», «Лицом к лицу» и «Виды на озеро», а также работ по теоретической физике. Занимает должность профессора физики и астрономии в Техасском университете в Остине.
Библиография
В этой библиографии перечислены современные источники по истории науки, на которые я опирался, а также оригинальные работы ученых прошлого, которые я использовал, – от пресократиков до Ньютона и частично работы более поздних ученых. Все книги написаны на английском языке или переведены на английский. К сожалению, я не владею латинским, греческим и тем более арабским языками. Этот список не претендует на звание наиболее авторитетного источника или собрания лучших изданий по теме. Это просто книги, с которыми мне посчастливилось работать.
Первоисточники
Archimedes, The Works of Archimedes, trans. T. L. Heath (Cambridge University Press, Cambridge, 1897).
Aristarchus, Aristarchus of Samos, trans. T. L. Heath (Clarendon Press, Oxford, 1923).
Aristotle, The Complete Works of Aristotle – The Revised Oxford Translation, ed. J. Barnes (Princeton University Press, Princeton, N.J., 1984).
Augustine, Confessions, trans. Albert Cook Outler (Westminster, Philadelphia, Pa.,1955).
–, Retractions, trans. M. I. Bogan (Catholic University of America Press, Washington, D.C., 1968).
Cicero, On the Republic and On the Laws, trans. Clinton W. Keys (Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Mass.,1928).
Cleomedes, Lectures on Astronomy,ed. and trans. A. C. Bowen and R. B. Todd (University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 2004).
Copernicus, Nicolas Copernicus On the Revolutions, trans. Edward Rosen (Polish Scientific Publishers, Warsaw, 1978; reprinted by Johns Hopkins Press, Baltimore, Md., 1978).
–, Copernicus – On the Revolutions of the Heavenly Spheres, trans. A. M. Duncan (Barnes and Noble, New York, 1976).
–-, Three Copernican Treatises, trans. E. Rosen (Farrar, Strauss and Giroux, Inc., New York, 1939). Consists of Commentariolus, Letter Against Werner, and the Narratio prima of Rheticus.
Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 6th ed. (John Murray, London, 1885).
René Descartes, Discourse on Method, Optics, Geometry, and Meteorology, trans. Paul J. Olscamp (Bobbs-Merrill, Indianapolis, Ind., 1965).
–, Principles of Philosophy, trans. V. R. Miller and R. P. Miller (D. Reidel, Dordrecht, 1983).
Diogenes Laertius, Lives of the Eminent Philosophers, trans. R. D. Hicks (Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1972).
Euclid, The Thirteen Books of the Elements, 2nd ed., trans. Thomas L. Heath (Cambridge University Press, Cambridge, 1925).
Galileo Galilei, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems: Ptolemaic and Copernican, trans.Stillman Drake (Modern Library, New York,2001).
–, Discourse on Bodies in Water, trans. Thomas Salusbury (University of Illinois Press, Urbana, 1960).
–, Discoveries and Opinions of Galileo, trans. Stillman Drake (Anchor Books, New York, 1957). Contains The Starry Messenger, Letter to Christina, and excerpts from Letters on Sunspots and The Assayer.
–, The Essential Galileo, trans. Maurice A. Finocchiaro (Hackett, Indianapolis, Ind.2008). Includes The Sidereal Messenger, Letter to Castelli, Letter to Christina, Reply to Cardinal Bellarmine, etc.
–, Siderius Nuncius, or The Sidereal Messenger, trans. Albert van Helden (University of Chicago Press, Chicago, 1989).
–, Two New Sciences, Including Centers of Gravity and Force of Percussion, trans. Stillman Drake (University of Wisconsin Press, Madison, 1974).
Galileo Galilei and Christoph Scheiner, On Sunspots, trans. and ed. Albert van Helden and Eileen Reeves (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1010).
Abu Hamid al-Ghazali, The Beginnings of Sciences, trans. I. Goldheizer, in Studies on Islam¸ ed. Merlin L. Swartz (Oxford University Press, Oxford, 1981).
–, The Incoherence of the Philosophers, trans. Sabih Ahmad Kamali (Pakistan Philosophical Congress, Lahore, 1958).
Herodotus, The Histories, trans. Aubery de Selincourt, revised ed. (Penguin Classics, London, 2003).
Homer, The Iliad, trans. Richmond Lattimore (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1951).
–, The Odyssey, trans. Robert Fitzgerald (Farrar, Straus, and Giroux, New York, 1961).
Horace, Odes and Epodes, trans. Niall Rudd (Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2004).
Christiaan Huygens, The Pendulum Clock or Geometrical Demonstrations Concerning the Motion of Pendula as Applied to Clocks, trans. Richard J. Blackwell (Iowa State University Press, Ames, 1986).
–, Treatise on Light, trans. Silvanus P. Thompson (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1945).
Johannes Kepler, Epitome of Copernican Astronomy and Harmonies of the World, trans. C. G. Wallis (Prometheus, Amherst, N.Y., 1995).
–, New Astronomy (Astronomia Nova), trans. W. H. Donahue, (Cambridge University Press, Cambridge, 1992).
Omar Khayyam, The Rubáiyát, the Five Authorized Editions, trans. Edward Fitzgerald (Walter J. Black, New York, 1942).
–, The Rubáiyát, a Paraphrase from Several Literal Translations, by Richard Le Gallienne (John Lan, London, 1928).
Lactantius, Divine Institutes, trans. A. Bowen and P. Garnsey (Liverpool University Press, Liverpool, 2003).
Gottfried Wilhelm Leibniz, The Leibniz-Clarke Correspondence, ed. H. G. Alexander (Manchester University Press, Manchester, 1956).
Martin Luther, Table Talk, trans. W. Hazlitt (H. G. Bohn, London, 1857).
Moses ben Maimon, Guide to the Perplexed, trans. M. Friedländer, 2nd ed. (Routledge, London, 1919).
Isaac Newton, The Mathematical Papers of Isaac Newton, ed. D. Thomas Whiteside (Cambridge University Press, Cambridge, 1968).
–, Mathematical Principles of Natural Philosophy, trans. Florian Cajori, rev. by Andrew Motte (University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1962).
–, Opticks, or a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections, and Colours of Light (Dover, New York, 1952; based on the 4th ed., London, 1730).
–, The Principia – Mathematical Principles of Natural Philosophy, trans. I Bernard Cohen and Anne Whitman, with “A Guide to Newton’s Principia,”´by I. Bernard Cohen (University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1999).
Nicole Oresme, The Book of the Heavens and the Earth, trans. A. D. Menut and A. J. Denomy (University of Wisconsin Press, Madison, 1968).
Philo, The Works of Philo, trans. C. D. Yonge (Hendrickson, Peabody, Mass., 1993).
Plato, Phaedo, trans. Alexander Nehamas and Paul Woodruff (Hackett, Indianapolis, 1995).
–, Vol. 9 (Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1929). Includes Phaedo, etc.
–, Republic, trans. Robin Wakefield (Oxford University Press, Oxford, 1993).
–, Timaeus and Critias, trans. Desmond Lee (Penguin, New York, 1965).
–, The Works of Plato, trans. Benjamin Jowett (Modern Library, New York, 1928). Includes Phaedo, Republic, Theaetetus, etc.
Ptolemy, Almagest, trans. G. J. Toomer (Duckworth, London, 1984).
–, Optics, trans. A. Mark Smith in “Ptolemy’s Theory of Visual Perception – An English Translation of the Optics with Commentary,” Transactions of the American Philosophical Society 86, Part 2 (1996).
Simplicius, On Aristotle “On the Heavens 2.10–14,” trans. I. Mueller (Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 2005)
–, On Aristotle “On the Heavens 3.1–7,” trans. I. Mueller (Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 2005)
–, On Aristotle “Physics 2,” trans. Barrie Fleet (Duckworth, London, 1997).
Thucydides, History of the Peloponnesian War, trans. Rex Warner (Penguin, New York, 1954; 1972).
Сборники первоисточников
J. Barnes, Early Greek Philosophy (Penguin, London, 1987).
–, The Presocratic Philosophers, rev. ed. (Routledge and Kegan Paul, London, 1982).
J. Lennart Berggren, “Mathematics in Medieval Islam,” in The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India, and Islam, ed. Victor Katz (Princeton University Press, Princeton, N.J., 2007).
Marshall Clagett, The Science of Mechanics in the Middle Ages (University of Wisconsin Press, Madison, 1959).
M. R. Cohen and I. E. Drabkin, A Source Book in Greek Science (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1948).
Stillman Drake and I. E. Drabkin, Mechanics in Sixteenth-Century Italy (University of Wisconsin Press, Madison, 1969).
Stillman Drake and C. D. O’Malley, The Controversy on the Comets of 1618 (University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1960). Translations of works of Galileo, Grassi, and Kepler.]
K. Freeman, The Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1966).
D. W. Graham, The Texts of Early Greek Philosophy – The complete Fragments and Selected Testimonies of the Major Presocratics (Cambridge University Press, New York, 2010).
E. Grant, ed., A Source Book in Medieval Science (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1974).
T. L. Heath, Greek Astronomy (J. M. Dent and Sons, London, 1932).
G. L. Ibry-Massie and P. T. Keyser, Greek Science of the Hellenistic Era (Routledge, London, 2002).
William Francis Magie, A Source Book in Physics (McGraw-Hill, New York, 1935).
Michael Matthews, The Scientific Background of Modern Philosophy (Hackett, Indianapolis, Ind., 1989).
Merlin L. Swartz, Studies in Islam (Oxford University Press, Oxford, 1981).
Вторичные источники
L’Anno Galileiano, International Symposium a cura dell’Universita di Padova, 2–6 dicembre 1992, Volume. 1 (Edizioni LINT, Trieste, 1995). Speeches in English by T. Kuhn and S. Weinberg; see also Tribute to Galileo.
J. Barnes, ed., The Cambridge Companion to Aristotle (Cambridge University Press, 1995). Articles by Barnes, R. J. Hankinson, and others.
Herbert Butterfield, The Origins of Modern Science, rev. ed. (The Free Press, New York, 1957).
S. Chandrasekhar, Newton’s Principia for the Common Reader (Clarendon Press, Oxford, 1995).
R. Christanson, Tycho’s Island (Cambridge University Press, Cambridge, 2000).
Carlo M. Cipolla, Clocks and Culture 1300–1700 (W. W. Norton, New York, 1978).
Marshall Clagett, ed., Critical Studies in the History of Science (University of Wisconsin Press, Madison, 1959). Articles by I. B. Cohen and others.
H. Floris Cohen, How Modern Science Came Into the World – Four Civilizations, One 17 th-Century Breakthrough (Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010)
John Craig, Newton at the Mint (Cambridge University Press, Cambridge, 1946).
Robert P. Crease, World in the Balance – The Historic Quest for an Absolute System of Measurement (W. W. Norton, New York, 2011).
A. C. Crombie, Medieval and Early Modern Science (Doubleday Anchor Books, Garden City, N.Y., 1959).
–, Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science – 1100–1700 (Clarendon, Oxford, 1953).
Olivier Darrigol, A History of Optics from Greek Antiquity to the Nineteenth Century (Oxford University Press, Oxford, 2012).
Peter Dear, Revolutionizing the Sciences – European Knowledge and its Ambitions, 1500–1700, 2nd ed. (Princeton University Press, Princeton, N.J. and Oxford, 2009).
D. R. Dicks, Early Greek Astronomy to Aristotle (Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 1970).
The Dictonary of Scientific Biography, ed. Charles Coulston Gillespie (Scribner, New York, 1970).
Stillman Drake, Galileo at Work – His Scientific Biography (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1978).
Pierre Duhem, The Aim and Structure of Physical Theory, trans. Philip K. Weiner (Athenaeum, New York, 1982).
–, Medieval Cosmology – Theories of Infinity, Place, Time, Void, and the Plurality of Worlds, trans. Roger Ariew (University of Chicago Press, Chicago, 1985).
–, To Save the Phenomena – An Essay on the Idea of Physical Theory from Plato to Galileo, trans. E. Dolan and C. Machler (University of Chicago Press, Chicago, Ill.,1969).
James Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy (Oxford University Press, Oxford, 1998).
Annibale Fantoli, Galileo – For Copernicanism and For the Church, 2nd ed., trans. G. V. Coyne (University of Notre Dame Press, South Bend, Ind., 1996).
Maurice A. Finocchiaro, Retrying Galileo, 1633–1992 (University of California, Berkeley and Los Angeles, 2005).
E. M. Forster, Pharos and Pharillon (Knopf, New York, 1962).
Kathleen Freeman, The Pre-Socratic Philosophers, 3rd ed. (Basil Blackwell, Oxford, 1953).
Peter Galison, How Experiments End (University of Chicago Press, Chicago, Ill.,1987).
Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire (Everyman’s Library, New York, 1991).
James Gleick, Isaac Newton (Pantheon, New York, 2003).
Daniel W. Graham, Science Before Socrates – Parmenides, Anaxagoras, and the New Astronomy (Oxford University Press, Oxford, 2013).
Edward Grant, The Foundations of Modern Science in the Middle Ages (Cambridge University Press, Cambridge, 1996).
–, Planets, Stars, and Orbs – The Medieval Cosmos, 1200–1687 (Cambridge University Press, Cambridge, 1994).
Stephen Graukroger, ed., Descartes – Philosophy, Mathematics, and Physics (Harvester, Brighton, 1980).
Stephen Graukroger, John Schuster, and John Sutton, eds., Descartes’ Natural Philosophy (Routledge, London and New York, 2000).
Peter Green, Alexander to Actium (University of California Press, Berkeley, 1990).
Dmitri Gutas, Greek Thought, Arabic Culture – The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early ‘Abbāsid Society (Routledge, London, 1998).
Rupert Hall, Philosophers at War: The Quarrel Between Newton and Leibniz (Cambridge University Press, Cambridge, 1980).
Charles Homer Haskins, The Rise of Universities (Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 1957).
J. L. Heilbron, Galileo (Oxford University Press, Oxford, 2010).
Albert van Helden, Measuring the Universe – Cosmic Dimensions from Aristarchus to Halley (University of Chicago Press, Chicago, Ill.,1983).
P. K. Hitti, History of the Arabs (Macmillan,London, 1937).
J. P. Hogendijk and A. I. Sabra, eds., The Enterprise of Science in Islam = New Perspectives (MIT Press, Cambridge, Mass., 2003).
Toby E. Huff, Intellectual Curiosity and the Scientific Revolution (Cambridge University Press, Cambridge, 2011).
Jim al-Khalifi, The House of Wisdom (Penguin, New York, 2011).
Henry C. King, The History of the Telescope (Charles Griffin, Toronto, 1955; reprint by Dover, New York, 1979).
D. G. King-Hele and A. R. Hale, eds., “Newton’s Principia and His Legacy,” Notes & Records of the Royal Society of London 42, 1-122 (1988).
Alexandre Koyré, From the Closed World to the Infinite Universe (Johns Hopkins University Press, Baltimore, Md.,1957).
Thomas S. Kuhn, The Copernican Revolution (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1957).
–, The Structure of Scientific Revolutions (University of Chicago Press, Chicago, 1962; 2nd ed. 1970).
David C. Lindberg, The Beginnings of Western Science (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1992, 2nd ed. 2007).
D. C. Lindberg and R. S. Westfall, eds., Reappraisals of the Scientific Revo lution (Cambridge University Press, Cambridge, 2000).
G. E. R. Lloyd, Methods and Problems in Greek Science (Cambridge University Press, Cambridge, 1991).
Peter Machamer, ed., The Cambridge Companion to Galileo (Cambridge University Press, Cambridge, 1998).
Alberto A. Martínez, The Cult of Pythagoras – Man and Myth (University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, Pa., 2012).
E. Masood, Science and Islam (Icon, London, 2009).
Robert K. Merton, “Motive Forces of the New Science,” in Osiris 4, Part 2 (1938); reprinted by Science, Technology, and Society in Seventeenth-Century England (Howard Fertig, New York, 1970); and On Social Structure and Science, ed. by Piotry Sztompka (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1996), pp. 223–240.
Otto Neugebauer, Astronomy and History – Selected Essays (Springer-Verlag, New York, 1983).
–, A History of Ancient Mathematical Astronomy (Springer-Verlag, New York, 1975).
M. J. Osler, ed., Rethinking the Scientific Revolution (Cambridge University Press, Cambridge, 2000). Articles by M.J. Osler, B. J. T. Dobbs, R. S. Westfall, and others.
Ingrid D. Rowland, Giordano Bruno – Philosopher and Heretic (Farrar, Strauss, and Giroux, New York, 2008).
George Sarton, Introduction to the History of Science, Volume 1, From Homer to Omar Khayyam (Carnegie Institution of Washington, Washington, D.C., 1927).
Erwin Schrödinger, Nature and the Greeks (Cambridge University Press, Cambridge, 1954).
Steven Shapin, The Scientific Revolution (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1996).
Dava Sobel, Galileo’s Daughter (Walker, New York, 1999).
Merlin L. Swartz, Studies in Islam (Oxford University Press, 1981).
N. M. Swerdlow and O. Neugebauer, Mathematical Astronomy in Copernicus’s De Revolutionibus (Springer-Verlag, New York, 1984).
R. Taton and C. Wilson, eds., Planetary Astronomy from the Renaissance to the Rise of Astrophysics – Part A: Tycho Brahe to Newton (Cambridge University Press, Cambridge, 1989).
Tribute to Galileo in Padua, International Symposium a cura dell’Universita di Padova, 2–6 dicembre 1992, Volume 4 (Edizioni LINT, Trieste, 1995). Articles in English by J. MacLachlan, I. B. Cohen, O. Gingerich, G. A. Tammann, L. M. Lederman, C. Rubbia, and Steven Weinberg; see also L'Anno Galileiano.
Gregory Vlastos, Plato’s Universe (University of Washington Press, Seattle, 1975).
Voltaire, Philosophical Letters, transl. E. Dilworth (Bobbs-Merrill Educational Publishing, Indianapolis, Ind., 1961).
Richard Watson, Cogito Ergo Sum – The Life of René Descartes (David R. Godine, Boston, Mass., 2002).
Steven Weinberg, Discovery of Subatomic Particles, rev. ed. (Cambridge University Press, Cambridge, 2003).
–, Dreams of a Final Theory (Pantheon, New York, 1992; reprinted with a new afterword by Vintage, New York, 1994).
–, Facing Up – Science and Its Cultural Adversaries (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2001).
–, Lake Views – This World and the Universe (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2009).
Richard S. Westfall, The Construction of Modern Science – Mechanism and Mechanics (Cambridge University Press, Cambridge, 1977).
–, Never at Rest – A Biography of Isaac Newton (Cambridge University Press, Cambridge, 1980).
Andrew Dickson White, A History of the Warfare of Science and Theology in Christendom (Appleton, New York, 1895).
Lynn White, Medieval Technology and Social Change (Oxford University Press, Oxford, 1962).
Сноски
1
Английская лирика первой половины XVII века. – М.: Изд-во МГУ, 1989.
(обратно)2
Хартли Л. Посредник. – М.: Б.С.Г.-Пресс, 2004.
(обратно)3
Лат. «сведе́ние к невозможности» – прием опровержения в философии. – Прим. ред.
(обратно)4
По др.-гр. στοά ποικίλη – «расписной портик». – Прим. ред.
(обратно)5
Переводы на русский язык выходили под именем Диоген Лаэрций, однако в настоящее время принято использовать имя Диоген Лаэртский. – Прим. науч. ред.
(обратно)6
Автор имеет в виду карусель, на которой помимо общего вращения происходит вращение посадочных мест. – Прим. ред.
(обратно)7
Теории Коперника. – Прим. пер.
(обратно)8
Algorithm – латинизированная форма имени ученого. – Прим. ред.
(обратно)9
Моше бен Маймон. Путеводитель растерянных. – Маханаим, Мосты культуры/Гешарим, 2010.
(обратно)10
От арабского слова «алкали», означающего поташ. – Прим. пер.
(обратно)11
Устройство для дистилляции спирта или, проще говоря, самогонный аппарат. – Прим. пер.
(обратно)12
То есть кругов, секущих сферу таким образом, что геометрический центр круга совпадает с геометрическим центром сферы. – Прим. пер.
(обратно)13
За исключением дат рождения и смерти Томаса Брадварина, в скобках указаны годы, на которые приходится творческий расцвет упомянутых ученых. – Прим. пер.
(обратно)14
Полента – итальянская каша из кукурузной муки. – Прим. пер.
(обратно)15
Дож – титул главы государства в республиках Генуэзской и Венецианской. – Прим. ред.
(обратно)16
Один из телескопов Галилея достался Кеплеру случайно и на короткое время, с 29 августа по 9 сентября 1610 г. См.: Шмутцер Э., Шютц В. Галилео Галилей. – М.: Мир, 1987. – С. 47. – Прим. науч. ред.
(обратно)17
Автор цитирует только первую половину заключения квалификаторов инквизиции, касающегося покоя Солнца в центре Вселенной. – Прим. ред.
(обратно)18
«А все-таки она вертится!»
(обратно)19
В русской научной традиции – 760 мм ртутного столба. – Прим. пер.
(обратно)20
Так во Франции XVII в. называли дворянство, приобретенное на государственной службе. – Прим. пер.
(обратно)21
В русском языке термины «количество движения» и «импульс» равно употребимы. – Прим. ред.
(обратно)22
В Великобритании и США – публичная церемония, которой удостаиваются монархи и члены королевской семьи (например, принцесса Диана), а также наиболее заслуженные деятели. – Прим. пер.
(обратно)23
В книге, переведенной на русский язык в 1975 г., используется термин «эталонная модель». В современной физике общепринятым стал термин «стандартная модель». – Прим. пер.
(обратно)24
Гадание по земле и минералам. – Прим. пер.
(обратно)25
Следует иметь в виду, что в отечественной геометрической традиции теоремой Фалеса обычно называют другую теорему элементарной геометрии. – Прим. науч. ред.
(обратно)26
Возможно, что во времена Фалеса этого могли еще не знать, что дает повод считать данное доказательство выведенным в позднейшие времена. – Прим. авт.
(обратно)27
Евклид. Начала. Книги XI–XIV/Пер. с др. – гр. и комментарии Д. Д. Мордухай-Болтовского. – М.; Л.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1950. С. 140.
(обратно)28
Для фортепианной струны есть отклонения от этой формулы за счет жесткости струны. Эти отклонения добавляют в формулу для ν слагаемые, пропорциональные 1/L3. Здесь я не буду их учитывать. – Прим. авт.
(обратно)29
В современной музыке используется музыкальный строй, в котором звук, соответствующий ноте соль первой октавы, не образует чистой квинты со звуком, соответствующим ноте до. Небольшая «расстройка» необходима, чтобы все остальные интервалы не звучали фальшиво. Такая музыкальная система называется темперированной. – Прим. авт.
(обратно)30
См.: Птолемей. Альмагест: Математическое сочинение в тридцати книгах / Пер. с др. – гр. И. Н. Веселовского // Ин-т истории естествознания и техники РАН; Науч. ред Г. Е. Куртик. – М.: Наука; Физматлит, 1998. С. 22–24.
(обратно)31
Галилей использовал меру под названием «миля», которая не сильно отличалась от современной англо-американской мили. По нынешним данным, радиус Луны составляет 1080 миль, или 1737 км. – Прим. пер.
(обратно)32
У Ньютона эти значения были соответственно 0,0073 и 0,0089 фута в секунду за секунду. – Прим. ред.
(обратно) (обратно)Комментарии
1
Аристотель. Метафизика / Пер. А. В. Кубицкого. – М.; Л.: Соцэкгиз, 1934. С. 23.
(обратно)2
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. с др. – гр. М. Л. Гаспарова. – М.: Мысль, 1986.
(обратно)3
Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / Под ред. А. В. Лебедева. – М.: Наука, 1989. С. 117. (Далее – Фрагменты.)
(обратно)4
Богомолов А. С. Античная философия (История философии). – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 2006. С. 67.
(обратно)5
Антология мировой философии: Античность. – М. 2001. С. 48.
(обратно)6
Как указывает в своей работе «Вселенная Платона» Грегори Властос (Gregory Vlastos, Plato’s Universe, University of Washington Press, Seattle, 1975), наречие, образованное от слова «kosmos», использовал Гомер в значении «социально подобающий» или «морально совершенный». Этот смысл лег в основу понятия «косметика» в современном английском и других языках. Тот факт, что его использовал Гераклит, отражает точку зрения древних греков, которая заключалась в том, что мир в целом таков, каким он и должен быть. Также от него происходят родственные понятия «космос» и «космология».
(обратно)7
Фрагменты. С. 217.
(обратно)8
Там же. С. 379.
(обратно)9
Там же. С. 344.
(обратно)10
Богомолов А. С. Указ. соч. С. 163.
(обратно)11
Там же. С. 176.
(обратно)12
Аристотель. Метафизика. С.54.
(обратно)13
Полное собрание творений Платона: в 15 т. Т. 1 / Под ред. С. А. Жебелева, Л. П. Карсавина, Э. Л. Радлова. – Петербург: Academia, 1923. С. 182–183.
(обратно)14
См., напр.: Аристотель. Метафизика. С. 62.
(обратно)15
Платон. Диалоги. – М.: Мысль, 1986.
(обратно)16
Томас Д. Собрание стихотворений 1934–1953 / Пер. с англ. В. Бетаки. – Б. м. Salamandra P. V. V., 2010. С. 16.
(обратно)17
Фрагменты. С. 173.
(обратно)18
Я писал об этом в главе «Замечательные теории» в книге «Мечты об окончательной теории» (Dreams of a Final Theory, Pantheon, New York, 1992), переизданной с новым послесловием издательством Vintage, New York, 1994.
(обратно)19
Alberto A. Martínez, The Cult of Pythagoras – Man and Myth (University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, Pa., 2012).
(обратно)20
Аристотель. Метафизика. С. 26–27.
(обратно)21
Там же.
(обратно)22
Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 2. – М.: Мысль, 1978. С. 167.
(обратно)23
Платон. Диалоги. 147 d – e.
(обратно)24
На самом деле, как это обсуждается в техническом замечании 2, что бы ни доказал Теэтет и что бы ни приписывали ему «Начала», существует только пять возможных выпуклых правильных многогранников. На примере правильного полиэдра в «Началах» доказывается, что существует только пять комбинаций длин сторон каждой грани полиэдра и количества граней, которые имеют общие точки. Но там не доказано, что для каждой комбинации этих чисел существует только единственный выпуклый правильный многогранник.
(обратно)25
Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 3. – М.: Мысль, 1981. С. 140.
(обратно)26
Платон. Избранное. – М.: АСТ, 2006.
(обратно)27
Вигнер Е. Непостижимая эффективность математики в естественных науках // Этюды о симметрии / Пер. с англ. – М.: Мир, 1971.
(обратно)28
J. Barnes, The Complete Works of Aristotle – The Revised Oxford Translation (Princeton University Press, Princeton, N.J., 1984).
(обратно)29
R. J. Hankinson, The Cambridge Companion to Aristotle, ed. J. Barnes (Cambridge University Press, Cambridge, 1995), p. 165.
(обратно)30
Аристотель. Сочинения. Т. 3. С. 86.
(обратно)31
Там же. С. 82.
(обратно)32
Там же. С. 508.
(обратно)33
Там же. С. 279–280.
(обратно)34
Там же. С. 138.
(обратно)35
Там же.
(обратно)36
Греческое слово κίνησις, которое обычно переводится как «движение», в действительности имеет более общее значение, относящееся к любому изменению. Таким образом, классификация причин движения у Аристотеля включает в себя не только изменения положения тела, но и любое изменение. Греческое слово φορά употребляется, только когда идет речь о перемене местоположения, и обычно переводится как «перемещение».
(обратно)37
Аристотель. Сочинения. Т. 3. С. 206.
(обратно)38
Там же. С. 349.
(обратно)39
Чосер Дж. Кентерберийские рассказы/Пер. И. Кашкина, О. Румера. – М.: Вече, 2011. С. 8.
(обратно)40
Thomas Kuhn, Remarks on Receiving the Laurea // L'Anno Galileiano (Edizioni LINT, Trieste, 1995).
(обратно)41
David C. Lindberg, The Beginnings of Western Science (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1992), pp. 53–54.
(обратно)42
Op. cit. seem 2-nd ed. (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 2007), p. 65.
(обратно)43
Michael R. Matthews, Introduction to: «The Scientific Background to Modern Philosophy» (Hackett, Indianapolis, Ind., 1989).
(обратно)44
Это наименование я позаимствовал из ведущей современной работы по этому периоду: Alexander to Actium (University of California Press, Berkeley, 1990).
(обратно)45
Я считаю, что это замечание первоначально принадлежало Джорджу Сартону.
(обратно)46
В английском переводе Симпликий о работах Стратона см.: M. R. Cohen and I. E. Drabkin, A Source Book в Greek Science (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1948), pp. 211–212.
(обратно)47
H. Floris Cohen, How Modern Science Came into the World (Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010), p. 17.
(обратно)48
О новейших исследованиях взаимосвязи технологии с физикой см.: Bruce J. Hunt, Pursuing Power and Light: Technology and Physics from James Watt to Albert Einstein (Johns Hopkins University Press, Baltimore, Md., 2010).
(обратно)49
Описание экспериментов Филона см.: G. I. Ibry-Massie and P. T. Keyser, Greek Science of the Hellenistic Era (Routledge, London, 2002), pp. 216–219.
(обратно)50
В древности обычно считалось, что люди видят предметы потому, что лучи света исходят из глаза и касаются видимого объекта, как если бы зрение ощупывало предмет. Далее я неявно предполагаю, что читатель разделяет современную точку зрения о том, что мы видим потому, что свет идет от видимого предмета к глазу наблюдателя. К счастью, при анализе отражения и преломления света нет разницы, в какую именно сторону движется луч.
(обратно)51
Это цитата из греческого манускрипта 6 в. до н. э. в английском переводе: Ibry-Massie и Keyser, Greek Science of the Hellenistic Era.
(обратно)52
См. Таб. V. 1, с. 233, в переводе «Оптики» Птолемея: A. Mark Smith, «Ptolemy's Theory of Visual Perception» // Transactions of the American Philosophical Society 86, Part 2 (1996).
(обратно)53
Архимед. Сочинения. – M, 1962. С. 328.
(обратно)54
«Пробирных дел мастер» – полемика Галилея с его противниками-иезуитами, выраженная в форме письма к тайному камергеру Его Святейшества Вирджинио Чезарини. Как мы увидим в главе 11, в этом сочинении Галилео критиковал верную точку зрения Тихо Браге и иезуитов на то, что кометы находятся дальше от Земли, чем Луна (цитата в этом месте приводится по изданию: Галилео Галилей. Пробирных дел мастер / Пер. Ю. А. Данилова. – М.: Наука, 1987).
(обратно)55
Платон. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 3. – М.: Мысль, 1994. С. 433–434.
(обратно)56
Erwin Schrödinger, Shearman Lectures at University College London, May 1948, опубликовано Nature and the Greeks (Cambridge University Press, Cambridge, 1954).
(обратно)57
Alexandre Koyré, From the Closed World to the Infinite Universe (Johns Hopkins University Press, Baltimore, Md., 1957), p. 159.
(обратно)58
Фрагменты. С. 171.
(обратно)59
S. Greenblatt, The Answer Man: An Ancient Poem Was Rediscovered and the World Swerved // The New Yorker, 8 aug. 2011, pp. 28–33.
(обратно)60
Пьер Гассенди – французский священник и философ, который пытался связать атомистические теории Эпикура и Лукреция с христианством.
(обратно)61
Гиббон Э. Закат и падение Римской империи: в 7 т. Т. 2/Пер. с англ. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2008. С. 525.
(обратно)62
Гиббон Э. Указ. соч. С. 104.
(обратно)63
Коперник Н. О вращениях небесных сфер/Пер. проф. И. Н. Веселовского. – М.: Наука, 1964. С. 15.
(обратно)64
Лактанций. Божественные установления. Книги I–VII. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2007. Кн. III, разд. 24. С. 223–224.
(обратно)65
Новый Завет. Послание к колоссянам, 2:8.
(обратно)66
Блаженный Августин. Исповедь. – СПб.: Наука, 2013. С.56.
(обратно)67
Augustine, Retractions, Book I. Chapter 1, trans. M. I. Bogan (Catholic University of America Press, Washington, D. C., 1968), p. 10.
(обратно)68
Гиббон Э. Указ. соч. С. 382.
(обратно)69
Эта глава частично основывается на моей статье «Миссия астрономии» (The Missions of Astronomy), New York Review of Books 56, 16 (22 Oct. 2009): 19–22; напечатанной в: The Best American Science and Nature Writing, ed. Freeman Dyson (Houghton Mifflin Harcourt, Boston, Mass., 2010), pp. 23–31; The Best American Science Writing, ed. Jerome Groopman (HarperCollins, New York, 2010), pp. 272–281.
(обратно)70
Гомер. Илиада / Пер. Н. Гнедича. Песнь XXII, 27–31.
(обратно)71
Гомер. Одиссея / Пер. В. Жуковского. Песнь V, 271–277.
(обратно)72
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: АСТ, Астрель, 2011. С. 61.
(обратно)73
Такую интерпретацию одной из строк работы Гераклита см.: D. R. Dicks в Early Greek Astronomy to Aristotle (Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 1970).
(обратно)74
Более правильно сказать, что так определяется синодический лунный месяц. А 27-дневный промежуток времени, за который Луна возвращается в ту же самую точку по отношению к неподвижным звездам, называется сидерическим лунным месяцем.
(обратно)75
Этого не происходит каждый месяц, поскольку плоскость орбиты, по которой Луна обращается вокруг Земли, слегка наклонена по отношению к плоскости орбиты обращения Земли вокруг Солнца. Луна пересекает плоскость земной орбиты дважды в месяц, но затмение происходит в полнолуние, когда Земля расположена между Солнцем и Луной, лишь раз в каждые 18 лет. (Имеется в виду повторение лунного затмения, когда Луна расположена в том же самом созвездии, так называемый цикл сароса, в то время как всего за 18 лет происходит в среднем 28 лунных затмений. – Прим. пер.)
(обратно)76
Равноденствие – это момент, когда Солнце в своем видимом движении на фоне звезд пересекает небесный экватор. Говоря современным языком, это тот момент, когда вектор от Земли к Солнцу становится перпендикулярен земной оси. В точках с различной долготой на земной поверхности это происходит в разное локальное время суток, поэтому для наблюдателей из разных географических точек момент равноденствия может выпасть на разные даты. Все сказанное относится и к наблюдению фаз Луны.
(обратно)77
Платон. Избранное. – М.: АСТ, 2006.
(обратно)78
Филон Иудей (Александрийский). О неразрушимости и вечности мира // Браш М. Классики философии. – СПб., 1907.
(обратно)79
Важное значение работ Параменида и Анаксагора в формировании астрономии как науки см.: Daniel W. Graham, Science Before Socrates – Parmenides, Anaxagoras, and the New Astronomy (Oxford University Press, Oxford, 2013).
(обратно)80
Freeman, The Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1966), p. 23.
(обратно)81
О. Нейгебауэр отмечает в своей работе «История древней математической астрономии» (in O. Neugebauer, A History of Ancient Mathematical Astronomy, Springer-Verlag, New York, 1975, pp. 1093–94), что вывод Аристотеля о форме Земли на основании формы наблюдаемой тени на Луне необоснован, так как существует бесконечное множество возможных форм Земли и Луны, которые могли бы дать в результате такую же форму тени.
(обратно)82
Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 3. – М.: Мысль, 1981. С. 340.
(обратно)83
Самуэль Элиот Морисон приводит тот же самый аргумент в своем жизнеописании Христофора Колумба «Адмирал моря-океана» (Admiral of the Ocean Sea, Little Brown, Boston, Mass., 1942), чтобы опровергнуть общепринятый предрассудок, будто бы до экспедиции Колумба не знали, что Земля имеет форму шара. Дебаты при кастильском дворе насчет того, финансировать или нет планирующуюся экспедицию Колумба, имели предметом не форму Земли, а ее размер. Колумб считал, что Земля достаточно маленькая, чтобы он мог дойти из Испании до восточных берегов Азии, не исчерпав запасы воды и еды. Он ошибся в оценке размера Земли, но, конечно, неожиданное появление Американского континента между Европой и Азией спасло ему жизнь.
(обратно)84
Фрагменты. С. 173.
(обратно)85
Аристотель. Сочинения. Т.3. С. 325.
(обратно)86
Архимед. Сочинения. С. 328.
(обратно)87
Веселовский И.Н. Аристарх Самосский – Коперник античного мира // Историко-астрономические исследования. 1961. Вып. 7.
(обратно)88
В «Псаммите» Архимед сделал интереснейшее замечание: Аристарх определил, что «Солнце занимает 1/720 часть зодиака». Таким образом, угловой размер видимого с Земли диска Солнца равняется произведению 1/720 на 360°, то есть 0,5°, что близко к истинному значению 0,519°. Архимед также заявил, что он удостоверил это число собственными наблюдениями. Но, как мы видели, в той работе Аристарха, которая дошла до нашего времени, используется значение углового размера Луны 2°, и одновременно он отмечает, что видимые размеры лунного и солнечного дисков одинаковые. Действительно ли Архимед привел цитату из более поздней, не сохранившейся работы Аристарха или же использовал результат собственных измерений, приписав заслугу их получения Аристарху? Я слышал мнение изучавших историю вопроса, что дело могло быть в ошибке переписчика или переводчика текста, но это предположение выглядит необоснованным. Как мы уже отметили, Аристарх из своих изменений углового диаметра Луны заключил, что расстояние от нее до Земли лежит между 30 и 45/2 лунных диаметров, а такой вывод нельзя сделать, если принять угловой диаметр Луны равным 0,5°. Современная тригонометрия утверждает, с другой стороны, что если принять угловой диаметр лунного диска за 2°, то расстояние между Луной и Землей составит 28,6 единиц лунного диаметра, каковое число действительно лежит в диапазоне между 45/2 и 30. («Псаммит» не являлся серьезным трудом, посвященным астрономии, в нем Архимед демонстрировал свой способ производить вычисления с очень большими числами, такими как, например, количество песчинок, достаточное, чтобы наполнить всю сферу неподвижных звезд.)
(обратно)89
Архимед. Сочинения. С.359.
(обратно)90
Там же. С. 337.
(обратно)91
Аристотель. Сочинения. Т. 3. С. 336.
(обратно)92
Существует знаменитое устройство эпохи античности, известное как Антикитерский механизм. Найдено оно было в 1901 г. ныряльщиками – ловцами губок у берегов острова Антикитера, расположенного в Средиземном море между Критом и континентальной Грецией. Предполагается, что он утонул в море во время кораблекрушения в период 150–100 гг. до н. э. Хотя Антикитерский механизм превратился в изуродованный коррозией кусок бронзы, ученым удалось понять, как он работал, проанализировав его конструкцию при помощи рентгеновских лучей. По всей видимости, это был не планетарий, а разновидность механического календаря, который мог указать наблюдаемое расположение Луны и планет в зодиакальных созвездиях на любую дату. Самое важное, о чем говорит Антикитерский механизм, – это тот факт, что его сложный передаточный механизм из множества шестерней служит свидетельством высокого уровня развития техники в эпоху эллинизма.
(обратно)93
Цицерон. Диалоги: О государстве. О законах. / Пер. В.О. Горенштейна, прим. И. Н. Веселовского и В. О. Горенштейна, ст. С. Л. Утченко; отв. ред. С. Л. Утченко. (Серия «Литературные памятники»). – М.: Наука, 1966.
(обратно)94
Этот эксперимент был реконструирован в наше время. См.: Albert van Helden, Measuring the Universe – Cosmic Dimensions from Aristarchus to Halley (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1983), pp. 10–13.
(обратно)95
Птолемей К. Альмагест: Математическое сочинение в тринадцати книгах. – М.: Наука, 1998. С. 269.
(обратно)96
Небесная широта – это угловое расстояние от звезды до линии эклиптики. Что касается долготы, то на Земле мы отмеряем ее от Гринвичского меридиана, а небесная долгота есть угловое расстояние, измеренное по малому кругу на фиксированной небесной широте, от звезды до небесного меридиана, на котором находится Солнце в день весеннего равноденствия.
(обратно)97
Другую точку зрения см.: O. Neugebauer, A History of Ancient Mathematical Astronomy (Springer-Verlag, New York, 1975), pp. 288, 577.
(обратно)98
Альмагест. С.214.
(обратно)99
Основываясь на собственных наблюдениях звезды Регул, Птолемей в своем «Альмагесте» привел значение смещения в один градус примерно за 100 лет.
(обратно)100
Cleomedes, Lectures on Astronomy, ed. and trans. A. C. Bowen и R. B. Todd (University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 2004).
(обратно)101
Эратосфену просто повезло. Сиена была расположена не точно к югу от Александрии (ее долгота 32,9° в. д., а Александрии – 29.9° в. д.), и в полдень во время летнего солнцестояния солнце не расположено в Сиене точно в зените, но на угловом расстоянии 0,4° от вертикали. Оба этих отклонения взаимно скомпенсировали друг друга. На самом деле Эратосфен измерил отношение длины окружности Земли к расстоянию от Александрии до тропика Рака (который Клеомед называл летним тропическим кругом) (или северный тропик. – Прим. пер.), параллели, на которой во время летнего солнцестояния солнце действительно расположено точно в зените в полдень. Александрия расположена на широте 31,2°, а широта тропика Рака 23.5°, что меньше широты Александрии на 7,7°, поэтому длина окружности Земли в действительности равна 360°/7,7°, что в 46,75 раз больше расстояния между Александрией и тропиком Рака, и лишь чуть-чуть меньше, чем число 50, названное Эратосфеном.
(обратно)102
Для ясности, когда в этой главе я говорю о планетах, я имею в виду только пять из них: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.
(обратно)103
Мы можем видеть связь дней недели с названием планет и именами богов в названиях дней недели в английском языке. Суббота, воскресенье и понедельник (Saturday, Sunday, Monday) явно связаны с Сатурном, Солнцем и Луной. Названия вторника, среды, четверга и пятницы (Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday) связаны с именами немецких богов, у которых, вероятно, были латинские эквиваленты: Тир ассоциировался с Марсом, Вотан – с Меркурием, Тор – с Юпитером, а Фригга – с Венерой.
(обратно)104
G. W. Burch, The Counter-Earth // Osiris 11, 267 (1954).
(обратно)105
Аристотель. Метафизика. С. 27.
(обратно)106
Симпликий. Комментарий к четырем книгам трактата Аристотеля «О небе». Комментарий ко второй книге // Историко-философский ежегодник. 2004. М., 2005. С. 12.
(обратно)107
Модель Евдокса очень хорошо описана в: James Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy (Oxford University Press, Oxford, 1998), pp. 307–309.
(обратно)108
Метафизика. Книга XII. Гл.8.
(обратно)109
См.: On Aristotle, On the Heavens 3.1–7 (Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 2005), 493.1-497.8, pp. 33–36; trans. I. Mueller.
(обратно)110
Эта симметрия была открыта в ходе эксперимента в 1956 г. физиками Ву Цзяньсюн и Янгом Чжэньнином.
(обратно)111
Метафизика. Книга XII. Гл. 8.
(обратно)112
См.: D. R. Dicks, Early Greek Astronomy to Aristotle (Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 1970), р. 202. Дикс высказывает различные версии, почему Аристотель допустил эти ошибки.
(обратно)113
Mueller, Simplicius, On Aristotle's «On the Heavens 2.10–2.14», 519.9–519.11, р. 59.
(обратно)114
За год, состоящий из 365,25 дней, Земля на самом деле совершает 366,25 оборота вокруг своей оси. Кажется, что Солнце поворачивается вокруг Земли только 365,25 раза, потому что в то же самое время, когда Земля поворачивается 366,4 раза вокруг своей оси, она совершает один оборот вокруг Солнца в том же самом направлении, что и дает 365,4 видимых оборота Солнца вокруг Земли. Поскольку Земле требуется 365,25 дней, состоящих из 24 часов, чтобы совершить 366,25 оборотов относительно звезд, для одного оборота Земли вокруг своей оси необходимо (365,25 x 24 часа)/366,25 или 23 часа 56 минут и 4 секунды. Это число называется звездными сутками.
(обратно)115
Mueller, 504.19-504.30, р 43.
(обратно)116
См.: Book I of Otto Neugebauer, A History of Ancient Mathematical Astronomy (Springer-Verlag, New York, 1975).
(обратно)117
Начиная с Птолемея и до наших дней видимая яркость звезд в каталогах описывается термином «звездная величина». Значение звездной величины возрастает, когда яркость уменьшается. Одна из самых ярких звезд – Сириус – имеет звездную величину –1,4, яркая Вега имеет звездную величину 0, а звезды, еле заметные невооруженным глазом, относятся к шестой звездной величине. В 1856 г. астроном Норман Погсон сравнил измеренную видимую светимость определенного количества звезд со звездными величинами, которые исторически приписывались им, и на основании этого сделал вывод, что, если звездная величина одной звезды больше, чем у другой, на пять единиц, то эта звезда в 100 раз тусклее.
(обратно)118
В одном из немногих намеков на происхождение эпицикла Птолемей в начале Книги XII «Альмагеста» благодарит Аполлония из Перга за доказательство теоремы, связанной с использованием эпицикла и эксцентра в расчетах видимого движения Солнца.
(обратно)119
Использование эксцентра в теории движения Солнца может рассматриваться как подвид эпицикла, в котором прямая линия из центра эпицикла до Солнца всегда параллельна прямой линии между Землей и центром солнечного деферента, таким образом, центр солнечной орбиты смещен от Земли. То же самое применимо и к Луне, и к другим планетам.
(обратно)120
Птолемей не использовал термин «эквант». Вместо него он прибегал к термину «бисекция эксцентра», ссылаясь на тот факт, что центр деферента должен помещаться в середине линии, связывающей эквант и Землю.
(обратно)121
В личной переписке Дж. Смита.
(обратно)122
То же самое положение остается верным и когда добавляются эксцентры и экванты. Наблюдения влияют только на соотношение между расстоянием до Земли и экванта из центра деферента и радиусами деферента и эпицикла отдельно для каждой планеты.
(обратно)123
См. «Альмагест» Птолемея G. J. Toomer (Duckworth, London, 1984), Book V, Chapter 13, рр. 247–251. Также см.: O. Neugebauer, A History of Ancient Mathematical Astronomy, P. 1 (Springer Verlag, Berlin, 1975), рр. 100–103.
(обратно)124
Barrie Fleet, Simplicius on Aristotle «Physics 2» (Duckworth, London, 1997), 291.23–292.29, рр. 47–48.
(обратно)125
Цит. по: Duhem, To Save the Phenomena, pp. 20–21.
(обратно)126
Там же.
(обратно)127
См.: S. Weinberg, Can Science Explain Everything? Anything? in New York Review of Books 48, 9 (31 мая, 2001): 47–50. Reprint: Australian Review (2001); in Portuguese, Folha da S. Paolo (2001); in French, La Recherche (2001); The Best American Science Writing, ed. M. Ridley and A. Lightman (HarperCollins, New York, 2002); The Norton Reader (W. W. Norton, New York, December 2003); Explanations – Styles of Explanation in Science, ed. John Cornwell (Oxford University Press, London, 2004), 23–38; in Hungarian, Akadeemia 176, No. 8: 1734–1749 (2005); S. Weinberg, Lake Views – This World and the Universe (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2009).
(обратно)128
Связь астрологии с вавилонской традицией хорошо иллюстрируется словами из Оды XI первой книги «Од» Горация: «Ты гадать перестань: нам наперед знать не дозволено, // Левконоя, какой ждет нас конец. Брось исчисления // Вавилонских таблиц! Лучше терпеть, что бы ни ждало нас…» (пер. по кн.: Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. – М.: Художественная литература, 1970. С. 57). На латыни это место звучит еще лучше: «Tu ne quaesieris – scire nefas – quem mihi, quem tibi, finem di dederint, Leuconoë, nec Babylonios temptaris numeros, ut melius, quidquid erit, pati…»
(обратно)129
Русский пер. цит. по: Нейфах Г. Гармония Божественного творения. Взаимоотношения науки и религии.
(обратно)130
Это письмо цитирует Евтихий, позже ставший патриархом Александрии. См.: E. M. Forster, Pharos and Pharillon (Knopf, New York, 1962), рр. 21–22. Менее содержательный перевод на англ.: Gibbon, Decline and Fall, Chapter 51.
(обратно)131
P. K. Hitti, History of the Arabs (Macmillan, London, 1937), р. 315.
(обратно)132
D. Gutas, Greek Thought, Arabic Culture – The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early Abbasid Society (Routledge, London, 1998), рр. 53–60.
(обратно)133
Его полное имя Абу́ Абдулла́х Муха́ммад ибн Муса́ аль-Хорезми́. Полные арабские имена слишком длинны, поэтому я в основном использую сокращенные варианты, под которыми известен тот или иной человек. Также я опускаю надстрочные знаки, например, ā, которые не имеют никакого значения для читателя, который (как я сам) не знаком с арабским.
(обратно)134
Альфраганус – это латинизированное имя, под которым аль-Фаргани был известен в средневековой Европе. Далее в тексте все латинизированные имена арабов будут даваться, как и в данном случае, в скобках.
(обратно)135
Абу Рейхан Бируни Геодезия (Определение границ мест для уточнения расстояний между населенными пунктами)/Исследования, перевод и примечания П. Г. Булгакова. Избранные произведения Т. 3. – Ташкент: «ФАН», 1966. С. 217.
(обратно)136
Аль-Бируни использовал и десятеричную, и шестидесятитеричную систему счиления. Он привел высоту горы как 652;3;18 локтя, то есть 652 + 3/60 + 18/3600, что соответствует 652,055 локтя в десятеричной системе счисления.
(обратно)137
Цит. по: P. Duhem, To Save the Phenomena, р. 29.
(обратно)138
Цит. по: R. Arnaldez and A. Z. Iskandar in The Dictionary of Scientific Biography (Scribner, New York, 1975), Vol. 12, р. 3, 7.
(обратно)139
G. J. Toomer, Centaurus 14, 306 (1969).
(обратно)140
Здесь Маймон приводит цитату из Псалтири, псалом 113:24.
(обратно)141
По этому поводу см.: Масуд Э. Наука и ислам (E. Masood, Science and Islam, (Icon Books, London, 2009).
(обратно)142
N. M. Swerdlow, Proceedings of the American Philosophical Society 117, 423 (1973).
(обратно)143
О том, что Коперник узнал об этой геометрической конструкции из арабских источников, см.: F. J. Ragep, History of Science 14, 65 (2007).
(обратно)144
См.: Toby E. Huff, Intellectual Curiosity and the Scientific Revolution (Cambridge University Press, Cambridge, 2011), Chapter 5.
(обратно)145
По кн.: Фицджеральд Э. Рубайят Омара Хайяма/Пер. с англ. О. Румера. – СПб.:Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2009.
(обратно)146
Цит. по: Jim al-Khalili, The House of Wisdom (Penguin, New York, 2011), p. 188.
(обратно)147
Al-Ghazali's Tahafut al-Falasifah, trans. Sabih Ahmad Kamali (Pakistan Philosophical Congress, Lahore, 1958).
(обратно)148
Al-Ghazali, Fatihat al-Ulum, trans. I. Goldheizer, Studies on Islam, ed. Merlin L. Swartz (Oxford University Press, 1981), quotation, p. 195.
(обратно)149
См.: Lynn White Jr., Medieval Technology and Social Change (Oxford University Press, Oxford, 1962), Chapter 2.
(обратно)150
Peter Dear, Revolutionizing the Sciences-European Knowledge and Its Ambitions, 1500–1700, 2nd ed. (Princeton University Press, Princeton, N.J., and Oxford, 2009), p. 15.
(обратно)151
Запрещенные положения cм.: Edward Grant – A Source Book in Medieval Science, ed. E. Grant (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1974), pp. 48–50.
(обратно)152
Ibid. P. 47.
(обратно)153
Процитировано в: David C. Lindberg, The Beginnings of Western Science (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1992), p. 241.
(обратно)154
Ibid.
(обратно)155
Nicole Oresme, Le livre du ciel et du monde, на французском и перевод на английский A. D. Menut и A. J. Denomy (University of Wisconsin Press, Madison, 1968), p. 369.
(обратно)156
Из статьи «Buridan» в Dictionary of Scientific Biography, ed. Charles Coulston Gillespie (Scribner, New York, 1973), Vol. 2, pp. 604–605.
(обратно)157
См.: статью Пиаже в: The Voices of Time, ed. J. T. Fraser (Braziller, New York, 1966).
(обратно)158
Oresme, Le livre.
(обратно)159
Библия, Ветхий завет, Книга Бытия, 1:6.
(обратно)160
Oresme, Le livre, pp. 537–539.
(обратно)161
A.C. Crombie, Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science – 1100–1700 (Clarendon, Oxford, 1953).
(обратно)162
См.: T. C. R. McLeish // Nature 507, 161–163 (13 March, 2014).
(обратно)163
Роджер Б. Избранное / Под ред. И. В. Лупандина. – М.: Издательство францисканцев, 2005.
(обратно)164
Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в Cредние века: Общие принципы и учение о движении. – М.: Наука, 1989. С. 322.
(обратно)165
См.: ссылку 28 к IV части.
(обратно)166
Доминго де Сото цитирует в английском переводе W. A. Wallace, Isis 59, 384 (1968).
(обратно)167
Более поздний исследователь Джордж Хартманн (1489–1564) утверждал, что видел письмо Региомонтана, содержащее следующее высказывание: «Движение звезд должно несколько отличаться от движения Земли». Если это правда, то Региомонтан, возможно, предвосхитил работы Коперника, хотя его высказывание также соответствовало пифагорейской модели, в которой Земля и Солнце обращаются вокруг центра мира.
(обратно)168
Цит. по: Duhem, To Save the Phenomena, pp. 49–50.
(обратно)169
Баттерфилду принадлежит словосочетание «виговская интерпретация истории», которое он использовал, когда критиковал историков, которые оценивают прошлое по его вкладу в существующее в настоящем времени. Но когда речь идет о научной революции, Баттерфилд был не менее «вигом», чем я сам.
(обратно)170
Herbert Butterfield, The Origins of Modern Science, rev. ed. (Free Press, New York, 1957), p. 7.
(обратно)171
Reappraisals of the Scientific Revolution, ed. D. C. Lindberg and R. S. Westfall (Cambridge University Press, Cambridge, 1990), and Rethinking the Scientific Revolution, ed. M. J. Osler (Cambridge University Press, Cambridge, 2000).
(обратно)172
Steven Shapin, The Scientific Revolution (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1996), p. 1.
(обратно)173
Pierre Duhem. The System of the World: A History of Cosmological Doctrines from Plato to Copernicua (Hermann, Paris, 1913).
(обратно)174
См.: Edward Rosen, Three Copernican Treatises (Farrar, Straus and Giroux, New York, 1939), или Noel M. Swerdlow, The Derivation and First Draft of Copernicus's Planetary Theory: A Translation of the Commentariolus with Commentary // Proceedings of the American Philosophical Society 117, 423 (1973).
(обратно)175
См., напр.: N. Jardine, Journal of the History of Astronomy 13, 168 (1982).
(обратно)176
O. Neugebauer, Astronomy and History – Selected Essays (Springer-Verlag, New York, 1983), Vol. 40.
(обратно)177
Как уже было упомянуто в главе 8, существует один особый случай простейшей версии теории Птолемея (с одним эпициклом для каждой планеты и без эпицикла для Солнца), который эквивалентен простейшей версии теории Коперника, отличаясь только точкой зрения на Солнечную систему. В этом особом случае каждый из деферентов внутренних планет совпадает с орбитой Солнца вокруг Земли, в то время как все радиусы эпициклов внешних планет равны расстоянию от Земли до Солнца. Радиусы эпициклов внутренних планет и радиусы деферентов внешних планет в этом особом случае теории Птолемея совпадают с радиусами орбит планет в теории Коперника.
(обратно)178
О важности этой закономерности для Коперника см.: Bernard R. Goldstein, Journal of the History of Astronomy 33, 219 (2002).
(обратно)179
Коперник Н. О вращениях небесных сфер / Пер. с лат. И. Н. Веселовского. – М.: Наука, 1964. С. 13.
(обратно)180
Уайт Э. Д. Борьба религии с наукой / Пер. Д. Л. Вейса; Предисл. А. Б. Рановича. – 2-е изд. – М.: ГАИЗ, 1936.
(обратно)181
Абзац процитирован по: Lindberg и Numbers, «Beyond War and Peace», и T. Kuhn, The Copernican Revolution (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1957), p. 191. Кун (Kuhn) воспользовался White, A History of the Warfare of Science with Theology. The German original is Sämtliche Schriften, ed. J. G. Walch (J. J. Gebauer, Halle, 1743), Vol. 22, p. 2260.
(обратно)182
Здесь Лютер упоминает Библию, «Книга Иисуса Навина» 10:12.
(обратно)183
Из английского перевода Rosen,Nicolas Copernicus On the Revolutions.
(обратно)184
Цит. по: R. Christianson, Tycho’s Island (Cambridge University Press, Cambridge, 2000), p. 17.
(обратно)185
См.: Edward Rosen, The Dissolution of the Solid Celestial Spheres // Journal of the History of Ideas 46, 13 (1985).
(обратно)186
Об этих перипетиях см.: C. Schofield, «The Tychonic and Semi-Tychonic World Systems», в Planetary Astronomy from the Renaissance to the Rise of Astrophysics – Part A: Tycho Brahe to Newton, ed. R. Taton и C. Wilson
(обратно)187
Существует 120 перестановок пяти разных предметов; любой из пяти может быть первым, любой из оставшихся четырех – вторым, любой из оставшихся – третьим и любой из последних двух – четвертым, оставляя одну возможность для пятого. Таким образом, количество способов разместить пять предметов в определенном порядке вычисляется так: 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120. Но в задаче о соотношениях размеров сфер, вписанных в многогранники и описанных вокруг них, не все из пяти правильных многогранников отличаются. Это соотношение одинаково для куба и октаэдра, а также для икосаэдра и додекаэдра. Таким образом, два ряда правильных многогранников, которые могут отличаться только взаимными заменами куба и октаэдра или икосаэдра и додекаэдра, дают одну и ту же модель Солнечной системы. Следовательно, количество разных моделей составляет 120/(2 × 2) =30.
(обратно)188
Например, если куб вписан во внутренний радиус сферы Сатурна и описан вокруг внешнего радиуса сферы Юпитера, тогда соотношение минимального и максимального расстояния от Сатурна до Солнца, которое, согласно Копернику, равно 1,586, должно равняться расстоянию от центра куба до любой из его вершин, деленному на расстояние от центра того же куба до любой из его граней, или √3=1.732, что на 9 % больше.
(обратно)189
S. Weinberg, «Anthropic Bound on the Cosmological Constant» // Physical Review Letters 59, 2607 (1987); H. Martel, P. Shapiro, и S. Weinberg, «Likely Values of the Cosmological Constant» // Astrophysical Journal 492, 29 (1998).
(обратно)190
Движение Марса является идеальной проверкой для теории движения планет. В отличие от Меркурия или Венеры, Марс виден, когда он находится высоко на ночном небе, что облегчает наблюдения. В любой заданный отрезок времени он проходит намного больший путь по орбите, чем Юпитер или Сатурн. Также его орбита отклоняется от круговой формы больше, чем орбиты всех остальных крупных планет, за исключением Меркурия (который не виден вдали от Солнца, что усложняет его наблюдения), поэтому отклонения от кругового движения с постоянной скоростью для Марса заметны гораздо сильнее, чем для остальных планет.
(обратно)191
Основной эффект от эллиптической формы орбит планет состоит по большей части не в самой эллиптичности, а в том, что Солнце находится в фокусе эллипса, а не в центре. Если быть точным, то расстояние между одним из фокусов и центром эллипса пропорционально эксцентриситету, в то время как диапазон изменения расстояний от любой точки на эллипсе до заданного фокуса пропорционален квадрату эксцентриситета, то есть маленький эксцентриситет делает эту разницу расстояний совсем небольшой. Например, для эксцентриситета 0,1 (близкого к эксцентриситету орбиты Марса) наименьшее расстояние от планеты до Солнца всего на 0,5 % меньше, чем наибольшее расстояние. С другой стороны, расстояние от Солнца до центра этой орбиты составляет 10 % среднего радиуса орбиты. (Предлагаю читателю самостоятельно проверить это утверждение автора. – Прим. науч. ред.)
(обратно)192
J. R. Voelkel and O. Gingerich, Giovanni Antonio Magini's «Keplerian» Tables of 1614 and Their Implications for the Reception of Keplerian Astronomy in the Seventeenth Century, Journal for the History of Astronomy 32, 237 (2001).
(обратно)193
Имеется в виду Жюль Сезар (Юлий Цезарь) Скалигер, страстный защитник Аристотеля и оппонент Коперника.
(обратно)194
По кн.: Robert S. Westfall in The Construction of Modern Science – Mechanism and Mechanics (Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1977). P. 10.
(обратно)195
William H. Donahue, in Johannes Kepler – New Astronomy (Cambridge University Press, Cambridge, 1992), p. 65.
(обратно)196
Johannes Kepler, Epitome of Copernican Astronomy and Harmonies of the World, trans. Charles Glenn Wallis (Prometheus, Amherst, N.Y., 1995), p. 180.
(обратно)197
Дальнейший текст показывает, что под средним расстоянием планеты от Солнца Кеплер имел в виду не расстояние, усредненное по времени, по полному периоду обращения планеты, а среднее арифметическое минимального и максимального расстояний между Солнцем и планетой. Как демонстрируется в техническом замечании 18, минимальное и максимальное расстояние от Солнца до планеты равняются, соответственно, (1 – e) a и (1 + e) a, где e – эксцентриситет, и a – половина длинной оси эллипса (или, иначе, большая полуось). Отсюда среднее расстояние равняется просто a. Как доказывается далее в техническом замечании 18, эта же величина является средним расстоянием между Солнцем и планетой, если усреднять по расстоянию, проходимому планетой вдоль своей орбиты.
(обратно)198
Цит. по: Owen Gingerich, Tribute to Galileo in Padua, International Symposium a cura dell' Universita di Padova, 2–6 Dec. 1992, Vol. 4 (Edizioni LINT, Trieste, 1995).
(обратно)199
Фокусное расстояние – это длина, которая характеризует оптические свойства линзы. Для выпуклых линз это расстояние позади линзы, на котором проходящие через линзу по параллельным направлениям лучи сходятся в одной точке. Для вогнутых линз фокусное расстояние – это расстояние позади линзы, на котором лучи собрались бы в одной точке, если бы линзы не было, в предположении, что линза превращает эти лучи в параллельные. Фокусное расстояние зависит от кривизны поверхностей линзы и от соотношения скоростей света в воздухе и в стекле (см. техническое замечание 22).
(обратно)200
Галилео Галилей. Избранные труды: в 2 т. Т. 1 / Пер. и прим. И. Н. Веселовского. – М.: Наука, 1964. С. 14.
(обратно)201
Угловой размер планет достаточно велик, чтобы лучи с различных точек их дисков, направленные в глаз наблюдателя, проходя сквозь земную атмосферу, располагались на расстояниях, превышающих размер обычных атмосферных возмущений. Таким образом, эффекты нескольких различных возмущений на пути лучей света от отдельных точек диска планеты взаимно не коррелируют и вследствие этого чаще взаимно компенсируются, а не усиливаются. Поэтому мы не видим планеты мерцающими.
(обратно)202
Галилео расстроился бы, если бы узнал, что именно эти названия прижились в дальнейшем и употребляются в наше время. Так спутники Юпитера назвал в 1614 г. Симон Майр, немецкий астроном, который оспаривал первенство Галилея в их открытии.
(обратно)203
Галилео Галилей. Рассуждение о телах, пребывающих в воде// Избранные труды: в 2 т. Т. 2/Пер. и прим. И. Н. Веселовского. – М.: Наука, 1964. С. 39.
(обратно)204
Предположительно, Галилей пользовался не часами, а ориентировался по видимому движению звезд. Поскольку звездам необходимо примерно 24 часа, чтобы совершить видимый оборот вокруг Земли на 360°, изменение положения звезды на один градус указывает на то, что прошла 1/360 часть этого времени, то есть 4 минуты.
(обратно)205
Современный английский перевод книги: Thomas Salusbury Galileo, Discourse on Bodies in Water, intr. and comm. Stillman Drake.
(обратно)206
Подробности см.: J. L. Heilbron, Galileo (Oxford University Press, Oxford, 2010).
(обратно)207
Галилео Галилей. Пробирных дел мастер. – М.: Наука, 1987.
(обратно)208
Русский пер. цит. по: Кузнецов Б. Г. Галилео Галилей. – М.: Наука, 1964. С. 117.
(обратно)209
Перевод письма на английский см.: Drake, Discoveries and Opinions of Galileo, pp. 175–216.
(обратно)210
Дмитриев И.С. Упрямый Галилей. – М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 145.
(обратно)211
Письма Марии отцу к счастью сохранились. См.: Dava Sobel, Galileo's Daughter (Walker, New York, 1999). Увы, письма Галилея к дочерям утрачены.
(обратно)212
См.: Annibale Fantoli, Galileo – For Copernicanism and for the Church, 2nd ed., trans. G. V. Coyne (University of Notre Dame Press, South Bend, Ind., 1996); Maurice A. Finocchiaro, Retrying Galileo, 1633–1992 (University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 2005).
(обратно)213
Цит. по: Drake, Galileo, p. 90.
(обратно)214
Цит. по: Gingerich, Tribute to Galileo, p. 343.
(обратно)215
Я выступил с докладом на эту тему на том же заседании в Падуя, где Кюн говорил по поводу Аристотеля (цитируется в гл. 4) и где Гингерич, слова которого я привожу здесь, говорил о Галилее. См.: S. Weinberg, в L'Anno Galileiano (Edizioni LINT, Trieste, 1995), p. 129.
(обратно)216
См.: G. E. R. Lloyd, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, N.S. 10, 50 (1972), напечатано в: Methods and Problems in Greek Science (Cambridge University Press, Cambridge, 1991).
(обратно)217
Галилео Галилей. Беседы и математические доказательства двух новых наук // Избранные труды: в 2 т. Т. 2/Сост. У. И. Франкфурт; пер. С. Я. Долгова. – М.: Наука, 1964. С. 166.
(обратно)218
Это справедливо только для малых колебаний маятника, хотя Галилей не упоминал об этом ограничении. Более того, он говорит об изохронизме при отклонениях маятника на 50°–60°, как и при колебаниях с меньшей амплитудой, что говорит о том, что он на самом деле не производил тех экспериментов с маятником, о которых рассказывает.
(обратно)219
Если говорить буквально, это значило, что любое брошенное тело никогда бы не упало, поскольку, обладая нулевой начальной скоростью в первое бесконечно малое мгновение, оно никуда бы не двинулось. А поскольку скорость пропорциональна пройденному расстоянию, она равнялась бы нулю. Возможно, о скорости, пропорциональной пройденному расстоянию, имеет смысл говорить только после короткого первоначального периода ускорения.
(обратно)220
Один из аргументов Галилея является ошибочным, потому что относится к средней скорости за период времени, а не к скорости, которая достигается в конце интервала.
(обратно)221
Это показано в техническом замечании 25. Там объясняется, что, хотя Галилей об этом и не знал, но скорость шара, катящегося по плоскости, не равна скорости тела, свободно падающего с того же расстояния по вертикали, потому что часть энергии, получаемой от вертикального падения, уходит во вращение шара. Но эти скорости будут пропорциональны, так что заключение Галилея о том, что скорость падающего тела пропорциональна затраченному времени, качественно не изменится, если мы примем во внимание вращение шара.
(обратно)222
См.: Stillman Drake, Galileo (Oxford University Press, Oxford, 1980), p. 33.
(обратно)223
T. B. Settle, An Experiment in the History of Science // Science 133, 19 (1961).
(обратно)224
Это заключение Дрейка можно найти в примечании к с.259 книги: Galileo Galilei, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems: Ptolemaic and Copernican, trans. Stillman Drake (Modern Library, New York, 2001).
(обратно)225
См.: Stillman Drake, Galileo at Work – His Scientific Biography (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1978), pp. 128–32; A. J. Hahn, The Pendulum Swings Again: A Mathematical Reassessment of Galileo's Experiments with Inclined Planes // Archive for the History of the Exact Sciences 56, 339 (2002), с репродукцией на p. 344.
(обратно)226
Carlo M. Cipolla, Clocks and Culture 1300–1700 (W. W. Norton, New York, 1978), pp. 59, 138.
(обратно)227
Гюйгенс Х. Три мемуара по механике. – М.: Изд. АН СССР, 1951. С. 201.
(обратно)228
Детальное описание измерений см.: Alexandre Koyré, Proceedings of the American Philosophical Society 97, 222 (1953) и 45, 329 (1955). Также см.: Christopher M. Graney, Anatomy of a Fall: Giovanni Battista Riccioli and the Story of g // Physics Today, Sept. 2012, pp. 36–40.
(обратно)229
По поводу расногласий относительно законов сохранения см.: G. E. Smith, The Vis-Viva Dispute: A Controversy at the Dawn of Mathematics // Physics Today, Oct. 2006, p. 31.
(обратно)230
Гюйгенс Х. Трактат о свете, в котором объяснены причины того, что с ним происходит при отражении и преломлении, в частности при странном преломлении исландского кристалла/Пер. с фр., под ред. и с прим. В. К. Фредерикса. – 2-е изд. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. С. 6−7.
(обратно)231
Цит. по: Steven Shapin in The Scientific Revolution (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1996), p. 105.
(обратно)232
Ibid, p. 185.
(обратно)233
См. статью «Leonardo» // Dictionary of Scientific Biography, Charles Coulston Gillespie (Scribner, New York, 1970), Vol. 8, pp. 192–245.
(обратно)234
Декарт Р. Сочинения: в 2 т. Т. 1 / Сост., ред., вступ. ст. В. В. Соколова. – М.: Мысль, 1989. С. 235.
(обратно)235
Декарт сравнивал свет с жестким прутом. Когда толкают один его конец, немедленно начинает двигаться и другой. Насчет прутьев он тоже ошибался, хотя и по причинам, в то время неизвестным. Когда толкают один конец прута, с другим ничего не происходит, пока волна сжатия (подобно звуковой волне) не пройдет с одного конца прута на другой. Скорость этой волны возрастает в зависимости от жесткости прута, но Специальная теория относительности Эйнштейна не допускает существования идеально жестких предметов; ни одна волна не может достигнуть скорости, превышающей скорость света. Использование Декартом такого рода сравнения обсуждается Питером Галисоном в статье «Декартовы сравнения: от невидимого к видимому» (Galison P. Descartes comparisons: From the invisible to the visible // Isis. 1984. Vol. 75. P. 311–326).
(обратно)236
Вольтер. Философские сочинения / Пер. с фр. С. Я. Шейнман-Топштейн. – М: Наука, 1988. С. 134.
(обратно)237
Декарт Р. Сочинения. Т. 1. С. 250.
(обратно)238
Напомним, что синус угла – это длина катета, противолежащего данному углу в прямоугольном треугольнике, деленная на длину гипотенузы этого треугольника. Он возрастает при увеличении угла от 0° до 90°, сначала пропорционально самому углу, когда его значения небольшие, а затем растет медленнее.
(обратно)239
Есть мнение, что аналогия с теннисными мячиками подходит для теории света Декарта, если их сравнить с мельчайшими корпускулами, пронизывающими пространство. См.: John A. Schuster, Descartes Opticien – The Construction of the Law of Refraction and the Manufacture of Its Physical Rationales, 1618–1629, в: Descartes' Natural Philosophy, eds. S. Graukroger, J. Schuster, and J. Sutton (Routledge, London and New York, 2000), pp. 258–312.
(обратно)240
Аристотель. Сочинения. Т. 3. C. 518.
(обратно)241
Это делается путем нахождения значения отношения b/R, где ничтожно малые изменения значения b не оказывают влияния на φ, поэтому при таких значениях φ график зависимости φ от b/R в этом месте будет плоским. Это и есть значение b/R, при котором φ достигает максимальной величины (как и любая гладкая кривая, график зависимости φ от b/R, который поднимается до своего максимума, а затем снижается, будет горизонтален в точке максимума. Точка, где кривая не плоская, не может быть максимумом, поскольку если в какой-либо точке кривая растет вправо или влево, то будут точки справа или слева, где значение функции будет выше). Значение φ в промежутке, где кривая зависимости φ от b/R почти плоская, изменяется очень медленно, если мы сдвигаем аргумент b/R, поэтому существует относительно большое количество лучей со значением φ в этом диапазоне.
(обратно)242
Декарт Р. Сочинения. Т. 1. С. 297.
(обратно)243
См. Peter Dear, Revolutionizing the Sciences – European Knowledge and Its Ambitions, 1500–1700, 2nd ed. (Princeton University Press, Princeton, N.J., and Oxford, 2009), Chapter 8.
(обратно)244
L. Laudan, The Clock Metaphor and Probabilism: The Impact of Descartes on English Methodological Thought // Annals of Science 22, 73 (1966). Contrary conclusions were reached in G. A. J. Rogers, Descartes and the Method of English Science // Annals of Science 29, 237 (1972).
(обратно)245
Richard Watson, Cogito Ergo Sum – The Life of René Descartes (David R. Godine, Boston, Mass., 2002).
(обратно)246
Когда ему было за пятьдесят, Ньютон нанял в качестве домработницы дочь своей сводной сестры красавицу Катрин Бартон. Несмотря на то что они были близкими друзьями, романтических отношений между ними не было. Вольтер, который был в Англии, когда Ньютон умер, сообщил, что врач Ньютона и «хирург, в руках которого он умер» подтвердили, что у Ньютона никогда не было интимных отношений с женщинами. См.: Вольтер. Философские сочинения. С. 133. Вольтер нигде не указывает, как доктор и хирург узнали об этом.
(обратно)247
Из речи «Ньютон, Человек», которую Кейнс готовил для собрания Королевского общества в 1946 г. За три месяца до собрания Кейнс скончался, и речь была представлена его братом.
(обратно)248
См. D. T. Whiteside, ed., General Introduction to Vol. 20, The Mathematical Papers of Isaac Newton (Cambridge University Press, Cambridge, 1968), pp. xi – xii.
(обратно)249
Вполне сопоставимые усилия Ньютон потратил на эксперименты в алхимии, которую вполне можно было назвать химией, поскольку в те времена разница между ними была незначительной. Как я уже отмечал в связи с Джабир ибн Хайяном в главе 9, до конца XVIII в. не существовало химической теории, которая отвергала бы алхимические превращения, такие как трансформация недрагоценных металлов в золото. Таким образом, хотя работа Ньютона по алхимии не была антинаучной, она не содержала ничего важного.
(обратно)250
При прохождении света через плоское стекло разделения на разные цвета не произойдет, потому что лучи каждого цвета преломляются под очень маленьким углом и возвращаются на первоначальные направления движения, покидая стекло. Поскольку грани призмы не параллельны, лучи света разных цветов, проходя сквозь призму, преломляются по-разному и, достигая поверхности призмы, выходят из нее под углами, не равными углам преломления или входа, поэтому, когда эти лучи покидают призму, появляются разные цвета.
(обратно)251
Это натуральный логарифм от 1 + х, то есть степень, в которую постоянная e = 2,71828… должна быть возведена, чтобы в результате получилось 1 + х. Причина такой особенности этого определения в том, что натуральные логарифмы по своим свойствам гораздо проще десятичных логарифмов, где основанием вместо е берется число 10. Например, формула Ньютона показывает, что натуральный логарифм 2 может быть представлен в виде числового ряда 1 − 1/2 + 1/3 − 1/4 +…, тогда как формула десятичного логарифма 2 гораздо более сложна.
(обратно)252
Из-за пренебрежения членами 3to² и o³ может показаться, что эти расчеты являются только приблизительными, но это неверно. В XIX в. математики научились обходиться без достаточно расплывчатого понятия бесконечно малой величины о и вместо этого стали говорить о точно определенных пределах: скорость – это число, к которому можно приближать функцию [D (t+o) – D (t)] / o настолько, насколько малым нам удобно брать значение o. Как мы увидим далее, Ньютон позже перешел от бесконечно малых величин к современной идее пределов.
(обратно)253
D. T. Whiteside. Op. cit. Vol. 3. Pp. 6–7.
(обратно)254
См., напр.: Richard S. Westfall, Never of Rest – A Biography of Isaac Newton (Cambridge University Press, Cambridge, 1980). Chapter 14.
(обратно)255
Peter Galison, How Experiments End (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1987).
(обратно)256
Цит. по: Richard S. Op. cit. P. 143.
(обратно)257
Три закона планетарного движения Кеплера не всеми принимались до Ньютона, хотя первый закон о том, что орбиты планет являются эллипсами, в фокусе которых находится Солнце, был широко распространен. Именно выведение Ньютоном тех же законов в своих «Началах» привело к их всеобщему признанию.
(обратно)258
Первое достаточно точное измерение длины окружности Земли было сделано примерно в 1669 г. Жан-Феликсом Пикаром (1620–1682). В 1684 г. Ньютон использовал его, чтобы уточнить свои вычисления.
(обратно)259
Боголюбов А. Н. Роберт Гук (1635–1703)/Отв. ред. чл. – корр. АН УССР С. Н. Кожевников; Академия наук СССР. – М.: Наука, 1984. С. 112.
(обратно)260
Цит. по: из James Gleick, Isaac Newton (Pantheon, New York, 2003), р. 120.
(обратно)261
Здесь и далее цит. по: Ньютон И. Математические начала натуральной философии/Пер. с лат. и прим. А. Н. Крылова. – М.: Наука, 1989.
(обратно)262
Там же. С. 70.
(обратно)263
G. E. Smith, Newton's Study of Fluid Mechanics // International Journal of Engineering Science 36, 1377 (1998).
(обратно)264
Ньютон не смог решить проблему трех тел (Земли, Луны и Солнца) и с достаточной точностью описать в расчетах особенности движения Луны, которые беспокоили Птолемея, аш-Шатира и Коперника. Это было сделано только в 1752 г. Алекси-Клодом Клеро, который использовал теории механики и тяготения Ньютона.
(обратно)265
Современные значения взяты из: C. W. Allen, Astrophysical Quantities, 2nd ed. (Athlone, London, 1963).
(обратно)266
Типовая работа по истории измерения Солнечной системы см.: Albert van Helden, Measuring the Universe – Cosmic Dimensions from Aristarchus to Halley (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1985).
(обратно)267
См. Robert P. Crease, World in the Balance – The Historic Quest for an Absolute System of Measurement (W. W. Norton, New York, 2011).
(обратно)268
См.: J. Z. Buchwald and M. Feingold, Newton and the Origin of Civilization (Princeton University Press, Princeton, N.J., 2014).
(обратно)269
См.: S. Chandrasekhar, Newton's Principia for the Common Reader (Clarendon, Oxford, 1995), pp. 472–476; Westfall, Never at Rest, рр. 736–739.
(обратно)270
R. S. Westfall, Newton and the Fudge Factor // Science 179, 751 (1973).
(обратно)271
Ibid. P. 661–662.
(обратно)272
См.: G. E. Smith, How Newton’s Principia Changed Physics, в: Interpreting Newton: Critical Essays, ed. A. Janiak and E. Schliesser (Cambridge University Press, Cambridge, 2012), pp. 360–395.
(обратно)273
Вольтер. Философские сочинения. С. 137.
(обратно)274
См.: A. B. Hall, E. A. Fellmann, и P. Casini в Newton's Principia: A Discussion Organized and Edited by D. G. King-Hele and A. R. Hall // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 42, 1 (1988).
(обратно)275
В Книге III «Оптики» Ньютон высказал точку зрения о том, что Солнечная система нестабильна и временами восстанавливает нарушенное равновесие. Вопрос стабильности Солнечной системы оставался спорным в течение нескольких веков. В конце 1980-х гг. Жак Ласкар доказал, что Солнечная система хаотична: невозможно предсказать движение Меркурия, Венеры, Земли и Марса более чем на 5 млн лет вперед. Некоторые исходные условия ведут к тому, что планеты столкнутся или оторвутся от Солнечной системы через несколько миллиардов лет, в то время как другие, почти неотличимые от первых, говорят о том, что все будет в порядке. Подробнее см.: Laskar J. Is the Solar System Stable? (2012).
(обратно)276
Гюйгенс Х. О центробежной силе // Три мемуара по механике. – М.: Изд. АН СССР, 1951. (Классики науки).
(обратно)277
Шейпин показывает, что конфликт носил политический характер. См.: Steven Shapin, Of Gods and Kings: Natural Philosophy and Politics in the Leibniz-Clarke Disputes // Isis Vol. 72, 187 (1981).
(обратно)278
Вейнберг С. Гравитация и космология. – М.: Мир, 1975. С. 503.
(обратно)279
G.E. Smith.
(обратно)280
Маршак С. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 4. – М.: Художественная литература, 1969. С. 94. (Перевод обеих эпиграмм принадлежит С. Маршаку.)
(обратно)281
Robert K. Merton, Motive Forces of the New Science // Osiris 4, P. 2 (1938); напечатано в: Science, Technology, and Society в Seventeenth-Century England (Howard Fertig, New York, 1970), и в: On Social Structure and Science ed. Piotry Sztompka (University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1996), pp. 223–240.
(обратно)282
Нейфах Г. Указ. соч.
(обратно)283
Более подробно об этом я рассказал в книге: Вайнберг С. Открытие субатомных частиц. – М.: Мир, 1986. (В мире науки и техники)
(обратно)284
Ньютон И. Оптика или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света. – М.: Гостехиздат, 1954. С. 299.
(обратно)285
Там же. С. 285.
(обратно)286
Сам Максвелл не писал уравнения, устанавливающие зависимость между электрическим и магнитным полями в форме, в которой мы сегодня знаем «уравнения Максвелла». В его уравнениях поля были обозначены как потенциальные функции, скоростью изменения которых во времени и пространстве были электрические и магнитные поля. Более знакомую нам современную форму уравнениям Максвелла придал Оливер Хевисайд примерно в 1881 г.
(обратно)287
Цит. по Оствальду из: Outlines of General Chemistry, и цит. по: G. Holton // Historical Studies in the Physical Sciences 9, 161 (1979), и I. B. Cohen в: Critical Problems в the History of Science, ed. M. Clagett (University of Wisconsin Press, Madison, 1959).
(обратно)288
P.A. M. Dirac, Quantum Mechanics of Many-Electron Systems // Proceedings of the Royal Society A123, 713 (1929).
(обратно)289
Здесь и далее я не ссылаюсь на отдельных физиков. Очень многие принимали участие в этих работах, так что их перечисление заняло бы слишком много места, к тому же многие из них еще живы, и я рискую нанести оскорбление, упомянув одних и не упомянув других.
(обратно)290
Здесь я смешиваю половой отбор с естественным отбором и «прерывистым равновесием» наряду с постоянной эволюцией и не делаю разделения между мутациями и генетическим дрейфом как средством неизбежной изменчивости. Эти различия очень важны для биологов, но не имеют никакого влияния на мысль, которой я уделяю внимание, о том, что не существует никакого независимого биологического закона, который делает наследственные изменения улучшениями.
(обратно)291
Чтобы избежать обвинений в плагиате, я хочу упомянуть, что этот последний абзац моей книги является переработкой последнего абзаца из книги Дарвина «Происхождение видов».
(обратно) (обратно)
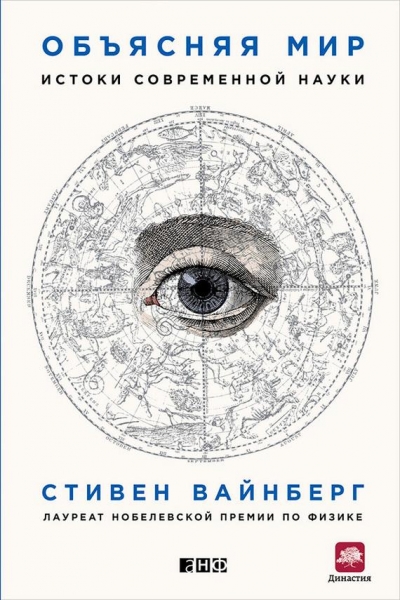
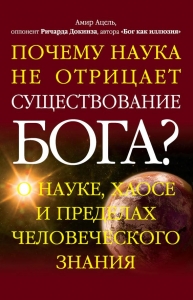
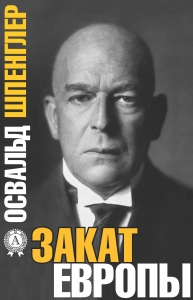


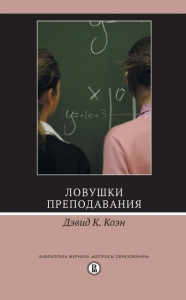




Комментарии к книге «Объясняя мир. Истоки современной науки», Стивен Вайнберг
Всего 0 комментариев